Аполлон-17
| Аполлон-17 | |
| Общие сведения | |
|---|---|
| Полётные данные корабля | |
| Ракета-носитель | Сатурн-5 SA-512 |
| Стартовая площадка | Космический центр Кеннеди комплекс 39А, Флорида, США |
| Запуск | 7 декабря, 1972 05:33:00 GMT |
| Посадка | 19 декабря, 1972 19:24:59 GMT |
| Длительность полёта | 301 час 51 минута 59 секунд |
| Масса | командный модуль 30 369 кг лунный модуль 16 456 кг |
| NSSDC ID | [nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraftOrbit.do?id=1972-096A 1972-096A] |
| SCN | [www.n2yo.com/satellite/?s=06300 06300] |
| Полётные данные экипажа | |
| Членов экипажа | 3 |
| Позывной | Командный модуль: «Америка», Лунный модуль: «Челленджер» |
| Предыдущая | Следующая |
|---|---|
 Аполлон-16 Аполлон-16 |
 Скайлэб-2 Скайлэб-2 |
</td></tr>
«Аполло́н-17» (англ. Apollo 17) — космический корабль, на котором состоялся 11-й и последний пилотируемый полёт в рамках программы «Аполлон», в ходе которого была осуществлена шестая высадка людей на Луну. Это была третья Джей-миссия (англ. J-mission) с акцентом на научные исследования. В экипаж корабля впервые вошёл учёный-профессионал, геолог Харрисон Шмитт. В распоряжении астронавтов так же, как и в ходе двух предшествовавших экспедиций, был лунный автомобиль, «Лунный Ровер» № 3. Командно-служебный модуль «Аполлона-17» имел позывные «Америка», лунный модуль — «Челленджер».
Старт «Аполлона-17» состоялся 7 декабря 1972 года, с задержкой на 2 часа 40 минут. Задержка старта впервые была вызвана неисправностью стартового оборудования. На тот момент это был первый ночной запуск в истории пилотируемой космической программы США.
11 декабря 1972 года «Челленджер» с Юджином Сернаном и Харрисоном Шмиттом на борту совершил посадку в долине Таурус—Литтров, на юго-восточной окраине Моря Ясности. Астронавты оставались на Луне чуть более трёх суток, 74 часа 59 минут 40 секунд. За это время они совершили три выхода из корабля общей продолжительностью 22 часа 3 минуты 57 секунд. Было собрано и привезено на Землю 110,5 кг образцов лунной породы.
19 декабря «Аполлон-17» приводнился в Тихом океане. Экспедиция продолжалась 301 час 51 минуту 59 секунд.
Содержание
- 1 Планирование полёта
- 2 Экипаж
- 3 Позывные кораблей и эмблема полёта
- 4 Выбор района посадки
- 5 Научный багаж экспедиции
- 6 Особенности полёта
- 7 Задержка старта
- 8 Старт и полёт к Луне
- 9 Выход на орбиту Луны
- 10 Посадка
- 11 Первый день на Луне
- 12 Второй день на Луне
- 13 Третий день на Луне
- 14 Четвёртый день на Луне. Взлёт и возвращение на орбиту
- 15 Работа на орбите
- 16 Возвращение
- 17 Корабль после полёта
- 18 Достижения и рекорды «Аполлона-17»
- 19 Основные научные итоги
- 20 «Аполлон-17» в массовой культуре
- 21 Примечания
- 22 Литература
- 23 Ссылки
Планирование полёта
К концу 1967 года НАСА получило возможность планировать лунную пилотируемую программу на период после предполагаемой первой посадки, которую должен был осуществить «Аполлон-11». Руководство НАСА запрашивало у Конгресса финансирование на постройку 15 ракет-носителей «Сатурн-5», 15 командно-служебных модулей и 14 лунных модулей. Успех миссии «Аполлона-11» означал, что в распоряжении у США остаются средства для осуществления ещё девяти лунных высадок. Через четыре дня после приводнения астронавтов «Аполлона-11», 28 июля 1969 года, НАСА объявило предварительные планы последующих полётов, вплоть до «Аполлона-20». Высадка «Аполлона-12» была запланирована на ноябрь 1969 года. «Аполлоны» с 13-го по 15-й должны были лететь с такими же лунными модулями, как в первых полётах. «Аполлон-16», тогда планировавшийся на апрель 1971 года, должен был стать первой Джей-миссией (англ. J-mission) с усовершенствованным лунным модулем и «Лунным Ровером»[1].
Необходимость сокращения бюджета и уменьшение политической поддержки в Конгрессе заставили НАСА объявить 4 января 1970 года об отмене миссии «Аполлона-20». График оставшихся полётов был растянут. «Аполлон-13» передвинули с марта на апрель 1970 года, а «Аполлон-14» — с июля на конец того же года. Авария «Аполлона-13» и дальнейшее урезание бюджета заставили НАСА в сентябре 1970 года отказаться от «Аполлона-18». Были также отменены третья Эйч-миссия, тогда известная как «Аполлон-15», и четвёртая Джей-миссия («Аполлон-19»). Три оставшиеся миссии были перенумерованы. То, что первоначально было «Аполлоном-16», стало «Аполлоном-15» и первой Джей-миссией. «Аполлон-17» стал третьей Джей-миссией и последним пилотируемым полётом на Луну в рамках программы Аполлон[1].
Экипаж
Основной
Первоначально в основной экипаж «Аполлона-17» вошли астронавты, до этого тренировавшиеся в качестве дублёров экипажа «Аполлона-14»[2]. 38-летний командир Юджин Сернан имел опыт двух космических полётов. Он летал пилотом на «Джемини-9A» и пилотом лунного модуля на «Аполлоне-10». Этот полёт был первым испытанием ЛМ на лунной орбите и генеральной репетицией первой посадки на Луну. 39-летний пилот командного модуля Роналд Эванс в космос ещё не летал[3]. 40-летний пилот лунного модуля Джо Энгл, как пилот специальной группы испытателей, совершил 16 полётов на ракетопланах X-15, в том числе три суборбитальных, в которых поднимался до высот более 50 миль, что в ВВС США считается границей космоса (свой рекорд высоты он установил 29 июня 1965 года, поднявшись на 85 527 м)[4].
После сокращения количества остававшихся миссий научное сообщество усилило давление на НАСА с целью отправить на Луну астронавта-учёного. Больше всего для этого подходил 37-летний Харрисон (Джек) Шмитт. Он был принят в отряд астронавтов в 1965 году, был единственным среди астронавтов-учёных профессиональным геологом, непосредственно участвовал в геологической подготовке всех экипажей, от «Аполлона-11» до «Аполлона-14» и прошёл полную подготовку к полёту в качестве пилота лунного модуля дублирующего экипажа «Аполлона-15»[5]. Окончательный состав основного экипажа «Аполлона-17» был объявлен вскоре после завершения полёта «Аполлона-15», 13 августа 1971 года[6]:
- Юджин Сернан — командир.
- Роналд Эванс — пилот командного модуля.
- Харрисон (Джек) Шмитт — пилот лунного модуля.
Энгл, который по личным причинам отсутствовал в Хьюстоне во время полёта «Аполлона-15», случайно узнал о крушении своих планов 10 августа, заглянув в ЦУП, чтобы проверить почту. Позднее в одном из интервью он говорил: «Когда такое случается, можно сделать одно из двух. Можно залечь на кровать и рыдать. А можно поддержать миссию и сделать её лучшей в мире». Он нашёл в себе силы не хлопать дверью и помочь Шмитту вписаться в команду[7].
На пресс-конференции через неделю после объявления состава экипажа первый вопрос был задан Шмитту по поводу замены Энгла. Он ответил, что считает Джо одним из самых выдающихся лётчиков-испытателей. Но в том, что касается собственных возможностей управлять космическим кораблём, Шмитт выразил готовность посоревноваться с любым астронавтом, задействованным в программе. Сернан согласился с этим, сказав, что Шмитт сидит здесь как часть экипажа не по каким-то другим причинам, а только потому, что «он грёб вёслами изо всех сил, он заработал это, и он заслуживает этого»[7].
Дублирующий
В первый дублирующий экипаж «Аполлона-17» вошли астронавты «Аполлона-15» в полном составе: Дэвид Скотт (командир), Альфред Уорден (пилот командного модуля) и Джеймс Ирвин (пилот лунного модуля). Однако через несколько месяцев после их полёта разразился скандал с конвертами первого дня, которые они по договорённости с немецким бизнесменом Вальтером Айерманном, но без ведома НАСА, взяли с собой на Луну с целью последующей коммерческой реализации. Скотт, Уорден и Ирвин были выведены из дублирующего экипажа «Аполлона-17», получили взыскания по службе и были отстранены от лётной подготовки. В июле 1972 года их заменили не менее опытные астронавты, все имевшие опыт полётов к Луне[2]:- Джон Янг — командир, четыре полёта в космос, из них два полёта к Луне (на «Аполлоне-10» и «Аполлоне-16» с посадкой).
- Стюарт Руса — пилот командного модуля, летал в том же качестве на «Аполлоне-14» (один полёт).
- Чарльз Дьюк — пилот лунного модуля, летал на «Аполлоне-16» и высаживался на Луну вместе с Янгом (один полёт)[2].
Янг позднее вспоминал, что он и остальные дублёры искренне желали, чтобы всё шло по плану, и на Луну полетел основной экипаж. Все трое отпустили усы и поклялись не сбривать их, пока корабль с Сернаном, Эвансом и Шмиттом не взлетит со стартовой площадки[2].
Позывные кораблей и эмблема полёта
«Аполлон-17» должен был стать последней миссией программы. Поэтому корабли получили названия, исполненные особого достоинства. Командно-служебный модуль был назван «Америкой», как дань американскому обществу[8]. Лунный модуль получил позывные «Челленджер» (англ. Challenger — «Бросающий вызов») в честь парусно-парового корвета «Челленджер», начавшего первую океанографическую экспедицию ровно за 100 лет до начала полёта «Аполлона-17»[9]. Название также символизировало вызовы, с которыми в будущем столкнётся Америка[8].
На эмблеме полёта изображён бог Солнца Аполлон, который символизирует не только программу «Аполлон», но всё человечество, его знания и мудрость. Рядом — Луна золотистого цвета, означающая золотую эру космических полётов, которая подходит к завершению. Также на эмблеме присутствует орёл, чьи крылья несут синие и красные полосы американского флага и три белых звезды (экипаж). Аполлон смотрит не просто на Луну, где люди уже побывали, он смотрит в будущее с его новыми достижениями и свершениями[8].
Выбор района посадки
Процесс выбора района посадки «Аполлона-17» начался в октябре 1971 года. Учёные ставили задачу исследовать высокогорья, которые не затронул метеоритный удар, образовавший Море Дождей; обнаружить признаки относительно молодого вулканизма; получить с орбиты фотографии и данные научных приборов о ещё неисследованных районах и получить максимальную отдачу от новых мобильных геофизических приборов, которые астронавты повезут с собой. Учёт всех этих факторов сократил выбор до трёх районов: 1) Таурус—Литтров, район на восточной окраине Моря Ясности; 2) 93-километровый кратер Гассенди на севере Моря Влажности и 3) кратер Альфонс 111 км в диаметре, на северо-востоке Моря Облаков[10]. Джек Шмитт, принимавший активное участие в процессе выбора места прилунения, настаивал на посадке в кратере Циолковский на обратной стороне Луны с использованием спутника на окололунной орбите для обеспечения связи. Но от этой идеи, по соображениям больших расходов, отказались. Окончательный выбор в феврале 1972 года был сделан в пользу района Таурус—Литтров[8].

|

|

| |
| Места посадок КК «Аполлон» (отмечены зелёными треугольниками), КА «Луна» (красными) и «Сервейер» (жёлтыми) на карте видимого полушария Луны. «Аполлон-17» — к северо-востоку от центра | Вертикальный вид с орбиты района посадки «Аполлона-17» (место посадки отмечено белой стрелкой) | Район посадки более крупно. Вверху Северный массив, ниже — Южный массив. Светлая извилистая нить между ними — эскарп Lee—Lincoln Scarp (рус. Скарп) | Район посадки «Аполлона-17» ещё более крупно. У левого края снимка — кратер Камелот |
Долина Таурус—Литтров шириной около 7 км представляет собой образование, наподобие залива, в восточной части Моря Ясности. Координаты 20° 10' с.ш. 30° 46' в.д.[11] С трёх сторон окружена горами высотой более 2000 м. Название отсылает к Таврским горам и кратеру Литтров (в честь австрийского астронома и математика Йозефа Литрова), расположенным к юго-востоку от Моря Ясности. На этот район во время полёта «Аполлона-15» обратил внимание пилот командного модуля Альфред Уорден, который работал на орбите, пока его коллеги находились на Луне. Уорден сделал много фотографий и дал специалистам на Земле устные описания. Он отметил более тёмный цвет поверхности долины по сравнению с цветом поверхности Моря Ясности, обнаружил кратеры с тёмным обрамлением, похожие на вулканические выходы (конусы вулканического пепла)[8]. Геологов привлекала возможность получить в этом районе образцы тёмного грунта и лавовых потоков. Также была надежда, что здесь будут обнаружены одновременно и более древние, и более молодые геологические образцы по сравнению с теми, что были привезены астронавтами других миссий. Наконец, Таурус—Литтров предоставлял возможность получить и образцы высокогорных пород. В пределах досягаемости находился оползень с горного Южного массива (англ. South Massif), достигавший дна долины. А у подножия гор были разбросаны огромные валуны, которые скатились вниз. Следы скатывания некоторых из них имели протяжённость около 2 км[8][11].
Научный багаж экспедиции
Комплект научных приборов ALSEP (англ. Apollo Lunar Surface Experiments Package) «Аполлона-17» состоял из приборов для пяти экспериментов. Четыре из них должны были быть размещены на поверхности Луны впервые: стационарный лунный гравиметр, прибор по определению выбросов частиц лунного грунта и метеоритов, масс-спектрометр для исследования состава лунной атмосферы и аппаратура для сейсмического профилирования. Ещё один эксперимент — по изучению тепловых потоков в лунном грунте — ранее входил в комплекты ALSEP «Аполлона-15» и «Аполлона-16». Но в первом случае зонды были углублены не полностью, а во втором случае при установке был случайно оборван электрокабель, и прибор вышел из строя. На поверхности Луны планировалось разместить и другие приборы, не входившие в комплект ALSEP. Три из них не использовались никогда ранее: аппарат по определению электрических свойств поверхности, прибор для измерения потока нейтронов и портативный мобильный гравиметр (перевозимый на «Ровере»). Ещё один, детектор космических лучей, ранее возили на Луну астронавты «Аполлона-16»[12].
В модуле научных приборов служебного модуля «Аполлона-17» были размещены: зонд по профилированию лунной поверхности, сканирующий инфракрасный радиометр и спектрометр дальней ультрафиолетовой области спектра. Кроме того, как и в предыдущих Джей-миссиях, в модуле научных приборов находились панорамная камера, картографирующая камера и лазерный альтиметр[13].
Особенности полёта
Старт «Аполлона-17» впервые в истории пилотируемой космической программы США должен был состояться в тёмное время суток[1]. Он был запланирован на 21:53 местного североамериканского восточного времени. Это было обусловлено расположением района посадки в северо-восточной части лунного диска, большой массой лунного модуля и необходимостью заходить на посадку при низком утреннем Солнце, возвышающемся примерно на 13° над лунным горизонтом. По этой же причине старт с околоземной орбиты и переход на траекторию полёта к Луне должен был впервые осуществляться не на втором витке над Тихим океаном, а на третьем витке, над Атлантическим. За несколько дней до старта экипаж был переведён на ночной распорядок дня[8].
Первое окно для старта открывалось 6 декабря в 21:53 местного времени и оставалось открытым в течение 3 часов 38 минут, до 01:31 7 декабря. Угол возвышения Солнца над горизонтом в момент прилунения составил бы 13°. Второе, точно такое же окно, открывалось в 21:53 7 декабря (угол возвышения Солнца 16,9°—19,1°). Следующие три окна открывались только 4—6 января 1973 года[14]. Но это уже могло помешать запуску орбитальной станции «Скайлэб», намеченному на 30 апреля[15].
Восточное расположение района посадки оставляло специалистам в ЦУПе мало времени для того, чтобы рассчитать параметры орбиты кораблей. Торможение для выхода на окололунную орбиту всегда осуществлялось за лунным диском, и расчёты можно было делать только после того, как корабли появятся из-за восточного края Луны. Чтобы понять, не грозит ли столкновение с Луной, и принять решение о продолжении или прерывании миссии, требовалось не менее 12 минут (а желательно было иметь в запасе 15 минут). Поэтому было решено понижать периселений орбиты снижения постепенно, двумя манёврами, а не одним, как в предшествовавших полётах[1][8][15].
Задержка старта
Последний предстартовый отсчёт начался по плану, за 28 часов до старта, в 12:53:00 UTC 5 декабря 1972 года и дважды планово останавливался на 9 часов (для отдыха персонала) и 1 час. Всё шло гладко. Но за 2 минуты 47 секунд до старта наземная вычислительная машина не выдала команду на наддув кислородного бака третьей ступени. Оператором вручную была послана команда для наддува бака, но вычислительная машина не зарегистрировала наддува. В результате сработала система автоматической блокировки, прекратившая дальнейшие операции за 30 секунд до старта. Астронавты немедленно выключили бортовые пиротехнические устройства. Специалисты в ЦУПе начали искать способ ввести в ЭВМ информацию о наддуве бака[3][15]. Первая блокировка предстартового отсчёта продолжалась 1 час 5 минут 11 секунд. Отсчёт был возобновлён с 22-минутной готовности, но снова остановлен за 8 минут до старта для исправления работы ЭВМ. Эта вторая остановка продлилась 1 час 13 минут 19 секунд. Наконец, отсчёт был возобновлён с 8-минутной предстартовой готовности и продолжался нормально до взлёта. Общая задержка составила 2 часа 40 минут[3]. За время ожидания Роналд Эванс успел заснуть и тихонько похрапывал[8], а баллистики скорректировали траекторию полёта, чтобы «Аполлон-17» прибыл к Луне без опозданий[1]. Это была первая задержка старта из-за неисправности стартового оборудования за время программы «Аполлон»[11]. Причиной, как выяснилось впоследствии, стал бракованный диод[16].
Старт и полёт к Луне
Старт «Аполлона-17» состоялся в 05:33:00 UTC (00:33:00 местного времени) 7 декабря 1972 года[3]. В районе космодрома за ним наблюдали около 500 000 человек. Он был хорошо виден невооружённым глазом в Южной Каролине на севере от Флориды и на Кубе на юге[16]. Менее чем через 12 минут корабль вышел на почти круговую околоземную орбиту высотой 166,7 км на 167,2 км[3].

|

|

|

|
| РН «Сатурн-5» «Аполлона-17» после заката за полмесяца до старта, 21 ноября 1972 года | Старт «Аполлона-17» | Старт, снятый с башни обслуживания | Взлёт «Аполлона-17», снятый с длительной выдержкой |
В течение двух витков астронавты и ЦУП проверяли все системы корабля. В самом начале третьего витка над Атлантическим океаном был снова включён двигатель третьей ступени. Он отработал почти шесть минут — 351 секунду. «Аполлон-17» перешёл на траекторию полёта к Луне, набрав скорость 10,8 км/с[3]. Манёвр начался в темноте, на ночной стороне планеты, а завершился, когда Солнце вышло из-за горизонта. По словам Сернана, это было очень красиво[8]. Через полчаса астронавты начали перестроение отсеков. Рон Эванс отвёл командно-служебный модуль от третьей ступени и развернул на 180°, чтобы осмотреть лунный модуль, который находился в адаптере в верхней части третьей ступени. Шмитт доложил, что он видит «Лунный Ровер» в грузовом отсеке посадочной ступени. Эванс пристыковал «Америку» к «Челленджеру», на всё ушло чуть более 14 минут. Сернан, открыв люк, осмотрел переходной тоннель между командным и лунным модулями, чтобы проверить замки, удерживавшие оба корабля вместе. Три из десяти замков не были закрыты, их пришлось закрыть вручную. Затем Сернан подорвал пироболты, державшие лунный модуль в третьей ступени, а Эванс, включив двигатели системы ориентации, отвёл состыкованные корабли на безопасное расстояние. Шмитт снимал всё на кинокамеру. После этого по команде с Земли был снова включён двигатель третьей ступени, чтобы она столкнулась с Луной в заранее выбранной точке. Сейсмические волны от столкновения должны были быть зафиксированы всеми четырьмя сейсмографами, оставленными на Луне предыдущими экспедициями[1].

|

|

|

|
| Земля, снятая вскоре после перехода на траекторию полёта к Луне. Слева видны Африка и о-в Мадагаскар | Лунный модуль «Челленджер» в адаптере, в верхней части третьей ступени S-IVB, перед стыковкой | Отработанная третья ступень с пустым адаптером в её верхней части | Вид почти полной Земли с расстояния около 50 000 км. Видны: Африка, Мадагаскар, Аравийский п-ов (вверху) и Антарктида (внизу). «Аполлон-17» в это время находился прямо над южной оконечностью Африки. Этот снимок получил название «Голубой шарик» (англ. The Blue Marble) |
Пока Сернан и Эванс снимали скафандры, Шмитт, глядя в иллюминатор, почти полчаса рассказывал ЦУПу о погоде в различных районах Земного шара, делая свои прогнозы. По мере вращения и удаления Земли он эти прогнозы постоянно обновлял, так что один из операторов связи в Хьюстоне назвал его настоящим человеком-метеоспутником. Через девять часов после начала полёта у астронавтов наступил период отдыха[1].
Второй рабочий день в космосе был запланированно укороченным. Астронавтов необходимо было поскорее вернуть к обычному распорядку дня. В день посадки на Луну они должны были пробудиться в 07:30 североамериканского восточного времени. Прилунение было запланировано на 14:30 и вскоре после него Сернан и Шмитт должны были совершить полный 7-часовой выход на поверхность. Из-за ночного запуска астронавты проснулись в 15:30 по времени восточного побережья США. Каждый смог поспать не более трёх часов. Но после 10 часов бодрствования, в 01:30 8 декабря все уже спали, приняв по таблетке снотворного. Во вторую ночь Сернан, Эванс и Шмитт спали 7,5 часа и смогли хорошо отдохнуть[1].
К началу третьего дня полёта «Аполлон-17» пролетел уже чуть более половины пути и находился примерно в 200 000 км от Земли. Вскоре после подъёма астронавты провели первую коррекцию траектории. Для этого потребовалось всего лишь 2-секундное включение основного двигателя служебного модуля. В тот же день Сернан и Шмитт первый раз перешли в лунный модуль, включили его электропитание и проверили все системы. Если не считать небольших проблем со связью, инспекция, продолжавшаяся два с половиной часа, показала, что «Челленджер» находится в хорошем состоянии. Перед сном все астронавты снова приняли снотворное[1].
На третью ночь ЦУП дал экипажу поспать полных 8 часов, но даже после этого астронавтов впервые пришлось будить, и удалось это только с десятой попытки. Оператор связи даже исполнил энергичный напев боевой песни спортивных команд Канзасского университета (его выпускником был Эванс). Но и это возымело действие лишь после третьего дубля[8]. В первой половине четвёртого рабочего дня в космосе Шмитт во второй раз перешёл в лунный модуль и примерно на полчаса включил его электропитание, чтобы в ЦУПе посмотрели, как работает телеметрия. Повторная проверка системы связи показала, как и предполагали в Хьюстоне, что причины проблем предыдущего дня были на Земле, а не в космосе. Сернан присоединился к коллеге с большим опозданием. Его задержала в командном модуле неожиданно возникшая естественная потребность. После инспекции лунного модуля все трое астронавтов облачились в скафандры, чтобы проверить, не возникнет ли у них с этим каких-либо проблем в день прибытия к Луне. Затем они отрепетировали, как Эванс будет ставить на место штырь-конус стыковочного агрегата и закрывать переходной люк, когда останется один. Приготовление обеда в этот день заняло больше времени, чем обычно. Причина была в том, что Эванс никак не мог найти ножницы. Пара хирургических ножниц была у каждого астронавта — ими разрезали пакеты с пищей, сделанные из очень плотного целлофана. Эванс боялся, что без ножниц у него возникнут серьёзные проблемы с питанием, когда его коллеги будут находиться на Луне. Договорились, что Сернан или Шмитт оставят ему свои, если пропажа не будет найдена[1].

|

|

|

|
| Сернан (слева) и Эванс в командном модуле. Снято на пути к Луне | Шмитт в кабине «Америки» | Сернан бреется на четвёртый день полёта | Эванс с пакетом супа |
После обеда в этот день было переведено полётное время, чтобы компенсировать задержку старта. Ровно в 65 часов полётного времени все часы на корабле и в ЦУПе были переведены вперёд на 2 часа 40 минут и установлены на 67 часов 40 минут. Это не привело к исправлениям в полётном плане, так как всё, что необходимо было сделать до 67:40, уже было выполнено. После перевода часов астронавты провели эксперимент по наблюдению визуальных вспышек (фосфенов). В предыдущих полётах почти все астронавты наблюдали такие вспышки, когда закрывали глаза. Учёные предполагали, что вспышки были вызваны космическими лучами высоких энергий. На время эксперимента Эванс надел специальный шлем, закрывавший его глаза. В шлем были встроены медленно двигавшиеся пластины фотоплёнки, на которых космические лучи должны были оставить следы. Сернан закрыл глаза обычной повязкой. Примерно 15 минут потребовались для того, чтобы астронавты привыкли к темноте. После этого они докладывали в среднем об одной вспышке каждые две с половиной минуты[1]. Незадолго до отбоя «Аполлон-17» пересёк невидимую границу, за которой гравитационное поле Луны стало воздействовать на корабль сильнее земного. До Луны оставалась 61 000 км, скорость к этому моменту уменьшилась до 2583 км/ч и далее начала нарастать[8].
Выход на орбиту Луны
Утром следующего дня ЦУП решил дать астронавтам поспать на полчаса дольше запланированного. Но Сернан проснулся до побудки сам, он единственный из экипажа накануне не принимал снотворного. После завтрака астронавты, подорвав пироболты, отстрелили крышку-дверь, закрывавшую модуль научных приборов (англ. Scientific Instruments Module) в служебном модуле. На протяжении всего полёта к Луне Сернан, Эванс и Шмитт могли любоваться отличными видами Земли. В самом начале она была почти полной, а на подлёте к Луне освещены были примерно 2/3 земного диска. Видимая сторона Луны, напротив, была тёмной. Только подлетая к ней, с расстояния примерно 18 500 км астронавты увидели узкую полоску освещённой поверхности на краю диска, из-за которого ослепительно светило Солнце[8]. Сернан доложил об этом в 86 часов 46 минут полётного времени (с учётом перевода часов). Командир был поражён. Ему было с чем сравнивать. Во время полёта «Аполлона-10» он не видел ничего подобного. Экипажи всех предыдущих «Аполлонов» подлетали к Луне в темноте и не видели освещённой поверхности до выхода на окололунную орбиту. Благодаря восточному расположению района посадки экипаж «Аполлона-17» увидел то, чего не видел никто до них. С расстояния 9260 км Луна выглядела очень большой и стремительно увеличивалась. Сернану казалось, что они падают прямо на Луну. Противоположные впечатления у него были в его предыдущем полёте, когда «Аполлон-10» стартовал к Земле и начал стремительно удаляться от Луны. Сернан полушутя спросил, не заденет ли корабль Луну. Получив из Хьюстона ответ, что всё идёт по плану, он добавил, обращаясь к баллистикам из группы слежения: «Если бы вы, ребята, только могли себе представить, в какое игольное ушко вы продеваете нить, попадая с расстояния в четверть миллиона миль в точку в 50 милях (от поверхности Луны), вы бы испытали огромную гордость. Мы гордимся вами»[1].
В 88:43:21 полётного времени «Аполлон-17» скрылся за западным краем лунного диска, радиосвязь с ним прервалась. Через 11 минут после этого[1] на расстоянии 141,9 км от Луны был включён основной двигатель. Он отработал 393,16 секунды. Корабль вышел на окололунную орбиту с апоселением 314,8 км и периселением 97,4 км. Полёт к Луне продолжался 83 часа 2 минуты и 18,11 секунды[3]. Вскоре после этого, в 89:39:42, третья ступень ракеты-носителя на скорости 9180 км/ч врезалась в Луну в точке с координатами 4,21° ю.ш. 12,37 ° з.д., в 155,6 км от расчётной. Сейсмические колебания от удара были зарегистрированы всеми четырьмя сейсмографами, оставленными на Луне предыдущими экспедициями[8]. Во время первого пролёта над видимой стороной Луны специалисты в ЦУПе были заняты отслеживанием параметров орбиты, а астронавты прильнули к иллюминаторам. Район будущей посадки был ещё в полной темноте. Не помогал и отражённый свет Земли, поскольку Солнце в это время ещё освещало корабль. Зато когда оно зашло, при ярком земном свете лунная поверхность стала отлично видна. Шмитт подробно описывал всё, что видел внизу. На втором витке астронавты готовились к первому манёвру по переводу корабля на орбиту снижения. В районе посадки Солнце осветило только вершины окрестных гор[1]. В конце второго витка основной двигатель служебного модуля был включён на 22,27 секунды. Корабль вышел на орбиту снижения, на которой на следующий день будет отстыкован лунный модуль, с параметрами 109 км на 26,9 км[3]. Периселений новой орбиты находился чуть восточнее района посадки. Остаток дня члены экипажа работали с аппаратурой модуля научных приборов, фотографировали, отслеживали навигационные ориентиры. Вскоре после пятого пролёта над районом посадки, в 95:47 полётного времени, астронавты попрощались с ЦУПом до утра[1].
Посадка
День посадки, 11 декабря, должен был стать очень продолжительным рабочим днём. Через несколько часов после прилунения Сернану и Шмитту без отдыха предстояло совершить первый выход на поверхность. И даже если бы всё шло по плану, от подъёма до отбоя должно было пройти не менее 22,5 часа. Утром ЦУП разбудил астронавтов песней Стива Гудмана City of New Orleans в исполнении Джона Денвера. Шмитт, любитель кантри, попросил завести её ещё раз, пока все приводили себя в порядок. Все трое накануне принимали снотворное и выспались очень хорошо. Астронавты очень быстро позавтракали и облачились в скафандры. Сернан и Шмитт перешли в лунный модуль и проверили его системы. Расстыковка прошла штатно в начале 12-го витка, когда корабли находились над обратной стороной Луны. Ещё полтора часа «Америка» и «Челленджер» летели рядом, а астронавты визуально осматривали оба корабля, фотографировали и продолжали проверку систем. В 111:57 полётного времени[1] Эванс на 3,8 секунды включил маршевый двигатель и перевёл «Америку» на почти круговую орбиту высотой 129,6 км на 100 км. После этого Сернан и Шмитт совершили второй манёвр, понизивший периселений орбиты снижения. Двигатели системы ориентации лунного модуля были включены на торможение на 21,5 секунды. Параметры орбиты составили 110,4 км на 11,5 км[3] с периселением чуть восточнее места посадки.
Двигатель посадочной ступени «Челленджера» был включён в 112:49:53 на высоте в 16,1 км, начался управляемый спуск с орбиты. Астронавты летели ногами вперёд, спинами к лунной поверхности. Почти сразу загорелось предупреждение о том, что в баках мало топлива. Но это была явно ложная тревога, которую можно было игнорировать. По просьбе ЦУПа Сернан ввёл в бортовой компьютер уточнённые навигационные данные, иначе мог получиться недолёт до цели на целый километр. Хьюстон попросил астронавтов выключить и снова включить переключатель системы измерения количества топлива. После этого сигнал тревоги погас. На высоте около 2300 м «Челленджер» повернулся в вертикальное положение. Прямо перед астронавтами была долина Таурус—Литтров, а над ней в небе висела Земля. Во всех предыдущих полётах она была выше, и астронавты других экспедиций при посадке её не видели. В иллюминатор смотрел, в основном, только командир, пилот был занят показаниями приборов, которые он диктовал командиру. Но Сернан разрешил Шмитту пару раз выглянуть в окно. Автопилот вёл корабль почти точно в место прилунения, которое было выбрано до полёта. Но Сернан видел, что рядом были места и лучше. Ручкой манипулятора он сделал несколько коррекций курса, направив «Челленджер» в точку чуть ближе по курсу. По мере снижения место посадки было выбрано окончательно, и командир сделал ещё несколько коррекций. На высоте около 90 м Сернан перешёл на ручное управление. Для экономии топлива он поддерживал вертикальную скорость чуть больше штатной, зная, что её можно быстро погасить. На завершающей стадии посадки скорость снижения составляла 0,9 м/с. Лунная пыль появилась на высоте около 20 м. Боковая скорость равнялась нулю, но Сернан поддерживал небольшое перемещение вперёд, чтобы сесть на то место, которое он только что видел. Хорошим ориентиром для определения момента касания поверхности служила тень лунного модуля. «Челленджер» совершил посадку в 19:54:58 UTC 11 декабря 1972 года в месте с координатами 20,19080° с. ш. и 30,77168 в. д., в двухстах метрах от заранее запланированной точки[3]. Топлива в баках посадочной ступени оставалось на 117 секунд зависания. Лунный модуль встал на грунт с небольшим наклоном 4—5° назад, потому что его задняя опора оказалась почти в середине кратера диаметром 3—4 м[17][8][18].
Первый день на Луне
Подготовка к выходу на поверхность
Сразу после посадки Сернан и Шмитт привели взлётную ступень «Челленджера» в полную готовность к экстренному взлёту с Луны, на случай если лунный модуль получил какие-либо повреждения. В Хьюстоне, тем временем, проверяли телеметрию. После получения разрешения ЦУПа остаться на Луне астронавты перевели все системы в режимы, обеспечивавшие 3-дневное пребывание на поверхности. Сернан и Шмитт пообедали, сделали первые фотоснимки через иллюминаторы корабля и дали специалистам описания окружавшей их местности. Эванс при первом после прилунения пролёте над районом посадки доложил в Хьюстон, что видит в долине маленькое светлое пятно и сообщил его координаты. Как потом выяснилось, он ошибся всего на 20 метров[19].

|
| Панорама из снимков, сделанных Сернаном и Шмиттом через иллюминаторы «Челленджера» перед первым выходом на поверхность. Вдали, чуть левее центра, Южный массив, справа — Северный массив |
Начало 1-й внекорабельной деятельности (ВКД)
Через четыре часа после посадки астронавты разгерметизировали кабину. Первым из лунного модуля выбрался командир. Ещё находясь наверху лестницы, он, потянув за кольцо, открыл грузовой отсек, где хранились инструменты, запасы еды и батареи электропитания. Во всех полётах, от «Аполлона-11» до «Аполлона-16», в этом отсеке были установлены телекамеры, которые снимали спуск астронавтов по лестнице и первые шаги по Луне (только в случае с «Аполлоном-16» камера не включалась ради экономии электроэнергии после её перерасхода из-за 6-часовой задержки посадки). У «Челленджера» этой камеры не было вообще. Её убрали, чтобы залить чуть больше топлива. Телекартинка появится, только когда будет установлена телекамера «Лунного Ровера». Перед тем, как ступить на лунный грунт, Сернан сказал[20]:
Я на тарелке опоры. И, Хьюстон, сходя на поверхность в Таурус—Литтров, мы бы хотели посвятить первый шаг «Аполлона-17» всем, кто сделал его возможным.
Оригинальный текст (англ.)I'm on the footpad. And, Houston, as I step off at the surface at Taurus-Littrow, we'd like to dedicate the first step of Apollo 17 to all those who made it possible..
Осматриваясь, Сернан сообщил, что лунный модуль сел одной опорой в неглубокий кратер, похожий на мелкую обеденную тарелку. Вскоре к командиру присоединился и Шмитт. Астронавты первым делом выгрузили «Лунный Ровер». Сернан совершил пробную поездку, которая показала, что луномобиль полностью исправен. Шмитт снимал пробный заезд на фотокамеру. Когда Сернан к нему приближался, Шмитт немного отошёл назад. Он хотел, чтобы в кадр попала и Земля. Она находилась всё время в одной и той же точке небосвода, над Южным массивом, с возвышением на 45° над горизонтом. Но в кадр она так и не попала (астронавты поймут, как её нужно фотографировать, чуть позже)[21].

|

| ||
| Сернан во время тест-драйва. Телекамера и антенны на «Ровере» ещё не установлены | Тест-драйв вокруг «Челленджера». На заднем плане — Южный массив | Сернан салютует флагу | Шмитт, флаг и Земля |
Далее Шмитт загрузил на «Ровер» инструменты, а Сернан поставил на него лунный передатчик информации (англ. Lunar Communications Relay Unit — LCRU), устройство управления телевизионной камерой по командам с Земли, саму телекамеру и две антенны. Вскоре на Земле получили телевизионную картинку с Луны[22]. Затем астронавты сделали первые измерения с помощью портативного мобильного гравиметра, который они установили на «Ровер», и водрузили недалеко от лунного модуля флаг США. Это был флаг, висевший на стене главного зала ЦУПа несколько лет (со времени полёта «Аполлона-11»), на протяжении которых были осуществлены все предыдущие посадки на Луну. У экипажа «Аполлона-17» был с собой и ещё один флаг США. Астронавты привезут его обратно на Землю и передадут ЦУПу взамен старого. Сначала Шмитт сфотографировал Сернана у флага. Затем камеру взял командир. Он согнул ноги в коленях, почти встал на колени, чтобы запечатлеть и Землю. Но с первого раза она в кадр тоже не попала. Хорошо получился второй дубль. Шмитт тоже попробовал так сфотографировать Сернана. Вышло с третьего раза. После этого астронавты разместили на двух опорах лунного модуля детекторы космических лучей (один в постоянной тени, другой — на солнце) и погрузили на «Ровер» приёмник-передатчик для эксперимента по определению электрических свойств поверхности и заряды взрывчатки для эксперимента по построению сейсмического профиля[23].
Размещение приборов ALSEP
Шмитт выгрузил комплект научных приборов ALSEP. Пока он относил его к месту размещения примерно в 100 м к западу от лунного модуля, Сернан случайно задел молотком, который торчал из его подколенного кармана, и оторвал задний удлинитель крыла правого заднего колеса «Ровера». Командир попытался починить удлинитель крыла с помощью клейкой ленты, которая у астронавтов была с собой. Это получилось, но не сразу. «Ровер» после тест-драйва уже был испачкан лунной пылью. Она приставала к клейкой ленте, которая после этого уже ни к чему не клеилась. Сернану пришлось делать несколько попыток обмотать удлинитель и крыло. Тем временем, Шмитт, отойдя на 100 м к западу от «Челленджера», обнаружил, что там неровная поверхность. Нужно было идти дальше. Частота пульса у астронавта во время переноски приборов ALSEP подскочила до 140 ударов в минуту. Подходящее место Шмитт обнаружил примерно в 185 метрах к северо-западу от лунного модуля[23].
Пока Сернан ремонтировал крыло, Шмитт установил центральную станцию ALSEP и радиоизотопный термоэлектрический генератор и приступил к размещению и подключению приборов. Сернан подъехал к нему на «Ровере» и привёз с собой дрель. Он пробурил два отверстия глубиной 2,5 м каждое и разместил прибор для изучения тепловых потоков в лунном грунте, углубив в отверстия два датчика. В предыдущей экспедиции такой же эксперимент был потерян из-за того, что Джон Янг случайно зацепился ногой и оборвал кабель, соединявший прибор с центральной станцией. Шмитт разместил стационарный гравиметр для регистрации приливных явлений на Луне и обнаружения гравитационных волн в космическом пространстве; масс-спектрометр для исследования состава лунной атмосферы и прибор, регистрирующий частоту падения метеоритов[24]. Далее Сернан приступил к бурению скважины для взятия колонки грунта. А Шмитт разместил геофонный модуль эксперимента по построению сейсмического профиля и 4 геофона для регистрации сейсмических колебаний, которые после отлёта астронавтов будут вызваны подрывами зарядов взрывчатки. Недалеко от места размещения эксперимента лежал большой валун, достигавший трёх метров в высоту. Он получил название скала Geophone Rock[Комм. 1][25]. Сернан пробурил скважину на полную глубину 3,2 м, но при извлечении соединённых свёрл с колонкой грунта внутри столкнулся с большими сложностями. Не очень помогал даже специальный домкрат с ножным приводом. Частота пульса у командира поднялась до 150 ударов в минуту. Извлечь колонку грунта помог Шмитт. После этого он собрал поблизости несколько геологических образцов, а Сернан опустил в скважину прибор для измерения потока нейтронов и разъединил секции с колонкой грунта. Астронавты отставали от графика почти на 40 минут. В ЦУПе было принято решение немного сократить первую геологическую поездку[26].
Шмитт пешком возвратился к лунному модулю, захватив с собой секции с колонкой грунта. Далее он выгрузил передатчик эксперимента по определению электрических свойств поверхности и установил его примерно в 140 метрах к востоку от «Челленджера». Сернан, тем временем, включил навигационную систему «Ровера» и поехал к напарнику[27].
Первая геологическая поездка
Первая поездка была сокращена ЦУПом примерно до одного часа и предполагала всего одну геологическую остановку (англ. Station 1) на краю кратера Стено (англ. Steno Crater). Сернан и Шмитт проехали 1,2 км и остановились в 150 м от кратера Стено. Из-за неровностей рельефа они его так и не увидели. Но ехать дальше не имело смысла. В месте остановки было много валунов для сбора образцов. К тому же внекорабельная деятельность (ВКД) продолжалась уже почти 5 часов. У обоих астронавтов в ранцах портативной системы обеспечения жизнедеятельности кончились запасы воды в основных ёмкостях (3,9 л), и они переключились на запасные ёмкости (1,5 л). Сернан доложил, что удлинитель крыла пока держится, а Шмитт установил на грунте и снял с предохранителя первый из восьми зарядов взрывчатки для эксперимента по профилированию лунной поверхности (заряд № 6). В нём было 454 г взрывчатого вещества[27].

|

|

|

|
| Вверху и чуть слева — посадочная ступень «Челленджера». Левее неё — скала Geophone Rock. Внизу кратер Стено, чуть выше — место первой геологической остановки (Station 1). EP-7 — примерное место размещения второго (№ 7) заряда взрывчатки. Снимок сделан в июле 2009 года КА LRO | Сернан у «Ровера». Левее него и чуть дальше на грунте — заряд взрывчатки. Это комбинация из двух кадров панорамы, отснятой Шмиттом на Station 1 | Шмитт с совком-граблями на Station 1 | Валун на краю 20-метрового кратера на Station 1 |
Астронавты приступили к сбору образцов у относительно молодого кратера диаметром около 20 м и глубиной 3—4 м. Они откололи молотком несколько фрагментов от двух валунов, собрали совком-граблями мелкие камешки и отдельно мешочек реголита около 1 кг[28]. Возвращаясь к лунному модулю, астронавты на полпути сделали очень короткую остановку. Шмитт, не выходя из «Ровера», поставил на грунт второй заряд взрывчатки (№ 7), держа его за длинную антенну. Затем Сернан медленно сделал на «Ровере» круг по часовой стрелке, чтобы Шмитт также, не спешиваясь, смог отснять панораму на этом месте. Когда до лунного модуля оставалось несколько сотен метров, Шмитт сказал Сернану, что его осыпает лунная пыль и что они, видимо, всё-таки потеряли удлинитель крыла. Вскоре астронавты подъехали к передатчику эксперимента по определению электрических свойств поверхности[29]. В общей сложности они проехали 3,3 км, «Ровер» находился в движении 33 минуты[3].
Завершение 1-й ВКД
Около передатчика Сернан проехал на «Ровере» около 100 м с запада на восток, а затем пересёк следы на этом отрезке под прямым углом примерно посередине, так чтобы получился крест, ориентированный своими лучами по сторонам света. Астронавты уложили четыре 35-метровых кабеля антенны передатчика параллельно следам. После этого Сернан доложил, что нашёл коричневый камень. Шмитт, помогавший упаковать находку в мешочек для образцов, сразу понял, что это кусок цветного пенополистирола, в который была упакована зонтичная антенна «Ровера», но промолчал, решив, что командир подшучивает над учёными. Пенополистироловая упаковка, брошенная Сернаном у лунного модуля в начале ВКД, нагрелась на Солнце, и газ начал её разрывать. Один из кусков отлетел на 100 метров к передатчику и антенне[29].
Вернувшись к лунному модулю, астронавты почистили «Ровер» и скафандры друг друга от лунной пыли. Из ЦУПа им пообещали за ночь что-нибудь придумать с починкой крыла луномобиля. Во время укладки образцов в контейнеры разорвало ещё одну панель пенополистирола. Его кусок пролетел мимо астронавтов. Сернан подумал, что рядом упал метеорит. Но Шмитт объяснил, что это было на самом деле и откуда взялся «коричневый камень». Из ЦУПа сообщили, что, по словам Джона Янга, во время экспедиции «Аполлона-16» газонаполненные пластмассы тоже взрывались. Сернан и Шмитт подняли в кабину собранные образцы, фотокамеры и отснятую фотоплёнку. Пилот забрался в «Челленджер» первым, командир сделал очередные замеры с помощью гравиметра и тоже поднялся в кабину[30]. Первая ВКД продолжалась 7 часов 11 минут 53 секунды. Было собрано 14,3 кг образцов лунной породы[3].
После ВКД
Астронавты наддули кабину и сняли шлемы и перчатки. Лунная пыль, как и рассказывали их предшественники, сильно пахла порохом. К этому моменту Эванс на орбите уже закончил свой рабочий день и крепко спал. Сернан и Шмитт заправили ранцы кислородом и водой и поменяли в них батареи и кассеты с гидроксидом лития, поглощавшие углекислый газ. После этого они сняли скафандры. Оба сильно устали, болели пальцы рук. Сернан натёр мозоли. Астронавты были на ногах уже 20 с половиной часов (в Хьюстоне было 3 часа ночи 12 декабря). Экипаж ответил на вопросы специалистов в ЦУПе, которые касались езды на «Ровере», приборов ALSEP и геологии района посадки. У Шмитта началась сенная лихорадка. Это заметил даже оператор связи в Хьюстоне по звучанию голоса. Шмитт стал единственным астронавтом из побывавших на Луне, у кого лунная пыль вызвала аллергическую реакцию (на следующее утро аллергия почти пройдёт). Астронавты поужинали, прибрались в кабине и улеглись спать в гамаки, Сернан наверху, головой к задней стенке, Шмитт под ним перпендикулярно, головой к правой стенке. Хьюстон, несмотря на поздний отбой, пообещал дать им полных 8 часов отдыха[31].
Второй день на Луне
Подготовка ко второму выходу
12 декабря ЦУП разбудил астронавтов музыкой Рихарда Вагнера «Полёт валькирий»[Комм. 2][32]. Сернан и Шмитт оба поспали по 6 часов, но чувствовали себя хорошо отдохнувшими. Пока они спали, в Хьюстоне искали способ ремонта «Ровера». На практике найденное решение проверял командир дублирующего экипажа Джон Янг в скафандре. Он же сам и рассказал Сернану, что нужно взять четыре листа карты района посадки, отпечатанной на плотной фотобумаге (каждый лист размером примерно 20 см х 26,7 см), склеить их скотчем и прикрепить к крылу зажимами, которыми в кабине лунного модуля крепились дополнительные переносные лампочки. Весь ремонт, по словам Янга, должен был занять не более 2 минут[32].
Астронавты позавтракали. Из ЦУПа им сообщили, что 2-я внекорабельная деятельность (ВКД) должна пройти, в основном, по плану, со всеми намеченными геологическими остановками, но с небольшим сокращением работ на некоторых из них[32]. Сернан склеил четыре листа карты района прилунения так, как ему говорил Янг. Затем астронавты надели скафандры и ранцы и около 17:30 по местному времени Хьюстона разгерметизировали кабину. Надежды на то, что при открывании люка из кабины вместе с остатками воздуха вылетит и лунная пыль, не оправдались. По словам Сернана, вылетело всё, что угодно, но только не пыль. Астронавты отставали от графика на 1 час 20 минут[33].
Начало 2-й ВКД
Спустившись с лестницы, Сернан сказал: «Окей, Хьюстон. Ступая на равнину Таурус—Литтров чудесным вечером этого вторника, астронавты „Аполлона-17“ готовы поработать». Выйдя вслед за командиром, Шмитт после включения телекамеры попросил Хьюстон измерить длину его тени. Это было нужно, чтобы лучше оценивать на глаз расстояния и размеры (на Луне они всегда казались меньше, чем были на самом деле). Оказалось, что тень Шмитта в тот момент равнялась 4,5 м, чему он очень удивился. Сернан сделал очередной замер с помощью мобильного гравиметра, а Шмитт загрузил в «Ровер» фотокамеры, кассеты с плёнкой и четыре заряда взрывчатки (один, по просьбе ЦУПа, был оставлен на солнце, в тарелке восточной опоры лунного модуля). Командир с помощью напарника прикрепил к крылу бумажный удлинитель. Ремонт занял около пяти минут. Шмитт пешком прошёл 140 м до передатчика эксперимента по изучению электрических свойств поверхности и включил его. Когда Сернан ехал к нему, Шмитт констатировал, что бумажное крыло делает своё дело: лунная пыль не поднималась кверху[34].
Поездка к Южному массиву
От места размещения передатчика астронавты поехали на запад и примерно в 540 м от лунного модуля, не сходя с «Ровера», установили заряд взрывчатки № 4. Проехав 1,2 км, они достигли кратера Камелот (600 м в диаметре) и повернули на юго-запад[34]. По пути Сернан и Шмитт, по согласованию с Хьюстоном, сделали очень короткую незапланированную остановку. Они проехали 3 км, по прямой до лунного модуля было 2,6 км. У небольшого кратера Шмитт, не выходя из «Ровера», специальным совком на длинной ручке подцепил камень и немного реголита. Такой способ сбора образцов был придуман Шмиттом и применялся на Луне впервые. В течение 2-й и 3-й ВКД таких геологических остановок будет несколько[35].
 Первая остановка (англ. Station 2) в этой поездке была запланирована в районе оползня у подножия Южного массива, у кратера Нансен, названного так в честь норвежского исследователя Арктики Фритьофа Нансена. Чтобы попасть к нему, астронавтам предстояло взобраться на естественный эскарп англ. Lee—Lincoln Scarp, возвышавшийся примерно на 80 м над уровнем долины. Относительно пологое, удобное место для подъёма было обнаружено на снимках, сделанных с орбиты, и ещё до полёта получило название англ. Hole-in-the-Wall (рус. «хорошее местечко»). Оно было хорошо видно издалека, и Сернан держал курс прямо на него. Астронавты въехали в район более светлого грунта (англ. light mantle), чем в других местах долины Таурус—Литтров. Крутизна склона в Hole-in-the-Wall достигала 30°, и Сернану местами приходилось вести «Ровер» зигзагообразно. Путь наверх растянулся на 600 м и занял 5 минут. В районе кратера Нансен астронавтам нужно было найти большие валуны, которые можно было бы идентифицировать со следами скатывания по склонам Южного массива. Если бы таковые обнаружились, учёные могли быть уверены в получении образцов подстилающей породы, обнажившейся высоко на склоне горы[35].
Первая остановка (англ. Station 2) в этой поездке была запланирована в районе оползня у подножия Южного массива, у кратера Нансен, названного так в честь норвежского исследователя Арктики Фритьофа Нансена. Чтобы попасть к нему, астронавтам предстояло взобраться на естественный эскарп англ. Lee—Lincoln Scarp, возвышавшийся примерно на 80 м над уровнем долины. Относительно пологое, удобное место для подъёма было обнаружено на снимках, сделанных с орбиты, и ещё до полёта получило название англ. Hole-in-the-Wall (рус. «хорошее местечко»). Оно было хорошо видно издалека, и Сернан держал курс прямо на него. Астронавты въехали в район более светлого грунта (англ. light mantle), чем в других местах долины Таурус—Литтров. Крутизна склона в Hole-in-the-Wall достигала 30°, и Сернану местами приходилось вести «Ровер» зигзагообразно. Путь наверх растянулся на 600 м и занял 5 минут. В районе кратера Нансен астронавтам нужно было найти большие валуны, которые можно было бы идентифицировать со следами скатывания по склонам Южного массива. Если бы таковые обнаружились, учёные могли быть уверены в получении образцов подстилающей породы, обнажившейся высоко на склоне горы[35].
По мере того, как астронавты приближались к Южному массиву, гора (высота 2300 м) выглядела всё более внушительно. Когда они смотрели от лунного модуля, её вершина возвышалась над горизонтом на 11°, а Земля — на 45°. Вблизи горы её вершина была на 25° выше горизонта, а Земля ещё на 20° выше. Сернан сказал, что если Земля начнёт скрываться за гору, место Station 2 придётся поменять. Астронавты находились в пути уже 70 минут. Из ЦУПа им сообщили, что остаётся 5 минут до точки невозврата. В случае отказа одного из ранцев портативной системы жизнеобеспечения и возникновения необходимости использовать аварийную систему продувки кислородом, у Сернана и Шмитта было бы всего 80 минут на то, чтобы вернуться к «Челленджеру». Астронавты ответили, что они почти у цели. И скоро они остановились у кратера Нансен, проделав путь 9,1 км. По прямой до лунного модуля было 7,6 км. Дорога заняла 73 минуты. Эта поездка стала самой протяжённой и самой продолжительной за всё время осуществления программы «Аполлон»[35].
Station 2 у кратера Нансен
Остановившись у кратера Нансен (Station 2), астронавты почистили приборы «Ровера» и телекамеру от пыли, сделали очередной замер с помощью мобильного гравиметра и приступили к сбору образцов. Они откололи по нескольку кусков от трёх больших валунов. Один из фрагментов третьего по счёту валуна позже окажется самым древним образцом лунной породы из собранных в ходе всех экспедиций «Аполлонов» (4,6 млрд лет ± 0,1 млрд лет). Поблизости не было видно явных следов скатывания этих валунов, но их голубовато-серый цвет совпадал с цветом слоёв породы, видневшихся вверху на горе. В углублении у одного из валунов Сернан и Шмитт собрали грунт, на который никогда не попадали солнечные лучи. На усмотрение астронавтов ЦУП предложил увеличить время пребывания на Station 2 на 10 минут за счёт сокращения предстоявшей остановки на Station 4. Астронавты согласились. Из-за того, что кратер Нансен располагался в небольшой низине у подножия Южного массива, лунный модуль не был виден, даже когда астронавты немного поднялись по склону горы. После работы с третьим валуном Сернан пнул его ногой, он покатился, перевернувшись два раза, и остановился. Шмитт пнул его ещё дважды, но камень больше никуда не сдвинулся. Астронавты взяли грунт с того места, на котором он лежал[36]. Работа на Station 2 продолжалась 1 час 5 минут 55 секунд[8].
Работа у кратера Лара
Место следующей остановки (англ. Station 3) заранее не было чётко определено. Для него мог подойти любой кратер, который дал бы представление о геологической природе эскарпа. Но до этого, когда астронавты отъехали от кратера Нансен на 700 м, Хьюстон попросил их остановиться ещё раз, спешиться и сделать замеры гравиметром. Шмитт собрал несколько камней. Сернан, садясь в «Ровер», упал и при этом копнул реголит, обнажив более светлый грунт. Был собран мешочек этого грунта. Работа на этой остановке, получившей название Station 2a, продолжалась 12 минут. Далее астронавты поехали на северо-восток. Они спустились по Hole-in-the-Wall и вскоре остановились у молодого кратера 15—20 м в диаметре недалеко от кратера Лара (назван в честь героини романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго»). От начала 2-й ВКД прошло 3 часа 50 минут. Сернан и Шмитт проехали в общей сложности 12,6 км, до лунного модуля по прямой было 6,0 км[37].
Для экономии времени ЦУП попросил астронавтов разделиться и работать по отдельности. Сернану надлежало углубить двойную трубку-пробоотборник (каждая секция по 42 см в длину) и сделать замер гравиметром, а Шмитту в одиночку собирать образцы и отснять на фотокамеру панораму. Командиру удалось довольно легко и быстро углубить трубку-пробоотборник, с каждым ударом молотка она входила в реголит примерно на 5 см. На Земле колонку грунта в нижней секции, которую Сернан упакует в герметичный металлический контейнер, предполагалось оставить нетронутой до той поры, пока существенно не улучшатся методы научного анализа. Она должна была стать капсулой времени. Оператор связи в ЦУПе Роберт Паркер попросил Сернана не забыть вложить туда маленькую записку для потомков. «Да, я вложу записку. Никто и не узнает», — ответил Сернан. Это была шутка-экспромт. А чтобы учёные не поняли его буквально, командир извлёк пробоотборник, подошёл к «Роверу» и показал в телекамеру открытую трубку. Были отчётливо видны реголит с мелкими камешками. Запечатав контейнер, Сернан добавил: «Окей, длинная банка закрыта, и я думаю, никто не знает, что в ней, кроме меня»[38].
Сбор образцов в одиночку шёл у Шмитта не так продуктивно, как если бы астронавты делали это вдвоём. Держать пакет левой рукой и насыпать в него грунт правой в скафандре было довольно сложно. Шмитт случайно толкнул контейнер с образцами, он опрокинулся, и все пакеты из него вывалились. Шмитт опустился на колени и на руки, поставил контейнер вертикально и собрал в него все пакеты. Держа контейнер, Шмитт попытался встать, но споткнулся и упал на грудь. После этого он наконец-то встал. Хьюстон попросил Шмитта снять панораму. От начала 2-й ВКД прошло 4 часа 20 минут. На Station 3 астронавты находились 29 минут[38].

|

|
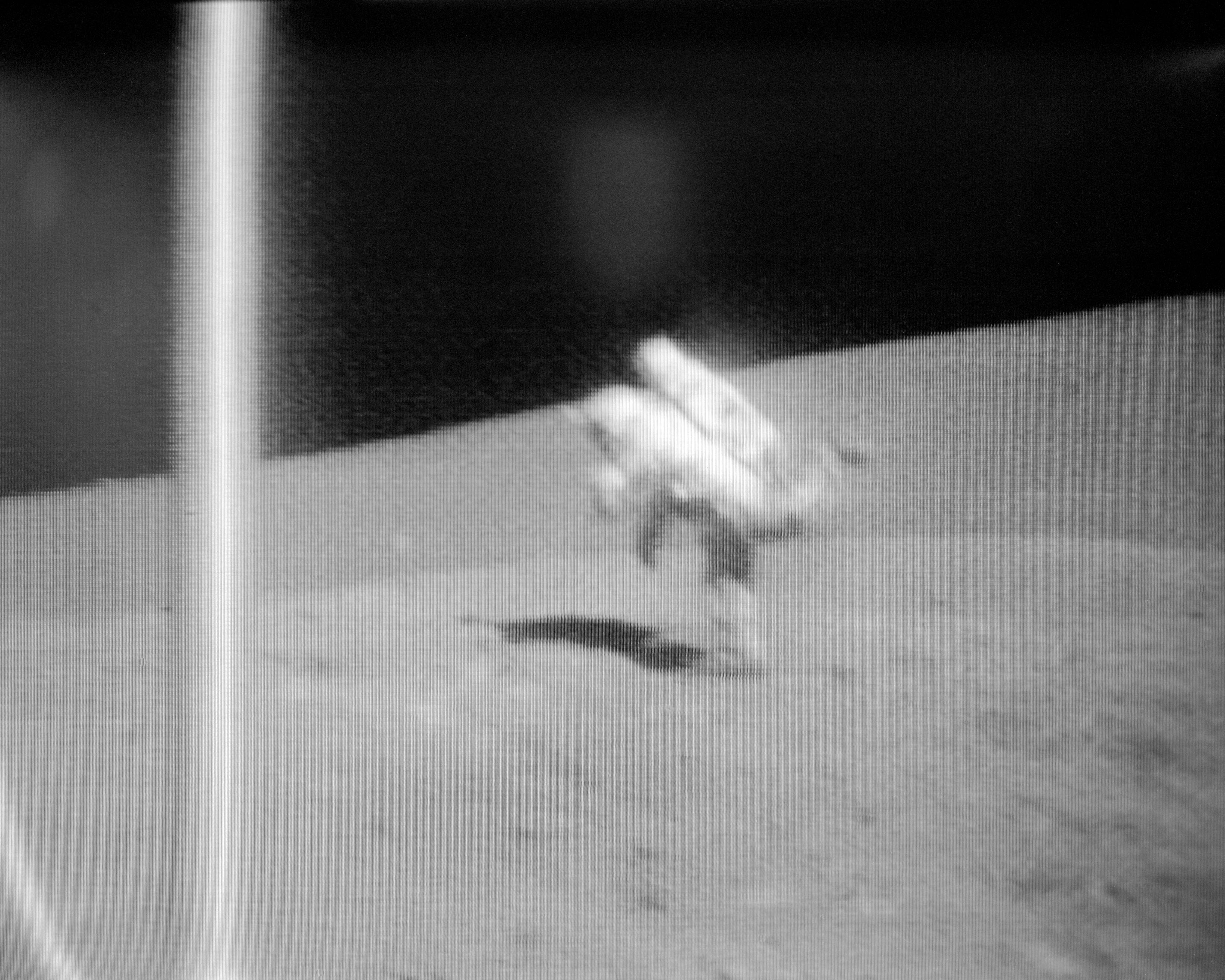
|
| Ballet Crater. За ним слева склон эскарпа. На переднем плане справа — совок и контейнер для образцов | Сернан у «Ровера» на Station 3 | Балет в исполнении Шмитта |
Поторопив астронавтов в дорогу, Паркер сообщил, что в ЦУПе нет отбоя от звонящих из Хьюстонского Фонда балета, спрашивают, не сможет ли Шмитт выступить у них в следующем сезоне. «Надеюсь, смогу», — ответил Шмитт и два раза высоко подпрыгнул вверх на правой ноге, левая при этом была вытянута назад и согнута в колене. Позже небольшой кратер, у которого астронавты работали на Station 3, был назван англ. Ballet Crater[38].
Оранжевый грунт
От Station 3 Сернан и Шмитт поехали на северо-восток. Следующую остановку (Station 4) они сделали у большого валуна на краю кратера Шорти (диаметр 100 м). От начала 2-й ВКД прошло 4 часа 49 минут. В общей сложности астронавты проехали 15,1 км, до лунного модуля по прямой было 4,2 км. На работу в этом месте оставалось около 30 минут[38].
Пока Сернан чистил от пыли батареи и телекамеру «Ровера», Шмитт стал осматривать валун и доложил, что рядом с ним обнаружил оранжевый грунт (англ. orange soil). Сернан попросил его ничего не трогать, пока он сам не посмотрит (позднее Сернан признавал, что поначалу подумал, не утомился ли напарник от долгого пребывания на Луне). «Он повсюду! Оранжевый!» — взволнованно продолжал Шмитт. «Действительно. Я вижу это даже отсюда», — подтвердил Сернан и, подняв солнцезащитный фильтр гермошлема, подтвердил это ещё раз. Оранжевый цвет был различим для специалистов и на Земле на телекартинке, которую передавала камера «Ровера». (Послеполётный анализ оранжевого грунта показал, что он состоял из очень маленьких шариков стекла с высоким содержанием титана и низким содержанием кварца. Интенсивность цвета зависела от соотношения между титаном и железом). Шмитт уточнил, что ближе к центру зона оранжевого грунта имеет малиновый оттенок, дальше переходит в оранжевый и, наконец, в обычный серый. Шмитт прокопал канавку. Астронавты собрали образцы оранжевого грунта, в том числе колонку с помощью двойной трубки-пробоотборника. Когда её извлекли, открытый конец нижней секции оказался заполнен очень тёмным, почти чёрным грунтом (на Земле выяснится, что это ильменит в виде мельчайших шариков кристаллизовавшегося стекла, сходных по составу с оранжевыми, но имевших иную историю остывания). От начала 2-й ВКД прошло 5 часов 3 минуты. Правила безопасности на случай пешего возвращения к лунному модулю оставляли на эту остановку не более 20 минут. Напоследок Сернан снял у кратера Шорти панораму, а Шмитт руками отломил от валуна кусок величиною с кулак (валун был сильно растрескавшимся). Астронавты впервые включили приёмник эксперимента по изучению электрических свойств поверхности, который вместе с антенной располагался сзади «Ровера», на этажерке для инструментов, и поехали дальше[39]. Работа на Station 4 у кратера Шорти продолжалась 36 минут 6 секунд[8].

|
| Панорама, снятая Сернаном у кратера Шорти |
Кратер Камелот и завершение 2-й ВКД
Проехав около 1,5 км на восток от кратера Шорти, астронавты сделали очень короткую остановку у кратера Виктори и, не сходя с «Ровера», разместили на грунте очередной заряд взрывчатки, отсняли круговую панораму и взяли пробу грунта. Далее путь лежал к кратеру Камелот. Следующую геологическую остановку (англ. Station 5) Сернан и Шмитт сделали на юго-западной кромке кратера Камелот, рядом с полем валунов. До лунного модуля по прямой оставалось 1,4 км[40]. Астронавты молотком откололи куски нескольких валунов, собрали лунную пыль, которая лежала на одном из них, и реголит с открытого места между большими камнями[41]. Работа на Station 5 продолжалась 30 минут 43 секунды[8].
Астронавты поехали дальше на восток вдоль кромки кратера Камелот и с расстояния 1,1 км увидели лунный модуль. Они выехали к следам «Ровера», которые он оставил по пути к Station 2. Шмитт сказал: «До нас здесь кто-то уже побывал». Затем проехали мимо заряда взрывчатки, который они установили в начале 2-й ВКД. Примерно в 400 метрах от «Челленджера» они разместили ещё один заряд взрывчатки, № 8. ЦУП попросил Шмитта спешиться у приборов ALSEP, чтобы осмотреть стационарный гравиметр. Сернан подвёз его к центральной станции, а сам, объехав южный геофонный кабель, вернулся к лунному модулю[42]. Во время 2-й ВКД астронавты проехали 20,3 км. «Ровер» находился в движении 2 часа 25 минут[3] Специалисты на Земле никак не могли понять, что происходит с гравиметром, и думали, что он стоит недостаточно ровно. Но пузырёк уровня находился точно в центре. Несмотря на это, Шмитта попросили подви́гать прибор и снова установить его ровно. По дороге к лунному модулю Шмитт собрал спёкшийся в стекло реголит из центра маленького кратера. Астронавты почистили друг друга от лунной пыли, собрали контейнеры с образцами, фотокамеры, кассеты с плёнкой и поднялись в кабину ЛМ[42]. 2-я ВКД продолжалась 7 часов 36 минут 56 секунд. Было собрано 34,1 кг лунной породы[3].
В кабине «Челленджера» у Шмитта снова началась аллергия на лунную пыль, хотя и не такая сильная, как в первый день. Проделав все необходимые после ВКД процедуры, астронавты ответили на вопросы специалистов в ЦУПе. Они отставали от графика на 2 часа. В Хьюстоне уже было 03:23 среды, 13 декабря. Эванс, пролетая недалеко от района посадки на 32-м витке, давно крепко спал. Астронавты поужинали, и Хьюстон пожелал им спокойной ночи, пообещав не будить их полных 8 часов и не сокращать 7-часовую 3-ю ВКД[43].
Третий день на Луне
Поездка к Северному массиву
ЦУП сдержал своё обещание насчёт сна и разбудил астронавтов ровно через 8 часов, когда в Хьюстоне уже шёл второй час дня 13 декабря[44]. Кабина «Челленджера» была разгерметизирована с отставанием от графика на 53 минуты[8]. Спускаясь по лестнице, Сернан в очередной раз произнёс: «Бог в помощь экипажу „Аполлона-17“!» Было около 16:30 по времени Хьюстона. Вскоре к нему присоединился Шмитт. К началу 3-й ВКД Солнце поднялось уже на 33° над горизонтом, и астронавты обнаружили, что стало легче смотреть в восточном направлении. Из ЦУПа им сообщили, что их тени в течение дня будут иметь длину около 8 футов (2,4 м). Шмитт поинтересовался, сколько это будет в метрах. Ответа не последовало. Ответил Сернан: «Я тебе начерчу, отмерю шагами. Ты сам сможешь измерить». Из-за увеличения солнечной активности астронавтов попросили убрать детектор космических лучей в чемоданчик для фотокамер и плёнки[45].
В третьей поездке Сернану и Шмитту предстояло посетить Северный массив. Они проехали 3 км до скалы англ. Turning Point Rock у подножия горы. В этом месте астронавты, не сходя с «Ровера», взяли совком образец грунта и повернули на восток. Они диагонально поднялись по склону крутизной около 20°. Остановка (англ. Station 6) была сделана у огромного расколовшегося валуна, который скатился с Северного массива[8].
Station 6 у скалы Tracy’s Rock
Остановившись у скалы, оба астронавта испытали затруднения с выгрузкой из «Ровера». На крутом склоне Сернан оказался выше по склону, Шмитт — ниже. От начала 3-й ВКД они проехали 3,8 км, до лунного модуля по прямой было 3,1 км. Station 6 находилась на высоте 76 метров над уровнем долины Таурус—Литтров. Вся долина с этого места была видна, как на ладони, включая «Челленджер» почти в её центре. Скала размерами 6 х 10×18 м в действительности состояла из пяти фрагментов. По всей видимости, она раскололась, скатившись 22 млн лет назад на 1200 м с Северного массива с перепадом высот 500 м. Астронавты молотком откололи много кусков от разных фрагментов скалы и собрали лунный грунт в месте, куда никогда не попадали солнечные лучи. Сернан обнаружил, что фрагмент скалы, лежавший выше других по склону, был засыпан толстым слоем реголита. Он опёрся левой рукой о камень, а правой, держа мешочек для образцов, дважды зачерпнул лунную пыль, а затем сделал несколько снимков. Завершая пребывание на этой остановке, Сернан доложил Земле, что колёса «Ровера», сделанные из металлической сетки, в двух местах получили вмятины величиной с мячик для гольфа. А Шмитт не смог забраться на своё сидение, оно находилось ниже по склону. Он прошёл пешком вниз около 100 метров до небольшого кратера, где Сернан его подобрал[46]. Работа на Station 6 продолжалась 1 час 10 минут 46 секунд[8].
Скала, у которой работали астронавты, после полёта получила несколько названий: англ. Station 6 Boulder (Rock), Split Boulder (Rock) и скала Tracy's Rock (по имени дочери Сернана). По возвращении астронавтов на Землю снимки скалы на Station 6 были напечатаны во многих газетах и журналах. Астронавт «Аполлона-12» Алан Бин, ставший после ухода из НАСА художником, захотел нарисовать астронавтов у этого валуна. Он встретился с Сернаном, чтобы расспросить его о деталях. Во время беседы Сернан сказал, что, если бы он знал, что фотографии скалы станут такими известными, он написал бы что-нибудь на лунной пыли, например, имя своей дочери Трейси, которой на момент полёта было 9 лет. Бин попросил Сернана написать на листе бумаги, как именно он написал бы имя дочери. Когда картина была готова, Бин пригласил Сернана приехать посмотреть, что получилось. В том месте на скале, где Сернан брал образцы лунной пыли, было написано имя его дочери. По словам Бина, нарисовав эту картину, он избавил коллегу от хлопот, связанных с повторным полётом на Луну для написания имени, а налогоплательщиков — от расходов по отправке Сернана[46].
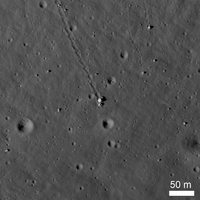
|

|
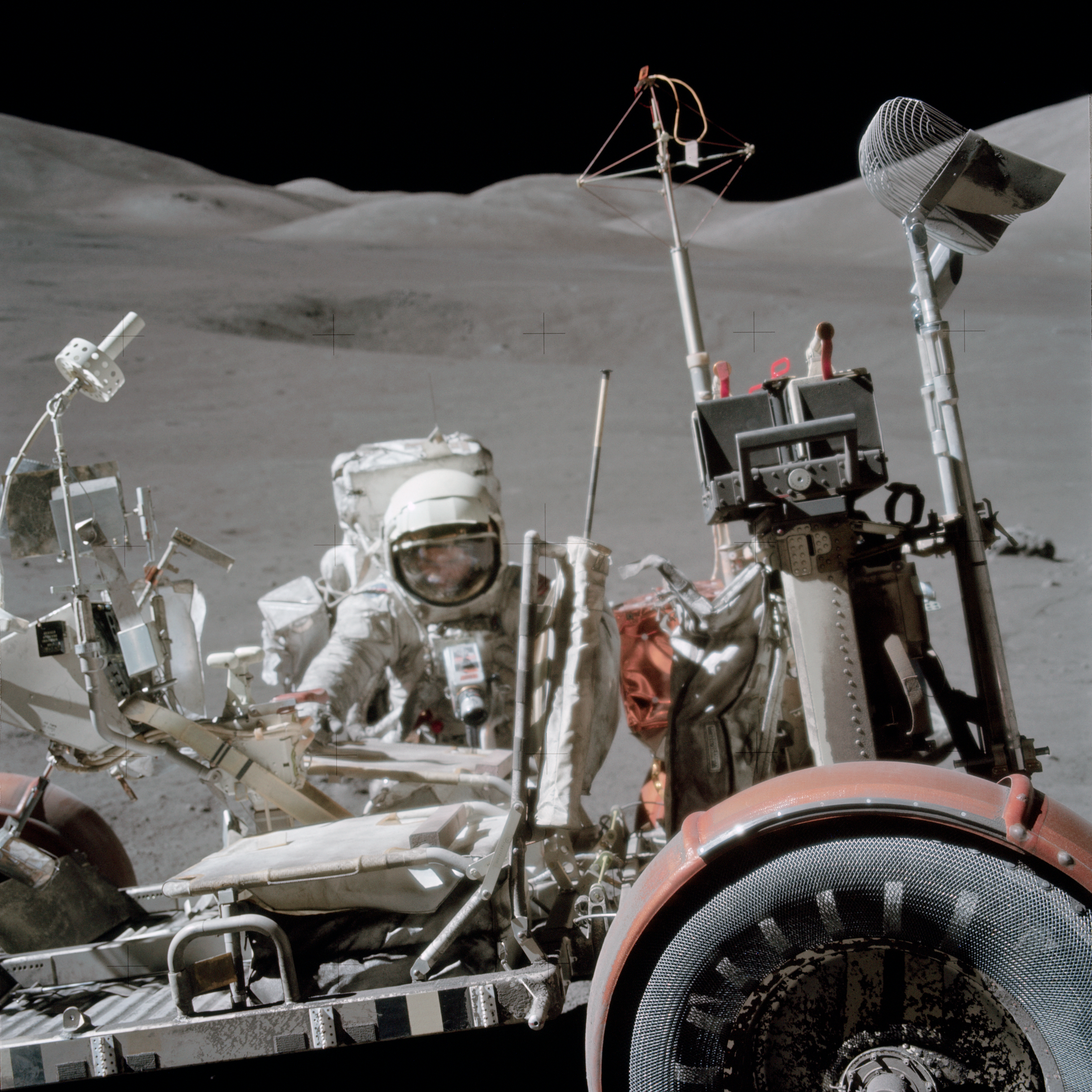
|
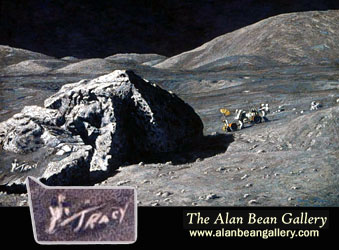
|
| Пять фрагментов скалы Station 6 Rock, снятые с орбиты КА LRO в декабре 2013 года. След скатывания скалы имеет в длину 980 м. Чуть ниже скалы видны следы «Ровера» | «Челленджер» (левее центра), снятый Шмиттом со Station 6 на камеру с 500-мм объективом | Шмитт у «Ровера» на Station 6. При поднятом солнцезащитном фильтре видно лицо астронавта | Картина Алана Бина «Tracy’s Rock» |
Stations 7 и 8
Место следующей геологической остановки (англ. Station 7) заранее не было чётко определено. Астронавтам надлежало спуститься к подножию Северного массива и за короткий отрезок времени (10—15 минут) собрать побольше разнообразных камней. Сернан и Шмитт проехали диагонально вниз по склону в восточном направлении около 500 метров и остановились у россыпи валунов. Работа на Station 7 продолжалась 22 минуты. Астронавты собрали несколько мешочков образцов и отдельно камень величиною примерно с футбольный мяч[8][47].
От Station 7 астронавты поехали дальше на восток и, проехав около 2 км, остановились у подножия холмов Скальпчат Хилз (англ. Sculptured Hills). Это место стало самой восточной точкой не только их поездок, но и самым восточным местом из посещённых экспедициями «Аполлонов»[8]. От начала 3-й ВКД Сернан и Шмитт проехали 6,6 км, по прямой до лунного модуля было 4,0 км. Пока Сернан чистил телекамеру «Ровера» от пыли, Шмитт приступил к сбору образцов. К этому времени из-за перегрева вышли из строя приборы эксперимента по изучению электрических свойств поверхности. Командир заметил, что бумажное крыло правого заднего колеса снова требует ремонта, оно держалось только на одном зажиме. Прыгая, как кенгуру, Шмитт поднялся по склону примерно на 50 м от «Ровера». Он решил скатить небольшой валун вниз к Сернану, который с молотком работал с другим камнем рядом с луномобилем. Шмитт пнул камень ногой, тот немного прокатился, но встал. Астронавт пнул его ещё несколько раз. Камень скатился ещё немного и остановился в ложбине. «Давай! Катись! Послушай, я бы по такому склону скатился легко, а ты почему нет?» — говорил Шмитт камню. «Не хватает 5/6 гравитации», — предположил Сернан. Шмитт взял грунт с места, где камень лежал до того, как его потревожили. Сернан поднялся к напарнику и молотком отколол от валуна несколько кусков. Спустившись, астронавты собрали мелкие камешки и реголит совком-граблями. Шмитт прокопал канавку глубиной около 25 см и взял пробы реголита с разных глубин, а Сернан поправил крыло «Ровера». В конце пребывания на Station 8 командир, садясь в луномобиль в прыжке, промахнулся и упал на спину рядом с «Ровером» ногами вверх по склону. Ни подняться самому, ни перевернуться ногами вниз он не смог. Шмитт помог ему повернуться лицом вниз, а затем и помог встать, рукой подтолкнув Сернана вверх за стекло гермошлема. Астронавт очень сильно испачкался лунной грязью. Карманы на скафандре были полны реголита[48]. Работа на Station 8 продолжалась 47 минут 53 секунды[8].
Station 9 у кратера Ван Зерг
Далее путь астронавтов лежал на юго-запад, в направлении лунного модуля. По плану предстояли ещё две геологические остановки. Шмитт заметил, что их снова начинает осыпать лунная пыль, как будто крыло опять разболталось. Сернан предположил, что оно деформировалось. Преодолевая большое поле валунов, Сернан царапнул днищем «Ровера» об один из них. Следующая остановка (англ. Station 9) была сделана по плану у кратера Ван Зерг. До лунного модуля оставалось 2,2 км. Командир обнаружил, что крыло «Ровера» свернулось вниз, и это позволяло пыли подниматься[49]. Из ЦУПа с большим опозданием сообщили, что приёмник эксперимента по определению электрических свойств поверхности из-за перегрева отключился ещё на Station 6 и с тех пор не функционирует. Специалисты надеялись, что он остынет и снова заработает, но этого не произошло. В реголите у кратера Ван Зерг астронавты обнаружили много мелких шариков темного стекла. Несмотря на большое количество валунов и камней, отсутствовали обломки подстилающей породы, что для геолога Шмитта было непонятным. В ЦУПе обратили внимание на то, что запасы кислорода у Шмитта не позволят астронавтам находиться вне корабля дольше 7 часов 30 минут. В самом конце пребывания на Station 9 Шмитт обнаружил под тёмным поверхностным слоем реголита более светлый. Прокопав канавку, астронавты собрали его с разных глубин. Хьюстон принял решение отказаться от последней остановки (англ. Station 10) у кратера Шерлок. ЦУП попросил астронавтов углубить двойную трубку-пробоотборник и разместить на поверхности заряд взрывчатки № 5[50].
Возвращаясь к лунному модулю, астронавты сделали короткую остановку в 1,1 км от «Челленджера». Шмитт, не спешиваясь, совком собрал образцы грунта. Затем они остановились уже почти у корабля, в 30 м к востоку от антенны передатчика эксперимента по определению электрических свойств поверхности (190 м от ЛМ). Шмитт, сойдя с «Ровера», обнаружил, что открыта этажерка для инструментов сзади луномобиля. В течение всей ВКД астронавты испытывали проблемы с её замком. Он был сильно испачкан пылью и стал плохо открываться и закрываться. По словам Шмитта, всё было на месте, главное, — большой контейнер с образцами, который висел на этажерке. Он не заметил, однако, пропажи совка и граблей-совка, а также двух длинных рукояток для инструментов, которые вывалились где-то по дороге. В этом месте Шмитт установил заряд взрывчатки № 2 и невдалеке подобрал большой камень, на который он обратил внимание во время 1-й ВКД. Этот базальт массой 8,11 кг (образец № 70215) станет самым массивным образцом, который астронавты «Аполлона-17» доставят на Землю. Его фрагменты позднее были представлены публике в различных экспозициях и стали единственными лунными камнями, которые когда-либо разрешалось трогать руками всем желающим[51]. Всего за 3-ю ВКД астронавты покрыли расстояние 12 км[52].
Завершение 3-й ВКД
По возвращении к «Челленджеру» астронавты выгрузили контейнеры с собранными образцами. ЦУП попросил их набрать в герметичный металлический стакан реголит, загрязнённый выхлопами двигателя посадочной ступени. Его набрали под лунным модулем, около задней опоры, с помощью совка, которым Шмитт собирал образцы, сидя на «Ровере»[52].

|

|

|
| Земля над «Челленджером» | Шмитт у «Ровера» после окончания третьей поездки. К опоре ЛМ прислонён поддон из-под прибора по изучению электрических свойств поверхности | Сернан в конце 3-й ВКД |
Астронавты планировали провести церемонию завершения последнего выхода на поверхность Луны, но чуть не забыли о своих планах. Из ЦУПа им несколько раз завуалированно пытались напомнить, но Шмитт уже пошёл к приборам ALSEP, а Сернан собирался отвезти «Ровер» на место последней стоянки. Наконец, командир понял, о чём речь, и позвал Шмитта назад. Для церемонии нужен был камень. Сернан подобрал валун размером с футбольный мяч на Station 9 и положил его на луномобиль, себе в ноги. Но напарник упаковал его в контейнер. Шмитт подобрал кусок базальта величиною с кулак, и оба астронавта встали перед телекамерой. Обращаясь к молодёжи планеты, с которой связаны надежды на будущее, Сернан сказал, что кусочки лунного камня будут разосланы во все страны мира, как символ того, что в будущем человечество сможет жить в мире и гармонии. Этот камень (образец № 70017) массой 3 кг впоследствии стал известен, как англ. The Goodwill Rock («Камень доброй воли»). Почти 500 фрагментов камня были переданы 135 странам мира, в том числе Советскому Союзу (вместе с маленькими флагами этих стран, летавшими на Луну на борту «Аполлона-17»), всем штатам и территориям США, а также ведущим музеям и исследовательским центрам[52].
Затем Сернан открыл мемориальную табличку на передней опоре лунного модуля. На ней были изображены Западное и Восточное полушария Земли, Луна между ними и надпись: «Здесь Человек завершил своё первое исследование Луны, декабрь 1972 от Рождества Христова. Пусть дух мира, с которым мы пришли, отразится в жизни всего человечества». Ниже были подписи всех троих астронавтов и Президента США Ричарда Никсона. После церемонии Сернан, сделав последний замер гравиметром, зашвырнул прибор подальше движением метателя молота. Далее он поставил «Ровер» на место последней стоянки, откуда ЦУП сможет наблюдать за предстоящим взлётом. Послеполётный анализ фотографий показал, что Сернан поставил «Ровер» в 158 м к востоку от «Челленджера». Командир снял бумажное крыло (оно находится в экспозиции Национального музея авиации и космонавтики Смитсоновского института в Вашингтоне) и удлинитель заднего левого крыла (выставлено в музее Космического центра имени Линдона Джонсона). Шмитт, тем временем, дополнительно выровнял центральную станцию ALSEP и стационарный гравиметр. ЦУП попросил постучать по нему и снова подвигать туда-сюда. Затем Шмитт сфотографировал все приборы и извлёк детектор потока нейтронов из отверстия глубокой пробы грунта. Сернан почистил аппаратуру «Ровера» от пыли[52]. Напоследок он опустился рядом с луномобилем на колени и пальцем написал в лунной пыли инициалы своей дочери: англ. TDC (Theresa [Tracy] Dawn Cernan)[8]. Взяв с собой последний заряд взрывчатки (№ 3), он пошёл к лунному модулю. Сернан поставил его на грунт в конце западного кабеля антенны передатчика эксперимента по изучению электрических свойств поверхности (в 35 м западнее передатчика и в 110 м восточнее «Челленджера»). Подойдя к лунному модулю, Сернан решил метнуть ставший ненужным геологический молоток. Шмитт попросил предоставить это ему, ведь Сернан уже метал гравиметр. Командир уступил, только просил не попасть в корабль или в приборы ALSEP. Шмитт швырнул молоток, как метатель диска. Инструмент долго летел (Сернан успел сделать несколько снимков) и упал, взметнув фонтан реголита и образовав маленький кратер.
Астронавты почистили друг друга от грязи. У обоих до критически малых объёмов запасов кислорода оставалось всего несколько минут. Шмитт первым поднялся в кабину лунного модуля. Сернан передал ему четыре контейнера с образцами и чемоданчик с камерами и отснятой плёнкой. Затем он произнёс слова прощания с Луной[52]:
Боб, это Джин, я на поверхности (Луны) и, делая последний шаг человека с поверхности домой на какое-то время, но, мы верим, не очень надолго, я бы просто хотел (сказать) то, что, я думаю, войдёт в историю. Что сегодняшний вызов Америки выковал будущую судьбу человечества. И, покидая Луну в Таурус-Литтров, мы уходим так же, как и пришли, и, если будет на то Господня воля, вернёмся, с миром и надеждой для всего человечества. Бог в помощь экипажу «Аполлона-17».
Оригинальный текст (англ.)Bob, this is Gene, and I'm on the surface; and, as I take man's last step from the surface, back home for some time to come - but we believe not too long into the future - I'd like to just (say) what I believe history will record. That America's challenge of today has forged man's destiny of tomorrow. And, as we leave the Moon at Taurus- Littrow, we leave as we came and, God willing, as we shall return, with peace and hope for all mankind. "Godspeed the crew of Apollo 17."
В одном из интервью в 2000 году Сернан впервые сказал, что не готовил свою короткую прощальную речь заранее. Нужные слова пришли к нему всего за несколько минут до того, как были произнесены. Но поскольку члены экипажа очень тщательно подбирали позывные для своих кораблей, два слова командир планировал использовать заранее: англ. «America» и англ. «Challenge». Сернан поднялся в кабину «Челленджера» и закрыл люк[52]. Последний выход на поверхность продолжался 7 часов 15 минут 8 секунд. В ходе него астронавты собрали 62 кг образцов лунной породы. В общей сложности Сернан и Шмитт находились за пределами корабля 22 часа 3 минуты 57 секунд. Они проехали на «Ровере» 35,7 км. Максимальное удаление от лунного модуля составило 7,6 км. Всего было собрано 110,52 кг геологических образцов[3].
После 3-й ВКД
Астронавты наддули кабину и подключили скафандры к системе жизнеобеспечения лунного модуля. Из ЦУПа им сообщили о двух установленных ими рекордах: продолжительности отдельно взятой лунной ВКД (вторая) и общей продолжительности лунных ВКД. Кроме того, суммарная продолжительность ВКД на Луне в рамках программы «Аполлон», по информации Хьюстона, составила 80 часов 44 минуты и 8 секунд. Сернан и Шмитт взвесили контейнеры с образцами. Затем они снова разгерметизировали кабину, чтобы выбросить всё ненужное. Шмитт руками вытолкал ранец портативной системы жизнеобеспечения Сернана. Он скатился вниз по ступенькам лестницы. Сернан выбросил ранец Шмитта, но он застрял на площадке перед люком. Командиру пришлось подтолкнуть его ногой. Астронавты решили отвезти назад на Землю свои лунные ботинки и не стали их выбрасывать. Вместо этого они выбросили свои запасные, неиспользованные перчатки. ЦУП разрешил экипажу оставить на борту все образцы, лимит по массе был превышен всего на 18 кг. Астронавты сняли скафандры и во время ужина ответили на вопросы геологов. По времени Хьюстона было уже около половины третьего ночи. Следуя инструкциям ЦУПа, астронавты разложили по кабине контейнеры с образцами, чтобы оптимизировать центр масс взлётной ступени корабля и расход топлива. Хьюстон пообещал им дать 8 часов для отдыха и пожелал спокойного сна[53].
Четвёртый день на Луне. Взлёт и возвращение на орбиту
14 декабря ЦУП должен был разбудить астронавтов вскоре после полудня (по времени Хьюстона). Но они сами дали о себе знать на четверть часа раньше. Сернан и Шмитт нестройным дуэтом вдруг запели «Good morning to you» оператору связи Гордону Фуллертону. Тот, в свою очередь, завёл им заготовленную для подъёма симфоническую поэму Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра». Астронавты уже завтракали, до взлёта с Луны оставалось чуть менее пяти часов. Из ЦУПа им сообщили, что Рон Эванс успешно совершил манёвр по изменению плоскости орбиты «Америки» (за трое суток вращение Луны увело орбиту командно-служебного модуля далеко в сторону от района посадки). Шмитт рассказал, что ночью его разбудил сильный шум во время передачи канала связи от одной станции слежения к другой. Он сообщил, что в честь этого события и в продолжение традиций полёта «Аполлона-8»[Комм. 3] написал стихотворение, которое тут же и прочитал. Вскоре после завтрака астронавты надели скафандры и в пятый раз за время пребывания на Луне разгерметизировали кабину «Челленджера», чтобы выбросить два мешка с мусором. Эта 5-я ВКД стала очень короткой. Люк оставался открытым ровно 60 секунд[54].
Зажигание основного двигателя взлётной ступени было включено в 22:54:37 UTC 14 декабря (185:21:37 полётного времени). Продолжительность пребывания Сернана и Шмитта на Луне составила 74 часа 59 минут 40 секунд[3]. После запуска оператору телекамеры «Ровера» в Хьюстоне в течение 26 секунд удавалось удерживать «Челленджер» в кадре, затем он его потерял, снова поймал в кадр, но ненадолго. Когда он сделал панораму обратно вниз, выяснилось, что флаг США устоял на своём месте. Он только, как флюгер, повернулся вокруг своей оси под воздействием реактивной струи. Если после установки его полотнище указывало на восток, то после взлёта оно повернулось на север. Также на своём месте устоял и поддон из-под прибора по изучению электрических свойств поверхности. Сернан в 1-й ВКД прислонил его к северной опоре посадочной ступени[54].
Сразу после начала взлёта, при передаче канала от одной станции дальней космической связи другой, возникли проблемы с радиосвязью. В течение четырёх минут астронавты не слышали ЦУП, кроме того, была потеряна информация слежения. Позже Сернан говорил, что Шмитт потратил почти половину времени взлёта на то, чтобы наладить связь[54]. Двигатель взлётной ступени лунного модуля отработал 441 секунду. Корабль вышел на начальную орбиту высотой 89,8 х 16,9 км. Двумя манёврами сближения «Челленджер» был переведён на орбиту 119,8 х 89,8 км[3]. На завершающем этапе сближения Сернан и Шмитт в «Челленджере» летели спинами к Луне, «Америка» находилась прямо перед ними. Для Эванса, снимавшего процесс на телекамеру, и для наблюдателей на Земле всё выглядело так, что лунный модуль приближался, поднимаясь с Луны. Когда расстояние между кораблями уменьшилось до примерно 30 м, Сернан прекратил сближение. Эванс медленно развернул «Америку», чтобы его коллеги могли как следует осмотреть корабль, на котором им предстояло возвращаться на Землю. После этого Сернан очень медленно завершил сближение и пристыковал «Челленджер» к командно-служебному модулю. От взлёта до стыковки прошло два с четвертью часа[55].
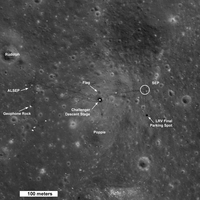
|

|

|

|
| Место посадки «Аполлона-17», снятое КА LRO 14 августа 2011 года. В центре — посадочная ступень «Челленджера». Чуть севернее неё — флаг США. Слева — скала Geophone Rock. Севернее неё — приборы ALSEP. Справа — передатчик и антенна эксперимента по изучению электрических свойств поверхности (SEP). Южнее — «Ровер» на месте последней стоянки | «Челленджер» во время сближения | «Америка» перед стыковкой | ЛМ перед стыковкой. В правом иллюминаторе виден Юджин Сернан |
После открытия люков Эванс передал коллегам пылесос. Пропылесосив, Сернан и Шмитт передали Эвансу контейнеры с образцами и скафандры со шлемами и перешли в командный модуль. Во взлётную ступень ЛМ был загружен большой мешок с мусором, который накопился у Эванса за три дня работы в одиночестве. Астронавты надели скафандры, проверили герметичность кабины и повысили давление в переходном туннеле. Когда они открыли замки стыковочного узла, это избыточное давление мягко отвело «Челленджер» от «Америки». По команде из ЦУПа на 1 минуту 56 секунд были включены двигатели системы ориентации взлётной ступени, она сошла с орбиты. Планировалось, что «Челленджер» столкнётся с Луной на восточном склоне Южного массива. На Земле включили телекамеру «Ровера» и ждали этого события, наехав крупным планом на место ожидаемого столкновения. Однако ничего не увидели[55]. Зато удар был зафиксирован всеми сейсмографами, оставленными на Луне. Точка, где «Челленджер» врезался в поверхность, находится в 1,75 км от запланированной и в 9,9 км юго-западнее места посадки «Аполлона-17». Её координаты 19,96° с.ш. 30,50° в.д.[3] Когда «Америка» пролетала над районом посадки, Эванс сообщил в ЦУП, что видит на Южном массиве маленький свежий кратер очень светлого цвета, которого, по его словам, раньше не было. По расчётам, диаметр кратера, образовавшегося после столкновения, должен был составить около 17 метров[55].
Работа на орбите
10-й день полёта, 15 декабря, был последним полным рабочим днём на окололунной орбите. Большую часть времени астронавты посвятили визуальным геологическим наблюдениям. После обнаружения оранжевого грунта у кратера Шорти Эванс и Шмитт занимались поисками участков лунной поверхности, окрашенных пирокластическими выбросами. В районе самоѓо кратера Шорти оранжеватый цвет поверхности, наблюдавшийся ранее Эвансом, исчез. Это, видимо, было связано с изменившимися условиями освещения. Но зато западнее района посадки были обнаружены кратеры, окрестности которых были окрашены тоже оранжевым, а также красным и красновато-коричневым цветом. Особенно много их было в районе кратера Сульпиций Галл на юго-западной окраине Моря Ясности[55].
ЦУП проинформировал астронавтов о предварительных результатах некоторых научных экспериментов. Например, измерения, сделанные на 33-м витке (после 2-й ВКД Сернана и Шмитта) с помощью инфракрасного радиометра модуля научных приборов «Америки», показали, что после 11,6 суток лунной ночи кратер Кеплер С представляет собой «тёплое пятно» с температурой 132° К на фоне окружавшей поверхности, остывшей до 94° К. Это говорило о том, что покрывало выбросов породы из кратера лучше удерживает тепло. Эксперимент по сейсмическому профилированию зарегистрировал и взлёт «Челленджера», и его падение на Южный массив. Скорость распространения волн в реголите оказалась очень близкой к таковой в районе посадки «Аполлона-16». Предварительный анализ информации, полученной с помощью мобильного гравиметра, позволял говорить о том, что долина Таурус—Литтров заполнена слоем базальтовых пород толщиной 3—4 км. В тот же день по команде с Земли были подорваны два из восьми (№ 6 и 7) зарядов взрывчатки, оставленных на Луне. Второй взрыв (вспышку и выброс реголита) в ЦУПе наблюдали с помощью телекамеры «Ровера»[3][55].
Возвращение
16 декабря Хьюстон разбудил астронавтов песней группы The Doors «Light My Fire». Рон Эванс, который был дежурным и спал в наушниках, всю её проспал. Сернан предложил ЦУПу завести песню ещё раз, но тут Эванс проснулся. Тем не менее, предложение было принято, и специально для Эванса песню запустили ещё раз. Примерно через восемь часов после подъёма, над обратной стороной Луны, был включён маршевый двигатель служебного модуля. Он отработал 2 минуты 23,7 секунды. После 75 витков на лунной орбите, продолжавшихся 147 часов 43 минуты и 37,11 секунды, корабль лёг на обратный путь к Земле[3]. Астронавты провели 25-минутную телетрансляцию, показав виды быстро удаляющейся Луны. У Эванса начались проблемы с желудком. Впервые в ходе полёта ЦУП задействовал закрытый канал связи, чтобы астронавт мог приватно общаться с медиками[55]. На Луне были подорваны ещё три заряда взрывчатки (№ 4, 1 и 8). Несколько попыток включить телекамеру «Ровера» окончились безрезультатно. Позднее было установлено, что из-за перегрева отказал лунный передатчик информации[3].

|

|

|
| Эванс (слева) и Шмитт на обратном пути к Земле | Шмитт сбрил бороду, на очереди усы | Сернан пытается вычистить лунную пыль из-под ногтей |
17 декабря после подъёма ЦУП сообщил астронавтам, что они только что пересекли границу, за которой земное тяготение стало воздействовать на корабль сильнее лунного. Это произошло на расстоянии 62 638 км от Луны и 317 790 км от Земли. Скорость «Америки» в тот момент составляла около 4225,6 км/ч. Главным событием дня стал выход Эванса в открытый космос в межпланетном пространстве. При открывании выходного люка из кабины выплыл фломастер, но потерянные ножницы Эванса так и не появились. Астронавт закрепил кронштейн около люка и установил на него телекамеру. Держась за поручни на внешней обшивке корабля, Эванс трижды проделал путь к модулю научных приборов и обратно. Он поочерёдно извлёк и передал Шмитту, который стоял в открытом люке, отснятые кассеты с плёнкой зонда по профилированию лунной поверхности, панорамной и картографирующей камер. Эта ВКД продолжалась 1 час 5 минут 44 секунды (Эванс находился за пределами корабля 45 минут 20 секунд). Общая продолжительность внекорабельной деятельности астронавтов «Аполлона-17» составила 23 часа 9 минут 41 секунду. В тот же день по команде из ЦУПа на Луне были подорваны три последних заряда взрывчатки. Когда у астронавтов начался предпоследний период ночного отдыха перед возвращением, их корабль находился на расстоянии 250 412 км от Земли[3][8].

|

|
| Рон Эванс во время выхода в космос. Справа от него — серп Земли | Эванс извлёк кассету с плёнкой панорамной камеры (белый цилиндрический предмет) |
18 декабря экипаж был разбужен песней американского дуэта The Carpenters «We’ve Only Just Begun». Астронавты предприняли попытку найти ножницы Эванса. Из ЦУПа им подсказывали различные места, куда они могли подеваться. Но поиски не увенчались успехом.[Комм. 4][56]. Экипаж провёл ещё один эксперимент по наблюдению фосфенов. На этот раз никто из астронавтов не увидел ни одной вспышки. Медики на Земле заподозрили, что Шмитт весь эксперимент проспал, сердцебиение у него было слишком медленным для бодрствующего человека[1]. Сернан, Эванс и Шмитт дали пресс-конференцию, которая продолжалась чуть менее получаса и транслировалась по телевидению. Когда астронавты укладывались спать, корабль находился в 135 733 км от Земли[8].
В день посадки, 19 декабря, в наушниках у ещё спавших астронавтов зазвучала боевая песня Военно-морской академии США «Anchors Aweigh» (рус. Якоря на весу) и сразу вслед за ней — гимн США. Через 38 минут после подъёма, на расстоянии 46 330,2 км от Земли, 9-секундным включением двигателей системы ориентации была проведена единственная на обратном пути коррекция траектории. Менее, чем через три часа, в 301 час 23 минуты 49 секунд полётного времени служебный модуль «Америки» был отделён от командного. Корабль вошёл в плотные слои атмосферы Земли на скорости 39 600,8 км/ч в 301:38:38 на высоте 121,9 км. Обратный полёт к Земле продолжался 67 часов 34 минуты 5 секунд. «Аполлон-17» приводнился в Тихом океане в 19:24:59 UTC в точке с координатами 17°52′ ю. ш. 166°06′ з. д. / 17.867° ю. ш. 166.100° з. д. (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=-17.867&mlon=-166.100&zoom=14 (O)] (Я), в 350 морских милях северо-восточнее островов Самоа и в 6,5 км от поисково-спасательного корабля ВМС США «Тикондерога»[8]. Чистая продолжительность миссии (без учёта перевода часов) составила 301 час 51 минуту 59 секунд, или 12 суток 13 часов 51 минуту 59 секунд. Через 52 минуты после приводнения Сернан, Эванс и Шмитт были доставлены вертолётом на борт авианосца. Ещё через 71 минуту туда же был доставлен их космический корабль[3].
Корабль после полёта
После полёта командный модуль корабля был направлен на деактивацию на авианосную базу North Island, в Сан-Диего (Калифорния), куда прибыл 27 декабря. Деактивация завершилась 30 декабря. 2 января 1973 года «Америка» была доставлена для послеполётного анализа на один из заводов космического подразделения корпорации North American Rockwell в Дауни (Калифорния). В настоящее время находится в экспозиции Космического Центра Хьюстон в Космическом центре имени Линдона Джонсона[3][57].
Достижения и рекорды «Аполлона-17»
Полёт «Аполлона-17» стал самым продолжительным пилотируемым полётом к Луне. На Землю было доставлено рекордное количество образцов лунной породы. Были установлены рекорды продолжительности пребывания астронавтов на лунной поверхности и на окололунной орбите. «Аполлон-17» стал самой продуктивной и почти беспроблемной лунной экспедицией. За время полёта корабль покрыл расстояние 2 391 486 км[8].
| Полёт | Масса научных приборов, доставленных на Луну (кг) | Продолжительность лунных ВКД (ч/мин) | Покрытое расстояние на Луне (км) | Привезено образцов грунта (кг) |
|---|---|---|---|---|
| «Аполлон-11» | 104 | 2:24 | 0,25 | 20,7 |
| «Аполлон-12» | 166 | 7:29 | 2,0 | 34,1 |
| «Аполлон-14» | 209 | 9:23 | 3,3 | 42,8 |
| «Аполлон-15» | 550 | 18:33 | 27,9 | 76,6 |
| «Аполлон-16» | 563 | 20:14 | 26,9 | 95,7 |
| «Аполлон-17» | 514 | 22:03:57 | 35,7 | 110,5 |
Основные научные итоги
Лунная геология
Перед экипажем «Аполлона-17» ставились две главные геологические задачи: получить образцы древних пород лунного высокогорья и найти свидетельства относительно недавней вулканической активности в долине Таурус—Литтров. Астронавты собрали и привезли 741 образец породы и реголита. Образцы, собранные в долине, оказались, в основном, базальтами, образовавшимися 3,7—3,8 млрд лет назад. На основании фотоснимков и наблюдений, сделанных с орбиты в ходе экспедиции «Аполлона-15», учёные полагали, что в районе посадки сравнительно недавно могла иметь место вулканическая деятельность. Астронавты исследовали кратер Шорти, чтобы определить, не является ли он вулканическим кратером. На краю кратера был обнаружен оранжевый грунт из мелких шариков оранжевого и чёрного вулканического стекла, образовавшегося в результате извержения 3,64 млрд лет назад. А кратер Шорти оказался обычным ударным кратером значительно более молодого возраста[58].

|

|
| Оранжевый грунт под микроскопом (оранжевое и чёрное вулканическое стекло) | Троктолит в Лунной приёмной лаборатории. Масса 156 г, около 5 см в поперечнике |
Множество очень старых камней было собрано у подножия гор к северу и югу от места посадки. Изучение этих камней показало, что очень сильный метеоритный удар, сформировавший бассейн Моря Ясности, произошёл 3,89 млрд лет назад. Некоторые камни, в составе которых обнаружены норит, троктолит и дунит, образовались ещё раньше, 4,2—4,5 млрд лет назад[58].
Находки астронавтов позволили определить возраст кратера Тихо (85 км в диаметре), который находится в южной части видимой стороны Луны на расстоянии 2250 км от района посадки. Один из лучей кратера пересекает долину Таурус—Литтров. Исследования показали, что образцы, взятые из таких разных геологических образований, как Лайт Ментл (англ. Light Mantle) и кратеры на дне долины, подвергались воздействию космических лучей одинаковое количество лет. Вывод учёных: удар, образовавший кратер Тихо, произошёл незадолго до того, как на Земле вымерли динозавры, 109 ± 4 млн лет назад[59].
Эксперименты на поверхности Луны
- Эксперимент по сейсмическому профилированию. В ходе эксперимента, после отлёта астронавтов с Луны, по командам с Земли были подорваны восемь зарядов взрывчатки массой от 57 г до 2,7 кг. Эксперимент показал, что скорость распространения сейсмических волн в верхних нескольких сотнях метрах коры составляет от 0,1 до 0,3 км/с. Это намного меньше скорости, характерной для цельных горных пород на Земле, но согласуется с сильно растрескавшимся, брекчиевидным материалом, который образуется на Луне в результате длительной метеоритной бомбардировки. Было установлено, что в месте посадки «Аполлона-17» поверхностный слой базальта имеет толщину 1,4 км, что немного превышает значение в 1 км, полученное с помощью мобильного гравиметра[60].
- Мобильный гравиметр. Измерения были сделаны на 12 остановках во время трёх поездок астронавтов. Результаты эксперимента показали, что толщина слоя базальта в районе посадки составляет 1 км. Это немного ниже результатов эксперимента по сейсмическому профилированию[61].
- Стационарный лунный гравиметр. Эксперимент, предназначавшийся для обнаружения гравитационных волн, не удался из-за ошибки производителя прибора[62].
- Эксперимент по определению выбросов частиц лунного грунта и метеоритов предназначался для определения скорости и направления движения мельчайших частиц, прибывающих к Луне извне, таких как обломки комет, или межзвёздная пыль, а также выбрасываемых из поверхности в результате метеоритных ударов. Однако анализ результатов показал, что обнаружены были, в основном, мельчайшие частицы лунной пыли, переносимые на малых скоростях по лунной поверхности[63].
- Эксперимент с масс-спектрометром показал, что крайне разрежённая лунная атмосфера состоит из трёх основных газов: гелия, неона и аргона и большого количества других газов и веществ, многие из которых занесены на Луну с Земли: водорода, азота, кислорода, хлора, соляной кислоты и диоксида углерода. Концентрация гелия ближе к лунной полуночи увеличивается в 20 раз. Это соответствует предположениям, которые учитывали, что гелий не замерзает ночью и что его источником служит солнечный ветер. Концентрация неона, измерявшаяся только ночью, оказалась в 20 раз ниже предполагаемой. В предварительном научном докладе по итогам полёта «Аполлона-17» (англ. Apollo 17 Preliminary Science Report) отмечалось, что такие результаты непонятны. Концентрация аргона также падает (по существу, становится невыявляемой) в течение ночи, что и предсказывалось для газа, который замерзает. Незадолго до рассвета концентрация аргона начинает возрастать, указывая на миграцию аргона через приближающийся терминатор (предрассветный аргоновый бриз). Концентрация загрязнителей резко возрастает с восходом солнца[64].
- Эксперимент по изучению тепловых потоков в лунном грунте показал в месте посадки «Аполлона-17» тепловой поток величиной 16 милливатт на м². Это означает, что для того, чтобы горела обычная электролампочка мощностью 60 ватт, на Луне необходимо собрать всю тепловую энергию, исходящую из недр на участке площадью 3600 м². Таким образом, тепловой поток Луны составляет 18—24 % от среднего теплового потока Земли в 87 милливатт на м². Эксперимент проводился только в двух районах Луны (ещё один — место посадки «Аполлона-15»), поэтому неизвестно, насколько полученные результаты репрезентативны для Луны в целом. Но поскольку оба района находятся на границах между лунными морями и высокогорьями, считается, что полученные величины тепловых потоков, возможно, на 10—20 % превышают средние значения для Луны в целом[65].
- Эксперимент по определению электрических свойств поверхности предназначался для проверки на Луне результатов орбитальных измерений с помощью бистатического радиолокатора и зонда по профилированию поверхности[66]. Эксперимент показал, что относительная электрическая постоянная лунных пород в долине Таурус—Литтров на частотах от 1 до 32 МГц составляет примерно от 3 до 4 у поверхности и возрастает до 6—7 на глубине около 50 м. В верхних слоях лунного грунта на глубину до 2 км от поверхности нет жидкой воды[64].
- Эксперимент по измерению потока нейтронов предназначался для определения степени перемешивания и переворачивания лунного реголита в результате метеоритных ударов. По результатам сделан вывод, что перемешивание на глубину до 1 см происходит в среднем 1 раз каждые миллион лет, в то время как перемешивание на глубину до 1 м всего лишь раз в миллиард лет[67].
Эксперименты на орбите
- Зонд по профилированию лунной поверхности дал представления о подповерхностной структуре Моря Кризисов и Моря Ясности. В Море Ясности слои заполняющего его базальта обнаружены на глубинах 0,9 и 1,6 км. В Море Кризисов слой базальта был обнаружен на глубине 1,4 км. Эксперимент не определил глубину залегания нижней границы базальтов. Но применительно к Морю Кризисов результаты эксперимента в совокупности с другими наблюдениями позволяют предположить, что общая толщина слоя базальта составляет от 2,4 до 3,4 км[68].
- Сканирующий инфракрасный радиометр определял температуру и быстроту остывания лунной поверхности в ночное время. В разных районах Луны прибор показал от 85°К (-188°С) до 400°К (+127°С). Результаты эксперимента были также использованы для определения размеров валунов в выбросах вокруг ударных кратеров и плотности распределения таких валунов в зависимости от расстояния от кратера[69].
- Ультрафиолетовый спектрометр предназначался для определения состава и плотности крайне разрежённой лунной атмосферы. Он был способен обнаружить атомарный и молекулярный водород, атомарный кислород, атомарный азот, углерод, монооксид углерода, диоксид углерода и ксенон. Молекулярный водород был обнаружен в количестве 6000 атомов на 1 см³. Других компонентов атмосферы на пределе возможностей прибора обнаружено не было. Спектрометр не мог регистрировать гелий, неон и аргон, которые присутствуют в лунной атмосфере. Кратковременные лунные явления в кратере Аристарх, наблюдавшиеся с Земли, привели к предположениям, что в кратере иногда происходят выбросы газов. Однако спектрометр таких выбросов не обнаружил. Временная атмосфера была зарегистрирована после того, как лунный модуль совершил посадку. Но она исчезла через несколько часов, после того как выхлопные газы ракетных двигателей рассеялись. Во время обратного полёта к Земле спектрометр был использован для изучения различных астрономических объектов, включая Землю, Млечный Путь и отдельные звёзды[70].
Фото- и киносъёмка
Панорамной камерой модуля научных приборов в ходе полёта было отснято 1623 снимка, из которых около 1580 сняты с высоким разрешением на окололунной орбите. Картографирующей камерой сделано около 2350 снимков лунной поверхности. Из командного модуля астронавты сняли на фотокамеры 1170 снимков. Из лунного модуля на орбите и на поверхности Луны, а также на Луне за пределами корабля (подавляющее большинство снимков) Сернан и Шмитт отсняли 2422 кадра. Из 12 отснятых кассет 16-мм киноплёнки 4 сняты из лунного модуля и 8 из командного[71].
«Аполлон-17» в массовой культуре
«Аполлону-17» посвящена последняя серия 12-серийного телесериала «С Земли на Луну» 1998 года. Автором сценария и одним из продюсеров является Том Хэнкс. Он же во всех сериях, кроме последней (хотя в ней он тоже появляется), играет главную роль рассказчика, который представляет каждую серию. В 12-й серии, называющейся фр. «Le Voyage dans la Lune» (рус. «Путешествие на Луну»), рассказ о полёте «Аполлона-17» перемежается с отрывками из первого в истории кинематографа научно-фантастического фильма 1902 года «Путешествие на Луну» режиссёра Жоржа Мельеса[72].
В прологе к вышедшему в свет в 1999 году роману Хомера Хикэма англ. «Back to the Moon» (рус. «Возвращение на Луну») описывается обнаружение астронавтами «Аполлона-17» оранжевого грунта во время 2-й ВКД. Далее сюжет романа разворачивается вокруг оранжевого грунта[73].
Вышедший в 2005 году роман Дугласа Престона англ. «Tyrannosaur Canyon» (рус. «Каньон Тираннозавра») начинается с описания лунных прогулок астронавтов «Аполлона-17» с использованием цитат из расшифровок их переговоров с Землёй[74].
Напишите отзыв о статье "Аполлон-17"
Примечания
- Комментарии
- ↑ Названия деталей лунного рельефа (кратеров, гор, скал и т. п. приводятся в статье в оригинале, по-английски, если нет соответствующих русскоязычных аналогов. Остальные — по-русски, по каталогу «Номенклатурный ряд названий лунного рельефа». Все названия давались астронавтами и были официально утверждены Международным астрономическим союзом в 1973 году. Во избежание дублирования МАС немного изменил названия пяти кратеров: Боуэн, Гесс, Макин, Нансен и Стено. Им были присвоены официальные названия Боуэн—Аполлон, Гесс—Аполлон, Макин—Аполлон, Нансен—Аполлон и Стено—Аполлон.
- ↑ Оператор связи Гордон Фуллертон и Харрисон Шмитт были выпускниками-одногодками Калифорнийского технологического института (1957 года). У студентов последнего курса Калтеха есть давняя традиция в дни выпускных экзаменов ровно в 7 утра синхронно включать «Полёт валькирий» на полную мощность и будить всё общежитие.
- ↑ В Рождество 1968 года, вскоре после того, как «Аполлон-8» лёг на обратный курс к Земле, Шмитт в ЦУПе зачитал экипажу поэму. Это была написанная кем-то из сотрудников вариация на тему «The Night Before Christmas».
- ↑ Шмитт всё-таки нашёл ножницы Эванса, когда астронавты занимались финальной укладкой вещей в кабине перед посадкой. Он положил их в сумку со своими личными вещами. Примерно через месяц после полёта на вечеринке по случаю успешного завершения экспедиции Сернан и Шмитт торжественно вручили Эвансу его ножницы
- Использованные источники
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html A Running Start — Apollo 17 up to Powered Descent Initiation] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 31 декабря 2013.
- ↑ 1 2 3 4 Evans, Ben [www.rocketstem.org/2013/01/16/apollo-17-final-voyage-to-moon Apollo 17: Final voyage to the Moon] (англ.). RocketSTEM (January 16, 2013). Проверено 4 января 2014.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Orloff, Richard W. [history.nasa.gov/SP-4029/Apollo_17a_Summary.htm Apollo 17. The Eleventh Mission: The Sixth Lunar Landing] (англ.). Apollo By The Numbers: A Statistical Reference. NASA (2000). Проверено 4 января 2014.
- ↑ [astronaut.ru/as_usa/text/engle.htm Джо Генри Энгл] (рус.). Космическая энциклопедия ASTROnote (2013). Проверено 4 января 2014.
- ↑ Compton, 1989, p. 219—220.
- ↑ Compton, 1989, p. 242.
- ↑ 1 2 Compton, 1989, p. 243.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Lindsay, Hamish [www.honeysucklecreek.net/msfn_missions/Apollo_17_mission/index.html Apollo 17. Last Manned Flight to the Moon] (англ.). A Tribute to Honeysuckle Creek Tracking Station. Colin Mackellar (2003—2014). Проверено 6 января 2014.
- ↑ Peebles, Curtis [www.testpilot.ru/espace/bibl/spaceflight/20/names.html Names of US Manned Spacecraft] (англ.). Spaceflight, Vol. 20 (February 2, 1978). Проверено 6 января 2014.
- ↑ Compton, 1989, p. 247—248.
- ↑ 1 2 3 Compton, 1989, p. 249.
- ↑ Lindsay, Hamish [www.honeysucklecreek.net/msfn_missions/ALSEP/hl_alsep.html ALSEP (Apollo Lunar Surface Experiments Package)] (англ.). A Tribute to Honeysuckle Creek Tracking Station. Honeysuckle Creek Tracking Station (2003—2014). Проверено 26 июня 2014.
- ↑ Press Kit, 1972, p. 56.
- ↑ Press Kit, 1972, p. 20.
- ↑ 1 2 3 И. И. Шунейко. [www.testpilot.ru/espace/bibl/raketostr3/4-4-17.html Пилотируемые полёты на Луну, конструкция и характеристики Saturn V Apollo, глава IV, Apollo 17] (рус.). Ракетостроение, том 3. Всесоюзный институт научной и технической информации (1973). Проверено 9 января 2014.
- ↑ 1 2 Astronautics, 1974, p. 413.
- ↑ Mission Report, 1973, p. 10-11—10-12.
- ↑ Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html Landing at Taurus-Littrow] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 24 января 2014.
- ↑ Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html Post-landing Activities] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 29 января 2014.
- ↑ Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html Down the Ladder] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 30 января 2014.
- ↑ Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html Rover Deployment] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 31 января 2014.
- ↑ Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html Loading the Rover] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 31 января 2014.
- ↑ 1 2 Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html ALSEP Off-load] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 4 февраля 2014.
- ↑ Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html ALSEP Deployment] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 6 февраля 2014.
- ↑ С. Г. Пугачёва, Ж. Ф. Родионова и др. Каталог «Номенклатурный ряд названий лунного рельефа». — Москва: Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга, МГУ, 2009. — С. 49—51. — 58 с.
- ↑ Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html Deep Core] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 10 февраля 2014.
- ↑ 1 2 Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html Traverse to Station 1] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 10 февраля 2014.
- ↑ Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html Geology Station 1] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 11 февраля 2014.
- ↑ 1 2 Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html Return to the LM and SEP Deployment] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 12 февраля 2014.
- ↑ Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html EVA-1 Close-out] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 13 февраля 2014.
- ↑ Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html Post-EVA-1 Activities] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 14 февраля 2014.
- ↑ 1 2 3 Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html EVA-2 Wake-up] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 14 февраля 2014.
- ↑ Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html Preparations for EVA-2] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 18 февраля 2014.
- ↑ 1 2 Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html Outbound to Camelot] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 20 февраля 2014.
- ↑ 1 2 3 Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html Camelot to Station 2] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 21 февраля 2014.
- ↑ Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html Geology Station 2] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 26 февраля 2014.
- ↑ Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html Traverse to Geology Station 3] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 27 февраля 2014.
- ↑ 1 2 3 4 Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html Geology Station 3 at Ballet Crater] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 2 марта 2014.
- ↑ Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html Orange Soil] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 5 марта 2014.
- ↑ Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html Traverse to Station 5] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 6 марта 2014.
- ↑ Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html Geology Station 5 at Camelot Crater] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. Nasa (1995). Проверено 7 марта 2014.
- ↑ 1 2 Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html EVA-2 Close-out] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 10 марта 2014.
- ↑ Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html Ending the Second Day] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 13 марта 2014.
- ↑ Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html Preparations for EVA-3] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 18 марта 2014.
- ↑ Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html Traverse to Station 6] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 26 марта 2014.
- ↑ 1 2 Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html Geology Station 6] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 28 марта 2014.
- ↑ Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html Station 7] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 2 апреля 2014.
- ↑ Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html Station 8] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 4 апреля 2014.
- ↑ Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html Traverse to Station 9] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 10 апреля 2014.
- ↑ Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html Geology Station 9 at Van Serg] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 11 апреля 2014.
- ↑ Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html EVA-3 Return to the LM] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 15 апреля 2014.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html EVA-3 Close-out] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 16 апреля 2014.
- ↑ Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html Post-EVA-3 Activities] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 29 апреля 2014.
- ↑ 1 2 3 Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html Return to Orbit] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 6 июня 2014.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html Return to Earth] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 10 июня 2014.
- ↑ Jones, Eric M. [www.hq.nasa.gov/alsj/frame.html EVA-1 Preparations] (англ.). Apollo 17 Lunar Surface Journal. NASA (1995). Проверено 30 июня 2014.
- ↑ [nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/lunar/apolloloc.html Apollo: Where are they now?] (англ.). NASA (2013). Проверено 16 июля 2014.
- ↑ 1 2 [www.lpi.usra.edu/lunar/missions/apollo/apollo_17/samples/ Samples Overview] (англ.). Apollo 17 Mission. Lunar and Planetary Institute (2014). Проверено 3 июля 2014.
- ↑ Wilhelms, 1993, p. 323.
- ↑ [www.lpi.usra.edu/lunar/missions/apollo/apollo_17/experiments/lspe/ Science Experiments - Lunar Seismic Profiling] (англ.). Apollo 17 Mission. Lunar and Planetary Institute (2014). Проверено 4 июля 2014.
- ↑ [www.lpi.usra.edu/lunar/missions/apollo/apollo_17/experiments/tge/ Science Experiments - Traverse Gravimeter] (англ.). Apollo 17 Mission. Lunar and Planetary Institute (2014). Проверено 8 июля 2014.
- ↑ [www.lpi.usra.edu/lunar/missions/apollo/apollo_17/experiments/lsg/ Science Experiments - Lunar Surface Gravimeter] (англ.). Apollo 17 Mission. Lunar and Planetary Institute (2014). Проверено 8 июля 2014.
- ↑ [www.lpi.usra.edu/lunar/missions/apollo/apollo_17/experiments/lem/ Science Experiments - Lunar Ejecta and Meteorite] (англ.). Apollo 17 Mission. Lunar and Planetary Institute (2014). Проверено 8 июля 2014.
- ↑ 1 2 Science Report, 1973.
- ↑ [www.lpi.usra.edu/lunar/missions/apollo/apollo_17/experiments/hf Science Experiments - Heat Flow Experiment] (англ.). Apollo 17 Mission. Lunar and Planetary Institute (2014). Проверено 15 июля 2014.
- ↑ [www.lpi.usra.edu/lunar/missions/apollo/apollo_17/experiments/sep/ Science Experiments - Surface Electrical Properties] (англ.). Apollo 17 Mission. Lunar and Planetary Institute (2014). Проверено 15 июля 2014.
- ↑ [www.lpi.usra.edu/lunar/missions/apollo/apollo_17/experiments/lnp/ Science Experiments - Lunar Neutron Probe] (англ.). Apollo 17 Mission. Lunar and Planetary Institute (2014). Проверено 15 июля 2014.
- ↑ [www.lpi.usra.edu/lunar/missions/apollo/apollo_17/experiments/lse Science Experiments - Lunar Sounder] (англ.). Apollo 17 Mission. Lunar and Planetary Institute (2014). Проверено 15 июля 2014.
- ↑ [www.lpi.usra.edu/lunar/missions/apollo/apollo_17/experiments/ir Science Experiments - Infrared Radiometer] (англ.). Apollo 17 Mission. Lunar and Planetary Institute (2014). Проверено 15 июля 2014.
- ↑ [www.lpi.usra.edu/lunar/missions/apollo/apollo_17/experiments/use Science Experiments - Ultraviolet Spectrometer] (англ.). Apollo 17 Mission. Lunar and Planetary Institute (2014). Проверено 16 июля 2014.
- ↑ [www.lpi.usra.edu/lunar/missions/apollo/apollo_17/photography Photography Overview] (англ.). Apollo 17 Mission. Lunar and Planetary Institute (2014). Проверено 16 июля 2014.
- ↑ [www.statemaster.com/encyclopedia/From-the-Earth-to-the-Moon-%28miniseries%29 From the Earth to the Moon (miniseries)] (англ.). NationMaster.com (Encyclopedia) (2003-5). Проверено 16 июля 2014.
- ↑ Hickam, 1999, p. 3—8.
- ↑ Anderson, Patrick [www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/09/18/AR2005091801146.html Rex Marks the Spot] (англ.). The Washington Post (September 19, 2005). Проверено 17 июля 2014.
Литература
- Compton, William David. [www.lpi.usra.edu/lunar/documents/NTRS/collection3/NASA_SP_4214.pdf Where No Man Has Gone Before. A History Of Apollo Lunar Exploration Missions]. — Washington, D.C.: NASA, 1989. — 415 с.
- [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/A17_PressKit.pdf Apollo 17 Press Kit]. — Washington, D.C.: NASA, 1972. — 121 с.
- [history.nasa.gov/AAchronologies/1972.pdf Astronautics and Aeronautics, 1972. Chronology of Science, Technology and Policy]. — Washington, D.C.: NASA, 1974. — 580 с.
- [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/A17_MissionReport.pdf Apollo 17 Mission Report]. — Houston. Texas: NASA, 1973.
- Wilhelms, Don E. [www.lpi.usra.edu/publications/books/rockyMoon/18Chapter17.pdf To a Rocky Moon: A Geologist's History of Lunar Exploration]. — Tucson, Arizona: The University of Arizona Press, 1993. — 477 с.
- [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/as17psr.pdf Apollo 17 Preliminary Science Report]. — Washington, D.C.: NASA, 1973.
- Hickam, Homer H., Jr. Back to the Moon. — New York: Delacorte Press, 1999. — ISBN 0-38533-422-2.
Ссылки
- [www.genecernan.com The official web site of Capt. Eugene Cernan, The Last Man on the Moon] (англ.). Официальный сайт Юджина Сернана, последнего человека на Луне. Проверено 17 июля 2014.
- [moon.google.com See the Moon in 3D. The Apollo Program Lunar Landing Sites] (англ.). Луна в 3D. Места посадки «Аполлонов». Проверено 17 июля 2014.
- [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17FlagStillAloft.html Apollo 17 Flag Still Casting a Shadow (2009—2011)] (англ.). Флаг США, установленный в месте посадки «Аполлона-17», всё ещё отбрасывает тень (2009—2011 гг.). Проверено 17 июля 2014.
- [www.solarviews.com/eng/apo17.htm Apollo 17 Summary] (англ.). «Аполлон-17». Саммари. Проверено 17 июля 2014.
- [www.hq.nasa.gov/alsj/a17/a17.html Apollo 17 Lunar Surface Journal] (англ.). Проверено 17 июля 2014.
- [youtube.com/watch?v=YfmUYkkuUL8 Apollo 17 "On The Shoulders of Giants" - NASA Space Program & Moon Landings Documentary] на YouTube
- [galspace.spb.ru/index79.html Карта Луны: горы, кратеры и знаменитые моря] (рус.). Проверено 20 января 2014.
| Эта статья входит в число избранных статей русскоязычного раздела Википедии. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отрывок, характеризующий Аполлон-17
Катерина Петровна действительно стала играть вальсы и экосезы, и начались танцы, в которых Николай еще более пленил своей ловкостью все губернское общество. Он удивил даже всех своей особенной, развязной манерой в танцах. Николай сам был несколько удивлен своей манерой танцевать в этот вечер. Он никогда так не танцевал в Москве и счел бы даже неприличным и mauvais genre [дурным тоном] такую слишком развязную манеру танца; но здесь он чувствовал потребность удивить их всех чем нибудь необыкновенным, чем нибудь таким, что они должны были принять за обыкновенное в столицах, но неизвестное еще им в провинции.Во весь вечер Николай обращал больше всего внимания на голубоглазую, полную и миловидную блондинку, жену одного из губернских чиновников. С тем наивным убеждением развеселившихся молодых людей, что чужие жены сотворены для них, Ростов не отходил от этой дамы и дружески, несколько заговорщически, обращался с ее мужем, как будто они хотя и не говорили этого, но знали, как славно они сойдутся – то есть Николай с женой этого мужа. Муж, однако, казалось, не разделял этого убеждения и старался мрачно обращаться с Ростовым. Но добродушная наивность Николая была так безгранична, что иногда муж невольно поддавался веселому настроению духа Николая. К концу вечера, однако, по мере того как лицо жены становилось все румянее и оживленнее, лицо ее мужа становилось все грустнее и бледнее, как будто доля оживления была одна на обоих, и по мере того как она увеличивалась в жене, она уменьшалась в муже.
Николай, с несходящей улыбкой на лице, несколько изогнувшись на кресле, сидел, близко наклоняясь над блондинкой и говоря ей мифологические комплименты.
Переменяя бойко положение ног в натянутых рейтузах, распространяя от себя запах духов и любуясь и своей дамой, и собою, и красивыми формами своих ног под натянутыми кичкирами, Николай говорил блондинке, что он хочет здесь, в Воронеже, похитить одну даму.
– Какую же?
– Прелестную, божественную. Глаза у ней (Николай посмотрел на собеседницу) голубые, рот – кораллы, белизна… – он глядел на плечи, – стан – Дианы…
Муж подошел к ним и мрачно спросил у жены, о чем она говорит.
– А! Никита Иваныч, – сказал Николай, учтиво вставая. И, как бы желая, чтобы Никита Иваныч принял участие в его шутках, он начал и ему сообщать свое намерение похитить одну блондинку.
Муж улыбался угрюмо, жена весело. Добрая губернаторша с неодобрительным видом подошла к ним.
– Анна Игнатьевна хочет тебя видеть, Nicolas, – сказала она, таким голосом выговаривая слова: Анна Игнатьевна, что Ростову сейчас стало понятно, что Анна Игнатьевна очень важная дама. – Пойдем, Nicolas. Ведь ты позволил мне так называть тебя?
– О да, ma tante. Кто же это?
– Анна Игнатьевна Мальвинцева. Она слышала о тебе от своей племянницы, как ты спас ее… Угадаешь?..
– Мало ли я их там спасал! – сказал Николай.
– Ее племянницу, княжну Болконскую. Она здесь, в Воронеже, с теткой. Ого! как покраснел! Что, или?..
– И не думал, полноте, ma tante.
– Ну хорошо, хорошо. О! какой ты!
Губернаторша подводила его к высокой и очень толстой старухе в голубом токе, только что кончившей свою карточную партию с самыми важными лицами в городе. Это была Мальвинцева, тетка княжны Марьи по матери, богатая бездетная вдова, жившая всегда в Воронеже. Она стояла, рассчитываясь за карты, когда Ростов подошел к ней. Она строго и важно прищурилась, взглянула на него и продолжала бранить генерала, выигравшего у нее.
– Очень рада, мой милый, – сказала она, протянув ему руку. – Милости прошу ко мне.
Поговорив о княжне Марье и покойнике ее отце, которого, видимо, не любила Мальвинцева, и расспросив о том, что Николай знал о князе Андрее, который тоже, видимо, не пользовался ее милостями, важная старуха отпустила его, повторив приглашение быть у нее.
Николай обещал и опять покраснел, когда откланивался Мальвинцевой. При упоминании о княжне Марье Ростов испытывал непонятное для него самого чувство застенчивости, даже страха.
Отходя от Мальвинцевой, Ростов хотел вернуться к танцам, но маленькая губернаторша положила свою пухленькую ручку на рукав Николая и, сказав, что ей нужно поговорить с ним, повела его в диванную, из которой бывшие в ней вышли тотчас же, чтобы не мешать губернаторше.
– Знаешь, mon cher, – сказала губернаторша с серьезным выражением маленького доброго лица, – вот это тебе точно партия; хочешь, я тебя сосватаю?
– Кого, ma tante? – спросил Николай.
– Княжну сосватаю. Катерина Петровна говорит, что Лили, а по моему, нет, – княжна. Хочешь? Я уверена, твоя maman благодарить будет. Право, какая девушка, прелесть! И она совсем не так дурна.
– Совсем нет, – как бы обидевшись, сказал Николай. – Я, ma tante, как следует солдату, никуда не напрашиваюсь и ни от чего не отказываюсь, – сказал Ростов прежде, чем он успел подумать о том, что он говорит.
– Так помни же: это не шутка.
– Какая шутка!
– Да, да, – как бы сама с собою говоря, сказала губернаторша. – А вот что еще, mon cher, entre autres. Vous etes trop assidu aupres de l'autre, la blonde. [мой друг. Ты слишком ухаживаешь за той, за белокурой.] Муж уж жалок, право…
– Ах нет, мы с ним друзья, – в простоте душевной сказал Николай: ему и в голову не приходило, чтобы такое веселое для него препровождение времени могло бы быть для кого нибудь не весело.
«Что я за глупость сказал, однако, губернаторше! – вдруг за ужином вспомнилось Николаю. – Она точно сватать начнет, а Соня?..» И, прощаясь с губернаторшей, когда она, улыбаясь, еще раз сказала ему: «Ну, так помни же», – он отвел ее в сторону:
– Но вот что, по правде вам сказать, ma tante…
– Что, что, мой друг; пойдем вот тут сядем.
Николай вдруг почувствовал желание и необходимость рассказать все свои задушевные мысли (такие, которые и не рассказал бы матери, сестре, другу) этой почти чужой женщине. Николаю потом, когда он вспоминал об этом порыве ничем не вызванной, необъяснимой откровенности, которая имела, однако, для него очень важные последствия, казалось (как это и кажется всегда людям), что так, глупый стих нашел; а между тем этот порыв откровенности, вместе с другими мелкими событиями, имел для него и для всей семьи огромные последствия.
– Вот что, ma tante. Maman меня давно женить хочет на богатой, но мне мысль одна эта противна, жениться из за денег.
– О да, понимаю, – сказала губернаторша.
– Но княжна Болконская, это другое дело; во первых, я вам правду скажу, она мне очень нравится, она по сердцу мне, и потом, после того как я ее встретил в таком положении, так странно, мне часто в голову приходило что это судьба. Особенно подумайте: maman давно об этом думала, но прежде мне ее не случалось встречать, как то все так случалось: не встречались. И во время, когда Наташа была невестой ее брата, ведь тогда мне бы нельзя было думать жениться на ней. Надо же, чтобы я ее встретил именно тогда, когда Наташина свадьба расстроилась, ну и потом всё… Да, вот что. Я никому не говорил этого и не скажу. А вам только.
Губернаторша пожала его благодарно за локоть.
– Вы знаете Софи, кузину? Я люблю ее, я обещал жениться и женюсь на ней… Поэтому вы видите, что про это не может быть и речи, – нескладно и краснея говорил Николай.
– Mon cher, mon cher, как же ты судишь? Да ведь у Софи ничего нет, а ты сам говорил, что дела твоего папа очень плохи. А твоя maman? Это убьет ее, раз. Потом Софи, ежели она девушка с сердцем, какая жизнь для нее будет? Мать в отчаянии, дела расстроены… Нет, mon cher, ты и Софи должны понять это.
Николай молчал. Ему приятно было слышать эти выводы.
– Все таки, ma tante, этого не может быть, – со вздохом сказал он, помолчав немного. – Да пойдет ли еще за меня княжна? и опять, она теперь в трауре. Разве можно об этом думать?
– Да разве ты думаешь, что я тебя сейчас и женю. Il y a maniere et maniere, [На все есть манера.] – сказала губернаторша.
– Какая вы сваха, ma tante… – сказал Nicolas, целуя ее пухлую ручку.
Приехав в Москву после своей встречи с Ростовым, княжна Марья нашла там своего племянника с гувернером и письмо от князя Андрея, который предписывал им их маршрут в Воронеж, к тетушке Мальвинцевой. Заботы о переезде, беспокойство о брате, устройство жизни в новом доме, новые лица, воспитание племянника – все это заглушило в душе княжны Марьи то чувство как будто искушения, которое мучило ее во время болезни и после кончины ее отца и в особенности после встречи с Ростовым. Она была печальна. Впечатление потери отца, соединявшееся в ее душе с погибелью России, теперь, после месяца, прошедшего с тех пор в условиях покойной жизни, все сильнее и сильнее чувствовалось ей. Она была тревожна: мысль об опасностях, которым подвергался ее брат – единственный близкий человек, оставшийся у нее, мучила ее беспрестанно. Она была озабочена воспитанием племянника, для которого она чувствовала себя постоянно неспособной; но в глубине души ее было согласие с самой собою, вытекавшее из сознания того, что она задавила в себе поднявшиеся было, связанные с появлением Ростова, личные мечтания и надежды.
Когда на другой день после своего вечера губернаторша приехала к Мальвинцевой и, переговорив с теткой о своих планах (сделав оговорку о том, что, хотя при теперешних обстоятельствах нельзя и думать о формальном сватовстве, все таки можно свести молодых людей, дать им узнать друг друга), и когда, получив одобрение тетки, губернаторша при княжне Марье заговорила о Ростове, хваля его и рассказывая, как он покраснел при упоминании о княжне, – княжна Марья испытала не радостное, но болезненное чувство: внутреннее согласие ее не существовало более, и опять поднялись желания, сомнения, упреки и надежды.
В те два дня, которые прошли со времени этого известия и до посещения Ростова, княжна Марья не переставая думала о том, как ей должно держать себя в отношении Ростова. То она решала, что она не выйдет в гостиную, когда он приедет к тетке, что ей, в ее глубоком трауре, неприлично принимать гостей; то она думала, что это будет грубо после того, что он сделал для нее; то ей приходило в голову, что ее тетка и губернаторша имеют какие то виды на нее и Ростова (их взгляды и слова иногда, казалось, подтверждали это предположение); то она говорила себе, что только она с своей порочностью могла думать это про них: не могли они не помнить, что в ее положении, когда еще она не сняла плерезы, такое сватовство было бы оскорбительно и ей, и памяти ее отца. Предполагая, что она выйдет к нему, княжна Марья придумывала те слова, которые он скажет ей и которые она скажет ему; и то слова эти казались ей незаслуженно холодными, то имеющими слишком большое значение. Больше же всего она при свидании с ним боялась за смущение, которое, она чувствовала, должно было овладеть ею и выдать ее, как скоро она его увидит.
Но когда, в воскресенье после обедни, лакей доложил в гостиной, что приехал граф Ростов, княжна не выказала смущения; только легкий румянец выступил ей на щеки, и глаза осветились новым, лучистым светом.
– Вы его видели, тетушка? – сказала княжна Марья спокойным голосом, сама не зная, как это она могла быть так наружно спокойна и естественна.
Когда Ростов вошел в комнату, княжна опустила на мгновенье голову, как бы предоставляя время гостю поздороваться с теткой, и потом, в самое то время, как Николай обратился к ней, она подняла голову и блестящими глазами встретила его взгляд. Полным достоинства и грации движением она с радостной улыбкой приподнялась, протянула ему свою тонкую, нежную руку и заговорила голосом, в котором в первый раз звучали новые, женские грудные звуки. M lle Bourienne, бывшая в гостиной, с недоумевающим удивлением смотрела на княжну Марью. Самая искусная кокетка, она сама не могла бы лучше маневрировать при встрече с человеком, которому надо было понравиться.
«Или ей черное так к лицу, или действительно она так похорошела, и я не заметила. И главное – этот такт и грация!» – думала m lle Bourienne.
Ежели бы княжна Марья в состоянии была думать в эту минуту, она еще более, чем m lle Bourienne, удивилась бы перемене, происшедшей в ней. С той минуты как она увидала это милое, любимое лицо, какая то новая сила жизни овладела ею и заставляла ее, помимо ее воли, говорить и действовать. Лицо ее, с того времени как вошел Ростов, вдруг преобразилось. Как вдруг с неожиданной поражающей красотой выступает на стенках расписного и резного фонаря та сложная искусная художественная работа, казавшаяся прежде грубою, темною и бессмысленною, когда зажигается свет внутри: так вдруг преобразилось лицо княжны Марьи. В первый раз вся та чистая духовная внутренняя работа, которою она жила до сих пор, выступила наружу. Вся ее внутренняя, недовольная собой работа, ее страдания, стремление к добру, покорность, любовь, самопожертвование – все это светилось теперь в этих лучистых глазах, в тонкой улыбке, в каждой черте ее нежного лица.
Ростов увидал все это так же ясно, как будто он знал всю ее жизнь. Он чувствовал, что существо, бывшее перед ним, было совсем другое, лучшее, чем все те, которые он встречал до сих пор, и лучшее, главное, чем он сам.
Разговор был самый простой и незначительный. Они говорили о войне, невольно, как и все, преувеличивая свою печаль об этом событии, говорили о последней встрече, причем Николай старался отклонять разговор на другой предмет, говорили о доброй губернаторше, о родных Николая и княжны Марьи.
Княжна Марья не говорила о брате, отвлекая разговор на другой предмет, как только тетка ее заговаривала об Андрее. Видно было, что о несчастиях России она могла говорить притворно, но брат ее был предмет, слишком близкий ее сердцу, и она не хотела и не могла слегка говорить о нем. Николай заметил это, как он вообще с несвойственной ему проницательной наблюдательностью замечал все оттенки характера княжны Марьи, которые все только подтверждали его убеждение, что она была совсем особенное и необыкновенное существо. Николай, точно так же, как и княжна Марья, краснел и смущался, когда ему говорили про княжну и даже когда он думал о ней, но в ее присутствии чувствовал себя совершенно свободным и говорил совсем не то, что он приготавливал, а то, что мгновенно и всегда кстати приходило ему в голову.
Во время короткого визита Николая, как и всегда, где есть дети, в минуту молчания Николай прибег к маленькому сыну князя Андрея, лаская его и спрашивая, хочет ли он быть гусаром? Он взял на руки мальчика, весело стал вертеть его и оглянулся на княжну Марью. Умиленный, счастливый и робкий взгляд следил за любимым ею мальчиком на руках любимого человека. Николай заметил и этот взгляд и, как бы поняв его значение, покраснел от удовольствия и добродушно весело стал целовать мальчика.
Княжна Марья не выезжала по случаю траура, а Николай не считал приличным бывать у них; но губернаторша все таки продолжала свое дело сватовства и, передав Николаю то лестное, что сказала про него княжна Марья, и обратно, настаивала на том, чтобы Ростов объяснился с княжной Марьей. Для этого объяснения она устроила свиданье между молодыми людьми у архиерея перед обедней.
Хотя Ростов и сказал губернаторше, что он не будет иметь никакого объяснения с княжной Марьей, но он обещался приехать.
Как в Тильзите Ростов не позволил себе усомниться в том, хорошо ли то, что признано всеми хорошим, точно так же и теперь, после короткой, но искренней борьбы между попыткой устроить свою жизнь по своему разуму и смиренным подчинением обстоятельствам, он выбрал последнее и предоставил себя той власти, которая его (он чувствовал) непреодолимо влекла куда то. Он знал, что, обещав Соне, высказать свои чувства княжне Марье было бы то, что он называл подлость. И он знал, что подлости никогда не сделает. Но он знал тоже (и не то, что знал, а в глубине души чувствовал), что, отдаваясь теперь во власть обстоятельств и людей, руководивших им, он не только не делает ничего дурного, но делает что то очень, очень важное, такое важное, чего он еще никогда не делал в жизни.
После его свиданья с княжной Марьей, хотя образ жизни его наружно оставался тот же, но все прежние удовольствия потеряли для него свою прелесть, и он часто думал о княжне Марье; но он никогда не думал о ней так, как он без исключения думал о всех барышнях, встречавшихся ему в свете, не так, как он долго и когда то с восторгом думал о Соне. О всех барышнях, как и почти всякий честный молодой человек, он думал как о будущей жене, примеривал в своем воображении к ним все условия супружеской жизни: белый капот, жена за самоваром, женина карета, ребятишки, maman и papa, их отношения с ней и т. д., и т. д., и эти представления будущего доставляли ему удовольствие; но когда он думал о княжне Марье, на которой его сватали, он никогда не мог ничего представить себе из будущей супружеской жизни. Ежели он и пытался, то все выходило нескладно и фальшиво. Ему только становилось жутко.
Страшное известие о Бородинском сражении, о наших потерях убитыми и ранеными, а еще более страшное известие о потере Москвы были получены в Воронеже в половине сентября. Княжна Марья, узнав только из газет о ране брата и не имея о нем никаких определенных сведений, собралась ехать отыскивать князя Андрея, как слышал Николай (сам же он не видал ее).
Получив известие о Бородинском сражении и об оставлении Москвы, Ростов не то чтобы испытывал отчаяние, злобу или месть и тому подобные чувства, но ему вдруг все стало скучно, досадно в Воронеже, все как то совестно и неловко. Ему казались притворными все разговоры, которые он слышал; он не знал, как судить про все это, и чувствовал, что только в полку все ему опять станет ясно. Он торопился окончанием покупки лошадей и часто несправедливо приходил в горячность с своим слугой и вахмистром.
Несколько дней перед отъездом Ростова в соборе было назначено молебствие по случаю победы, одержанной русскими войсками, и Николай поехал к обедне. Он стал несколько позади губернатора и с служебной степенностью, размышляя о самых разнообразных предметах, выстоял службу. Когда молебствие кончилось, губернаторша подозвала его к себе.
– Ты видел княжну? – сказала она, головой указывая на даму в черном, стоявшую за клиросом.
Николай тотчас же узнал княжну Марью не столько по профилю ее, который виднелся из под шляпы, сколько по тому чувству осторожности, страха и жалости, которое тотчас же охватило его. Княжна Марья, очевидно погруженная в свои мысли, делала последние кресты перед выходом из церкви.
Николай с удивлением смотрел на ее лицо. Это было то же лицо, которое он видел прежде, то же было в нем общее выражение тонкой, внутренней, духовной работы; но теперь оно было совершенно иначе освещено. Трогательное выражение печали, мольбы и надежды было на нем. Как и прежде бывало с Николаем в ее присутствии, он, не дожидаясь совета губернаторши подойти к ней, не спрашивая себя, хорошо ли, прилично ли или нет будет его обращение к ней здесь, в церкви, подошел к ней и сказал, что он слышал о ее горе и всей душой соболезнует ему. Едва только она услыхала его голос, как вдруг яркий свет загорелся в ее лице, освещая в одно и то же время и печаль ее, и радость.
– Я одно хотел вам сказать, княжна, – сказал Ростов, – это то, что ежели бы князь Андрей Николаевич не был бы жив, то, как полковой командир, в газетах это сейчас было бы объявлено.
Княжна смотрела на него, не понимая его слов, но радуясь выражению сочувствующего страдания, которое было в его лице.
– И я столько примеров знаю, что рана осколком (в газетах сказано гранатой) бывает или смертельна сейчас же, или, напротив, очень легкая, – говорил Николай. – Надо надеяться на лучшее, и я уверен…
Княжна Марья перебила его.
– О, это было бы так ужа… – начала она и, не договорив от волнения, грациозным движением (как и все, что она делала при нем) наклонив голову и благодарно взглянув на него, пошла за теткой.
Вечером этого дня Николай никуда не поехал в гости и остался дома, с тем чтобы покончить некоторые счеты с продавцами лошадей. Когда он покончил дела, было уже поздно, чтобы ехать куда нибудь, но было еще рано, чтобы ложиться спать, и Николай долго один ходил взад и вперед по комнате, обдумывая свою жизнь, что с ним редко случалось.
Княжна Марья произвела на него приятное впечатление под Смоленском. То, что он встретил ее тогда в таких особенных условиях, и то, что именно на нее одно время его мать указывала ему как на богатую партию, сделали то, что он обратил на нее особенное внимание. В Воронеже, во время его посещения, впечатление это было не только приятное, но сильное. Николай был поражен той особенной, нравственной красотой, которую он в этот раз заметил в ней. Однако он собирался уезжать, и ему в голову не приходило пожалеть о том, что уезжая из Воронежа, он лишается случая видеть княжну. Но нынешняя встреча с княжной Марьей в церкви (Николай чувствовал это) засела ему глубже в сердце, чем он это предвидел, и глубже, чем он желал для своего спокойствия. Это бледное, тонкое, печальное лицо, этот лучистый взгляд, эти тихие, грациозные движения и главное – эта глубокая и нежная печаль, выражавшаяся во всех чертах ее, тревожили его и требовали его участия. В мужчинах Ростов терпеть не мог видеть выражение высшей, духовной жизни (оттого он не любил князя Андрея), он презрительно называл это философией, мечтательностью; но в княжне Марье, именно в этой печали, выказывавшей всю глубину этого чуждого для Николая духовного мира, он чувствовал неотразимую привлекательность.
«Чудная должна быть девушка! Вот именно ангел! – говорил он сам с собою. – Отчего я не свободен, отчего я поторопился с Соней?» И невольно ему представилось сравнение между двумя: бедность в одной и богатство в другой тех духовных даров, которых не имел Николай и которые потому он так высоко ценил. Он попробовал себе представить, что бы было, если б он был свободен. Каким образом он сделал бы ей предложение и она стала бы его женою? Нет, он не мог себе представить этого. Ему делалось жутко, и никакие ясные образы не представлялись ему. С Соней он давно уже составил себе будущую картину, и все это было просто и ясно, именно потому, что все это было выдумано, и он знал все, что было в Соне; но с княжной Марьей нельзя было себе представить будущей жизни, потому что он не понимал ее, а только любил.
Мечтания о Соне имели в себе что то веселое, игрушечное. Но думать о княжне Марье всегда было трудно и немного страшно.
«Как она молилась! – вспомнил он. – Видно было, что вся душа ее была в молитве. Да, это та молитва, которая сдвигает горы, и я уверен, что молитва ее будет исполнена. Отчего я не молюсь о том, что мне нужно? – вспомнил он. – Что мне нужно? Свободы, развязки с Соней. Она правду говорила, – вспомнил он слова губернаторши, – кроме несчастья, ничего не будет из того, что я женюсь на ней. Путаница, горе maman… дела… путаница, страшная путаница! Да я и не люблю ее. Да, не так люблю, как надо. Боже мой! выведи меня из этого ужасного, безвыходного положения! – начал он вдруг молиться. – Да, молитва сдвинет гору, но надо верить и не так молиться, как мы детьми молились с Наташей о том, чтобы снег сделался сахаром, и выбегали на двор пробовать, делается ли из снегу сахар. Нет, но я не о пустяках молюсь теперь», – сказал он, ставя в угол трубку и, сложив руки, становясь перед образом. И, умиленный воспоминанием о княжне Марье, он начал молиться так, как он давно не молился. Слезы у него были на глазах и в горле, когда в дверь вошел Лаврушка с какими то бумагами.
– Дурак! что лезешь, когда тебя не спрашивают! – сказал Николай, быстро переменяя положение.
– От губернатора, – заспанным голосом сказал Лаврушка, – кульер приехал, письмо вам.
– Ну, хорошо, спасибо, ступай!
Николай взял два письма. Одно было от матери, другое от Сони. Он узнал их по почеркам и распечатал первое письмо Сони. Не успел он прочесть нескольких строк, как лицо его побледнело и глаза его испуганно и радостно раскрылись.
– Нет, это не может быть! – проговорил он вслух. Не в силах сидеть на месте, он с письмом в руках, читая его. стал ходить по комнате. Он пробежал письмо, потом прочел его раз, другой, и, подняв плечи и разведя руками, он остановился посреди комнаты с открытым ртом и остановившимися глазами. То, о чем он только что молился, с уверенностью, что бог исполнит его молитву, было исполнено; но Николай был удивлен этим так, как будто это было что то необыкновенное, и как будто он никогда не ожидал этого, и как будто именно то, что это так быстро совершилось, доказывало то, что это происходило не от бога, которого он просил, а от обыкновенной случайности.
Тот, казавшийся неразрешимым, узел, который связывал свободу Ростова, был разрешен этим неожиданным (как казалось Николаю), ничем не вызванным письмом Сони. Она писала, что последние несчастные обстоятельства, потеря почти всего имущества Ростовых в Москве, и не раз высказываемые желания графини о том, чтобы Николай женился на княжне Болконской, и его молчание и холодность за последнее время – все это вместе заставило ее решиться отречься от его обещаний и дать ему полную свободу.
«Мне слишком тяжело было думать, что я могу быть причиной горя или раздора в семействе, которое меня облагодетельствовало, – писала она, – и любовь моя имеет одною целью счастье тех, кого я люблю; и потому я умоляю вас, Nicolas, считать себя свободным и знать, что несмотря ни на что, никто сильнее не может вас любить, как ваша Соня».
Оба письма были из Троицы. Другое письмо было от графини. В письме этом описывались последние дни в Москве, выезд, пожар и погибель всего состояния. В письме этом, между прочим, графиня писала о том, что князь Андрей в числе раненых ехал вместе с ними. Положение его было очень опасно, но теперь доктор говорит, что есть больше надежды. Соня и Наташа, как сиделки, ухаживают за ним.
С этим письмом на другой день Николай поехал к княжне Марье. Ни Николай, ни княжна Марья ни слова не сказали о том, что могли означать слова: «Наташа ухаживает за ним»; но благодаря этому письму Николай вдруг сблизился с княжной в почти родственные отношения.
На другой день Ростов проводил княжну Марью в Ярославль и через несколько дней сам уехал в полк.
Письмо Сони к Николаю, бывшее осуществлением его молитвы, было написано из Троицы. Вот чем оно было вызвано. Мысль о женитьбе Николая на богатой невесте все больше и больше занимала старую графиню. Она знала, что Соня была главным препятствием для этого. И жизнь Сони последнее время, в особенности после письма Николая, описывавшего свою встречу в Богучарове с княжной Марьей, становилась тяжелее и тяжелее в доме графини. Графиня не пропускала ни одного случая для оскорбительного или жестокого намека Соне.
Но несколько дней перед выездом из Москвы, растроганная и взволнованная всем тем, что происходило, графиня, призвав к себе Соню, вместо упреков и требований, со слезами обратилась к ней с мольбой о том, чтобы она, пожертвовав собою, отплатила бы за все, что было для нее сделано, тем, чтобы разорвала свои связи с Николаем.
– Я не буду покойна до тех пор, пока ты мне не дашь этого обещания.
Соня разрыдалась истерически, отвечала сквозь рыдания, что она сделает все, что она на все готова, но не дала прямого обещания и в душе своей не могла решиться на то, чего от нее требовали. Надо было жертвовать собой для счастья семьи, которая вскормила и воспитала ее. Жертвовать собой для счастья других было привычкой Сони. Ее положение в доме было таково, что только на пути жертвованья она могла выказывать свои достоинства, и она привыкла и любила жертвовать собой. Но прежде во всех действиях самопожертвованья она с радостью сознавала, что она, жертвуя собой, этим самым возвышает себе цену в глазах себя и других и становится более достойною Nicolas, которого она любила больше всего в жизни; но теперь жертва ее должна была состоять в том, чтобы отказаться от того, что для нее составляло всю награду жертвы, весь смысл жизни. И в первый раз в жизни она почувствовала горечь к тем людям, которые облагодетельствовали ее для того, чтобы больнее замучить; почувствовала зависть к Наташе, никогда не испытывавшей ничего подобного, никогда не нуждавшейся в жертвах и заставлявшей других жертвовать себе и все таки всеми любимой. И в первый раз Соня почувствовала, как из ее тихой, чистой любви к Nicolas вдруг начинало вырастать страстное чувство, которое стояло выше и правил, и добродетели, и религии; и под влиянием этого чувства Соня невольно, выученная своею зависимою жизнью скрытности, в общих неопределенных словах ответив графине, избегала с ней разговоров и решилась ждать свидания с Николаем с тем, чтобы в этом свидании не освободить, но, напротив, навсегда связать себя с ним.
Хлопоты и ужас последних дней пребывания Ростовых в Москве заглушили в Соне тяготившие ее мрачные мысли. Она рада была находить спасение от них в практической деятельности. Но когда она узнала о присутствии в их доме князя Андрея, несмотря на всю искреннюю жалость, которую она испытала к нему и к Наташе, радостное и суеверное чувство того, что бог не хочет того, чтобы она была разлучена с Nicolas, охватило ее. Она знала, что Наташа любила одного князя Андрея и не переставала любить его. Она знала, что теперь, сведенные вместе в таких страшных условиях, они снова полюбят друг друга и что тогда Николаю вследствие родства, которое будет между ними, нельзя будет жениться на княжне Марье. Несмотря на весь ужас всего происходившего в последние дни и во время первых дней путешествия, это чувство, это сознание вмешательства провидения в ее личные дела радовало Соню.
В Троицкой лавре Ростовы сделали первую дневку в своем путешествии.
В гостинице лавры Ростовым были отведены три большие комнаты, из которых одну занимал князь Андрей. Раненому было в этот день гораздо лучше. Наташа сидела с ним. В соседней комнате сидели граф и графиня, почтительно беседуя с настоятелем, посетившим своих давнишних знакомых и вкладчиков. Соня сидела тут же, и ее мучило любопытство о том, о чем говорили князь Андрей с Наташей. Она из за двери слушала звуки их голосов. Дверь комнаты князя Андрея отворилась. Наташа с взволнованным лицом вышла оттуда и, не замечая приподнявшегося ей навстречу и взявшегося за широкий рукав правой руки монаха, подошла к Соне и взяла ее за руку.
– Наташа, что ты? Поди сюда, – сказала графиня.
Наташа подошла под благословенье, и настоятель посоветовал обратиться за помощью к богу и его угоднику.
Тотчас после ухода настоятеля Нашата взяла за руку свою подругу и пошла с ней в пустую комнату.
– Соня, да? он будет жив? – сказала она. – Соня, как я счастлива и как я несчастна! Соня, голубчик, – все по старому. Только бы он был жив. Он не может… потому что, потому… что… – И Наташа расплакалась.
– Так! Я знала это! Слава богу, – проговорила Соня. – Он будет жив!
Соня была взволнована не меньше своей подруги – и ее страхом и горем, и своими личными, никому не высказанными мыслями. Она, рыдая, целовала, утешала Наташу. «Только бы он был жив!» – думала она. Поплакав, поговорив и отерев слезы, обе подруги подошли к двери князя Андрея. Наташа, осторожно отворив двери, заглянула в комнату. Соня рядом с ней стояла у полуотворенной двери.
Князь Андрей лежал высоко на трех подушках. Бледное лицо его было покойно, глаза закрыты, и видно было, как он ровно дышал.
– Ах, Наташа! – вдруг почти вскрикнула Соня, хватаясь за руку своей кузины и отступая от двери.
– Что? что? – спросила Наташа.
– Это то, то, вот… – сказала Соня с бледным лицом и дрожащими губами.
Наташа тихо затворила дверь и отошла с Соней к окну, не понимая еще того, что ей говорили.
– Помнишь ты, – с испуганным и торжественным лицом говорила Соня, – помнишь, когда я за тебя в зеркало смотрела… В Отрадном, на святках… Помнишь, что я видела?..
– Да, да! – широко раскрывая глаза, сказала Наташа, смутно вспоминая, что тогда Соня сказала что то о князе Андрее, которого она видела лежащим.
– Помнишь? – продолжала Соня. – Я видела тогда и сказала всем, и тебе, и Дуняше. Я видела, что он лежит на постели, – говорила она, при каждой подробности делая жест рукою с поднятым пальцем, – и что он закрыл глаза, и что он покрыт именно розовым одеялом, и что он сложил руки, – говорила Соня, убеждаясь, по мере того как она описывала виденные ею сейчас подробности, что эти самые подробности она видела тогда. Тогда она ничего не видела, но рассказала, что видела то, что ей пришло в голову; но то, что она придумала тогда, представлялось ей столь же действительным, как и всякое другое воспоминание. То, что она тогда сказала, что он оглянулся на нее и улыбнулся и был покрыт чем то красным, она не только помнила, но твердо была убеждена, что еще тогда она сказала и видела, что он был покрыт розовым, именно розовым одеялом, и что глаза его были закрыты.
– Да, да, именно розовым, – сказала Наташа, которая тоже теперь, казалось, помнила, что было сказано розовым, и в этом самом видела главную необычайность и таинственность предсказания.
– Но что же это значит? – задумчиво сказала Наташа.
– Ах, я не знаю, как все это необычайно! – сказала Соня, хватаясь за голову.
Через несколько минут князь Андрей позвонил, и Наташа вошла к нему; а Соня, испытывая редко испытанное ею волнение и умиление, осталась у окна, обдумывая всю необычайность случившегося.
В этот день был случай отправить письма в армию, и графиня писала письмо сыну.
– Соня, – сказала графиня, поднимая голову от письма, когда племянница проходила мимо нее. – Соня, ты не напишешь Николеньке? – сказала графиня тихим, дрогнувшим голосом, и во взгляде ее усталых, смотревших через очки глаз Соня прочла все, что разумела графиня этими словами. В этом взгляде выражались и мольба, и страх отказа, и стыд за то, что надо было просить, и готовность на непримиримую ненависть в случае отказа.
Соня подошла к графине и, став на колени, поцеловала ее руку.
– Я напишу, maman, – сказала она.
Соня была размягчена, взволнована и умилена всем тем, что происходило в этот день, в особенности тем таинственным совершением гаданья, которое она сейчас видела. Теперь, когда она знала, что по случаю возобновления отношений Наташи с князем Андреем Николай не мог жениться на княжне Марье, она с радостью почувствовала возвращение того настроения самопожертвования, в котором она любила и привыкла жить. И со слезами на глазах и с радостью сознания совершения великодушного поступка она, несколько раз прерываясь от слез, которые отуманивали ее бархатные черные глаза, написала то трогательное письмо, получение которого так поразило Николая.
На гауптвахте, куда был отведен Пьер, офицер и солдаты, взявшие его, обращались с ним враждебно, но вместе с тем и уважительно. Еще чувствовалось в их отношении к нему и сомнение о том, кто он такой (не очень ли важный человек), и враждебность вследствие еще свежей их личной борьбы с ним.
Но когда, в утро другого дня, пришла смена, то Пьер почувствовал, что для нового караула – для офицеров и солдат – он уже не имел того смысла, который имел для тех, которые его взяли. И действительно, в этом большом, толстом человеке в мужицком кафтане караульные другого дня уже не видели того живого человека, который так отчаянно дрался с мародером и с конвойными солдатами и сказал торжественную фразу о спасении ребенка, а видели только семнадцатого из содержащихся зачем то, по приказанию высшего начальства, взятых русских. Ежели и было что нибудь особенное в Пьере, то только его неробкий, сосредоточенно задумчивый вид и французский язык, на котором он, удивительно для французов, хорошо изъяснялся. Несмотря на то, в тот же день Пьера соединили с другими взятыми подозрительными, так как отдельная комната, которую он занимал, понадобилась офицеру.
Все русские, содержавшиеся с Пьером, были люди самого низкого звания. И все они, узнав в Пьере барина, чуждались его, тем более что он говорил по французски. Пьер с грустью слышал над собою насмешки.
На другой день вечером Пьер узнал, что все эти содержащиеся (и, вероятно, он в том же числе) должны были быть судимы за поджигательство. На третий день Пьера водили с другими в какой то дом, где сидели французский генерал с белыми усами, два полковника и другие французы с шарфами на руках. Пьеру, наравне с другими, делали с той, мнимо превышающею человеческие слабости, точностью и определительностью, с которой обыкновенно обращаются с подсудимыми, вопросы о том, кто он? где он был? с какою целью? и т. п.
Вопросы эти, оставляя в стороне сущность жизненного дела и исключая возможность раскрытия этой сущности, как и все вопросы, делаемые на судах, имели целью только подставление того желобка, по которому судящие желали, чтобы потекли ответы подсудимого и привели его к желаемой цели, то есть к обвинению. Как только он начинал говорить что нибудь такое, что не удовлетворяло цели обвинения, так принимали желобок, и вода могла течь куда ей угодно. Кроме того, Пьер испытал то же, что во всех судах испытывает подсудимый: недоумение, для чего делали ему все эти вопросы. Ему чувствовалось, что только из снисходительности или как бы из учтивости употреблялась эта уловка подставляемого желобка. Он знал, что находился во власти этих людей, что только власть привела его сюда, что только власть давала им право требовать ответы на вопросы, что единственная цель этого собрания состояла в том, чтоб обвинить его. И поэтому, так как была власть и было желание обвинить, то не нужно было и уловки вопросов и суда. Очевидно было, что все ответы должны были привести к виновности. На вопрос, что он делал, когда его взяли, Пьер отвечал с некоторою трагичностью, что он нес к родителям ребенка, qu'il avait sauve des flammes [которого он спас из пламени]. – Для чего он дрался с мародером? Пьер отвечал, что он защищал женщину, что защита оскорбляемой женщины есть обязанность каждого человека, что… Его остановили: это не шло к делу. Для чего он был на дворе загоревшегося дома, на котором его видели свидетели? Он отвечал, что шел посмотреть, что делалось в Москве. Его опять остановили: у него не спрашивали, куда он шел, а для чего он находился подле пожара? Кто он? повторили ему первый вопрос, на который он сказал, что не хочет отвечать. Опять он отвечал, что не может сказать этого.
– Запишите, это нехорошо. Очень нехорошо, – строго сказал ему генерал с белыми усами и красным, румяным лицом.
На четвертый день пожары начались на Зубовском валу.
Пьера с тринадцатью другими отвели на Крымский Брод, в каретный сарай купеческого дома. Проходя по улицам, Пьер задыхался от дыма, который, казалось, стоял над всем городом. С разных сторон виднелись пожары. Пьер тогда еще не понимал значения сожженной Москвы и с ужасом смотрел на эти пожары.
В каретном сарае одного дома у Крымского Брода Пьер пробыл еще четыре дня и во время этих дней из разговора французских солдат узнал, что все содержащиеся здесь ожидали с каждым днем решения маршала. Какого маршала, Пьер не мог узнать от солдат. Для солдата, очевидно, маршал представлялся высшим и несколько таинственным звеном власти.
Эти первые дни, до 8 го сентября, – дня, в который пленных повели на вторичный допрос, были самые тяжелые для Пьера.
Х
8 го сентября в сарай к пленным вошел очень важный офицер, судя по почтительности, с которой с ним обращались караульные. Офицер этот, вероятно, штабный, с списком в руках, сделал перекличку всем русским, назвав Пьера: celui qui n'avoue pas son nom [тот, который не говорит своего имени]. И, равнодушно и лениво оглядев всех пленных, он приказал караульному офицеру прилично одеть и прибрать их, прежде чем вести к маршалу. Через час прибыла рота солдат, и Пьера с другими тринадцатью повели на Девичье поле. День был ясный, солнечный после дождя, и воздух был необыкновенно чист. Дым не стлался низом, как в тот день, когда Пьера вывели из гауптвахты Зубовского вала; дым поднимался столбами в чистом воздухе. Огня пожаров нигде не было видно, но со всех сторон поднимались столбы дыма, и вся Москва, все, что только мог видеть Пьер, было одно пожарище. Со всех сторон виднелись пустыри с печами и трубами и изредка обгорелые стены каменных домов. Пьер приглядывался к пожарищам и не узнавал знакомых кварталов города. Кое где виднелись уцелевшие церкви. Кремль, неразрушенный, белел издалека с своими башнями и Иваном Великим. Вблизи весело блестел купол Ново Девичьего монастыря, и особенно звонко слышался оттуда благовест. Благовест этот напомнил Пьеру, что было воскресенье и праздник рождества богородицы. Но казалось, некому было праздновать этот праздник: везде было разоренье пожарища, и из русского народа встречались только изредка оборванные, испуганные люди, которые прятались при виде французов.
Очевидно, русское гнездо было разорено и уничтожено; но за уничтожением этого русского порядка жизни Пьер бессознательно чувствовал, что над этим разоренным гнездом установился свой, совсем другой, но твердый французский порядок. Он чувствовал это по виду тех, бодро и весело, правильными рядами шедших солдат, которые конвоировали его с другими преступниками; он чувствовал это по виду какого то важного французского чиновника в парной коляске, управляемой солдатом, проехавшего ему навстречу. Он это чувствовал по веселым звукам полковой музыки, доносившимся с левой стороны поля, и в особенности он чувствовал и понимал это по тому списку, который, перекликая пленных, прочел нынче утром приезжавший французский офицер. Пьер был взят одними солдатами, отведен в одно, в другое место с десятками других людей; казалось, они могли бы забыть про него, смешать его с другими. Но нет: ответы его, данные на допросе, вернулись к нему в форме наименования его: celui qui n'avoue pas son nom. И под этим названием, которое страшно было Пьеру, его теперь вели куда то, с несомненной уверенностью, написанною на их лицах, что все остальные пленные и он были те самые, которых нужно, и что их ведут туда, куда нужно. Пьер чувствовал себя ничтожной щепкой, попавшей в колеса неизвестной ему, но правильно действующей машины.
Пьера с другими преступниками привели на правую сторону Девичьего поля, недалеко от монастыря, к большому белому дому с огромным садом. Это был дом князя Щербатова, в котором Пьер часто прежде бывал у хозяина и в котором теперь, как он узнал из разговора солдат, стоял маршал, герцог Экмюльский.
Их подвели к крыльцу и по одному стали вводить в дом. Пьера ввели шестым. Через стеклянную галерею, сени, переднюю, знакомые Пьеру, его ввели в длинный низкий кабинет, у дверей которого стоял адъютант.
Даву сидел на конце комнаты над столом, с очками на носу. Пьер близко подошел к нему. Даву, не поднимая глаз, видимо справлялся с какой то бумагой, лежавшей перед ним. Не поднимая же глаз, он тихо спросил:
– Qui etes vous? [Кто вы такой?]
Пьер молчал оттого, что не в силах был выговорить слова. Даву для Пьера не был просто французский генерал; для Пьера Даву был известный своей жестокостью человек. Глядя на холодное лицо Даву, который, как строгий учитель, соглашался до времени иметь терпение и ждать ответа, Пьер чувствовал, что всякая секунда промедления могла стоить ему жизни; но он не знал, что сказать. Сказать то же, что он говорил на первом допросе, он не решался; открыть свое звание и положение было и опасно и стыдно. Пьер молчал. Но прежде чем Пьер успел на что нибудь решиться, Даву приподнял голову, приподнял очки на лоб, прищурил глаза и пристально посмотрел на Пьера.
– Я знаю этого человека, – мерным, холодным голосом, очевидно рассчитанным для того, чтобы испугать Пьера, сказал он. Холод, пробежавший прежде по спине Пьера, охватил его голову, как тисками.
– Mon general, vous ne pouvez pas me connaitre, je ne vous ai jamais vu… [Вы не могли меня знать, генерал, я никогда не видал вас.]
– C'est un espion russe, [Это русский шпион,] – перебил его Даву, обращаясь к другому генералу, бывшему в комнате и которого не заметил Пьер. И Даву отвернулся. С неожиданным раскатом в голосе Пьер вдруг быстро заговорил.
– Non, Monseigneur, – сказал он, неожиданно вспомнив, что Даву был герцог. – Non, Monseigneur, vous n'avez pas pu me connaitre. Je suis un officier militionnaire et je n'ai pas quitte Moscou. [Нет, ваше высочество… Нет, ваше высочество, вы не могли меня знать. Я офицер милиции, и я не выезжал из Москвы.]
– Votre nom? [Ваше имя?] – повторил Даву.
– Besouhof. [Безухов.]
– Qu'est ce qui me prouvera que vous ne mentez pas? [Кто мне докажет, что вы не лжете?]
– Monseigneur! [Ваше высочество!] – вскрикнул Пьер не обиженным, но умоляющим голосом.
Даву поднял глаза и пристально посмотрел на Пьера. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и этот взгляд спас Пьера. В этом взгляде, помимо всех условий войны и суда, между этими двумя людьми установились человеческие отношения. Оба они в эту одну минуту смутно перечувствовали бесчисленное количество вещей и поняли, что они оба дети человечества, что они братья.
В первом взгляде для Даву, приподнявшего только голову от своего списка, где людские дела и жизнь назывались нумерами, Пьер был только обстоятельство; и, не взяв на совесть дурного поступка, Даву застрелил бы его; но теперь уже он видел в нем человека. Он задумался на мгновение.
– Comment me prouverez vous la verite de ce que vous me dites? [Чем вы докажете мне справедливость ваших слов?] – сказал Даву холодно.
Пьер вспомнил Рамбаля и назвал его полк, и фамилию, и улицу, на которой был дом.
– Vous n'etes pas ce que vous dites, [Вы не то, что вы говорите.] – опять сказал Даву.
Пьер дрожащим, прерывающимся голосом стал приводить доказательства справедливости своего показания.
Но в это время вошел адъютант и что то доложил Даву.
Даву вдруг просиял при известии, сообщенном адъютантом, и стал застегиваться. Он, видимо, совсем забыл о Пьере.
Когда адъютант напомнил ему о пленном, он, нахмурившись, кивнул в сторону Пьера и сказал, чтобы его вели. Но куда должны были его вести – Пьер не знал: назад в балаган или на приготовленное место казни, которое, проходя по Девичьему полю, ему показывали товарищи.
Он обернул голову и видел, что адъютант переспрашивал что то.
– Oui, sans doute! [Да, разумеется!] – сказал Даву, но что «да», Пьер не знал.
Пьер не помнил, как, долго ли он шел и куда. Он, в состоянии совершенного бессмыслия и отупления, ничего не видя вокруг себя, передвигал ногами вместе с другими до тех пор, пока все остановились, и он остановился. Одна мысль за все это время была в голове Пьера. Это была мысль о том: кто, кто же, наконец, приговорил его к казни. Это были не те люди, которые допрашивали его в комиссии: из них ни один не хотел и, очевидно, не мог этого сделать. Это был не Даву, который так человечески посмотрел на него. Еще бы одна минута, и Даву понял бы, что они делают дурно, но этой минуте помешал адъютант, который вошел. И адъютант этот, очевидно, не хотел ничего худого, но он мог бы не войти. Кто же это, наконец, казнил, убивал, лишал жизни его – Пьера со всеми его воспоминаниями, стремлениями, надеждами, мыслями? Кто делал это? И Пьер чувствовал, что это был никто.
Это был порядок, склад обстоятельств.
Порядок какой то убивал его – Пьера, лишал его жизни, всего, уничтожал его.
От дома князя Щербатова пленных повели прямо вниз по Девичьему полю, левее Девичьего монастыря и подвели к огороду, на котором стоял столб. За столбом была вырыта большая яма с свежевыкопанной землей, и около ямы и столба полукругом стояла большая толпа народа. Толпа состояла из малого числа русских и большого числа наполеоновских войск вне строя: немцев, итальянцев и французов в разнородных мундирах. Справа и слева столба стояли фронты французских войск в синих мундирах с красными эполетами, в штиблетах и киверах.
Преступников расставили по известному порядку, который был в списке (Пьер стоял шестым), и подвели к столбу. Несколько барабанов вдруг ударили с двух сторон, и Пьер почувствовал, что с этим звуком как будто оторвалась часть его души. Он потерял способность думать и соображать. Он только мог видеть и слышать. И только одно желание было у него – желание, чтобы поскорее сделалось что то страшное, что должно было быть сделано. Пьер оглядывался на своих товарищей и рассматривал их.
Два человека с края были бритые острожные. Один высокий, худой; другой черный, мохнатый, мускулистый, с приплюснутым носом. Третий был дворовый, лет сорока пяти, с седеющими волосами и полным, хорошо откормленным телом. Четвертый был мужик, очень красивый, с окладистой русой бородой и черными глазами. Пятый был фабричный, желтый, худой малый, лет восемнадцати, в халате.
Пьер слышал, что французы совещались, как стрелять – по одному или по два? «По два», – холодно спокойно отвечал старший офицер. Сделалось передвижение в рядах солдат, и заметно было, что все торопились, – и торопились не так, как торопятся, чтобы сделать понятное для всех дело, но так, как торопятся, чтобы окончить необходимое, но неприятное и непостижимое дело.
Чиновник француз в шарфе подошел к правой стороне шеренги преступников в прочел по русски и по французски приговор.
Потом две пары французов подошли к преступникам и взяли, по указанию офицера, двух острожных, стоявших с края. Острожные, подойдя к столбу, остановились и, пока принесли мешки, молча смотрели вокруг себя, как смотрит подбитый зверь на подходящего охотника. Один все крестился, другой чесал спину и делал губами движение, подобное улыбке. Солдаты, торопясь руками, стали завязывать им глаза, надевать мешки и привязывать к столбу.
Двенадцать человек стрелков с ружьями мерным, твердым шагом вышли из за рядов и остановились в восьми шагах от столба. Пьер отвернулся, чтобы не видать того, что будет. Вдруг послышался треск и грохот, показавшиеся Пьеру громче самых страшных ударов грома, и он оглянулся. Был дым, и французы с бледными лицами и дрожащими руками что то делали у ямы. Повели других двух. Так же, такими же глазами и эти двое смотрели на всех, тщетно, одними глазами, молча, прося защиты и, видимо, не понимая и не веря тому, что будет. Они не могли верить, потому что они одни знали, что такое была для них их жизнь, и потому не понимали и не верили, чтобы можно было отнять ее.
Пьер хотел не смотреть и опять отвернулся; но опять как будто ужасный взрыв поразил его слух, и вместе с этими звуками он увидал дым, чью то кровь и бледные испуганные лица французов, опять что то делавших у столба, дрожащими руками толкая друг друга. Пьер, тяжело дыша, оглядывался вокруг себя, как будто спрашивая: что это такое? Тот же вопрос был и во всех взглядах, которые встречались со взглядом Пьера.
На всех лицах русских, на лицах французских солдат, офицеров, всех без исключения, он читал такой же испуг, ужас и борьбу, какие были в его сердце. «Да кто жо это делает наконец? Они все страдают так же, как и я. Кто же? Кто же?» – на секунду блеснуло в душе Пьера.
– Tirailleurs du 86 me, en avant! [Стрелки 86 го, вперед!] – прокричал кто то. Повели пятого, стоявшего рядом с Пьером, – одного. Пьер не понял того, что он спасен, что он и все остальные были приведены сюда только для присутствия при казни. Он со все возраставшим ужасом, не ощущая ни радости, ни успокоения, смотрел на то, что делалось. Пятый был фабричный в халате. Только что до него дотронулись, как он в ужасе отпрыгнул и схватился за Пьера (Пьер вздрогнул и оторвался от него). Фабричный не мог идти. Его тащили под мышки, и он что то кричал. Когда его подвели к столбу, он вдруг замолк. Он как будто вдруг что то понял. То ли он понял, что напрасно кричать, или то, что невозможно, чтобы его убили люди, но он стал у столба, ожидая повязки вместе с другими и, как подстреленный зверь, оглядываясь вокруг себя блестящими глазами.
Пьер уже не мог взять на себя отвернуться и закрыть глаза. Любопытство и волнение его и всей толпы при этом пятом убийстве дошло до высшей степени. Так же как и другие, этот пятый казался спокоен: он запахивал халат и почесывал одной босой ногой о другую.
Когда ему стали завязывать глаза, он поправил сам узел на затылке, который резал ему; потом, когда прислонили его к окровавленному столбу, он завалился назад, и, так как ему в этом положении было неловко, он поправился и, ровно поставив ноги, покойно прислонился. Пьер не сводил с него глаз, не упуская ни малейшего движения.
Должно быть, послышалась команда, должно быть, после команды раздались выстрелы восьми ружей. Но Пьер, сколько он ни старался вспомнить потом, не слыхал ни малейшего звука от выстрелов. Он видел только, как почему то вдруг опустился на веревках фабричный, как показалась кровь в двух местах и как самые веревки, от тяжести повисшего тела, распустились и фабричный, неестественно опустив голову и подвернув ногу, сел. Пьер подбежал к столбу. Никто не удерживал его. Вокруг фабричного что то делали испуганные, бледные люди. У одного старого усатого француза тряслась нижняя челюсть, когда он отвязывал веревки. Тело спустилось. Солдаты неловко и торопливо потащили его за столб и стали сталкивать в яму.
Все, очевидно, несомненно знали, что они были преступники, которым надо было скорее скрыть следы своего преступления.
Пьер заглянул в яму и увидел, что фабричный лежал там коленами кверху, близко к голове, одно плечо выше другого. И это плечо судорожно, равномерно опускалось и поднималось. Но уже лопатины земли сыпались на все тело. Один из солдат сердито, злобно и болезненно крикнул на Пьера, чтобы он вернулся. Но Пьер не понял его и стоял у столба, и никто не отгонял его.
Когда уже яма была вся засыпана, послышалась команда. Пьера отвели на его место, и французские войска, стоявшие фронтами по обеим сторонам столба, сделали полуоборот и стали проходить мерным шагом мимо столба. Двадцать четыре человека стрелков с разряженными ружьями, стоявшие в середине круга, примыкали бегом к своим местам, в то время как роты проходили мимо них.
Пьер смотрел теперь бессмысленными глазами на этих стрелков, которые попарно выбегали из круга. Все, кроме одного, присоединились к ротам. Молодой солдат с мертво бледным лицом, в кивере, свалившемся назад, спустив ружье, все еще стоял против ямы на том месте, с которого он стрелял. Он, как пьяный, шатался, делая то вперед, то назад несколько шагов, чтобы поддержать свое падающее тело. Старый солдат, унтер офицер, выбежал из рядов и, схватив за плечо молодого солдата, втащил его в роту. Толпа русских и французов стала расходиться. Все шли молча, с опущенными головами.
– Ca leur apprendra a incendier, [Это их научит поджигать.] – сказал кто то из французов. Пьер оглянулся на говорившего и увидал, что это был солдат, который хотел утешиться чем нибудь в том, что было сделано, но не мог. Не договорив начатого, он махнул рукою и пошел прочь.
После казни Пьера отделили от других подсудимых и оставили одного в небольшой, разоренной и загаженной церкви.
Перед вечером караульный унтер офицер с двумя солдатами вошел в церковь и объявил Пьеру, что он прощен и поступает теперь в бараки военнопленных. Не понимая того, что ему говорили, Пьер встал и пошел с солдатами. Его привели к построенным вверху поля из обгорелых досок, бревен и тесу балаганам и ввели в один из них. В темноте человек двадцать различных людей окружили Пьера. Пьер смотрел на них, не понимая, кто такие эти люди, зачем они и чего хотят от него. Он слышал слова, которые ему говорили, но не делал из них никакого вывода и приложения: не понимал их значения. Он сам отвечал на то, что у него спрашивали, но не соображал того, кто слушает его и как поймут его ответы. Он смотрел на лица и фигуры, и все они казались ему одинаково бессмысленны.
С той минуты, как Пьер увидал это страшное убийство, совершенное людьми, не хотевшими этого делать, в душе его как будто вдруг выдернута была та пружина, на которой все держалось и представлялось живым, и все завалилось в кучу бессмысленного сора. В нем, хотя он и не отдавал себе отчета, уничтожилась вера и в благоустройство мира, и в человеческую, и в свою душу, и в бога. Это состояние было испытываемо Пьером прежде, но никогда с такою силой, как теперь. Прежде, когда на Пьера находили такого рода сомнения, – сомнения эти имели источником собственную вину. И в самой глубине души Пьер тогда чувствовал, что от того отчаяния и тех сомнений было спасение в самом себе. Но теперь он чувствовал, что не его вина была причиной того, что мир завалился в его глазах и остались одни бессмысленные развалины. Он чувствовал, что возвратиться к вере в жизнь – не в его власти.
Вокруг него в темноте стояли люди: верно, что то их очень занимало в нем. Ему рассказывали что то, расспрашивали о чем то, потом повели куда то, и он, наконец, очутился в углу балагана рядом с какими то людьми, переговаривавшимися с разных сторон, смеявшимися.
– И вот, братцы мои… тот самый принц, который (с особенным ударением на слове который)… – говорил чей то голос в противуположном углу балагана.
Молча и неподвижно сидя у стены на соломе, Пьер то открывал, то закрывал глаза. Но только что он закрывал глаза, он видел пред собой то же страшное, в особенности страшное своей простотой, лицо фабричного и еще более страшные своим беспокойством лица невольных убийц. И он опять открывал глаза и бессмысленно смотрел в темноте вокруг себя.
Рядом с ним сидел, согнувшись, какой то маленький человек, присутствие которого Пьер заметил сначала по крепкому запаху пота, который отделялся от него при всяком его движении. Человек этот что то делал в темноте с своими ногами, и, несмотря на то, что Пьер не видал его лица, он чувствовал, что человек этот беспрестанно взглядывал на него. Присмотревшись в темноте, Пьер понял, что человек этот разувался. И то, каким образом он это делал, заинтересовало Пьера.
Размотав бечевки, которыми была завязана одна нога, он аккуратно свернул бечевки и тотчас принялся за другую ногу, взглядывая на Пьера. Пока одна рука вешала бечевку, другая уже принималась разматывать другую ногу. Таким образом аккуратно, круглыми, спорыми, без замедления следовавшими одно за другим движеньями, разувшись, человек развесил свою обувь на колышки, вбитые у него над головами, достал ножик, обрезал что то, сложил ножик, положил под изголовье и, получше усевшись, обнял свои поднятые колени обеими руками и прямо уставился на Пьера. Пьеру чувствовалось что то приятное, успокоительное и круглое в этих спорых движениях, в этом благоустроенном в углу его хозяйстве, в запахе даже этого человека, и он, не спуская глаз, смотрел на него.
– А много вы нужды увидали, барин? А? – сказал вдруг маленький человек. И такое выражение ласки и простоты было в певучем голосе человека, что Пьер хотел отвечать, но у него задрожала челюсть, и он почувствовал слезы. Маленький человек в ту же секунду, не давая Пьеру времени выказать свое смущение, заговорил тем же приятным голосом.
– Э, соколик, не тужи, – сказал он с той нежно певучей лаской, с которой говорят старые русские бабы. – Не тужи, дружок: час терпеть, а век жить! Вот так то, милый мой. А живем тут, слава богу, обиды нет. Тоже люди и худые и добрые есть, – сказал он и, еще говоря, гибким движением перегнулся на колени, встал и, прокашливаясь, пошел куда то.
– Ишь, шельма, пришла! – услыхал Пьер в конце балагана тот же ласковый голос. – Пришла шельма, помнит! Ну, ну, буде. – И солдат, отталкивая от себя собачонку, прыгавшую к нему, вернулся к своему месту и сел. В руках у него было что то завернуто в тряпке.
– Вот, покушайте, барин, – сказал он, опять возвращаясь к прежнему почтительному тону и развертывая и подавая Пьеру несколько печеных картошек. – В обеде похлебка была. А картошки важнеющие!
Пьер не ел целый день, и запах картофеля показался ему необыкновенно приятным. Он поблагодарил солдата и стал есть.
– Что ж, так то? – улыбаясь, сказал солдат и взял одну из картошек. – А ты вот как. – Он достал опять складной ножик, разрезал на своей ладони картошку на равные две половины, посыпал соли из тряпки и поднес Пьеру.
– Картошки важнеющие, – повторил он. – Ты покушай вот так то.
Пьеру казалось, что он никогда не ел кушанья вкуснее этого.
– Нет, мне все ничего, – сказал Пьер, – но за что они расстреляли этих несчастных!.. Последний лет двадцати.
– Тц, тц… – сказал маленький человек. – Греха то, греха то… – быстро прибавил он, и, как будто слова его всегда были готовы во рту его и нечаянно вылетали из него, он продолжал: – Что ж это, барин, вы так в Москве то остались?
– Я не думал, что они так скоро придут. Я нечаянно остался, – сказал Пьер.
– Да как же они взяли тебя, соколик, из дома твоего?
– Нет, я пошел на пожар, и тут они схватили меня, судили за поджигателя.
– Где суд, там и неправда, – вставил маленький человек.
– А ты давно здесь? – спросил Пьер, дожевывая последнюю картошку.
– Я то? В то воскресенье меня взяли из гошпиталя в Москве.
– Ты кто же, солдат?
– Солдаты Апшеронского полка. От лихорадки умирал. Нам и не сказали ничего. Наших человек двадцать лежало. И не думали, не гадали.
– Что ж, тебе скучно здесь? – спросил Пьер.
– Как не скучно, соколик. Меня Платоном звать; Каратаевы прозвище, – прибавил он, видимо, с тем, чтобы облегчить Пьеру обращение к нему. – Соколиком на службе прозвали. Как не скучать, соколик! Москва, она городам мать. Как не скучать на это смотреть. Да червь капусту гложе, а сам прежде того пропадае: так то старички говаривали, – прибавил он быстро.
– Как, как это ты сказал? – спросил Пьер.
– Я то? – спросил Каратаев. – Я говорю: не нашим умом, а божьим судом, – сказал он, думая, что повторяет сказанное. И тотчас же продолжал: – Как же у вас, барин, и вотчины есть? И дом есть? Стало быть, полная чаша! И хозяйка есть? А старики родители живы? – спрашивал он, и хотя Пьер не видел в темноте, но чувствовал, что у солдата морщились губы сдержанною улыбкой ласки в то время, как он спрашивал это. Он, видимо, был огорчен тем, что у Пьера не было родителей, в особенности матери.
– Жена для совета, теща для привета, а нет милей родной матушки! – сказал он. – Ну, а детки есть? – продолжал он спрашивать. Отрицательный ответ Пьера опять, видимо, огорчил его, и он поспешил прибавить: – Что ж, люди молодые, еще даст бог, будут. Только бы в совете жить…
– Да теперь все равно, – невольно сказал Пьер.
– Эх, милый человек ты, – возразил Платон. – От сумы да от тюрьмы никогда не отказывайся. – Он уселся получше, прокашлялся, видимо приготовляясь к длинному рассказу. – Так то, друг мой любезный, жил я еще дома, – начал он. – Вотчина у нас богатая, земли много, хорошо живут мужики, и наш дом, слава тебе богу. Сам сем батюшка косить выходил. Жили хорошо. Христьяне настоящие были. Случилось… – И Платон Каратаев рассказал длинную историю о том, как он поехал в чужую рощу за лесом и попался сторожу, как его секли, судили и отдали ь солдаты. – Что ж соколик, – говорил он изменяющимся от улыбки голосом, – думали горе, ан радость! Брату бы идти, кабы не мой грех. А у брата меньшого сам пят ребят, – а у меня, гляди, одна солдатка осталась. Была девочка, да еще до солдатства бог прибрал. Пришел я на побывку, скажу я тебе. Гляжу – лучше прежнего живут. Животов полон двор, бабы дома, два брата на заработках. Один Михайло, меньшой, дома. Батюшка и говорит: «Мне, говорит, все детки равны: какой палец ни укуси, все больно. А кабы не Платона тогда забрили, Михайле бы идти». Позвал нас всех – веришь – поставил перед образа. Михайло, говорит, поди сюда, кланяйся ему в ноги, и ты, баба, кланяйся, и внучата кланяйтесь. Поняли? говорит. Так то, друг мой любезный. Рок головы ищет. А мы всё судим: то не хорошо, то не ладно. Наше счастье, дружок, как вода в бредне: тянешь – надулось, а вытащишь – ничего нету. Так то. – И Платон пересел на своей соломе.
Помолчав несколько времени, Платон встал.
– Что ж, я чай, спать хочешь? – сказал он и быстро начал креститься, приговаривая:
– Господи, Иисус Христос, Никола угодник, Фрола и Лавра, господи Иисус Христос, Никола угодник! Фрола и Лавра, господи Иисус Христос – помилуй и спаси нас! – заключил он, поклонился в землю, встал и, вздохнув, сел на свою солому. – Вот так то. Положи, боже, камушком, подними калачиком, – проговорил он и лег, натягивая на себя шинель.
– Какую это ты молитву читал? – спросил Пьер.
– Ась? – проговорил Платон (он уже было заснул). – Читал что? Богу молился. А ты рази не молишься?
– Нет, и я молюсь, – сказал Пьер. – Но что ты говорил: Фрола и Лавра?
– А как же, – быстро отвечал Платон, – лошадиный праздник. И скота жалеть надо, – сказал Каратаев. – Вишь, шельма, свернулась. Угрелась, сукина дочь, – сказал он, ощупав собаку у своих ног, и, повернувшись опять, тотчас же заснул.
Наружи слышались где то вдалеке плач и крики, и сквозь щели балагана виднелся огонь; но в балагане было тихо и темно. Пьер долго не спал и с открытыми глазами лежал в темноте на своем месте, прислушиваясь к мерному храпенью Платона, лежавшего подле него, и чувствовал, что прежде разрушенный мир теперь с новой красотой, на каких то новых и незыблемых основах, воздвигался в его душе.
В балагане, в который поступил Пьер и в котором он пробыл четыре недели, было двадцать три человека пленных солдат, три офицера и два чиновника.
Все они потом как в тумане представлялись Пьеру, но Платон Каратаев остался навсегда в душе Пьера самым сильным и дорогим воспоминанием и олицетворением всего русского, доброго и круглого. Когда на другой день, на рассвете, Пьер увидал своего соседа, первое впечатление чего то круглого подтвердилось вполне: вся фигура Платона в его подпоясанной веревкою французской шинели, в фуражке и лаптях, была круглая, голова была совершенно круглая, спина, грудь, плечи, даже руки, которые он носил, как бы всегда собираясь обнять что то, были круглые; приятная улыбка и большие карие нежные глаза были круглые.
Платону Каратаеву должно было быть за пятьдесят лет, судя по его рассказам о походах, в которых он участвовал давнишним солдатом. Он сам не знал и никак не мог определить, сколько ему было лет; но зубы его, ярко белые и крепкие, которые все выкатывались своими двумя полукругами, когда он смеялся (что он часто делал), были все хороши и целы; ни одного седого волоса не было в его бороде и волосах, и все тело его имело вид гибкости и в особенности твердости и сносливости.
Лицо его, несмотря на мелкие круглые морщинки, имело выражение невинности и юности; голос у него был приятный и певучий. Но главная особенность его речи состояла в непосредственности и спорости. Он, видимо, никогда не думал о том, что он сказал и что он скажет; и от этого в быстроте и верности его интонаций была особенная неотразимая убедительность.
Физические силы его и поворотливость были таковы первое время плена, что, казалось, он не понимал, что такое усталость и болезнь. Каждый день утром а вечером он, ложась, говорил: «Положи, господи, камушком, подними калачиком»; поутру, вставая, всегда одинаково пожимая плечами, говорил: «Лег – свернулся, встал – встряхнулся». И действительно, стоило ему лечь, чтобы тотчас же заснуть камнем, и стоило встряхнуться, чтобы тотчас же, без секунды промедления, взяться за какое нибудь дело, как дети, вставши, берутся за игрушки. Он все умел делать, не очень хорошо, но и не дурно. Он пек, парил, шил, строгал, тачал сапоги. Он всегда был занят и только по ночам позволял себе разговоры, которые он любил, и песни. Он пел песни, не так, как поют песенники, знающие, что их слушают, но пел, как поют птицы, очевидно, потому, что звуки эти ему было так же необходимо издавать, как необходимо бывает потянуться или расходиться; и звуки эти всегда бывали тонкие, нежные, почти женские, заунывные, и лицо его при этом бывало очень серьезно.
Попав в плен и обросши бородою, он, видимо, отбросил от себя все напущенное на него, чуждое, солдатское и невольно возвратился к прежнему, крестьянскому, народному складу.
– Солдат в отпуску – рубаха из порток, – говаривал он. Он неохотно говорил про свое солдатское время, хотя не жаловался, и часто повторял, что он всю службу ни разу бит не был. Когда он рассказывал, то преимущественно рассказывал из своих старых и, видимо, дорогих ему воспоминаний «христианского», как он выговаривал, крестьянского быта. Поговорки, которые наполняли его речь, не были те, большей частью неприличные и бойкие поговорки, которые говорят солдаты, но это были те народные изречения, которые кажутся столь незначительными, взятые отдельно, и которые получают вдруг значение глубокой мудрости, когда они сказаны кстати.
Часто он говорил совершенно противоположное тому, что он говорил прежде, но и то и другое было справедливо. Он любил говорить и говорил хорошо, украшая свою речь ласкательными и пословицами, которые, Пьеру казалось, он сам выдумывал; но главная прелесть его рассказов состояла в том, что в его речи события самые простые, иногда те самые, которые, не замечая их, видел Пьер, получали характер торжественного благообразия. Он любил слушать сказки, которые рассказывал по вечерам (всё одни и те же) один солдат, но больше всего он любил слушать рассказы о настоящей жизни. Он радостно улыбался, слушая такие рассказы, вставляя слова и делая вопросы, клонившиеся к тому, чтобы уяснить себе благообразие того, что ему рассказывали. Привязанностей, дружбы, любви, как понимал их Пьер, Каратаев не имел никаких; но он любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь, и в особенности с человеком – не с известным каким нибудь человеком, а с теми людьми, которые были перед его глазами. Он любил свою шавку, любил товарищей, французов, любил Пьера, который был его соседом; но Пьер чувствовал, что Каратаев, несмотря на всю свою ласковую нежность к нему (которою он невольно отдавал должное духовной жизни Пьера), ни на минуту не огорчился бы разлукой с ним. И Пьер то же чувство начинал испытывать к Каратаеву.
Платон Каратаев был для всех остальных пленных самым обыкновенным солдатом; его звали соколик или Платоша, добродушно трунили над ним, посылали его за посылками. Но для Пьера, каким он представился в первую ночь, непостижимым, круглым и вечным олицетворением духа простоты и правды, таким он и остался навсегда.
Платон Каратаев ничего не знал наизусть, кроме своей молитвы. Когда он говорил свои речи, он, начиная их, казалось, не знал, чем он их кончит.
Когда Пьер, иногда пораженный смыслом его речи, просил повторить сказанное, Платон не мог вспомнить того, что он сказал минуту тому назад, – так же, как он никак не мог словами сказать Пьеру свою любимую песню. Там было: «родимая, березанька и тошненько мне», но на словах не выходило никакого смысла. Он не понимал и не мог понять значения слов, отдельно взятых из речи. Каждое слово его и каждое действие было проявлением неизвестной ему деятельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал. Его слова и действия выливались из него так же равномерно, необходимо и непосредственно, как запах отделяется от цветка. Он не мог понять ни цены, ни значения отдельно взятого действия или слова.
Получив от Николая известие о том, что брат ее находится с Ростовыми, в Ярославле, княжна Марья, несмотря на отговариванья тетки, тотчас же собралась ехать, и не только одна, но с племянником. Трудно ли, нетрудно, возможно или невозможно это было, она не спрашивала и не хотела знать: ее обязанность была не только самой быть подле, может быть, умирающего брата, но и сделать все возможное для того, чтобы привезти ему сына, и она поднялась ехать. Если князь Андрей сам не уведомлял ее, то княжна Марья объясняла ото или тем, что он был слишком слаб, чтобы писать, или тем, что он считал для нее и для своего сына этот длинный переезд слишком трудным и опасным.
В несколько дней княжна Марья собралась в дорогу. Экипажи ее состояли из огромной княжеской кареты, в которой она приехала в Воронеж, брички и повозки. С ней ехали m lle Bourienne, Николушка с гувернером, старая няня, три девушки, Тихон, молодой лакей и гайдук, которого тетка отпустила с нею.
Ехать обыкновенным путем на Москву нельзя было и думать, и потому окольный путь, который должна была сделать княжна Марья: на Липецк, Рязань, Владимир, Шую, был очень длинен, по неимению везде почтовых лошадей, очень труден и около Рязани, где, как говорили, показывались французы, даже опасен.
Во время этого трудного путешествия m lle Bourienne, Десаль и прислуга княжны Марьи были удивлены ее твердостью духа и деятельностью. Она позже всех ложилась, раньше всех вставала, и никакие затруднения не могли остановить ее. Благодаря ее деятельности и энергии, возбуждавшим ее спутников, к концу второй недели они подъезжали к Ярославлю.
В последнее время своего пребывания в Воронеже княжна Марья испытала лучшее счастье в своей жизни. Любовь ее к Ростову уже не мучила, не волновала ее. Любовь эта наполняла всю ее душу, сделалась нераздельною частью ее самой, и она не боролась более против нее. В последнее время княжна Марья убедилась, – хотя она никогда ясно словами определенно не говорила себе этого, – убедилась, что она была любима и любила. В этом она убедилась в последнее свое свидание с Николаем, когда он приехал ей объявить о том, что ее брат был с Ростовыми. Николай ни одним словом не намекнул на то, что теперь (в случае выздоровления князя Андрея) прежние отношения между ним и Наташей могли возобновиться, но княжна Марья видела по его лицу, что он знал и думал это. И, несмотря на то, его отношения к ней – осторожные, нежные и любовные – не только не изменились, но он, казалось, радовался тому, что теперь родство между ним и княжной Марьей позволяло ему свободнее выражать ей свою дружбу любовь, как иногда думала княжна Марья. Княжна Марья знала, что она любила в первый и последний раз в жизни, и чувствовала, что она любима, и была счастлива, спокойна в этом отношении.
Но это счастье одной стороны душевной не только не мешало ей во всей силе чувствовать горе о брате, но, напротив, это душевное спокойствие в одном отношении давало ей большую возможность отдаваться вполне своему чувству к брату. Чувство это было так сильно в первую минуту выезда из Воронежа, что провожавшие ее были уверены, глядя на ее измученное, отчаянное лицо, что она непременно заболеет дорогой; но именно трудности и заботы путешествия, за которые с такою деятельностью взялась княжна Марья, спасли ее на время от ее горя и придали ей силы.
Как и всегда это бывает во время путешествия, княжна Марья думала только об одном путешествии, забывая о том, что было его целью. Но, подъезжая к Ярославлю, когда открылось опять то, что могло предстоять ей, и уже не через много дней, а нынче вечером, волнение княжны Марьи дошло до крайних пределов.
Когда посланный вперед гайдук, чтобы узнать в Ярославле, где стоят Ростовы и в каком положении находится князь Андрей, встретил у заставы большую въезжавшую карету, он ужаснулся, увидав страшно бледное лицо княжны, которое высунулось ему из окна.
– Все узнал, ваше сиятельство: ростовские стоят на площади, в доме купца Бронникова. Недалече, над самой над Волгой, – сказал гайдук.
Княжна Марья испуганно вопросительно смотрела на его лицо, не понимая того, что он говорил ей, не понимая, почему он не отвечал на главный вопрос: что брат? M lle Bourienne сделала этот вопрос за княжну Марью.
– Что князь? – спросила она.
– Их сиятельство с ними в том же доме стоят.
«Стало быть, он жив», – подумала княжна и тихо спросила: что он?
– Люди сказывали, все в том же положении.
Что значило «все в том же положении», княжна не стала спрашивать и мельком только, незаметно взглянув на семилетнего Николушку, сидевшего перед нею и радовавшегося на город, опустила голову и не поднимала ее до тех пор, пока тяжелая карета, гремя, трясясь и колыхаясь, не остановилась где то. Загремели откидываемые подножки.
Отворились дверцы. Слева была вода – река большая, справа было крыльцо; на крыльце были люди, прислуга и какая то румяная, с большой черной косой, девушка, которая неприятно притворно улыбалась, как показалось княжне Марье (это была Соня). Княжна взбежала по лестнице, притворно улыбавшаяся девушка сказала: – Сюда, сюда! – и княжна очутилась в передней перед старой женщиной с восточным типом лица, которая с растроганным выражением быстро шла ей навстречу. Это была графиня. Она обняла княжну Марью и стала целовать ее.
– Mon enfant! – проговорила она, – je vous aime et vous connais depuis longtemps. [Дитя мое! я вас люблю и знаю давно.]
Несмотря на все свое волнение, княжна Марья поняла, что это была графиня и что надо было ей сказать что нибудь. Она, сама не зная как, проговорила какие то учтивые французские слова, в том же тоне, в котором были те, которые ей говорили, и спросила: что он?
– Доктор говорит, что нет опасности, – сказала графиня, но в то время, как она говорила это, она со вздохом подняла глаза кверху, и в этом жесте было выражение, противоречащее ее словам.
– Где он? Можно его видеть, можно? – спросила княжна.
– Сейчас, княжна, сейчас, мой дружок. Это его сын? – сказала она, обращаясь к Николушке, который входил с Десалем. – Мы все поместимся, дом большой. О, какой прелестный мальчик!
Графиня ввела княжну в гостиную. Соня разговаривала с m lle Bourienne. Графиня ласкала мальчика. Старый граф вошел в комнату, приветствуя княжну. Старый граф чрезвычайно переменился с тех пор, как его последний раз видела княжна. Тогда он был бойкий, веселый, самоуверенный старичок, теперь он казался жалким, затерянным человеком. Он, говоря с княжной, беспрестанно оглядывался, как бы спрашивая у всех, то ли он делает, что надобно. После разорения Москвы и его имения, выбитый из привычной колеи, он, видимо, потерял сознание своего значения и чувствовал, что ему уже нет места в жизни.
Несмотря на то волнение, в котором она находилась, несмотря на одно желание поскорее увидать брата и на досаду за то, что в эту минуту, когда ей одного хочется – увидать его, – ее занимают и притворно хвалят ее племянника, княжна замечала все, что делалось вокруг нее, и чувствовала необходимость на время подчиниться этому новому порядку, в который она вступала. Она знала, что все это необходимо, и ей было это трудно, но она не досадовала на них.
– Это моя племянница, – сказал граф, представляя Соню, – вы не знаете ее, княжна?
Княжна повернулась к ней и, стараясь затушить поднявшееся в ее душе враждебное чувство к этой девушке, поцеловала ее. Но ей становилось тяжело оттого, что настроение всех окружающих было так далеко от того, что было в ее душе.
– Где он? – спросила она еще раз, обращаясь ко всем.
– Он внизу, Наташа с ним, – отвечала Соня, краснея. – Пошли узнать. Вы, я думаю, устали, княжна?
У княжны выступили на глаза слезы досады. Она отвернулась и хотела опять спросить у графини, где пройти к нему, как в дверях послышались легкие, стремительные, как будто веселые шаги. Княжна оглянулась и увидела почти вбегающую Наташу, ту Наташу, которая в то давнишнее свидание в Москве так не понравилась ей.
Но не успела княжна взглянуть на лицо этой Наташи, как она поняла, что это был ее искренний товарищ по горю, и потому ее друг. Она бросилась ей навстречу и, обняв ее, заплакала на ее плече.
Как только Наташа, сидевшая у изголовья князя Андрея, узнала о приезде княжны Марьи, она тихо вышла из его комнаты теми быстрыми, как показалось княжне Марье, как будто веселыми шагами и побежала к ней.
На взволнованном лице ее, когда она вбежала в комнату, было только одно выражение – выражение любви, беспредельной любви к нему, к ней, ко всему тому, что было близко любимому человеку, выраженье жалости, страданья за других и страстного желанья отдать себя всю для того, чтобы помочь им. Видно было, что в эту минуту ни одной мысли о себе, о своих отношениях к нему не было в душе Наташи.
Чуткая княжна Марья с первого взгляда на лицо Наташи поняла все это и с горестным наслаждением плакала на ее плече.
– Пойдемте, пойдемте к нему, Мари, – проговорила Наташа, отводя ее в другую комнату.
Княжна Марья подняла лицо, отерла глаза и обратилась к Наташе. Она чувствовала, что от нее она все поймет и узнает.
– Что… – начала она вопрос, но вдруг остановилась. Она почувствовала, что словами нельзя ни спросить, ни ответить. Лицо и глаза Наташи должны были сказать все яснее и глубже.
Наташа смотрела на нее, но, казалось, была в страхе и сомнении – сказать или не сказать все то, что она знала; она как будто почувствовала, что перед этими лучистыми глазами, проникавшими в самую глубь ее сердца, нельзя не сказать всю, всю истину, какою она ее видела. Губа Наташи вдруг дрогнула, уродливые морщины образовались вокруг ее рта, и она, зарыдав, закрыла лицо руками.
Княжна Марья поняла все.
Но она все таки надеялась и спросила словами, в которые она не верила:
– Но как его рана? Вообще в каком он положении?
– Вы, вы… увидите, – только могла сказать Наташа.
Они посидели несколько времени внизу подле его комнаты, с тем чтобы перестать плакать и войти к нему с спокойными лицами.
– Как шла вся болезнь? Давно ли ему стало хуже? Когда это случилось? – спрашивала княжна Марья.
Наташа рассказывала, что первое время была опасность от горячечного состояния и от страданий, но в Троице это прошло, и доктор боялся одного – антонова огня. Но и эта опасность миновалась. Когда приехали в Ярославль, рана стала гноиться (Наташа знала все, что касалось нагноения и т. п.), и доктор говорил, что нагноение может пойти правильно. Сделалась лихорадка. Доктор говорил, что лихорадка эта не так опасна.
– Но два дня тому назад, – начала Наташа, – вдруг это сделалось… – Она удержала рыданья. – Я не знаю отчего, но вы увидите, какой он стал.
– Ослабел? похудел?.. – спрашивала княжна.
– Нет, не то, но хуже. Вы увидите. Ах, Мари, Мари, он слишком хорош, он не может, не может жить… потому что…
Когда Наташа привычным движением отворила его дверь, пропуская вперед себя княжну, княжна Марья чувствовала уже в горле своем готовые рыданья. Сколько она ни готовилась, ни старалась успокоиться, она знала, что не в силах будет без слез увидать его.
Княжна Марья понимала то, что разумела Наташа словами: сним случилось это два дня тому назад. Она понимала, что это означало то, что он вдруг смягчился, и что смягчение, умиление эти были признаками смерти. Она, подходя к двери, уже видела в воображении своем то лицо Андрюши, которое она знала с детства, нежное, кроткое, умиленное, которое так редко бывало у него и потому так сильно всегда на нее действовало. Она знала, что он скажет ей тихие, нежные слова, как те, которые сказал ей отец перед смертью, и что она не вынесет этого и разрыдается над ним. Но, рано ли, поздно ли, это должно было быть, и она вошла в комнату. Рыдания все ближе и ближе подступали ей к горлу, в то время как она своими близорукими глазами яснее и яснее различала его форму и отыскивала его черты, и вот она увидала его лицо и встретилась с ним взглядом.
Он лежал на диване, обложенный подушками, в меховом беличьем халате. Он был худ и бледен. Одна худая, прозрачно белая рука его держала платок, другою он, тихими движениями пальцев, трогал тонкие отросшие усы. Глаза его смотрели на входивших.
Увидав его лицо и встретившись с ним взглядом, княжна Марья вдруг умерила быстроту своего шага и почувствовала, что слезы вдруг пересохли и рыдания остановились. Уловив выражение его лица и взгляда, она вдруг оробела и почувствовала себя виноватой.
«Да в чем же я виновата?» – спросила она себя. «В том, что живешь и думаешь о живом, а я!..» – отвечал его холодный, строгий взгляд.
В глубоком, не из себя, но в себя смотревшем взгляде была почти враждебность, когда он медленно оглянул сестру и Наташу.
Он поцеловался с сестрой рука в руку, по их привычке.
– Здравствуй, Мари, как это ты добралась? – сказал он голосом таким же ровным и чуждым, каким был его взгляд. Ежели бы он завизжал отчаянным криком, то этот крик менее бы ужаснул княжну Марью, чем звук этого голоса.
– И Николушку привезла? – сказал он также ровно и медленно и с очевидным усилием воспоминанья.
– Как твое здоровье теперь? – говорила княжна Марья, сама удивляясь тому, что она говорила.
– Это, мой друг, у доктора спрашивать надо, – сказал он, и, видимо сделав еще усилие, чтобы быть ласковым, он сказал одним ртом (видно было, что он вовсе не думал того, что говорил): – Merci, chere amie, d'etre venue. [Спасибо, милый друг, что приехала.]
Княжна Марья пожала его руку. Он чуть заметно поморщился от пожатия ее руки. Он молчал, и она не знала, что говорить. Она поняла то, что случилось с ним за два дня. В словах, в тоне его, в особенности во взгляде этом – холодном, почти враждебном взгляде – чувствовалась страшная для живого человека отчужденность от всего мирского. Он, видимо, с трудом понимал теперь все живое; но вместе с тем чувствовалось, что он не понимал живого не потому, чтобы он был лишен силы понимания, но потому, что он понимал что то другое, такое, чего не понимали и не могли понять живые и что поглощало его всего.
– Да, вот как странно судьба свела нас! – сказал он, прерывая молчание и указывая на Наташу. – Она все ходит за мной.
Княжна Марья слушала и не понимала того, что он говорил. Он, чуткий, нежный князь Андрей, как мог он говорить это при той, которую он любил и которая его любила! Ежели бы он думал жить, то не таким холодно оскорбительным тоном он сказал бы это. Ежели бы он не знал, что умрет, то как же ему не жалко было ее, как он мог при ней говорить это! Одно объяснение только могло быть этому, это то, что ему было все равно, и все равно оттого, что что то другое, важнейшее, было открыто ему.
Разговор был холодный, несвязный и прерывался беспрестанно.
– Мари проехала через Рязань, – сказала Наташа. Князь Андрей не заметил, что она называла его сестру Мари. А Наташа, при нем назвав ее так, в первый раз сама это заметила.
– Ну что же? – сказал он.
– Ей рассказывали, что Москва вся сгорела, совершенно, что будто бы…
Наташа остановилась: нельзя было говорить. Он, очевидно, делал усилия, чтобы слушать, и все таки не мог.
– Да, сгорела, говорят, – сказал он. – Это очень жалко, – и он стал смотреть вперед, пальцами рассеянно расправляя усы.
– А ты встретилась с графом Николаем, Мари? – сказал вдруг князь Андрей, видимо желая сделать им приятное. – Он писал сюда, что ты ему очень полюбилась, – продолжал он просто, спокойно, видимо не в силах понимать всего того сложного значения, которое имели его слова для живых людей. – Ежели бы ты его полюбила тоже, то было бы очень хорошо… чтобы вы женились, – прибавил он несколько скорее, как бы обрадованный словами, которые он долго искал и нашел наконец. Княжна Марья слышала его слова, но они не имели для нее никакого другого значения, кроме того, что они доказывали то, как страшно далек он был теперь от всего живого.
– Что обо мне говорить! – сказала она спокойно и взглянула на Наташу. Наташа, чувствуя на себе ее взгляд, не смотрела на нее. Опять все молчали.
– Andre, ты хоч… – вдруг сказала княжна Марья содрогнувшимся голосом, – ты хочешь видеть Николушку? Он все время вспоминал о тебе.
Князь Андрей чуть заметно улыбнулся в первый раз, но княжна Марья, так знавшая его лицо, с ужасом поняла, что это была улыбка не радости, не нежности к сыну, но тихой, кроткой насмешки над тем, что княжна Марья употребляла, по ее мнению, последнее средство для приведения его в чувства.
– Да, я очень рад Николушке. Он здоров?
Когда привели к князю Андрею Николушку, испуганно смотревшего на отца, но не плакавшего, потому что никто не плакал, князь Андрей поцеловал его и, очевидно, не знал, что говорить с ним.
Когда Николушку уводили, княжна Марья подошла еще раз к брату, поцеловала его и, не в силах удерживаться более, заплакала.
Он пристально посмотрел на нее.
– Ты об Николушке? – сказал он.
Княжна Марья, плача, утвердительно нагнула голову.
– Мари, ты знаешь Еван… – но он вдруг замолчал.
– Что ты говоришь?
– Ничего. Не надо плакать здесь, – сказал он, тем же холодным взглядом глядя на нее.
Когда княжна Марья заплакала, он понял, что она плакала о том, что Николушка останется без отца. С большим усилием над собой он постарался вернуться назад в жизнь и перенесся на их точку зрения.
«Да, им это должно казаться жалко! – подумал он. – А как это просто!»
«Птицы небесные ни сеют, ни жнут, но отец ваш питает их», – сказал он сам себе и хотел то же сказать княжне. «Но нет, они поймут это по своему, они не поймут! Этого они не могут понимать, что все эти чувства, которыми они дорожат, все наши, все эти мысли, которые кажутся нам так важны, что они – не нужны. Мы не можем понимать друг друга». – И он замолчал.
Маленькому сыну князя Андрея было семь лет. Он едва умел читать, он ничего не знал. Он многое пережил после этого дня, приобретая знания, наблюдательность, опытность; но ежели бы он владел тогда всеми этими после приобретенными способностями, он не мог бы лучше, глубже понять все значение той сцены, которую он видел между отцом, княжной Марьей и Наташей, чем он ее понял теперь. Он все понял и, не плача, вышел из комнаты, молча подошел к Наташе, вышедшей за ним, застенчиво взглянул на нее задумчивыми прекрасными глазами; приподнятая румяная верхняя губа его дрогнула, он прислонился к ней головой и заплакал.
С этого дня он избегал Десаля, избегал ласкавшую его графиню и либо сидел один, либо робко подходил к княжне Марье и к Наташе, которую он, казалось, полюбил еще больше своей тетки, и тихо и застенчиво ласкался к ним.
Княжна Марья, выйдя от князя Андрея, поняла вполне все то, что сказало ей лицо Наташи. Она не говорила больше с Наташей о надежде на спасение его жизни. Она чередовалась с нею у его дивана и не плакала больше, но беспрестанно молилась, обращаясь душою к тому вечному, непостижимому, которого присутствие так ощутительно было теперь над умиравшим человеком.
Князь Андрей не только знал, что он умрет, но он чувствовал, что он умирает, что он уже умер наполовину. Он испытывал сознание отчужденности от всего земного и радостной и странной легкости бытия. Он, не торопясь и не тревожась, ожидал того, что предстояло ему. То грозное, вечное, неведомое и далекое, присутствие которого он не переставал ощущать в продолжение всей своей жизни, теперь для него было близкое и – по той странной легкости бытия, которую он испытывал, – почти понятное и ощущаемое.
Прежде он боялся конца. Он два раза испытал это страшное мучительное чувство страха смерти, конца, и теперь уже не понимал его.
Первый раз он испытал это чувство тогда, когда граната волчком вертелась перед ним и он смотрел на жнивье, на кусты, на небо и знал, что перед ним была смерть. Когда он очнулся после раны и в душе его, мгновенно, как бы освобожденный от удерживавшего его гнета жизни, распустился этот цветок любви, вечной, свободной, не зависящей от этой жизни, он уже не боялся смерти и не думал о ней.
Чем больше он, в те часы страдальческого уединения и полубреда, которые он провел после своей раны, вдумывался в новое, открытое ему начало вечной любви, тем более он, сам не чувствуя того, отрекался от земной жизни. Всё, всех любить, всегда жертвовать собой для любви, значило никого не любить, значило не жить этою земною жизнию. И чем больше он проникался этим началом любви, тем больше он отрекался от жизни и тем совершеннее уничтожал ту страшную преграду, которая без любви стоит между жизнью и смертью. Когда он, это первое время, вспоминал о том, что ему надо было умереть, он говорил себе: ну что ж, тем лучше.
Но после той ночи в Мытищах, когда в полубреду перед ним явилась та, которую он желал, и когда он, прижав к своим губам ее руку, заплакал тихими, радостными слезами, любовь к одной женщине незаметно закралась в его сердце и опять привязала его к жизни. И радостные и тревожные мысли стали приходить ему. Вспоминая ту минуту на перевязочном пункте, когда он увидал Курагина, он теперь не мог возвратиться к тому чувству: его мучил вопрос о том, жив ли он? И он не смел спросить этого.
Болезнь его шла своим физическим порядком, но то, что Наташа называла: это сделалось с ним, случилось с ним два дня перед приездом княжны Марьи. Это была та последняя нравственная борьба между жизнью и смертью, в которой смерть одержала победу. Это было неожиданное сознание того, что он еще дорожил жизнью, представлявшейся ему в любви к Наташе, и последний, покоренный припадок ужаса перед неведомым.
Это было вечером. Он был, как обыкновенно после обеда, в легком лихорадочном состоянии, и мысли его были чрезвычайно ясны. Соня сидела у стола. Он задремал. Вдруг ощущение счастья охватило его.
«А, это она вошла!» – подумал он.
Действительно, на месте Сони сидела только что неслышными шагами вошедшая Наташа.
С тех пор как она стала ходить за ним, он всегда испытывал это физическое ощущение ее близости. Она сидела на кресле, боком к нему, заслоняя собой от него свет свечи, и вязала чулок. (Она выучилась вязать чулки с тех пор, как раз князь Андрей сказал ей, что никто так не умеет ходить за больными, как старые няни, которые вяжут чулки, и что в вязании чулка есть что то успокоительное.) Тонкие пальцы ее быстро перебирали изредка сталкивающиеся спицы, и задумчивый профиль ее опущенного лица был ясно виден ему. Она сделала движенье – клубок скатился с ее колен. Она вздрогнула, оглянулась на него и, заслоняя свечу рукой, осторожным, гибким и точным движением изогнулась, подняла клубок и села в прежнее положение.
Он смотрел на нее, не шевелясь, и видел, что ей нужно было после своего движения вздохнуть во всю грудь, но она не решалась этого сделать и осторожно переводила дыханье.
В Троицкой лавре они говорили о прошедшем, и он сказал ей, что, ежели бы он был жив, он бы благодарил вечно бога за свою рану, которая свела его опять с нею; но с тех пор они никогда не говорили о будущем.
«Могло или не могло это быть? – думал он теперь, глядя на нее и прислушиваясь к легкому стальному звуку спиц. – Неужели только затем так странно свела меня с нею судьба, чтобы мне умереть?.. Неужели мне открылась истина жизни только для того, чтобы я жил во лжи? Я люблю ее больше всего в мире. Но что же делать мне, ежели я люблю ее?» – сказал он, и он вдруг невольно застонал, по привычке, которую он приобрел во время своих страданий.
Услыхав этот звук, Наташа положила чулок, перегнулась ближе к нему и вдруг, заметив его светящиеся глаза, подошла к нему легким шагом и нагнулась.
– Вы не спите?
– Нет, я давно смотрю на вас; я почувствовал, когда вы вошли. Никто, как вы, но дает мне той мягкой тишины… того света. Мне так и хочется плакать от радости.
Наташа ближе придвинулась к нему. Лицо ее сияло восторженною радостью.
– Наташа, я слишком люблю вас. Больше всего на свете.
– А я? – Она отвернулась на мгновение. – Отчего же слишком? – сказала она.
– Отчего слишком?.. Ну, как вы думаете, как вы чувствуете по душе, по всей душе, буду я жив? Как вам кажется?
– Я уверена, я уверена! – почти вскрикнула Наташа, страстным движением взяв его за обе руки.
Он помолчал.
– Как бы хорошо! – И, взяв ее руку, он поцеловал ее.
Наташа была счастлива и взволнована; и тотчас же она вспомнила, что этого нельзя, что ему нужно спокойствие.
– Однако вы не спали, – сказала она, подавляя свою радость. – Постарайтесь заснуть… пожалуйста.
Он выпустил, пожав ее, ее руку, она перешла к свече и опять села в прежнее положение. Два раза она оглянулась на него, глаза его светились ей навстречу. Она задала себе урок на чулке и сказала себе, что до тех пор она не оглянется, пока не кончит его.
Действительно, скоро после этого он закрыл глаза и заснул. Он спал недолго и вдруг в холодном поту тревожно проснулся.
Засыпая, он думал все о том же, о чем он думал все ото время, – о жизни и смерти. И больше о смерти. Он чувствовал себя ближе к ней.
«Любовь? Что такое любовь? – думал он. – Любовь мешает смерти. Любовь есть жизнь. Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что люблю. Все есть, все существует только потому, что я люблю. Все связано одною ею. Любовь есть бог, и умереть – значит мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источнику». Мысли эти показались ему утешительны. Но это были только мысли. Чего то недоставало в них, что то было односторонне личное, умственное – не было очевидности. И было то же беспокойство и неясность. Он заснул.
Он видел во сне, что он лежит в той же комнате, в которой он лежал в действительности, но что он не ранен, а здоров. Много разных лиц, ничтожных, равнодушных, являются перед князем Андреем. Он говорит с ними, спорит о чем то ненужном. Они сбираются ехать куда то. Князь Андрей смутно припоминает, что все это ничтожно и что у него есть другие, важнейшие заботы, но продолжает говорить, удивляя их, какие то пустые, остроумные слова. Понемногу, незаметно все эти лица начинают исчезать, и все заменяется одним вопросом о затворенной двери. Он встает и идет к двери, чтобы задвинуть задвижку и запереть ее. Оттого, что он успеет или не успеет запереть ее, зависит все. Он идет, спешит, ноги его не двигаются, и он знает, что не успеет запереть дверь, но все таки болезненно напрягает все свои силы. И мучительный страх охватывает его. И этот страх есть страх смерти: за дверью стоит оно. Но в то же время как он бессильно неловко подползает к двери, это что то ужасное, с другой стороны уже, надавливая, ломится в нее. Что то не человеческое – смерть – ломится в дверь, и надо удержать ее. Он ухватывается за дверь, напрягает последние усилия – запереть уже нельзя – хоть удержать ее; но силы его слабы, неловки, и, надавливаемая ужасным, дверь отворяется и опять затворяется.
Еще раз оно надавило оттуда. Последние, сверхъестественные усилия тщетны, и обе половинки отворились беззвучно. Оно вошло, и оно есть смерть. И князь Андрей умер.
Но в то же мгновение, как он умер, князь Андрей вспомнил, что он спит, и в то же мгновение, как он умер, он, сделав над собою усилие, проснулся.
«Да, это была смерть. Я умер – я проснулся. Да, смерть – пробуждение!» – вдруг просветлело в его душе, и завеса, скрывавшая до сих пор неведомое, была приподнята перед его душевным взором. Он почувствовал как бы освобождение прежде связанной в нем силы и ту странную легкость, которая с тех пор не оставляла его.
Когда он, очнувшись в холодном поту, зашевелился на диване, Наташа подошла к нему и спросила, что с ним. Он не ответил ей и, не понимая ее, посмотрел на нее странным взглядом.
Это то было то, что случилось с ним за два дня до приезда княжны Марьи. С этого же дня, как говорил доктор, изнурительная лихорадка приняла дурной характер, но Наташа не интересовалась тем, что говорил доктор: она видела эти страшные, более для нее несомненные, нравственные признаки.
С этого дня началось для князя Андрея вместе с пробуждением от сна – пробуждение от жизни. И относительно продолжительности жизни оно не казалось ему более медленно, чем пробуждение от сна относительно продолжительности сновидения.
Ничего не было страшного и резкого в этом, относительно медленном, пробуждении.
Последние дни и часы его прошли обыкновенно и просто. И княжна Марья и Наташа, не отходившие от него, чувствовали это. Они не плакали, не содрогались и последнее время, сами чувствуя это, ходили уже не за ним (его уже не было, он ушел от них), а за самым близким воспоминанием о нем – за его телом. Чувства обеих были так сильны, что на них не действовала внешняя, страшная сторона смерти, и они не находили нужным растравлять свое горе. Они не плакали ни при нем, ни без него, но и никогда не говорили про него между собой. Они чувствовали, что не могли выразить словами того, что они понимали.
Они обе видели, как он глубже и глубже, медленно и спокойно, опускался от них куда то туда, и обе знали, что это так должно быть и что это хорошо.
Его исповедовали, причастили; все приходили к нему прощаться. Когда ему привели сына, он приложил к нему свои губы и отвернулся, не потому, чтобы ему было тяжело или жалко (княжна Марья и Наташа понимали это), но только потому, что он полагал, что это все, что от него требовали; но когда ему сказали, чтобы он благословил его, он исполнил требуемое и оглянулся, как будто спрашивая, не нужно ли еще что нибудь сделать.
Когда происходили последние содрогания тела, оставляемого духом, княжна Марья и Наташа были тут.
– Кончилось?! – сказала княжна Марья, после того как тело его уже несколько минут неподвижно, холодея, лежало перед ними. Наташа подошла, взглянула в мертвые глаза и поспешила закрыть их. Она закрыла их и не поцеловала их, а приложилась к тому, что было ближайшим воспоминанием о нем.
«Куда он ушел? Где он теперь?..»
Когда одетое, обмытое тело лежало в гробу на столе, все подходили к нему прощаться, и все плакали.
Николушка плакал от страдальческого недоумения, разрывавшего его сердце. Графиня и Соня плакали от жалости к Наташе и о том, что его нет больше. Старый граф плакал о том, что скоро, он чувствовал, и ему предстояло сделать тот же страшный шаг.
Наташа и княжна Марья плакали тоже теперь, но они плакали не от своего личного горя; они плакали от благоговейного умиления, охватившего их души перед сознанием простого и торжественного таинства смерти, совершившегося перед ними.
Для человеческого ума недоступна совокупность причин явлений. Но потребность отыскивать причины вложена в душу человека. И человеческий ум, не вникнувши в бесчисленность и сложность условий явлений, из которых каждое отдельно может представляться причиною, хватается за первое, самое понятное сближение и говорит: вот причина. В исторических событиях (где предметом наблюдения суть действия людей) самым первобытным сближением представляется воля богов, потом воля тех людей, которые стоят на самом видном историческом месте, – исторических героев. Но стоит только вникнуть в сущность каждого исторического события, то есть в деятельность всей массы людей, участвовавших в событии, чтобы убедиться, что воля исторического героя не только не руководит действиями масс, но сама постоянно руководима. Казалось бы, все равно понимать значение исторического события так или иначе. Но между человеком, который говорит, что народы Запада пошли на Восток, потому что Наполеон захотел этого, и человеком, который говорит, что это совершилось, потому что должно было совершиться, существует то же различие, которое существовало между людьми, утверждавшими, что земля стоит твердо и планеты движутся вокруг нее, и теми, которые говорили, что они не знают, на чем держится земля, но знают, что есть законы, управляющие движением и ее, и других планет. Причин исторического события – нет и не может быть, кроме единственной причины всех причин. Но есть законы, управляющие событиями, отчасти неизвестные, отчасти нащупываемые нами. Открытие этих законов возможно только тогда, когда мы вполне отрешимся от отыскиванья причин в воле одного человека, точно так же, как открытие законов движения планет стало возможно только тогда, когда люди отрешились от представления утвержденности земли.
После Бородинского сражения, занятия неприятелем Москвы и сожжения ее, важнейшим эпизодом войны 1812 года историки признают движение русской армии с Рязанской на Калужскую дорогу и к Тарутинскому лагерю – так называемый фланговый марш за Красной Пахрой. Историки приписывают славу этого гениального подвига различным лицам и спорят о том, кому, собственно, она принадлежит. Даже иностранные, даже французские историки признают гениальность русских полководцев, говоря об этом фланговом марше. Но почему военные писатели, а за ними и все, полагают, что этот фланговый марш есть весьма глубокомысленное изобретение какого нибудь одного лица, спасшее Россию и погубившее Наполеона, – весьма трудно понять. Во первых, трудно понять, в чем состоит глубокомыслие и гениальность этого движения; ибо для того, чтобы догадаться, что самое лучшее положение армии (когда ее не атакуют) находиться там, где больше продовольствия, – не нужно большого умственного напряжения. И каждый, даже глупый тринадцатилетний мальчик, без труда мог догадаться, что в 1812 году самое выгодное положение армии, после отступления от Москвы, было на Калужской дороге. Итак, нельзя понять, во первых, какими умозаключениями доходят историки до того, чтобы видеть что то глубокомысленное в этом маневре. Во вторых, еще труднее понять, в чем именно историки видят спасительность этого маневра для русских и пагубность его для французов; ибо фланговый марш этот, при других, предшествующих, сопутствовавших и последовавших обстоятельствах, мог быть пагубным для русского и спасительным для французского войска. Если с того времени, как совершилось это движение, положение русского войска стало улучшаться, то из этого никак не следует, чтобы это движение было тому причиною.
Этот фланговый марш не только не мог бы принести какие нибудь выгоды, но мог бы погубить русскую армию, ежели бы при том не было совпадения других условий. Что бы было, если бы не сгорела Москва? Если бы Мюрат не потерял из виду русских? Если бы Наполеон не находился в бездействии? Если бы под Красной Пахрой русская армия, по совету Бенигсена и Барклая, дала бы сражение? Что бы было, если бы французы атаковали русских, когда они шли за Пахрой? Что бы было, если бы впоследствии Наполеон, подойдя к Тарутину, атаковал бы русских хотя бы с одной десятой долей той энергии, с которой он атаковал в Смоленске? Что бы было, если бы французы пошли на Петербург?.. При всех этих предположениях спасительность флангового марша могла перейти в пагубность.
В третьих, и самое непонятное, состоит в том, что люди, изучающие историю, умышленно не хотят видеть того, что фланговый марш нельзя приписывать никакому одному человеку, что никто никогда его не предвидел, что маневр этот, точно так же как и отступление в Филях, в настоящем никогда никому не представлялся в его цельности, а шаг за шагом, событие за событием, мгновение за мгновением вытекал из бесчисленного количества самых разнообразных условий, и только тогда представился во всей своей цельности, когда он совершился и стал прошедшим.
На совете в Филях у русского начальства преобладающею мыслью было само собой разумевшееся отступление по прямому направлению назад, то есть по Нижегородской дороге. Доказательствами тому служит то, что большинство голосов на совете было подано в этом смысле, и, главное, известный разговор после совета главнокомандующего с Ланским, заведовавшим провиантскою частью. Ланской донес главнокомандующему, что продовольствие для армии собрано преимущественно по Оке, в Тульской и Калужской губерниях и что в случае отступления на Нижний запасы провианта будут отделены от армии большою рекою Окой, через которую перевоз в первозимье бывает невозможен. Это был первый признак необходимости уклонения от прежде представлявшегося самым естественным прямого направления на Нижний. Армия подержалась южнее, по Рязанской дороге, и ближе к запасам. Впоследствии бездействие французов, потерявших даже из виду русскую армию, заботы о защите Тульского завода и, главное, выгоды приближения к своим запасам заставили армию отклониться еще южнее, на Тульскую дорогу. Перейдя отчаянным движением за Пахрой на Тульскую дорогу, военачальники русской армии думали оставаться у Подольска, и не было мысли о Тарутинской позиции; но бесчисленное количество обстоятельств и появление опять французских войск, прежде потерявших из виду русских, и проекты сражения, и, главное, обилие провианта в Калуге заставили нашу армию еще более отклониться к югу и перейти в середину путей своего продовольствия, с Тульской на Калужскую дорогу, к Тарутину. Точно так же, как нельзя отвечать на тот вопрос, когда оставлена была Москва, нельзя отвечать и на то, когда именно и кем решено было перейти к Тарутину. Только тогда, когда войска пришли уже к Тарутину вследствие бесчисленных дифференциальных сил, тогда только стали люди уверять себя, что они этого хотели и давно предвидели.
Знаменитый фланговый марш состоял только в том, что русское войско, отступая все прямо назад по обратному направлению наступления, после того как наступление французов прекратилось, отклонилось от принятого сначала прямого направления и, не видя за собой преследования, естественно подалось в ту сторону, куда его влекло обилие продовольствия.
Если бы представить себе не гениальных полководцев во главе русской армии, но просто одну армию без начальников, то и эта армия не могла бы сделать ничего другого, кроме обратного движения к Москве, описывая дугу с той стороны, с которой было больше продовольствия и край был обильнее.
Передвижение это с Нижегородской на Рязанскую, Тульскую и Калужскую дороги было до такой степени естественно, что в этом самом направлении отбегали мародеры русской армии и что в этом самом направлении требовалось из Петербурга, чтобы Кутузов перевел свою армию. В Тарутине Кутузов получил почти выговор от государя за то, что он отвел армию на Рязанскую дорогу, и ему указывалось то самое положение против Калуги, в котором он уже находился в то время, как получил письмо государя.
Откатывавшийся по направлению толчка, данного ему во время всей кампании и в Бородинском сражении, шар русского войска, при уничтожении силы толчка и не получая новых толчков, принял то положение, которое было ему естественно.
Заслуга Кутузова не состояла в каком нибудь гениальном, как это называют, стратегическом маневре, а в том, что он один понимал значение совершавшегося события. Он один понимал уже тогда значение бездействия французской армии, он один продолжал утверждать, что Бородинское сражение была победа; он один – тот, который, казалось бы, по своему положению главнокомандующего, должен был быть вызываем к наступлению, – он один все силы свои употреблял на то, чтобы удержать русскую армию от бесполезных сражений.
Подбитый зверь под Бородиным лежал там где то, где его оставил отбежавший охотник; но жив ли, силен ли он был, или он только притаился, охотник не знал этого. Вдруг послышался стон этого зверя.
Стон этого раненого зверя, французской армии, обличивший ее погибель, была присылка Лористона в лагерь Кутузова с просьбой о мире.
Наполеон с своей уверенностью в том, что не то хорошо, что хорошо, а то хорошо, что ему пришло в голову, написал Кутузову слова, первые пришедшие ему в голову и не имеющие никакого смысла. Он писал:
«Monsieur le prince Koutouzov, – писал он, – j'envoie pres de vous un de mes aides de camps generaux pour vous entretenir de plusieurs objets interessants. Je desire que Votre Altesse ajoute foi a ce qu'il lui dira, surtout lorsqu'il exprimera les sentiments d'estime et de particuliere consideration que j'ai depuis longtemps pour sa personne… Cette lettre n'etant a autre fin, je prie Dieu, Monsieur le prince Koutouzov, qu'il vous ait en sa sainte et digne garde,
Moscou, le 3 Octobre, 1812. Signe:
Napoleon».
[Князь Кутузов, посылаю к вам одного из моих генерал адъютантов для переговоров с вами о многих важных предметах. Прошу Вашу Светлость верить всему, что он вам скажет, особенно когда, станет выражать вам чувствования уважения и особенного почтения, питаемые мною к вам с давнего времени. Засим молю бога о сохранении вас под своим священным кровом.
Москва, 3 октября, 1812.
Наполеон. ]
«Je serais maudit par la posterite si l'on me regardait comme le premier moteur d'un accommodement quelconque. Tel est l'esprit actuel de ma nation», [Я бы был проклят, если бы на меня смотрели как на первого зачинщика какой бы то ни было сделки; такова воля нашего народа. ] – отвечал Кутузов и продолжал употреблять все свои силы на то, чтобы удерживать войска от наступления.
В месяц грабежа французского войска в Москве и спокойной стоянки русского войска под Тарутиным совершилось изменение в отношении силы обоих войск (духа и численности), вследствие которого преимущество силы оказалось на стороне русских. Несмотря на то, что положение французского войска и его численность были неизвестны русским, как скоро изменилось отношение, необходимость наступления тотчас же выразилась в бесчисленном количестве признаков. Признаками этими были: и присылка Лористона, и изобилие провианта в Тарутине, и сведения, приходившие со всех сторон о бездействии и беспорядке французов, и комплектование наших полков рекрутами, и хорошая погода, и продолжительный отдых русских солдат, и обыкновенно возникающее в войсках вследствие отдыха нетерпение исполнять то дело, для которого все собраны, и любопытство о том, что делалось во французской армии, так давно потерянной из виду, и смелость, с которою теперь шныряли русские аванпосты около стоявших в Тарутине французов, и известия о легких победах над французами мужиков и партизанов, и зависть, возбуждаемая этим, и чувство мести, лежавшее в душе каждого человека до тех пор, пока французы были в Москве, и (главное) неясное, но возникшее в душе каждого солдата сознание того, что отношение силы изменилось теперь и преимущество находится на нашей стороне. Существенное отношение сил изменилось, и наступление стало необходимым. И тотчас же, так же верно, как начинают бить и играть в часах куранты, когда стрелка совершила полный круг, в высших сферах, соответственно существенному изменению сил, отразилось усиленное движение, шипение и игра курантов.
Русская армия управлялась Кутузовым с его штабом и государем из Петербурга. В Петербурге, еще до получения известия об оставлении Москвы, был составлен подробный план всей войны и прислан Кутузову для руководства. Несмотря на то, что план этот был составлен в предположении того, что Москва еще в наших руках, план этот был одобрен штабом и принят к исполнению. Кутузов писал только, что дальние диверсии всегда трудно исполнимы. И для разрешения встречавшихся трудностей присылались новые наставления и лица, долженствовавшие следить за его действиями и доносить о них.
Кроме того, теперь в русской армии преобразовался весь штаб. Замещались места убитого Багратиона и обиженного, удалившегося Барклая. Весьма серьезно обдумывали, что будет лучше: А. поместить на место Б., а Б. на место Д., или, напротив, Д. на место А. и т. д., как будто что нибудь, кроме удовольствия А. и Б., могло зависеть от этого.
В штабе армии, по случаю враждебности Кутузова с своим начальником штаба, Бенигсеном, и присутствия доверенных лиц государя и этих перемещений, шла более, чем обыкновенно, сложная игра партий: А. подкапывался под Б., Д. под С. и т. д., во всех возможных перемещениях и сочетаниях. При всех этих подкапываниях предметом интриг большей частью было то военное дело, которым думали руководить все эти люди; но это военное дело шло независимо от них, именно так, как оно должно было идти, то есть никогда не совпадая с тем, что придумывали люди, а вытекая из сущности отношения масс. Все эти придумыванья, скрещиваясь, перепутываясь, представляли в высших сферах только верное отражение того, что должно было совершиться.
«Князь Михаил Иларионович! – писал государь от 2 го октября в письме, полученном после Тарутинского сражения. – С 2 го сентября Москва в руках неприятельских. Последние ваши рапорты от 20 го; и в течение всего сего времени не только что ничего не предпринято для действия противу неприятеля и освобождения первопрестольной столицы, но даже, по последним рапортам вашим, вы еще отступили назад. Серпухов уже занят отрядом неприятельским, и Тула, с знаменитым и столь для армии необходимым своим заводом, в опасности. По рапортам от генерала Винцингероде вижу я, что неприятельский 10000 й корпус подвигается по Петербургской дороге. Другой, в нескольких тысячах, также подается к Дмитрову. Третий подвинулся вперед по Владимирской дороге. Четвертый, довольно значительный, стоит между Рузою и Можайском. Наполеон же сам по 25 е число находился в Москве. По всем сим сведениям, когда неприятель сильными отрядами раздробил свои силы, когда Наполеон еще в Москве сам, с своею гвардией, возможно ли, чтобы силы неприятельские, находящиеся перед вами, были значительны и не позволяли вам действовать наступательно? С вероятностию, напротив того, должно полагать, что он вас преследует отрядами или, по крайней мере, корпусом, гораздо слабее армии, вам вверенной. Казалось, что, пользуясь сими обстоятельствами, могли бы вы с выгодою атаковать неприятеля слабее вас и истребить оного или, по меньшей мере, заставя его отступить, сохранить в наших руках знатную часть губерний, ныне неприятелем занимаемых, и тем самым отвратить опасность от Тулы и прочих внутренних наших городов. На вашей ответственности останется, если неприятель в состоянии будет отрядить значительный корпус на Петербург для угрожания сей столице, в которой не могло остаться много войска, ибо с вверенною вам армиею, действуя с решительностию и деятельностию, вы имеете все средства отвратить сие новое несчастие. Вспомните, что вы еще обязаны ответом оскорбленному отечеству в потере Москвы. Вы имели опыты моей готовности вас награждать. Сия готовность не ослабнет во мне, но я и Россия вправе ожидать с вашей стороны всего усердия, твердости и успехов, которые ум ваш, воинские таланты ваши и храбрость войск, вами предводительствуемых, нам предвещают».




























































