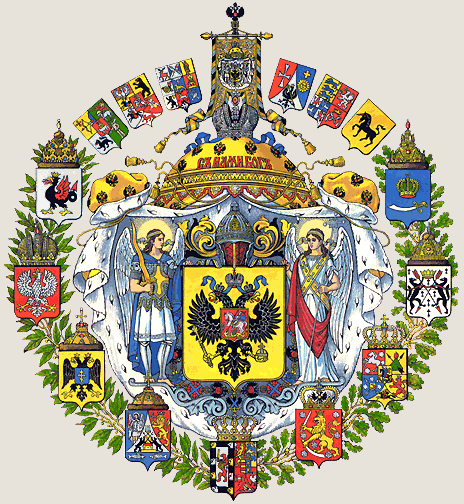Барклай-де-Толли, Михаил Богданович
| Михаил Богданович Барклай-де-Толли | |||||||||||||||||||||||
| нем. Michael Andreas Barclay de Tolly | |||||||||||||||||||||||
 Фрагмент портрета М. Б. Барклая-де-Толли работы[1] Джорджа Доу | |||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место рождения |
Памушис, | ||||||||||||||||||||||
| Дата смерти |
14 (26) мая 1818 (56 лет) | ||||||||||||||||||||||
| Место смерти | |||||||||||||||||||||||
| Принадлежность | |||||||||||||||||||||||
| Годы службы |
1776 — 1818 | ||||||||||||||||||||||
| Звание | |||||||||||||||||||||||
| Командовал |
Генерал-губернатор Финляндии | ||||||||||||||||||||||
| Сражения/войны |
Штурм Очакова, | ||||||||||||||||||||||
| Награды и премии |
Иностранные награды:
| ||||||||||||||||||||||
Князь (с 1815) Михаи́л Богда́нович Баркла́й-де-То́лли (при рождении Михаэль Андреас Барклай де Толли, нем. Michael Andreas Barclay de Tolly, 16 [27] декабря 1761 — 14 [26] мая 1818) — русский полководец, военный министр (январь 1810 — август 1812), генерал-фельдмаршал (с 1814). Второй (после Кутузова) полный кавалер ордена Святого Георгия.
С весны 1812 года — командующий 1-й Западной армией. Фактически исполнял обязанности Главнокомандующего Русской армией в начале Отечественной войны 1812 года, от отъезда из армии Александра I до назначения М. И. Кутузова. В заграничном походе русской армии 1813—1814 годов командовал объединённой русско-прусской армией в составе сил союзников под общим командованием князя Шварценберга.
Содержание
Биография
Происхождение и семья
Происходит из бюргерской немецкой ганзейской семьи де Толли, являющейся ответвлением старинного дворянского шотландского рода Баркли с норманнскими корнями. Его предок, Питер Баркли из ветви Тоуи (Towie) (1600—1674), в середине XVII века переселился в Ригу после подавления Кромвелем сторонников обезглавленного короля Карла Стюарта в Шотландии. Дед Михаила Богдановича Вильгельм был бургомистром Риги.
Отец будущего полководца, Вейнгольд Готтард Барклай де Толли (нем. Weinhold Gottard Barclay de Tolly, 1734—1781; в российских источниках также указывается принятое им славянское имя Богдан), вышел в отставку поручиком российской армии, получив звание российского дворянина. Мать будущего полководца Маргарита Елизавета[2] фон Смиттен (нем. Margaretha Elisabeth von Smitten, 1733—1771) была дочерью местного священника, по другим источникам, происходила из семьи лифляндских помещиков. Сам Михаил Богданович в семейных хрониках называется по-немецки Михаэль-Андреас (нем. Michael Andreas)[3].
Место и год рождения Михаэля-Андреаса Барклая-де-Толли до недавних пор считались достоверно установленными. В ранних и признанных источниках указывается, что он родился 16 (27) декабря 1761[4][5] года в поместье Памушис (лит. Pamūšis, сейчас посёлок Памушис в Шяуляйском уезде Литвы), находившемся в той части края Земгале, которая в тот период входила в состав подвассального Речи Посполитой Курляндского герцогства, присоединённого к Российской империи после третьего раздела Польши (1795). Современные российские исследователи В. М. Безотосный и А. М. Горшман[6] предприняли попытку обосновать более ранний год рождения — 1757[7]. Сам Михаил Богданович писал, что родился он в Риге. В издании «Rigasche Biographien nebst einigen Familien-Nachrichten»[8] (Riga, 1881) сообщается, что родился он в 1761 году в имении Луде Гросхоф (нем. Luhde-Großhoff) под Валкой (нем. Walk, городом, поделённым между Латвией и Эстонией (эстонская часть города называется Валга). В 1760 году семья Барклая переехала в поместье Памушис, именно это поместье указывают многие авторы как место рождения будущего фельдмаршала[9][10].
В 1765 году Вейнгольд Готтард Барклай-де-Толли отвёз сына на воспитание в Санкт-Петербург к родственнику жены (мужу её родной сестры) — полковнику Новотроицкого кирасирского полка Георгу Вильгельму фон Вермелену. В семье дяди, который считал племянника за приёмного сына, он получил хорошее, по тем временам, домашнее образование: знал русский, немецкий и французский языки, арифметику и фортификацию, увлекся военной историей. В семье Вермеленов ему привили трудолюбие, дисциплинированность, патриотизм и христианские духовные ценности.
Супруга — Елена Августа Элеонора фон Смиттен (1770—1828), приходилась ему двоюродной сестрой. Они поженились 22 августа (2 сентября) 1791 года. За время супружества родилось несколько детей, но выжил лишь один сын — Эрнст Магнус Август (1798—1871)[11].
На военной службе
Действительную службу начал в 1776 году в рядах Псковского карабинерного полка, 28 апреля (9 мая) 1778 года был произведён в корнеты, и только в 1783 году — в следующий офицерский чин подпоручика и назначен адъютантом генерал-майора фон Паткуля. Незнатное происхождение Барклая сказалось в его продвижении по службе, ему понадобилось более двадцати лет, чтобы достигнуть чина полковника.
1 (12) января 1786 года года переведён поручиком в Финляндский егерский корпус. 13 (24) января 1788 года назначен адъютантом к генерал-поручику принцу Ангальт-Бернбургскому с производством в капитаны. Участвовал в русско-турецкой войне 1787—1791 годов. Принимал участие в штурме Очакова, был награждён золотым Очаковским крестом на Георгиевской ленте; в скором времени он получил орден Св. Владимира 4-й степени с бантом и был произведён в секунд-майоры с переводом в Изюмский легкоконный полк, с оставлением в звании дежурного майора при принце. В 1789 году отличился в битве под Каушанами (13 (24) сентября), при взятии Аккермана (28 сентября (9 октября)) и Бендер (3 (14) ноября).
В апреле 1790 года вместе с принцем Ангальт-Бернбургским переведён в Финляндскую армию, в рядах которой участвовал в русско-шведской войне 1788—1790 годов. 19 (30) апреля принц Ангальт-Бернбургский смертельно ранен при штурме Пардакоски; умирая, он передал Барклаю-де-Толли свою шпагу, с которой Михаил Богданович никогда не расставался. 1 (12) мая года произведен в премьер-майоры с зачислением в Тобольский пехотный полк; до конца войны состоял при генерале Игельстроме. В конце 1791 года назначен батальонным командиром в Санкт-Петербургский гренадерский полк.
В 1794 году Барклай участвовал в военных действиях против польских повстанцев. Отличился при штурме Вильно, разгроме отряда Грабовского, штурме Праги. Награждён орденом Св. Георгия 4-й степени, произведён в чин подполковника с переводом в Эстляндский егерский корпус, командиром 1-го батальона.
С 17 (28) мая 1797 года Барклай-де-Толли командует батальоном в 4-м егерском полку. 7 (18) марта 1798 года, в чине полковника, назначен шефом этого полка, за отличное состояние которого 2 (13) марта 1799 года произведён в генерал-майоры.
Когда в 1805 году началась война с Францией, Барклай-де-Толли командовал бригадой в армии генерала Беннигсена и не успел к сражению под Аустерлицем. Следует возвращение в пределы России.
В войне с Наполеоном 1806—1807 годов командовал авангардом, а затем арьергардом армии Беннигсена. Отличился в сражениях при Пултуске и Прейсиш-Эйлау, в котором был тяжело ранен в правую руку с раздроблением кости и отправлен на лечение в Кёнигсберг, а затем Мемель. Здесь, 6—7 (18—19) апреля 1807 года, дважды встречается с императором Александром I. В ходе этих встреч Барклай доложил императору своё видение будущей войны с Наполеоном, впервые упомянув о возможности применения тактики «выжженной земли». За отличия в кампании получил ордена Св. Георгия 3-й степени, Св. Владимира 2-й степени и Св. Анны 1-й степени, чин генерал-лейтенанта и назначен командиром 6-й пехотной дивизии.
В мае 1808 года дивизия Барклая-де-Толли была преобразована в Отдельный экспедиционный корпус и направлена в Финляндию, где шла война со Швецией. 7 (19) июня корпус Барклая вступил в Куопио — главный город провинции Саволакс. В течение лета Барклай дважды отразил попытки шведов вернуть Купио. В августе по болезни вернулся в Россию. В феврале 1809 года вернулся в Финляндскую армию и назначен командовать Васским корпусом. 7—9 (19—21) марта Васский корпус совершил переход по льду через пролив Кваркен и, достигнув шведского берега, занял без боя город Умео, что заставило шведов вступить в переговоры. Затем боевые действия возобновились. 20 марта (1 апреля) 1809 года Михаил Богданович был произведён в генералы от инфантерии, 29 мая (10 апреля) назначен главнокомандующим Финляндской армии[12] и генерал-губернатором новоприобретённой Финляндии. После заключения мира награждён орденом Св. Александра Невского. В 1809 году в Российской императорской армии насчитывался 61 генерал-лейтенант. В этом списке Барклай-де-Толли занимал 47-е место по старшинству производства. Когда государь пожаловал его в генералы от инфантерии, обойдёнными оказались 46 человек. Все они сочли себя незаслуженно обиженными, и тогда в высших армейских кругах начали возмущённо обсуждать «выскочку» Барклая, а некоторые даже в знак протеста подали прошение об отставке.
Военный министр
Заслуги на посту генерал-губернатора Финляндии позволили Барклаю подняться ещё выше. С 20 января (1 февраля) 1810 года по 24 августа (5 сентября) 1812 года он занимает пост военного министра (одновременно с назначением военным министром он был введён в Сенат[13]).
Добившись на то высочайшего указа, ввёл в русской армии корпусную организацию, что делало её в тех условиях более мобильной, манёвренной и лучше управляемой в мирное и военное время.
Под непосредственным руководством Барклая в кратчайший срок были разработаны «Уложения для управления большой действующей армии», главной идеей которых было единоначалие главнокомандующего действующей армией, который обладал на театре военных действий всей полнотой власти и подчинялся лишь императору. Кроме того, «Уложения» определяли права и обязанности высших начальников и штат полевого штаба. Также под руководством Барклая было разработано «Учреждение министерства военно-сухопутных сил», согласно которому министерство имело семь департаментов (Артиллерийский, Инженерный, Инспекторский, Аудиторский, Комиссариатский, Провиантский, Медицинский), Военно-учёный комитет, Военно-топографическое депо, типография и Особенная канцелярия, которая занималась разведкой и контрразведкой. Вводятся другие документы, регламентирующие жизнедеятельность армии: «Наставление пехотным офицерам в день сражения», «Общий опыт тактики», «Воинский устав пехотной дивизии», «Общие правила для артиллерии в полевом сражении», «Начертание на случай военных ополчений».
В преддверии войны с Францией численность русской армии была заметно увеличена, заблаговременно были подготовлены резервы. Был сформирован Московский лейб-гвардии полк. В приграничной полосе строились новые крепости, в частности, Динабургская и Бобруйская.
В 1810 году русская армия (полевые, крепостные и гарнизонные войска) состояла из 437 пехотных батальонов и 399 кавалерийских эскадронов. В 1811 году в её составе значилось уже 498 батальонов пехоты и 409 эскадронов кавалерии, не считая 97 гарнизонных батальонов. По состоянию на 1 января 1812 года в полевых войсках, то есть в рядах действующей армии, насчитывалось: в пехоте — 201 200 человек (215 батальонов), в регулярной кавалерии — 41 685 человек (41 полк), в артиллерии — 36 500 человек. К концу 1812 года численность сухопутных сил Российской империи была доведена до 975 тысяч человек, в том числе в полевых войсках было 815 тысяч человек, в гарнизонных — 60 тысяч человек и в иррегулярных — около 100 тысяч человек. Для увеличения численности вооруженных сил (армии) в предвоенный период по предложению военного министра было проведено несколько внеочередных рекрутских наборов. В 1811 году — один, из расчёта 4 рекрута с 500 «душ мужского пола». Эти рекруты направлялись в города Ярославль, Кострому, Владимир, Рязань, Тамбов и Воронеж. В каждом из них формировалось по два пехотных полка, составивших две дивизии. До начала войны они успели влиться в состав полевой действующей армии. В военном 1812 году было осуществлено три рекрутских набора в сухопутные войска. Под ружьё было поставлено более двух процентов дееспособного мужского населения российских деревень. Эти три набора 1812 года дали 1227 тысяч рекрутов. В том же году, кроме того, набиралось государственное ополчение численностью около 200 тысяч человек. Благодаря усилиям российского Военного министерства в рамках подготовки государства к войне с наполеоновской Французской империей и её союзниками в марте 1812 года в полевых войсках имелось: в пехоте — 6 гвардейских полков, 14 гренадерских, 96 пехотных, 50 егерских (лёгкой пехоты), 4 морских (морской пехоты); всего пехота насчитывала в своих рядах 365 тысяч человек (в это число входили 4 тысячи пионеров, или сапёров). В кавалерии — 6 гвардейских, 8 кирасирских, 36 драгунских, 5 уланских и 11 гусарских полков, при этом общая численность регулярной кавалерии составляла 76 тысяч человек; существовала ещё и более многочисленная иррегулярная лёгкая конница — казачья и национальных формирований (башкирских, калмыцких и других). Полевая артиллерия русской армии насчитывала 40 тысяч человек при 1620 орудиях (различных систем и калибров), из которых в 5 гвардейских артиллерийских ротах числилось 60 орудий, в полевых батарейных и лёгких артиллерийских ротах — по 648 орудий и в конно-артиллерийских ротах — 264 орудия.
В городах Новгороде, Твери, Трубчевске и Сосницах были созданы основные продовольственные базы для армии. Благодаря усилиям Провиантского департамента Военного министерства к началу войны удалось создать огромные запасы провианта: более 353 тысяч пудов муки, свыше 33 тысяч пудов различных круп и почти 469 тысяч пудов овса. Одновременно создавались запасы вооружения и боевых зарядов. Орудийное производство оказалось сконцентрированным на казённых литейных заводах, главным образом на Олонецком, Санкт-Петербургском и Луганском. На 28 казённых и 118 частных чугунолитейных заводах Урала были размещены дополнительные заказы на производство 293 тысяч пудов, или около 4 миллионов артиллерийских снарядов. В арсеналах Санкт-Петербурга, Москвы, Киева, а также на складах Тульского и Сестрорецкого оружейных заводов накапливалось огнестрельное и холодное оружие.
Из общей суммы расходов государственного бюджета на 1810 год, составлявшей 279 миллиона рублей, на военные цели было израсходовано 147,6 миллиона рублей. В следующем, 1811 году из общей суммы российского бюджета — 337,5 миллиона рублей — на военные нужды пошло 137 миллионов рублей. Общие расходы непосредственно на Отечественную войну 1812 года, по самым скромным подсчётам, составили 155 миллионов рублей.
Барклай заблаговременно составил два плана действий на случай войны с Наполеоном. Они носили как наступательный, так и оборонительный характер: первый предусматривал переход русской армии в наступление с целью скорейшего окружения французских войск в Пруссии и Варшавском герцогстве, а затем наступление через Германию на Францию; согласно второму русские войска, не ввязываясь в крупные сражения с наполеоновскими войсками, затягивали войну как можно дольше, заманивая противника вглубь опустошённого края.
Отечественная война 1812 года
Оценка роли Барклая-де-Толли в войне 1812 года во многом определялась взглядами и влиянием при дворе «русской партии», видевшей в Барклае «немца» и требовавшей его смещения с поста главнокомандующего. Поместное дворянство было не в восторге от его «тактики выжженной земли», которую он вынужден был использовать в оборонительной войне с более сильной армией Наполеона.
С 31 марта (12 апреля) 1812 года Барклай-де-Толли командовал 1-й Западной армией, размещённой на границе Российской империи в Литве. Под натиском превосходящих сил вынужденно отступал, проводя арьергардные бои под Витебском и в Смоленске. 22 июля (3 августа) под Смоленском соединился со 2-й Западной армией П. И. Багратиона, который добровольно подчинился ему, но скоро стал открыто обвинять Барклая в неспособности руководить войсками. Как позднее Барклай написал в журнале действий 1-й армии про свои отношения с Багратионом:
«Я должен был льстить его самолюбию и уступать ему в разных случаях против собственного своего удостоверения, дабы произвести с большим успехом важнейшие предприятия».
Вероятно здесь, помимо природной горячности Багратиона, стремившегося к генеральному сражению с французской армией, сыграло роль и то, что Барклай де-факто исполнял обязанности главнокомандующего, не имея на то формально-юридических оснований. Дело в том, что в случае, когда командующий или главнокомандующий в силу тех или иных причин отсутствовал (ранен, болен, убит, не назначен и т. д.), по Уставу его обязанности должен был исполнять старший в чине. В случае, если несколько офицеров (генералов) находились в одном чине, старшим считался тот, кому чин был присвоен раньше всех. Находясь в одинаковом чине генерала от инфантерии (2-й класс Табели), Барклай и Багратион имели разное старшинство — первый по старшинству уступал последнему (оба получили чин в 1809 году, но Багратион — несколько раньше (фамилия «Багратион» в приказе стояла первой, по алфавиту), что и давало Багратиону так называемое старшинство). В то же время, Барклай-де-Толли до августа 1812 года занимал пост военного министра (был освобождён от него за два дня до Бородинского сражения), то есть был формально вроде бы старше Багратиона по должности, однако, во-первых, министерская должность была административной, а не командно-строевой, во-вторых, всеобъемлющих полномочий главнокомандующего русской армией, которые были бы официально возложены на него императором (с 31 марта (12 апреля) по 7 (19) июля пребывал в главной квартире 1-й Западной армии), Барклай всё равно так и не получил. Ещё перед началом кампании Барклай советовал Александру I назначить главнокомандующего, но император не внял совету своего военного министра, предоставив ему право отдавать распоряжения от своего имени.
Вынужденное отступление вызвало недовольство в стране и армии. Характерным примером отношения в российском обществе к Барклаю являются слова в частном письме от 3 (15) сентября 1812 года:
«Барклай, ожидая отставки, поспешил сдать французам всё, что мог, и если бы имел время, то привёл бы Наполеона прямо в Москву. Да простит ему Бог, а мы долго не забудем его измены»[14].
Сам же Барклай позже писал в воспоминаниях по поводу отступления:
«Я предаю строгому суду всех и каждого дела мои. Пусть укажут другие способы, кои возможно было бы употребить для спасения Отечества».
17 (29) августа 1812 года в командование всеми войсками вступил М. И. Кутузов. Барклай-де-Толли остался командующим 1-й Западной армии[12].
В Бородинском сражении он командовал правым крылом и центром русских войск, проявил большое мужество и искусство в управлении войсками. Когда раненого Багратиона перевязывали на поле боя, он передал адъютанту Барклая В. И. Левенштерну слова примирения с Барклаем, признания его стойкости, большой отваги и благородства[15]:
«Скажите генералу Барклаю, что участь армии и её спасение зависят от него. До сих пор все идет хорошо. Да сохранит его Бог».
Очевидцы утверждают, что генерал Барклай в этой битве намеренно подставлялся под огонь врага[16], не в силах выносить молчаливое осуждение армии и общества. До Бородина его войска отказывались приветствовать Барклая, считая его главным виновником поражений. Передают, что в день битвы под ним убито и ранено пять лошадей. Тем не менее он продолжал упорно отстаивать необходимость стратегического отступления, на военном совете в Филях высказался за оставление Москвы. В личном письме жене от 11 (23) сентября (то есть после оставления Москвы) он написал:
«Чем бы дело ни кончилось, я всегда буду убеждён, что я делал всё необходимое для сохранения государства, и если у его величества ещё есть армия, способная угрожать врагу разгромом, то это моя заслуга. После многочисленных кровопролитных сражений, которыми я на каждом шагу задерживал врага и нанёс ему ощутимые потери, я передал армию князю Кутузову, когда он принял командование в таком состоянии, что она могла помериться силами со сколь угодно мощным врагом. Я её передал ему в ту минуту, когда я был исполнен самой твёрдой решимости ожидать на превосходной позиции атаку врага, и я был уверен, что отобью её. …Если в Бородинском сражении армия не была полностью и окончательно разбита — это моя заслуга, и убеждение в этом будет служить мне утешением до последней минуты жизни»[17].
В том же письме Барклай признался о тяжёлой моральной обстановке вокруг себя. У него не сложились отношения с главнокомандующим Кутузовым, человеком совсем другого склада характера и поведения. После реорганизации армии Кутузовым генерал Барклай оказался в двусмысленном положении. Сохраняя формально пост, фактически он был отстранён от управления войсками. 20 сентября (2 октября), получив отпуск, он отправился в Калугу, затем во Владимир, поздней осенью прибыл в своё имение Бекгоф в Лифляндии.
В ноябре 1812 года Барклай отправил в Петербург царю Александру I конфиденциальную мемуарно-историческую записку «Изображение военных действий 1-й армии», в которой изложил своё видение войны и причины отступления. В ответ он получил исполненное расположения письмо российского императора, в котором Александр признал правильность действий Барклая на посту командующего 1-й армией. Но Барклай надеялся и на публичную реабилитацию в глазах общественного мнения и выехал в Петербург, чтобы добиться личной аудиенции у Александра I. Но уже 7 (19) декабря император отбыл в Вильно, и ожидаемой встречи не произошло. 12 декабря, в день рождения императора, Барклай прибыл в Зимний дворец, однако собравшиеся придворные оказали ему ледяной приём. Лишь после того, как к Барклаю подошла императрица Елизавета Алексеевна и высказала ему своё сочувствие, присутствовавшие окружили генерала, выражая свою симпатию. Тем же днем Барклай получил письмо Александра I, в котором тот убеждал его вернуться в армию. Получив это письмо, Барклай выехал в своё лифляндское имение. Здесь он в течение месяца болел, а немного поправившись, выехал в Вильно. В октябре 1812 — апреле 1813 годов он составил целую серию военно-публицистических записок о начальном периоде войны, однако царь неизменно отклонял настояния Барклая напечатать их в правительственной прессе[18].
Все российские историки признают, что принципиальная стратегическая линия, намеченная Барклаем на начальном этапе Отечественной войны, не была изменена Кутузовым, и преемственность в командовании была сохранена.
После Отечественной войны
С 23 января (4 февраля) 1813 года — командующий 3-й армией в Заграничном походе русской армии. После отставки прежнего командующего союзными силами Витгенштейна принял 17 (29) мая 1813 года командование объединённой русско-прусской армией как раз накануне временного перемирия с Наполеоном. После окончания перемирия эта армия вошла в состав Богемской армии союзников под командованием австрийского фельдмаршала Шварценберга.
Барклай успешно руководил войсками в сражениях под Торном, Кульмом, Лейпцигом, Парижем. Именным Высочайшим указом от 29 декабря 1813 (10 января 1814) года генерал от инфантерии Михаил Богданович Барклай-де-Толли возведён с нисходящим его потомством в графское Российской империи достоинство. 18 (30) марта 1814 года получил фельдмаршальский жезл. В юности Барклай долго добивался нижних офицерских чинов, но всего за 7 лет проделал стремительный путь из генерал-майоров в фельдмаршалы. 29 марта (10 апреля) 1814 года Наполеон отрёкся от трона, война завершилась. После подписания Парижского мирного договора Барклай-де-Толли сопровождал императора Александра I в Лондон. В октябре по возвращении в Россию был назначен главнокомандующим 1-й армией, расквартированной в Польше.
Весной 1815 года Наполеон триумфально вернулся к власти. В апреле Барклай снова повёл армию в Европу, вступив в июне 1815 года в пределы Франции, но не успел принять участия в больших сражениях из-за скорого разгрома Наполеона под Ватерлоо. 22 июня (4 июля) 1815 года Париж капитулировал. Прусские и английские войска вошли в сданный без боя город. Русские 3-я гренадерская и 2-я кирасирская дивизии вступили в Париж 29 июля (10 августа), а Главная квартира армии Барклая-де-Толли и почти все его войска были расквартированы в Шампани. 29 августа (10 сентября) 1815 года Барклай провёл смотр русской армии в пригороде Парижа Вертю, в котором принимали участие 150 554 человека и 940 орудий. На праздник прибыли союзные монархи и командующие союзных армий, присутствовали тысячи зрителей. Когда войска двинулись церемониальным маршем мимо почётных трибун, во главе их стал сам Александр I. Парад закончился салютом изо всех орудий. Именным Высочайшим указом, от 30 августа (11 сентября) 1815 года, генерал-фельдмаршал граф Барклай-де-Толли был возведён с нисходящим его потомством в княжеское Российской империи достоинство. От союзников на князя Барклая пролился дождь из наград и орденов. В октябре Барклай вместе с императором покинул Францию и вернулся в Варшаву. В декабре император пригласил князя Барклая-де-Толли приехать в Петербург, где фельдмаршалу была устроена триумфальная встреча с почётным караулом и торжественным приёмом у императора.
После окончания Наполеоновских войн Барклай-де-Толли продолжал командовать 1-й армией, штаб которой был переведён в Могилёв. Осенью 1817 года сопровождал Александра I в путешествии по стране, предпринятом с инспекционными целями. Используя накопленный военный опыт, фельдмаршал издал «Правила рассыпного строя, или Наставления о рассеянном действии пехоты для егерских полков и застрельщиков всей пехоты», позднее дополненное разделом «Об употреблении стрелков в линейных учениях». Впоследствии эти правила получили широкое распространение в русской армии. Однако князь вносил новое не только в тактику боя: одним из немногих он открыто выступал против создания военных поселений, предлагая отслуживших срок солдат наделять землёй и зачислять в «Вольные хлебопашцы».
В начале 1818 года Барклай испросил позволения отправиться в Германию для лечения на минеральных водах, но, не доехав до места, скончался 14 (26) мая в возрасте 56 лет на мызе Штилитцен (Жиляйтшен, ныне посёлок Нагорное, Черняховский район, Калининградская область, Россия) в 6 верстах от города Инстербург (ныне Черняховск).
Прусский король Фридрих Вильгельм III выслал в Штилицен почётный караул, который сопровождал траурный кортеж до русской границы, где гроб с телом полководца встретил почётный караул во главе с генералом И. И. Дибичем. 30 мая (11 июня) тело было доставлено в Ригу, где состоялась торжественная траурная церемония. Во дворе собора Св. Иакова состоялось отпевание и отдание воинских почестей в присутствии священнослужителей всех конфессий и гражданской администрации города во главе с генерал-губернатором маркизом Ф. О. Паулуччи, а также военного гарнизона под командованием генерала И. Ф. Паскевича (позже фельдмаршала и князя Паскевича-Эриванского-Варшавского).
Сердце Барклая-де-Толли было похоронено на небольшом возвышении в 300 метрах от мызы Штилитцен, а набальзамированный прах доставлен в фамильное имение Бекгоф (Лифляндия), в полутора километрах от нынешнего эстонского населённого пункта Йыгевесте (волость Хельме, уезд Валгамаа) и захоронен в семейной усыпальнице рядом с прахом ранее умершего сына.
Во время Великой Отечественной войны мавзолей Барклая-де-Толли был разграблен, плита саркофага была сорвана, а прах осквернён похитителями, искавшими ордена на его погребальном мундире.
- 1767 год — записан гефрейт-капралом в Новотроицкий кирасирский полк.
- 13 (24) декабря 1769 года — произведён в вахмистры.
- 1776 год — вступил в действительную службу в Псковский карабинерный полк.
- 28 апреля (9 мая) 1778 года — получил первый офицерский чин — корнета.
- 1783 год — в чине подпоручика назначен адъютантом генерал-майора фон Паткуля.
- 1 (12) января 1786 года — переведен поручиком в Финляндский егерский корпус в 1-й батальон.
- 13 (24) января 1788 года — в чине капитана назначен старшим адъютантом генерал-поручика принца Ангальт-Бернбургского.
- 1788 год — произведён в секунд-майоры за отличие против турок, с переводом в Изюмский легкоконный полк, с оставлением в звании дежурного майора при принце Ангальт-Бернбургском.
- 1 (12) мая 1790 года — произведён в премьер-майоры с зачислением в Тобольский пехотный полк.
- Конец 1791 года — назначен батальонным командиром в Санкт-Петербургский гренадерский полк.
- 16 (27) сентября 1794 года — произведён в чин подполковника с переводом в Эстляндский егерский корпус, командиром 1-го батальона.
- 17 (28) мая 1797 года — командует батальоном в 4-м егерском полку.
- 7 (18) марта 1798 года — в чине полковника назначен шефом 4-го егерского полка.
- 2 (13) марта 1799 года — произведён в генерал-майоры.
- 9 (21) апреля 1807 года — произведён в генерал-лейтенанты и назначен начальником 6-й пехотной дивизии.
- 20 марта (1 апреля) 1809 года — пожалован чином генерала от инфантерии.
- 29 мая (10 апреля) 1809 года — назначен главнокомандующим Финляндской армией и генерал-губернатором Финляндии.
- 20 января (1 февраля) 1810 года — назначен членом Государственного совета и военным министром (до 24 августа (5 сентября) 1812 года).
- 31 марта (12 апреля) 1812 года — назначен командующим 1-й Западной армией.
- 16 (28) сентября 1812 года — назначен командующим Главной армией (до 20 сентября (2 октября) 1812 года).
- 23 января (4 февраля)1813 года — назначен командующим 3-й Западной армией.
- 17 (29) мая 1813 года — назначен главнокомандующим всех действующих российских и прусских войск.
- 29 декабря 1813 (10 января 1814) года — возведён, с нисходящим его потомством, в графское Российской империи достоинство.
- 18 (30) марта 1814 года — произведён в генерал-фельдмаршалы.
- октябрь 1814 года — назначен главнокомандующим 1-й армией.
- 30 августа (11 сентября) 1815 года — возведён, с нисходящим его потомством, в княжеское Российской империи достоинство.
В походах был:
- 1788 год — в Бессарабии, при осаде и взятии штурмом г. Очакова;
- 1789 год — в Бессарабии и Молдавии, 13 сентября, при разбитии неприятеля под Каушанами и при взятии городов Аккермана и Бендер;
- 1790 год — в Финляндии, 19 апреля, при атаке неприятельских ретраншаментов при Пардакоски и в разных других сражениях;
- 1792 и 1793 годы — в Польше;
- 1794 год — в Польше, 31 июля, в деле под Вильной и во многих других сражениях;
- 1805 год — в Австрии;
- 1806 год — в Пруссии, где, составляя передовой отряд для обороны берега р. Вислы, находился почти в ежедневных с неприятелем перестрелках; в продолжении этой кампании, командуя авнгардом, был в сражениях: 29 ноября, при Помихове, при поражении неприятеля, 11 и 12 декабря, при с. Колозомбе, при отражении многочисленного неприятельского корпуса, 14 декабря, в кровопролитном сражении при Пултуске, командуя первой линией войск правого фланга;
- 1807 год — с отрядом, вверенным ему, составляя арьергард, вступил в Старую Пруссию, где командуя центром авангарда, был в делах: 21 января при Алленштейне, 22 и 23 — при Янкове, 26 — при Ландсберге, 26 — в знаменитом сражении при Прейсиш-Эйлау, где ранен пулей в правую руку выше локтя, с раздроблением кости; с начала сей кампании до получении раны, командуя в сражениях авангардом, был в почти ежедневных стычках;
- 1808 год — вступив с вверенным ему корпусом войск в новоприобретённую Финляндию, был в сражениях с шведскими войсками: 31 мая, 1 и 2 июня, у кирки Иокос, при разбитии неприятеля и завладении его укреплением, 19 — у г. Куопио, при совершенном разбитии сделанного неприятелем десанта;
- 1809 год — прошёл с корпусом, ему вверенным, по Ботническому проливу, через Кваркен;
- 1812 год — командуя 1-й Западной армией, был: 13 и 14 июля в сражении под Витебском; 4, 5 и 6 августа в жестоком сражении под Смоленском; 7 августа под Заболотьем; 24 и 26 — в достопамятном и кровопролитном сражении при с. Бородино;
- 1813 год — при осаде и овладении кр. Торном; 7 мая при разбитии неприятеля по Кенигсвартом; 8 и 9 мая в сражении под Бауценом; 14 и 15 августа в сражении под Дрезденом; 18 — при поражении неприятеля под Кульмом; 4, 5 и 6 сентября в разных сражениях под Кульмом, Ноллендорфом и Пирной; 2, 4, 5, 6 и 7 октября в главной битве под Лейпцигом;
- 1814 год — во Франции, в сражениях: 20 января при Бриенн-Лешато и с. Ларотьере; 9 марта при Арсис-сюр-Об; 13 марта при Фершампенуазе; 18 марта при сражении под Парижем и овладении этой столицей;
- 1815 год — совершил с армией поход во Францию вторично.
В отзывах современников
Полководец
У русского царя в чертогах есть палата:
Она не золотом, не бархатом богата;
Не в ней алмаз венца хранится за стеклом;
Но сверху донизу, во всю длину, кругом,
Своею кистию свободной и широкой
Её разрисовал художник быстроокой.
Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадонн,
Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жён,
Ни плясок, ни охот, — а все плащи, да шпаги,
Да лица, полные воинственной отваги.
Толпою тесною художник поместил
Сюда начальников народных наших сил,
Покрытых славою чудесного похода
И вечной памятью двенадцатого года.
Нередко медленно меж ими я брожу
И на знакомые их образы гляжу,
И, мнится, слышу их воинственные клики.
Из них уж многих нет; другие, коих лики
Еще так молоды на ярком полотне,
Уже состарились и никнут в тишине
Главою лавровой…
Но в сей толпе суровой
Один меня влечет всех больше. С думой новой
Всегда остановлюсь пред ним — и не свожу
С него моих очей. Чем долее гляжу,
Тем более томим я грустию тяжелой.
Он писан во весь рост. Чело, как череп голый,
Высоко лоснится, и, мнится, залегла
Там грусть великая. Кругом — густая мгла;
За ним — военный стан. Спокойный и угрюмый,
Он, кажется, глядит с презрительною думой.
Свою ли точно мысль художник обнажил,
Когда он таковым его изобразил,
Или невольное то было вдохновенье, -
Но Доу дал ему такое выраженье.
О вождь несчастливый! Суров был жребий твой:
Все в жертву ты принес земле тебе чужой.
Непроницаемый для взгляда черни дикой,
В молчанье шел один ты с мыслию великой,
И, в имени твоем звук чуждый невзлюбя,
Своими криками преследуя тебя,
Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою.
И тот, чей острый ум тебя и постигал,
В угоду им тебя лукаво порицал…
И долго, укреплен могущим убежденьем,
Ты был неколебим пред общим заблужденьем;
И на полупути был должен наконец
Безмолвно уступить и лавровый венец,
И власть, и замысел, обдуманный глубоко, -
И в полковых рядах сокрыться одиноко.
Там, устарелый вождь! как ратник молодой,
Свинца веселый свист заслышавший впервой,
Бросался ты в огонь, ища желанной смерти, -
Вотще! —
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
О люди! жалкий род, достойный слез и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведет в восторг и в умиленье!
Генерал Ермолов оставил такой отзыв о Барклае, своём непосредственном начальнике[19]:
Барклая де Толли долгое время невидная служба, скрывая в неизвестности, подчиняла порядку постепенного возвышения, стесняла надежды, смиряла честолюбие. Не принадлежа превосходством дарований к числу людей необыкновенных, он излишне скромно ценил хорошие свои способности и потому не имел к самому себе доверия, могущего открыть пути, от обыкновенного порядка не зависящие…
Неловкий у двора, не расположил к себе людей, близких государю; холодностию в обращении не снискал приязни равных, ни приверженности подчиненных…
Барклай де Толли до возвышения в чины имел состояние весьма ограниченное, скорее даже скудное, должен был смирять желания, стеснять потребности. Такое состояние, конечно, не препятствует стремлению души благородной, не погашает ума высокие дарования; но бедность однако же дает способы явить их в приличнейшем виде… Семейная жизнь его не наполняла всего времени уединения: жена немолода, не обладает прелестями, которые могут долго удерживать в некотором очаровании, все другие чувства покоряя. Дети в младенчестве, хозяйства военный человек не имеет! Свободное время он употребил на полезные занятия, обогатил себя познаниями. По свойствам воздержан во всех отношениях, по состоянию неприхотлив, по привычке без ропота сносит недостатки. Ума образованного, положительного, терпелив в трудах, заботлив о вверенном ему деле; нетверд в намерениях, робок в ответственности; равнодушен в опасности, недоступен страху. Свойств души добрых, не чуждый снисходительности; внимателен к трудам других, но более людей, к нему приближенных… Осторожен в обращении с подчиненными, не допускает свободного и непринужденного их обхождения, принимая его за несоблюдение чинопочитания. Боязлив пред государем, лишен дара объясняться. Боится потерять милости его, недавно пользуясь ими, свыше ожидания воспользовавшись.
Словом, Барклай де Толли имеет недостатки, с большею частию людей неразлучные, достоинства же и способности, украшающие в настоящее время весьма немногих из знаменитейших наших генералов.
Хотя в пору отступления на начальном этапе Отечественной войны некоторые современники едва ли не рассматривали Барклая как предателя, позднее они оценили его заслуги. А. С. Пушкин удостоил его стихотворением «Полководец», а также оставил такие строчки в 10-й главе «Евгения Онегина»:
Гроза двенадцатого года
Настала — кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?
В Санкт-Петербурге, на Невском проспекте, в сквере перед Казанским собором, стоят памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли. Оба монумента работы скульптора Б. И. Орловского были торжественно открыты 25 декабря 1837 года, в день празднования двадцать пятой годовщины изгнания французов из России.
Посетив мастерскую скульптора в марте 1836 года, Пушкин увидел изваяния обоих полководцев и ещё раз высказал свой взгляд на их роль в Отечественной войне выразительной строчкой стихотворения «Художнику»:
Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов.
В 4-м номере своего «Современника» (ноябрь 1836) Пушкин, подвергнувшись критике за стихотворение «Полководец», помещает статью «Объяснение»:
Слава Кутузова неразрывно соединена со славою России, с памятью о величайшем событии новейшей истории. Его титло: спаситель России; его памятник: скала святой Елены! Имя его не только священно для нас, но не должны ли мы ещё радоваться, мы, русские, что оно звучит русским звуком?И мог ли Барклай де Толли совершить им начатое поприще? Мог ли он остановиться и предложить сражение у курганов Бородина? Мог ли он после ужасной битвы, где равен был неравный спор, отдать Москву Наполеону и стать в бездействии на равнинах Тарутинских? Нет! (Не говорю уже о превосходстве военного гения). Один Кутузов мог предложить Бородинское сражение; один Кутузов мог отдать Москву неприятелю, один Кутузов мог оставаться в этом мудром, деятельном бездействии, усыпляя Наполеона на пожарище Москвы, и выжидая роковой минуты: ибо Кутузов один облечен был в народную доверенность, которую так чудно он оправдал!
Неужели должны мы быть неблагодарны к заслугам Барклая-де-Толли, потому что Кутузов велик?— Современник, литературный журнал А.С. Пушкина. 1836—1837. — М.: Советская Россия, 1988. — С. 308.
Награды
- Барклай-де-Толли стал вторым из 4 полных Георгиевских кавалеров за всю историю ордена. Наряду с ним в те годы полным кавалером был только М. И. Кутузов.
- Орден Святого Георгия 1-го кл. (19(31).08.1813, № 11) — «За поражение французов в сражении при Кульме 18 августа 1813 года» ;
- Орден Святого Георгия 2-го кл. бол.кр. (21.10(02.11).1812, № 44) — «За участие в сражении при Бородине 26-го августа 1812 года»;
- Орден Святого Георгия 3-го кл. (08(20).01.1807, № 139) — «В воздаяние отличной храбрости и мужества, оказанных в сражении против французских войск 14-го декабря при Пултуске, где, командуя авангардом впереди праваго фланга, с особенным искусством и благоразумием удерживал неприятеля во все время сражения и опрокинул онаго»;
- Орден Святого Георгия 4-го кл. (16(27).09.1794, № 547) — «За отличную храбрость, оказанную против польских мятежников при овладении укреплениями и самим гор. Вильною»;
- Крест «За взятие Очакова» (07(18).12.1788);
- Орден Святого Владимира 4-й ст. с бантом (07(18).12.1788);
- Орден Святого Владимира 2-й ст. (09(21).04.1807);
- Орден Святой Анны 1-й ст. (07(19).03.1807);
- Крест «За победу при Прейсиш-Эйлау» (1807)[20];
- Орден Святого Александра Невского (09(21).09.1809);
- Орден Святого Владимира 1-й ст. (15(27).09.1811);
- Алмазные знаки к Ордену Святого Александра Невского (09(21).05.1813);
- Орден Святого апостола Андрея Первозванного (07(19).09.1813);
- Золотая шпага с алмазами и лаврами с надписью «за 20 января 1814 г.» (01.1814);
- Орден Красного орла (Пруссия, 09(21).04.1807);
- Орден Чёрного орла (Пруссия, 17(29).05.1813);
- Военный орден Марии Терезии, командор (Австрия, 19(31).08.1813);
- Орден Меча 1-го кл. (Швеция, 04.1814);
- Орден Почётного легиона, большой крест (Франция, 30.08(11.09).1815);
- Орден Святого Людовика 1-й ст. (Франция, 1816).
- Орден Бани, рыцарь большого креста (Великобритания, 30.08(11.09).1815);
- Шпага, украшенная алмазами, от муниципалитета Лондона (Великобритания, 1814);
- Военный орден Вильгельма 1-й ст. (Нидерланды, 30.08(11.09).1815);
- Военный орден Святого Генриха 1-й ст. (Саксония, 30.08(11.09).1815);
Память о Барклае-де-Толли
- В 1823 году вдова Барклая-де-Толли построила в Йыгевесте (ныне в Эстонии) мавзолей, который сохранился до наших дней. Автором проекта мавзолея, построенного в классическом стиле, выступил петербургский архитектор Аполлон Щедрин.
- Несвижский 4-й гренадерский полк (в то время 2-й, затем 1-й гренадерский егерский, гренадерский карабинерный полк) 14 февраля 1833 года наименован карабинерный Генерала-Фельдмаршала Князя Барклая-де-Толли полк. С 1857 — Несвижский 4-й гренадерский генерал-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли полк.
- Бюст Барклаю-де-Толли установлен в зале славы (Вальхалле) в Германии.
- Портрет Барклая-де-Толли работы Доу относится, как и портрет Кутузова, к числу лучших произведений художника.
- В Великом Новгороде на Памятнике «1000-летие России» среди 129 фигур самых выдающихся личностей в российской истории (на 1862 год) есть фигура М. Б. Барклая-де-Толли.
- В 2012 году к двухсотлетнему юбилею Бородинского сражения 1812 года в Российской Федерации выпущена коллекция монет номинальной стоимости 2 рубля, на одной из них изображен М. Б. Барклай-де-Толли.
Памятники Барклаю-де-Толли
- Памятник Барклаю-де-Толли установлен на его могиле в Йыгевесте (сохранился).
- Памятник Барклаю-де-Толли сооружён в Санкт-Петербурге на Казанской площади (сохранился).
- Памятник Барклаю-де-Толли установлен в Москве у «Кутузовской избы» (сохранился).
- Памятник фельдмаршалу установлен в Тарту (ныне Эстония) (сохранился).
- В начале XX века в честь празднования столетней годовщины победы в Отечественной войне 1812 года памятник Барклаю-де-Толли был установлен в Риге. В начале Первой мировой войны памятник был эвакуирован, а затем утерян (сохранился лишь постамент). Восстановлен в начале XXI века.
- В Черняховске Калининградской области на центральной площади города в 2007 году установлена конная статуя полководца.
- Памятник генерал-фельдмаршалу князю Михаилу Богдановичу Барклаю-де-Толли был установлен на территории Восточной Пруссии в Гесветене (ныне посёлок Нагорное Черняховского района Калининградской области) в 1821 году на средства короля Пруссии Фридриха Вильгельма III (сохранился). По легенде, на месте, где был установлен четырёхметровый памятник, было захоронено сердце полководца.
- Бюст Барклаю-де-Толли установлен в сквере Памяти Героев в Смоленске.
- Monument to Barclay de Tolly in SPB.jpg
Памятник в Санкт-Петербурге
- 1000 Barklai.jpg
Барклай-де-Толли на памятнике «1000-летие России» в Великом Новгороде
- Ошибка создания миниатюры: Файл не найден
Бюст в Вальхалле
- Barclay de Tolly Borodino.jpg
Бюст перед главным зданием Бородинского музея
- Barclay de Tolly Tartu02.JPG
Памятник в Тарту
- Riga (13.08.2011) 078.JPG
Памятник в Риге
- Памятник Барклаю-де-Толли в п. Нагорное.jpg
Памятник в посёлке Нагорное Черняховского района Калининградской области
В нумизматике
- В 2012 году Центральным банком Российской Федерации была выпущена монета (2 рубля, сталь с никелевым гальваническим покрытием) из серии «Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года» с изображением на реверсе портрета генерала-фельдмаршала М. Б. Барклая-де-Толли[21].
В топонимике
- В 1962 году Фильское шоссе в Москве (вошло в состав города в 1960 году вместе с селом Фили) было переименовано в улицу Барклая.
- В Санкт-Петербурге один из проездов Московского района носит имя Барклаевская улица. Имя Барклая де Толли носят улицы Смоленска, Владивостока и
Черняховска Калининградской области (бывший Инстербург)
Напишите отзыв о статье "Барклай-де-Толли, Михаил Богданович"
Примечания
- ↑ 1 2 Государственный Эрмитаж. Западноевропейская живопись. Каталог / под ред. В. Ф. Левинсона-Лессинга; ред. А. Е. Кроль, К. М. Семенова. — 2-е издание, переработанное и дополненное. — Л.: Искусство, 1981. — Т. 2. — С. 251, кат.№ 7809. — 360 с.
- ↑ В другом генеалогическом источнике указано, возможно ошибочно, имя [www.tgi.org/stricky/ancestry/barclay/fam00002.htm Margrethe Elenore]
- ↑ М. Б. Барклай-де-Толли, рано потеряв родителей, воспитывался в семье своего дядюшки, бригадира фон Фермелена, К. А. Висковатов указывает: «Бригадирша Фермелен была родною сестрою матери Барклая де Толли, урождённой Смиттен. Она усыновила Барклая». — ИРЛИ (Пушкинский Дом). Архив журнала «Русская Старина», № 2687, ф. 265, оп. 2, № 123, Висковатов, Константин Александрович. «Барклай де Толли. Некоторые эпизоды из его жизни» (по воспоминаниям А. Л. Майера).
- ↑ [www.clanbarclay.org/history.htm Barclay’s Clan History]
- ↑ [www.retrobibliothek.de/retrobib/seite.html?id=121718 Brockhaus' Konversationslexikon. Bd.2., S.406]
- ↑ Безотосный В. М., Горшман А. М. Опыт определения года рождения военнослужащих русской армии (по материалам о военной службе М. Б. Барклая де Толли // Советские архивы. 1989. № 1.
- ↑ 1757 как год рождения Барклая официально признан. В 2007 году состоялись торжества в г. Черняховске по поводу 250-летия полководца: [chernyahovsk.com/index.php?year=2007&month=12&day=25&id=1079]
- ↑ [mdz10.bib-bvb.de/~db/bsb00001249/images/index.html?id=00001249&nativeno=146 Die Familie Barclay de Tolly]
- ↑ Статья Ф. Талберга «Чей вы, князь?» (2003 г.)
- ↑ О некоторых эпизодах из жизни М. Б. Барклая-де-Толли, в том числе о благословении, которое он получил по семейному преданию ещё в младенчестве от Г. А. Потёмкина, известно из указанного труда К. А. Висковатова — ИРЛИ (Пушкинский Дом). Архив журнала «Русская Старина», № 2687, ф. 265, оп. 2, № 123, Висковатов, Константин Александрович. «Барклай де Толли. Некоторые эпизоды из его жизни» (по воспоминаниям А. Л. Майера).
- ↑ Балязин В. Н. Фельдмаршал М.Б. Барклай-де-Толли. — М: Воениздат, 1990. — С. 36. — 302 с. — ISBN 5-203-00698-9.
- ↑ 1 2 А — Бюро военных комиссаров / [под общ. ред. А. А. Гречко]. — М. : Военное изд-во М-ва обороны СССР, 1976. — С. 397. — (Советская военная энциклопедия : [в 8 т.] ; 1976—1980, т. 1).</span>
- ↑ Мурзанов Н. А. [dlib.rsl.ru/viewer/01003781793#?page=15 Правительствующий сенат: Список сенаторов]. СПб.: Сенат. тип., 1911. — 55 с. — С. 7.
- ↑ [web.archive.org/web/20110912024919/www.tstu.ru/education/elib/pdf/2005/v1812.pdf М. А. Волкова — В. И. Ланской. 3 сентября.] Из сборника: Отечественная война 1812 г.: Рабочая тетрадь. — Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005.
- ↑ Балязин В. Н. Герои 1812 года: Михаил Богданович Барклай де Толли. www.xliby.ru/istorija/geroi_1812_goda/p1.php
- ↑ Куманев Г. Великий русский полководец генерал-фельдмаршал М. Б. Барклай де Толли в Отечественной войне 1812 года. www.intelros.ru/readroom/mir-i-politika/mp-10-2012/16850-velikiy-russkiy-polkovodec-general-feldmarshal-mb-barklay-.html
- ↑ [web.archive.org/web/20110912024919/www.tstu.ru/education/elib/pdf/2005/v1812.pdf М. Б. Барклай-де-Толли — жене. 11 сентября.] Из сборника: Отечественная война 1812 г.: Рабочая тетрадь. — Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005.
- ↑ Тартаковский А. Г. Неразгаданный Барклай: Легенды и быль 1812 года. — М.: Археографический центр, 1996.
- ↑ [militera.lib.ru/memo/russian/ermolov_ap/04.html Записки генерала Ермолова, начальника Главного штаба 1-й Западной армии, в Отечественную войну 1812 года]
- ↑ В. В. Бартошевич. Наградной крест за сражение при Прейсиш-Эйлау // Труды ГИМ. — М., 1983. — № 57. — С. 58—70.
- ↑ [www.cbr.ru/bank-notes_coins/base_of_memorable_coins/coins1.asp?cat_num=5710-0003 Серия: Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года]
</ol>
Источники и ссылки
| |
М. Б. Барклай-де-Толли в Викитеке? |
|---|
- А — Бюро военных комиссаров / [под общ. ред. А. А. Гречко]. — М. : Военное изд-во М-ва обороны СССР, 1976. — 637 с. — (Советская военная энциклопедия : [в 8 т.] ; 1976—1980, т. 1).</span>
- [www.1812.rsl.ru/materials/manuscripts/899/?timezone_id=123 Барклай-де-Толли, Михаил Богданович. Представление генерала от инфантерии Барклая-де-Толли императору Александру I о движении армии в 1812 году]
- [tvereparhia.ru/biblioteka-2/b/1393-barklaj-de-tolli-m-b/17110-barklaj-de-tolli-m-b-izobrazhenie-voennykh-dejstvij-1812-goda-1912 Барклай-де-Толли М. Б. Изображение военных действий 1812 года. — 1912]
- Бантыш-Каменский, Д. Н. 41-й генерал-фельдмаршал князь Михаил Богданович Барклай де-Толли // Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. В 4-х частях. Репринтное воспроизведение издания 1840 года. — М.: Культура, 1991.
- [russianfamily.ru/b/barklai-de-tolli-veimarn.html Барклай-де-Толли-Вейрман княжеский род и герб]
- [www.museum.ru/1812/Persons/russ/t_b12_vg.html Михаил Богданович Барклай де Толли], биография из 3-го издания альбома «Военная галерея Зимнего дворца» (Ленинград, «Искусство», 1981 г.)
- Барклай де-Толли // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- [www.castle.lv/est/barclay.html Мавзолей Барклая-де-Толли в Йыгевесте] (Эстония)
- [www.museum.ru/museum/1812/Persons/slovar/sl_b12.html Словарь русских генералов, участников боевых действий против армии Наполеона Бонапарта в 1812—1815 гг.] // Российский архив : Сб. — М., студия «ТРИТЭ» Н. Михалкова, 1996. — Т. VII. — С. 308-309.
- [www.grandisplay.ru/polkovodcy/41-mixail-bogdanovich-barklaj-de-tolli.html Великие люди в мировой истории].
- Глинка В.М., Помарнацкий А.В. Барклай-де-Толли, Михаил Богданович // [www.museum.ru/museum/1812/Persons/RUSS/t_b12_vg.html Военная галерея Зимнего дворца]. — 3-е изд. — Л.: Искусство, 1981. — С. 73-76.
- [www.dorpat.ru/sights/monuments/barclay.html Памятник М. Б. Барклаю-де-Толли в Тарту, Эстония]
- [www.sevmb.com/departments/subscription/bookhistory/p_1_at235_id330/ «Архитектор стратегии и тактики „выжженной земли“»]
- Копылов Н. А. [100.histrf.ru/commanders/barklay-de-tolli-mikhail-bogdanovich/ Барклай-де-Толли Михаил Богданович]. Проект РВИО и ВГТРК [100.histrf.ru «100 великих полководцев»]. [www.webcitation.org/6HrUb8w1g Архивировано из первоисточника 4 июля 2013].
| ||||||||||||||||||||||||
Отрывок, характеризующий Барклай-де-Толли, Михаил Богданович
Девушки, лакеи, ключница, няня, повар, кучера, форейторы, поваренки стояли у ворот, глядя на раненых.Наташа, накинув белый носовой платок на волосы и придерживая его обеими руками за кончики, вышла на улицу.
Бывшая ключница, старушка Мавра Кузминишна, отделилась от толпы, стоявшей у ворот, и, подойдя к телеге, на которой была рогожная кибиточка, разговаривала с лежавшим в этой телеге молодым бледным офицером. Наташа подвинулась на несколько шагов и робко остановилась, продолжая придерживать свой платок и слушая то, что говорила ключница.
– Что ж, у вас, значит, никого и нет в Москве? – говорила Мавра Кузминишна. – Вам бы покойнее где на квартире… Вот бы хоть к нам. Господа уезжают.
– Не знаю, позволят ли, – слабым голосом сказал офицер. – Вон начальник… спросите, – и он указал на толстого майора, который возвращался назад по улице по ряду телег.
Наташа испуганными глазами заглянула в лицо раненого офицера и тотчас же пошла навстречу майору.
– Можно раненым у нас в доме остановиться? – спросила она.
Майор с улыбкой приложил руку к козырьку.
– Кого вам угодно, мамзель? – сказал он, суживая глаза и улыбаясь.
Наташа спокойно повторила свой вопрос, и лицо и вся манера ее, несмотря на то, что она продолжала держать свой платок за кончики, были так серьезны, что майор перестал улыбаться и, сначала задумавшись, как бы спрашивая себя, в какой степени это можно, ответил ей утвердительно.
– О, да, отчего ж, можно, – сказал он.
Наташа слегка наклонила голову и быстрыми шагами вернулась к Мавре Кузминишне, стоявшей над офицером и с жалобным участием разговаривавшей с ним.
– Можно, он сказал, можно! – шепотом сказала Наташа.
Офицер в кибиточке завернул во двор Ростовых, и десятки телег с ранеными стали, по приглашениям городских жителей, заворачивать в дворы и подъезжать к подъездам домов Поварской улицы. Наташе, видимо, поправились эти, вне обычных условий жизни, отношения с новыми людьми. Она вместе с Маврой Кузминишной старалась заворотить на свой двор как можно больше раненых.
– Надо все таки папаше доложить, – сказала Мавра Кузминишна.
– Ничего, ничего, разве не все равно! На один день мы в гостиную перейдем. Можно всю нашу половину им отдать.
– Ну, уж вы, барышня, придумаете! Да хоть и в флигеля, в холостую, к нянюшке, и то спросить надо.
– Ну, я спрошу.
Наташа побежала в дом и на цыпочках вошла в полуотворенную дверь диванной, из которой пахло уксусом и гофманскими каплями.
– Вы спите, мама?
– Ах, какой сон! – сказала, пробуждаясь, только что задремавшая графиня.
– Мама, голубчик, – сказала Наташа, становясь на колени перед матерью и близко приставляя свое лицо к ее лицу. – Виновата, простите, никогда не буду, я вас разбудила. Меня Мавра Кузминишна послала, тут раненых привезли, офицеров, позволите? А им некуда деваться; я знаю, что вы позволите… – говорила она быстро, не переводя духа.
– Какие офицеры? Кого привезли? Ничего не понимаю, – сказала графиня.
Наташа засмеялась, графиня тоже слабо улыбалась.
– Я знала, что вы позволите… так я так и скажу. – И Наташа, поцеловав мать, встала и пошла к двери.
В зале она встретила отца, с дурными известиями возвратившегося домой.
– Досиделись мы! – с невольной досадой сказал граф. – И клуб закрыт, и полиция выходит.
– Папа, ничего, что я раненых пригласила в дом? – сказала ему Наташа.
– Разумеется, ничего, – рассеянно сказал граф. – Не в том дело, а теперь прошу, чтобы пустяками не заниматься, а помогать укладывать и ехать, ехать, ехать завтра… – И граф передал дворецкому и людям то же приказание. За обедом вернувшийся Петя рассказывал свои новости.
Он говорил, что нынче народ разбирал оружие в Кремле, что в афише Растопчина хотя и сказано, что он клич кликнет дня за два, но что уж сделано распоряжение наверное о том, чтобы завтра весь народ шел на Три Горы с оружием, и что там будет большое сражение.
Графиня с робким ужасом посматривала на веселое, разгоряченное лицо своего сына в то время, как он говорил это. Она знала, что ежели она скажет слово о том, что она просит Петю не ходить на это сражение (она знала, что он радуется этому предстоящему сражению), то он скажет что нибудь о мужчинах, о чести, об отечестве, – что нибудь такое бессмысленное, мужское, упрямое, против чего нельзя возражать, и дело будет испорчено, и поэтому, надеясь устроить так, чтобы уехать до этого и взять с собой Петю, как защитника и покровителя, она ничего не сказала Пете, а после обеда призвала графа и со слезами умоляла его увезти ее скорее, в эту же ночь, если возможно. С женской, невольной хитростью любви, она, до сих пор выказывавшая совершенное бесстрашие, говорила, что она умрет от страха, ежели не уедут нынче ночью. Она, не притворяясь, боялась теперь всего.
M me Schoss, ходившая к своей дочери, еще болоо увеличила страх графини рассказами о том, что она видела на Мясницкой улице в питейной конторе. Возвращаясь по улице, она не могла пройти домой от пьяной толпы народа, бушевавшей у конторы. Она взяла извозчика и объехала переулком домой; и извозчик рассказывал ей, что народ разбивал бочки в питейной конторе, что так велено.
После обеда все домашние Ростовых с восторженной поспешностью принялись за дело укладки вещей и приготовлений к отъезду. Старый граф, вдруг принявшись за дело, всё после обеда не переставая ходил со двора в дом и обратно, бестолково крича на торопящихся людей и еще более торопя их. Петя распоряжался на дворе. Соня не знала, что делать под влиянием противоречивых приказаний графа, и совсем терялась. Люди, крича, споря и шумя, бегали по комнатам и двору. Наташа, с свойственной ей во всем страстностью, вдруг тоже принялась за дело. Сначала вмешательство ее в дело укладывания было встречено с недоверием. От нее всё ждали шутки и не хотели слушаться ее; но она с упорством и страстностью требовала себе покорности, сердилась, чуть не плакала, что ее не слушают, и, наконец, добилась того, что в нее поверили. Первый подвиг ее, стоивший ей огромных усилий и давший ей власть, была укладка ковров. У графа в доме были дорогие gobelins и персидские ковры. Когда Наташа взялась за дело, в зале стояли два ящика открытые: один почти доверху уложенный фарфором, другой с коврами. Фарфора было еще много наставлено на столах и еще всё несли из кладовой. Надо было начинать новый, третий ящик, и за ним пошли люди.
– Соня, постой, да мы всё так уложим, – сказала Наташа.
– Нельзя, барышня, уж пробовали, – сказал буфетчнк.
– Нет, постой, пожалуйста. – И Наташа начала доставать из ящика завернутые в бумаги блюда и тарелки.
– Блюда надо сюда, в ковры, – сказала она.
– Да еще и ковры то дай бог на три ящика разложить, – сказал буфетчик.
– Да постой, пожалуйста. – И Наташа быстро, ловко начала разбирать. – Это не надо, – говорила она про киевские тарелки, – это да, это в ковры, – говорила она про саксонские блюда.
– Да оставь, Наташа; ну полно, мы уложим, – с упреком говорила Соня.
– Эх, барышня! – говорил дворецкий. Но Наташа не сдалась, выкинула все вещи и быстро начала опять укладывать, решая, что плохие домашние ковры и лишнюю посуду не надо совсем брать. Когда всё было вынуто, начали опять укладывать. И действительно, выкинув почти все дешевое, то, что не стоило брать с собой, все ценное уложили в два ящика. Не закрывалась только крышка коверного ящика. Можно было вынуть немного вещей, но Наташа хотела настоять на своем. Она укладывала, перекладывала, нажимала, заставляла буфетчика и Петю, которого она увлекла за собой в дело укладыванья, нажимать крышку и сама делала отчаянные усилия.
– Да полно, Наташа, – говорила ей Соня. – Я вижу, ты права, да вынь один верхний.
– Не хочу, – кричала Наташа, одной рукой придерживая распустившиеся волосы по потному лицу, другой надавливая ковры. – Да жми же, Петька, жми! Васильич, нажимай! – кричала она. Ковры нажались, и крышка закрылась. Наташа, хлопая в ладоши, завизжала от радости, и слезы брызнули у ней из глаз. Но это продолжалось секунду. Тотчас же она принялась за другое дело, и уже ей вполне верили, и граф не сердился, когда ему говорили, что Наталья Ильинишна отменила его приказанье, и дворовые приходили к Наташе спрашивать: увязывать или нет подводу и довольно ли она наложена? Дело спорилось благодаря распоряжениям Наташи: оставлялись ненужные вещи и укладывались самым тесным образом самые дорогие.
Но как ни хлопотали все люди, к поздней ночи еще не все могло быть уложено. Графиня заснула, и граф, отложив отъезд до утра, пошел спать.
Соня, Наташа спали, не раздеваясь, в диванной. В эту ночь еще нового раненого провозили через Поварскую, и Мавра Кузминишна, стоявшая у ворот, заворотила его к Ростовым. Раненый этот, по соображениям Мавры Кузминишны, был очень значительный человек. Его везли в коляске, совершенно закрытой фартуком и с спущенным верхом. На козлах вместе с извозчиком сидел старик, почтенный камердинер. Сзади в повозке ехали доктор и два солдата.
– Пожалуйте к нам, пожалуйте. Господа уезжают, весь дом пустой, – сказала старушка, обращаясь к старому слуге.
– Да что, – отвечал камердинер, вздыхая, – и довезти не чаем! У нас и свой дом в Москве, да далеко, да и не живет никто.
– К нам милости просим, у наших господ всего много, пожалуйте, – говорила Мавра Кузминишна. – А что, очень нездоровы? – прибавила она.
Камердинер махнул рукой.
– Не чаем довезти! У доктора спросить надо. – И камердинер сошел с козел и подошел к повозке.
– Хорошо, – сказал доктор.
Камердинер подошел опять к коляске, заглянул в нее, покачал головой, велел кучеру заворачивать на двор и остановился подле Мавры Кузминишны.
– Господи Иисусе Христе! – проговорила она.
Мавра Кузминишна предлагала внести раненого в дом.
– Господа ничего не скажут… – говорила она. Но надо было избежать подъема на лестницу, и потому раненого внесли во флигель и положили в бывшей комнате m me Schoss. Раненый этот был князь Андрей Болконский.
Наступил последний день Москвы. Была ясная веселая осенняя погода. Было воскресенье. Как и в обыкновенные воскресенья, благовестили к обедне во всех церквах. Никто, казалось, еще не мог понять того, что ожидает Москву.
Только два указателя состояния общества выражали то положение, в котором была Москва: чернь, то есть сословие бедных людей, и цены на предметы. Фабричные, дворовые и мужики огромной толпой, в которую замешались чиновники, семинаристы, дворяне, в этот день рано утром вышли на Три Горы. Постояв там и не дождавшись Растопчина и убедившись в том, что Москва будет сдана, эта толпа рассыпалась по Москве, по питейным домам и трактирам. Цены в этот день тоже указывали на положение дел. Цены на оружие, на золото, на телеги и лошадей всё шли возвышаясь, а цены на бумажки и на городские вещи всё шли уменьшаясь, так что в середине дня были случаи, что дорогие товары, как сукна, извозчики вывозили исполу, а за мужицкую лошадь платили пятьсот рублей; мебель же, зеркала, бронзы отдавали даром.
В степенном и старом доме Ростовых распадение прежних условий жизни выразилось очень слабо. В отношении людей было только то, что в ночь пропало три человека из огромной дворни; но ничего не было украдено; и в отношении цен вещей оказалось то, что тридцать подвод, пришедшие из деревень, были огромное богатство, которому многие завидовали и за которые Ростовым предлагали огромные деньги. Мало того, что за эти подводы предлагали огромные деньги, с вечера и рано утром 1 го сентября на двор к Ростовым приходили посланные денщики и слуги от раненых офицеров и притаскивались сами раненые, помещенные у Ростовых и в соседних домах, и умоляли людей Ростовых похлопотать о том, чтоб им дали подводы для выезда из Москвы. Дворецкий, к которому обращались с такими просьбами, хотя и жалел раненых, решительно отказывал, говоря, что он даже и не посмеет доложить о том графу. Как ни жалки были остающиеся раненые, было очевидно, что, отдай одну подводу, не было причины не отдать другую, все – отдать и свои экипажи. Тридцать подвод не могли спасти всех раненых, а в общем бедствии нельзя было не думать о себе и своей семье. Так думал дворецкий за своего барина.
Проснувшись утром 1 го числа, граф Илья Андреич потихоньку вышел из спальни, чтобы не разбудить к утру только заснувшую графиню, и в своем лиловом шелковом халате вышел на крыльцо. Подводы, увязанные, стояли на дворе. У крыльца стояли экипажи. Дворецкий стоял у подъезда, разговаривая с стариком денщиком и молодым, бледным офицером с подвязанной рукой. Дворецкий, увидав графа, сделал офицеру и денщику значительный и строгий знак, чтобы они удалились.
– Ну, что, все готово, Васильич? – сказал граф, потирая свою лысину и добродушно глядя на офицера и денщика и кивая им головой. (Граф любил новые лица.)
– Хоть сейчас запрягать, ваше сиятельство.
– Ну и славно, вот графиня проснется, и с богом! Вы что, господа? – обратился он к офицеру. – У меня в доме? – Офицер придвинулся ближе. Бледное лицо его вспыхнуло вдруг яркой краской.
– Граф, сделайте одолжение, позвольте мне… ради бога… где нибудь приютиться на ваших подводах. Здесь у меня ничего с собой нет… Мне на возу… все равно… – Еще не успел договорить офицер, как денщик с той же просьбой для своего господина обратился к графу.
– А! да, да, да, – поспешно заговорил граф. – Я очень, очень рад. Васильич, ты распорядись, ну там очистить одну или две телеги, ну там… что же… что нужно… – какими то неопределенными выражениями, что то приказывая, сказал граф. Но в то же мгновение горячее выражение благодарности офицера уже закрепило то, что он приказывал. Граф оглянулся вокруг себя: на дворе, в воротах, в окне флигеля виднелись раненые и денщики. Все они смотрели на графа и подвигались к крыльцу.
– Пожалуйте, ваше сиятельство, в галерею: там как прикажете насчет картин? – сказал дворецкий. И граф вместе с ним вошел в дом, повторяя свое приказание о том, чтобы не отказывать раненым, которые просятся ехать.
– Ну, что же, можно сложить что нибудь, – прибавил он тихим, таинственным голосом, как будто боясь, чтобы кто нибудь его не услышал.
В девять часов проснулась графиня, и Матрена Тимофеевна, бывшая ее горничная, исполнявшая в отношении графини должность шефа жандармов, пришла доложить своей бывшей барышне, что Марья Карловна очень обижены и что барышниным летним платьям нельзя остаться здесь. На расспросы графини, почему m me Schoss обижена, открылось, что ее сундук сняли с подводы и все подводы развязывают – добро снимают и набирают с собой раненых, которых граф, по своей простоте, приказал забирать с собой. Графиня велела попросить к себе мужа.
– Что это, мой друг, я слышу, вещи опять снимают?
– Знаешь, ma chere, я вот что хотел тебе сказать… ma chere графинюшка… ко мне приходил офицер, просят, чтобы дать несколько подвод под раненых. Ведь это все дело наживное; а каково им оставаться, подумай!.. Право, у нас на дворе, сами мы их зазвали, офицеры тут есть. Знаешь, думаю, право, ma chere, вот, ma chere… пускай их свезут… куда же торопиться?.. – Граф робко сказал это, как он всегда говорил, когда дело шло о деньгах. Графиня же привыкла уж к этому тону, всегда предшествовавшему делу, разорявшему детей, как какая нибудь постройка галереи, оранжереи, устройство домашнего театра или музыки, – и привыкла, и долгом считала всегда противоборствовать тому, что выражалось этим робким тоном.
Она приняла свой покорно плачевный вид и сказала мужу:
– Послушай, граф, ты довел до того, что за дом ничего не дают, а теперь и все наше – детское состояние погубить хочешь. Ведь ты сам говоришь, что в доме на сто тысяч добра. Я, мой друг, не согласна и не согласна. Воля твоя! На раненых есть правительство. Они знают. Посмотри: вон напротив, у Лопухиных, еще третьего дня все дочиста вывезли. Вот как люди делают. Одни мы дураки. Пожалей хоть не меня, так детей.
Граф замахал руками и, ничего не сказав, вышел из комнаты.
– Папа! об чем вы это? – сказала ему Наташа, вслед за ним вошедшая в комнату матери.
– Ни о чем! Тебе что за дело! – сердито проговорил граф.
– Нет, я слышала, – сказала Наташа. – Отчего ж маменька не хочет?
– Тебе что за дело? – крикнул граф. Наташа отошла к окну и задумалась.
– Папенька, Берг к нам приехал, – сказала она, глядя в окно.
Берг, зять Ростовых, был уже полковник с Владимиром и Анной на шее и занимал все то же покойное и приятное место помощника начальника штаба, помощника первого отделения начальника штаба второго корпуса.
Он 1 сентября приехал из армии в Москву.
Ему в Москве нечего было делать; но он заметил, что все из армии просились в Москву и что то там делали. Он счел тоже нужным отпроситься для домашних и семейных дел.
Берг, в своих аккуратных дрожечках на паре сытых саврасеньких, точно таких, какие были у одного князя, подъехал к дому своего тестя. Он внимательно посмотрел во двор на подводы и, входя на крыльцо, вынул чистый носовой платок и завязал узел.
Из передней Берг плывущим, нетерпеливым шагом вбежал в гостиную и обнял графа, поцеловал ручки у Наташи и Сони и поспешно спросил о здоровье мамаши.
– Какое теперь здоровье? Ну, рассказывай же, – сказал граф, – что войска? Отступают или будет еще сраженье?
– Один предвечный бог, папаша, – сказал Берг, – может решить судьбы отечества. Армия горит духом геройства, и теперь вожди, так сказать, собрались на совещание. Что будет, неизвестно. Но я вам скажу вообще, папаша, такого геройского духа, истинно древнего мужества российских войск, которое они – оно, – поправился он, – показали или выказали в этой битве 26 числа, нет никаких слов достойных, чтоб их описать… Я вам скажу, папаша (он ударил себя в грудь так же, как ударял себя один рассказывавший при нем генерал, хотя несколько поздно, потому что ударить себя в грудь надо было при слове «российское войско»), – я вам скажу откровенно, что мы, начальники, не только не должны были подгонять солдат или что нибудь такое, но мы насилу могли удерживать эти, эти… да, мужественные и древние подвиги, – сказал он скороговоркой. – Генерал Барклай до Толли жертвовал жизнью своей везде впереди войска, я вам скажу. Наш же корпус был поставлен на скате горы. Можете себе представить! – И тут Берг рассказал все, что он запомнил, из разных слышанных за это время рассказов. Наташа, не спуская взгляда, который смущал Берга, как будто отыскивая на его лице решения какого то вопроса, смотрела на него.
– Такое геройство вообще, каковое выказали российские воины, нельзя представить и достойно восхвалить! – сказал Берг, оглядываясь на Наташу и как бы желая ее задобрить, улыбаясь ей в ответ на ее упорный взгляд… – «Россия не в Москве, она в сердцах се сынов!» Так, папаша? – сказал Берг.
В это время из диванной, с усталым и недовольным видом, вышла графиня. Берг поспешно вскочил, поцеловал ручку графини, осведомился о ее здоровье и, выражая свое сочувствие покачиваньем головы, остановился подле нее.
– Да, мамаша, я вам истинно скажу, тяжелые и грустные времена для всякого русского. Но зачем же так беспокоиться? Вы еще успеете уехать…
– Я не понимаю, что делают люди, – сказала графиня, обращаясь к мужу, – мне сейчас сказали, что еще ничего не готово. Ведь надо же кому нибудь распорядиться. Вот и пожалеешь о Митеньке. Это конца не будет?
Граф хотел что то сказать, но, видимо, воздержался. Он встал с своего стула и пошел к двери.
Берг в это время, как бы для того, чтобы высморкаться, достал платок и, глядя на узелок, задумался, грустно и значительно покачивая головой.
– А у меня к вам, папаша, большая просьба, – сказал он.
– Гм?.. – сказал граф, останавливаясь.
– Еду я сейчас мимо Юсупова дома, – смеясь, сказал Берг. – Управляющий мне знакомый, выбежал и просит, не купите ли что нибудь. Я зашел, знаете, из любопытства, и там одна шифоньерочка и туалет. Вы знаете, как Верушка этого желала и как мы спорили об этом. (Берг невольно перешел в тон радости о своей благоустроенности, когда он начал говорить про шифоньерку и туалет.) И такая прелесть! выдвигается и с аглицким секретом, знаете? А Верочке давно хотелось. Так мне хочется ей сюрприз сделать. Я видел у вас так много этих мужиков на дворе. Дайте мне одного, пожалуйста, я ему хорошенько заплачу и…
Граф сморщился и заперхал.
– У графини просите, а я не распоряжаюсь.
– Ежели затруднительно, пожалуйста, не надо, – сказал Берг. – Мне для Верушки только очень бы хотелось.
– Ах, убирайтесь вы все к черту, к черту, к черту и к черту!.. – закричал старый граф. – Голова кругом идет. – И он вышел из комнаты.
Графиня заплакала.
– Да, да, маменька, очень тяжелые времена! – сказал Берг.
Наташа вышла вместе с отцом и, как будто с трудом соображая что то, сначала пошла за ним, а потом побежала вниз.
На крыльце стоял Петя, занимавшийся вооружением людей, которые ехали из Москвы. На дворе все так же стояли заложенные подводы. Две из них были развязаны, и на одну из них влезал офицер, поддерживаемый денщиком.
– Ты знаешь за что? – спросил Петя Наташу (Наташа поняла, что Петя разумел: за что поссорились отец с матерью). Она не отвечала.
– За то, что папенька хотел отдать все подводы под ранепых, – сказал Петя. – Мне Васильич сказал. По моему…
– По моему, – вдруг закричала почти Наташа, обращая свое озлобленное лицо к Пете, – по моему, это такая гадость, такая мерзость, такая… я не знаю! Разве мы немцы какие нибудь?.. – Горло ее задрожало от судорожных рыданий, и она, боясь ослабеть и выпустить даром заряд своей злобы, повернулась и стремительно бросилась по лестнице. Берг сидел подле графини и родственно почтительно утешал ее. Граф с трубкой в руках ходил по комнате, когда Наташа, с изуродованным злобой лицом, как буря ворвалась в комнату и быстрыми шагами подошла к матери.
– Это гадость! Это мерзость! – закричала она. – Это не может быть, чтобы вы приказали.
Берг и графиня недоумевающе и испуганно смотрели на нее. Граф остановился у окна, прислушиваясь.
– Маменька, это нельзя; посмотрите, что на дворе! – закричала она. – Они остаются!..
– Что с тобой? Кто они? Что тебе надо?
– Раненые, вот кто! Это нельзя, маменька; это ни на что не похоже… Нет, маменька, голубушка, это не то, простите, пожалуйста, голубушка… Маменька, ну что нам то, что мы увезем, вы посмотрите только, что на дворе… Маменька!.. Это не может быть!..
Граф стоял у окна и, не поворачивая лица, слушал слова Наташи. Вдруг он засопел носом и приблизил свое лицо к окну.
Графиня взглянула на дочь, увидала ее пристыженное за мать лицо, увидала ее волнение, поняла, отчего муж теперь не оглядывался на нее, и с растерянным видом оглянулась вокруг себя.
– Ах, да делайте, как хотите! Разве я мешаю кому нибудь! – сказала она, еще не вдруг сдаваясь.
– Маменька, голубушка, простите меня!
Но графиня оттолкнула дочь и подошла к графу.
– Mon cher, ты распорядись, как надо… Я ведь не знаю этого, – сказала она, виновато опуская глаза.
– Яйца… яйца курицу учат… – сквозь счастливые слезы проговорил граф и обнял жену, которая рада была скрыть на его груди свое пристыженное лицо.
– Папенька, маменька! Можно распорядиться? Можно?.. – спрашивала Наташа. – Мы все таки возьмем все самое нужное… – говорила Наташа.
Граф утвердительно кивнул ей головой, и Наташа тем быстрым бегом, которым она бегивала в горелки, побежала по зале в переднюю и по лестнице на двор.
Люди собрались около Наташи и до тех пор не могли поверить тому странному приказанию, которое она передавала, пока сам граф именем своей жены не подтвердил приказания о том, чтобы отдавать все подводы под раненых, а сундуки сносить в кладовые. Поняв приказание, люди с радостью и хлопотливостью принялись за новое дело. Прислуге теперь это не только не казалось странным, но, напротив, казалось, что это не могло быть иначе, точно так же, как за четверть часа перед этим никому не только не казалось странным, что оставляют раненых, а берут вещи, но казалось, что не могло быть иначе.
Все домашние, как бы выплачивая за то, что они раньше не взялись за это, принялись с хлопотливостью за новое дело размещения раненых. Раненые повыползли из своих комнат и с радостными бледными лицами окружили подводы. В соседних домах тоже разнесся слух, что есть подводы, и на двор к Ростовым стали приходить раненые из других домов. Многие из раненых просили не снимать вещей и только посадить их сверху. Но раз начавшееся дело свалки вещей уже не могло остановиться. Было все равно, оставлять все или половину. На дворе лежали неубранные сундуки с посудой, с бронзой, с картинами, зеркалами, которые так старательно укладывали в прошлую ночь, и всё искали и находили возможность сложить то и то и отдать еще и еще подводы.
– Четверых еще можно взять, – говорил управляющий, – я свою повозку отдаю, а то куда же их?
– Да отдайте мою гардеробную, – говорила графиня. – Дуняша со мной сядет в карету.
Отдали еще и гардеробную повозку и отправили ее за ранеными через два дома. Все домашние и прислуга были весело оживлены. Наташа находилась в восторженно счастливом оживлении, которого она давно не испытывала.
– Куда же его привязать? – говорили люди, прилаживая сундук к узкой запятке кареты, – надо хоть одну подводу оставить.
– Да с чем он? – спрашивала Наташа.
– С книгами графскими.
– Оставьте. Васильич уберет. Это не нужно.
В бричке все было полно людей; сомневались о том, куда сядет Петр Ильич.
– Он на козлы. Ведь ты на козлы, Петя? – кричала Наташа.
Соня не переставая хлопотала тоже; но цель хлопот ее была противоположна цели Наташи. Она убирала те вещи, которые должны были остаться; записывала их, по желанию графини, и старалась захватить с собой как можно больше.
Во втором часу заложенные и уложенные четыре экипажа Ростовых стояли у подъезда. Подводы с ранеными одна за другой съезжали со двора.
Коляска, в которой везли князя Андрея, проезжая мимо крыльца, обратила на себя внимание Сони, устраивавшей вместе с девушкой сиденья для графини в ее огромной высокой карете, стоявшей у подъезда.
– Это чья же коляска? – спросила Соня, высунувшись в окно кареты.
– А вы разве не знали, барышня? – отвечала горничная. – Князь раненый: он у нас ночевал и тоже с нами едут.
– Да кто это? Как фамилия?
– Самый наш жених бывший, князь Болконский! – вздыхая, отвечала горничная. – Говорят, при смерти.
Соня выскочила из кареты и побежала к графине. Графиня, уже одетая по дорожному, в шали и шляпе, усталая, ходила по гостиной, ожидая домашних, с тем чтобы посидеть с закрытыми дверями и помолиться перед отъездом. Наташи не было в комнате.
– Maman, – сказала Соня, – князь Андрей здесь, раненый, при смерти. Он едет с нами.
Графиня испуганно открыла глаза и, схватив за руку Соню, оглянулась.
– Наташа? – проговорила она.
И для Сони и для графини известие это имело в первую минуту только одно значение. Они знали свою Наташу, и ужас о том, что будет с нею при этом известии, заглушал для них всякое сочувствие к человеку, которого они обе любили.
– Наташа не знает еще; но он едет с нами, – сказала Соня.
– Ты говоришь, при смерти?
Соня кивнула головой.
Графиня обняла Соню и заплакала.
«Пути господни неисповедимы!» – думала она, чувствуя, что во всем, что делалось теперь, начинала выступать скрывавшаяся прежде от взгляда людей всемогущая рука.
– Ну, мама, все готово. О чем вы?.. – спросила с оживленным лицом Наташа, вбегая в комнату.
– Ни о чем, – сказала графиня. – Готово, так поедем. – И графиня нагнулась к своему ридикюлю, чтобы скрыть расстроенное лицо. Соня обняла Наташу и поцеловала ее.
Наташа вопросительно взглянула на нее.
– Что ты? Что такое случилось?
– Ничего… Нет…
– Очень дурное для меня?.. Что такое? – спрашивала чуткая Наташа.
Соня вздохнула и ничего не ответила. Граф, Петя, m me Schoss, Мавра Кузминишна, Васильич вошли в гостиную, и, затворив двери, все сели и молча, не глядя друг на друга, посидели несколько секунд.
Граф первый встал и, громко вздохнув, стал креститься на образ. Все сделали то же. Потом граф стал обнимать Мавру Кузминишну и Васильича, которые оставались в Москве, и, в то время как они ловили его руку и целовали его в плечо, слегка трепал их по спине, приговаривая что то неясное, ласково успокоительное. Графиня ушла в образную, и Соня нашла ее там на коленях перед разрозненно по стене остававшимися образами. (Самые дорогие по семейным преданиям образа везлись с собою.)
На крыльце и на дворе уезжавшие люди с кинжалами и саблями, которыми их вооружил Петя, с заправленными панталонами в сапоги и туго перепоясанные ремнями и кушаками, прощались с теми, которые оставались.
Как и всегда при отъездах, многое было забыто и не так уложено, и довольно долго два гайдука стояли с обеих сторон отворенной дверцы и ступенек кареты, готовясь подсадить графиню, в то время как бегали девушки с подушками, узелками из дому в кареты, и коляску, и бричку, и обратно.
– Век свой все перезабудут! – говорила графиня. – Ведь ты знаешь, что я не могу так сидеть. – И Дуняша, стиснув зубы и не отвечая, с выражением упрека на лице, бросилась в карету переделывать сиденье.
– Ах, народ этот! – говорил граф, покачивая головой.
Старый кучер Ефим, с которым одним только решалась ездить графиня, сидя высоко на своих козлах, даже не оглядывался на то, что делалось позади его. Он тридцатилетним опытом знал, что не скоро еще ему скажут «с богом!» и что когда скажут, то еще два раза остановят его и пошлют за забытыми вещами, и уже после этого еще раз остановят, и графиня сама высунется к нему в окно и попросит его Христом богом ехать осторожнее на спусках. Он знал это и потому терпеливее своих лошадей (в особенности левого рыжего – Сокола, который бил ногой и, пережевывая, перебирал удила) ожидал того, что будет. Наконец все уселись; ступеньки собрались и закинулись в карету, дверка захлопнулась, послали за шкатулкой, графиня высунулась и сказала, что должно. Тогда Ефим медленно снял шляпу с своей головы и стал креститься. Форейтор и все люди сделали то же.
– С богом! – сказал Ефим, надев шляпу. – Вытягивай! – Форейтор тронул. Правый дышловой влег в хомут, хрустнули высокие рессоры, и качнулся кузов. Лакей на ходу вскочил на козлы. Встряхнуло карету при выезде со двора на тряскую мостовую, так же встряхнуло другие экипажи, и поезд тронулся вверх по улице. В каретах, коляске и бричке все крестились на церковь, которая была напротив. Остававшиеся в Москве люди шли по обоим бокам экипажей, провожая их.
Наташа редко испытывала столь радостное чувство, как то, которое она испытывала теперь, сидя в карете подле графини и глядя на медленно подвигавшиеся мимо нее стены оставляемой, встревоженной Москвы. Она изредка высовывалась в окно кареты и глядела назад и вперед на длинный поезд раненых, предшествующий им. Почти впереди всех виднелся ей закрытый верх коляски князя Андрея. Она не знала, кто был в ней, и всякий раз, соображая область своего обоза, отыскивала глазами эту коляску. Она знала, что она была впереди всех.
В Кудрине, из Никитской, от Пресни, от Подновинского съехалось несколько таких же поездов, как был поезд Ростовых, и по Садовой уже в два ряда ехали экипажи и подводы.
Объезжая Сухареву башню, Наташа, любопытно и быстро осматривавшая народ, едущий и идущий, вдруг радостно и удивленно вскрикнула:
– Батюшки! Мама, Соня, посмотрите, это он!
– Кто? Кто?
– Смотрите, ей богу, Безухов! – говорила Наташа, высовываясь в окно кареты и глядя на высокого толстого человека в кучерском кафтане, очевидно, наряженного барина по походке и осанке, который рядом с желтым безбородым старичком в фризовой шинели подошел под арку Сухаревой башни.
– Ей богу, Безухов, в кафтане, с каким то старым мальчиком! Ей богу, – говорила Наташа, – смотрите, смотрите!
– Да нет, это не он. Можно ли, такие глупости.
– Мама, – кричала Наташа, – я вам голову дам на отсечение, что это он! Я вас уверяю. Постой, постой! – кричала она кучеру; но кучер не мог остановиться, потому что из Мещанской выехали еще подводы и экипажи, и на Ростовых кричали, чтоб они трогались и не задерживали других.
Действительно, хотя уже гораздо дальше, чем прежде, все Ростовы увидали Пьера или человека, необыкновенно похожего на Пьера, в кучерском кафтане, шедшего по улице с нагнутой головой и серьезным лицом, подле маленького безбородого старичка, имевшего вид лакея. Старичок этот заметил высунувшееся на него лицо из кареты и, почтительно дотронувшись до локтя Пьера, что то сказал ему, указывая на карету. Пьер долго не мог понять того, что он говорил; так он, видимо, погружен был в свои мысли. Наконец, когда он понял его, посмотрел по указанию и, узнав Наташу, в ту же секунду отдаваясь первому впечатлению, быстро направился к карете. Но, пройдя шагов десять, он, видимо, вспомнив что то, остановился.
Высунувшееся из кареты лицо Наташи сияло насмешливою ласкою.
– Петр Кирилыч, идите же! Ведь мы узнали! Это удивительно! – кричала она, протягивая ему руку. – Как это вы? Зачем вы так?
Пьер взял протянутую руку и на ходу (так как карета. продолжала двигаться) неловко поцеловал ее.
– Что с вами, граф? – спросила удивленным и соболезнующим голосом графиня.
– Что? Что? Зачем? Не спрашивайте у меня, – сказал Пьер и оглянулся на Наташу, сияющий, радостный взгляд которой (он чувствовал это, не глядя на нее) обдавал его своей прелестью.
– Что же вы, или в Москве остаетесь? – Пьер помолчал.
– В Москве? – сказал он вопросительно. – Да, в Москве. Прощайте.
– Ах, желала бы я быть мужчиной, я бы непременно осталась с вами. Ах, как это хорошо! – сказала Наташа. – Мама, позвольте, я останусь. – Пьер рассеянно посмотрел на Наташу и что то хотел сказать, но графиня перебила его:
– Вы были на сражении, мы слышали?
– Да, я был, – отвечал Пьер. – Завтра будет опять сражение… – начал было он, но Наташа перебила его:
– Да что же с вами, граф? Вы на себя не похожи…
– Ах, не спрашивайте, не спрашивайте меня, я ничего сам не знаю. Завтра… Да нет! Прощайте, прощайте, – проговорил он, – ужасное время! – И, отстав от кареты, он отошел на тротуар.
Наташа долго еще высовывалась из окна, сияя на него ласковой и немного насмешливой, радостной улыбкой.
Пьер, со времени исчезновения своего из дома, ужа второй день жил на пустой квартире покойного Баздеева. Вот как это случилось.
Проснувшись на другой день после своего возвращения в Москву и свидания с графом Растопчиным, Пьер долго не мог понять того, где он находился и чего от него хотели. Когда ему, между именами прочих лиц, дожидавшихся его в приемной, доложили, что его дожидается еще француз, привезший письмо от графини Елены Васильевны, на него нашло вдруг то чувство спутанности и безнадежности, которому он способен был поддаваться. Ему вдруг представилось, что все теперь кончено, все смешалось, все разрушилось, что нет ни правого, ни виноватого, что впереди ничего не будет и что выхода из этого положения нет никакого. Он, неестественно улыбаясь и что то бормоча, то садился на диван в беспомощной позе, то вставал, подходил к двери и заглядывал в щелку в приемную, то, махая руками, возвращался назад я брался за книгу. Дворецкий в другой раз пришел доложить Пьеру, что француз, привезший от графини письмо, очень желает видеть его хоть на минутку и что приходили от вдовы И. А. Баздеева просить принять книги, так как сама г жа Баздеева уехала в деревню.
– Ах, да, сейчас, подожди… Или нет… да нет, поди скажи, что сейчас приду, – сказал Пьер дворецкому.
Но как только вышел дворецкий, Пьер взял шляпу, лежавшую на столе, и вышел в заднюю дверь из кабинета. В коридоре никого не было. Пьер прошел во всю длину коридора до лестницы и, морщась и растирая лоб обеими руками, спустился до первой площадки. Швейцар стоял у парадной двери. С площадки, на которую спустился Пьер, другая лестница вела к заднему ходу. Пьер пошел по ней и вышел во двор. Никто не видал его. Но на улице, как только он вышел в ворота, кучера, стоявшие с экипажами, и дворник увидали барина и сняли перед ним шапки. Почувствовав на себя устремленные взгляды, Пьер поступил как страус, который прячет голову в куст, с тем чтобы его не видали; он опустил голову и, прибавив шагу, пошел по улице.
Из всех дел, предстоявших Пьеру в это утро, дело разборки книг и бумаг Иосифа Алексеевича показалось ему самым нужным.
Он взял первого попавшегося ему извозчика и велел ему ехать на Патриаршие пруды, где был дом вдовы Баздеева.
Беспрестанно оглядываясь на со всех сторон двигавшиеся обозы выезжавших из Москвы и оправляясь своим тучным телом, чтобы не соскользнуть с дребезжащих старых дрожек, Пьер, испытывая радостное чувство, подобное тому, которое испытывает мальчик, убежавший из школы, разговорился с извозчиком.
Извозчик рассказал ему, что нынешний день разбирают в Кремле оружие, и что на завтрашний народ выгоняют весь за Трехгорную заставу, и что там будет большое сражение.
Приехав на Патриаршие пруды, Пьер отыскал дом Баздеева, в котором он давно не бывал. Он подошел к калитке. Герасим, тот самый желтый безбородый старичок, которого Пьер видел пять лет тому назад в Торжке с Иосифом Алексеевичем, вышел на его стук.
– Дома? – спросил Пьер.
– По обстоятельствам нынешним, Софья Даниловна с детьми уехали в торжковскую деревню, ваше сиятельство.
– Я все таки войду, мне надо книги разобрать, – сказал Пьер.
– Пожалуйте, милости просим, братец покойника, – царство небесное! – Макар Алексеевич остались, да, как изволите знать, они в слабости, – сказал старый слуга.
Макар Алексеевич был, как знал Пьер, полусумасшедший, пивший запоем брат Иосифа Алексеевича.
– Да, да, знаю. Пойдем, пойдем… – сказал Пьер и вошел в дом. Высокий плешивый старый человек в халате, с красным носом, в калошах на босу ногу, стоял в передней; увидав Пьера, он сердито пробормотал что то и ушел в коридор.
– Большого ума были, а теперь, как изволите видеть, ослабели, – сказал Герасим. – В кабинет угодно? – Пьер кивнул головой. – Кабинет как был запечатан, так и остался. Софья Даниловна приказывали, ежели от вас придут, то отпустить книги.
Пьер вошел в тот самый мрачный кабинет, в который он еще при жизни благодетеля входил с таким трепетом. Кабинет этот, теперь запыленный и нетронутый со времени кончины Иосифа Алексеевича, был еще мрачнее.
Герасим открыл один ставень и на цыпочках вышел из комнаты. Пьер обошел кабинет, подошел к шкафу, в котором лежали рукописи, и достал одну из важнейших когда то святынь ордена. Это были подлинные шотландские акты с примечаниями и объяснениями благодетеля. Он сел за письменный запыленный стол и положил перед собой рукописи, раскрывал, закрывал их и, наконец, отодвинув их от себя, облокотившись головой на руки, задумался.
Несколько раз Герасим осторожно заглядывал в кабинет и видел, что Пьер сидел в том же положении. Прошло более двух часов. Герасим позволил себе пошуметь в дверях, чтоб обратить на себя внимание Пьера. Пьер не слышал его.
– Извозчика отпустить прикажете?
– Ах, да, – очнувшись, сказал Пьер, поспешно вставая. – Послушай, – сказал он, взяв Герасима за пуговицу сюртука и сверху вниз блестящими, влажными восторженными глазами глядя на старичка. – Послушай, ты знаешь, что завтра будет сражение?..
– Сказывали, – отвечал Герасим.
– Я прошу тебя никому не говорить, кто я. И сделай, что я скажу…
– Слушаюсь, – сказал Герасим. – Кушать прикажете?
– Нет, но мне другое нужно. Мне нужно крестьянское платье и пистолет, – сказал Пьер, неожиданно покраснев.
– Слушаю с, – подумав, сказал Герасим.
Весь остаток этого дня Пьер провел один в кабинете благодетеля, беспокойно шагая из одного угла в другой, как слышал Герасим, и что то сам с собой разговаривая, и ночевал на приготовленной ему тут же постели.
Герасим с привычкой слуги, видавшего много странных вещей на своем веку, принял переселение Пьера без удивления и, казалось, был доволен тем, что ему было кому услуживать. Он в тот же вечер, не спрашивая даже и самого себя, для чего это было нужно, достал Пьеру кафтан и шапку и обещал на другой день приобрести требуемый пистолет. Макар Алексеевич в этот вечер два раза, шлепая своими калошами, подходил к двери и останавливался, заискивающе глядя на Пьера. Но как только Пьер оборачивался к нему, он стыдливо и сердито запахивал свой халат и поспешно удалялся. В то время как Пьер в кучерском кафтане, приобретенном и выпаренном для него Герасимом, ходил с ним покупать пистолет у Сухаревой башни, он встретил Ростовых.
1 го сентября в ночь отдан приказ Кутузова об отступлении русских войск через Москву на Рязанскую дорогу.
Первые войска двинулись в ночь. Войска, шедшие ночью, не торопились и двигались медленно и степенно; но на рассвете двигавшиеся войска, подходя к Дорогомиловскому мосту, увидали впереди себя, на другой стороне, теснящиеся, спешащие по мосту и на той стороне поднимающиеся и запружающие улицы и переулки, и позади себя – напирающие, бесконечные массы войск. И беспричинная поспешность и тревога овладели войсками. Все бросилось вперед к мосту, на мост, в броды и в лодки. Кутузов велел обвезти себя задними улицами на ту сторону Москвы.
К десяти часам утра 2 го сентября в Дорогомиловском предместье оставались на просторе одни войска ариергарда. Армия была уже на той стороне Москвы и за Москвою.
В это же время, в десять часов утра 2 го сентября, Наполеон стоял между своими войсками на Поклонной горе и смотрел на открывавшееся перед ним зрелище. Начиная с 26 го августа и по 2 е сентября, от Бородинского сражения и до вступления неприятеля в Москву, во все дни этой тревожной, этой памятной недели стояла та необычайная, всегда удивляющая людей осенняя погода, когда низкое солнце греет жарче, чем весной, когда все блестит в редком, чистом воздухе так, что глаза режет, когда грудь крепнет и свежеет, вдыхая осенний пахучий воздух, когда ночи даже бывают теплые и когда в темных теплых ночах этих с неба беспрестанно, пугая и радуя, сыплются золотые звезды.
2 го сентября в десять часов утра была такая погода. Блеск утра был волшебный. Москва с Поклонной горы расстилалась просторно с своей рекой, своими садами и церквами и, казалось, жила своей жизнью, трепеща, как звезды, своими куполами в лучах солнца.
При виде странного города с невиданными формами необыкновенной архитектуры Наполеон испытывал то несколько завистливое и беспокойное любопытство, которое испытывают люди при виде форм не знающей о них, чуждой жизни. Очевидно, город этот жил всеми силами своей жизни. По тем неопределимым признакам, по которым на дальнем расстоянии безошибочно узнается живое тело от мертвого. Наполеон с Поклонной горы видел трепетание жизни в городе и чувствовал как бы дыханио этого большого и красивого тела.
– Cette ville asiatique aux innombrables eglises, Moscou la sainte. La voila donc enfin, cette fameuse ville! Il etait temps, [Этот азиатский город с бесчисленными церквами, Москва, святая их Москва! Вот он, наконец, этот знаменитый город! Пора!] – сказал Наполеон и, слезши с лошади, велел разложить перед собою план этой Moscou и подозвал переводчика Lelorgne d'Ideville. «Une ville occupee par l'ennemi ressemble a une fille qui a perdu son honneur, [Город, занятый неприятелем, подобен девушке, потерявшей невинность.] – думал он (как он и говорил это Тучкову в Смоленске). И с этой точки зрения он смотрел на лежавшую перед ним, невиданную еще им восточную красавицу. Ему странно было самому, что, наконец, свершилось его давнишнее, казавшееся ему невозможным, желание. В ясном утреннем свете он смотрел то на город, то на план, проверяя подробности этого города, и уверенность обладания волновала и ужасала его.
«Но разве могло быть иначе? – подумал он. – Вот она, эта столица, у моих ног, ожидая судьбы своей. Где теперь Александр и что думает он? Странный, красивый, величественный город! И странная и величественная эта минута! В каком свете представляюсь я им! – думал он о своих войсках. – Вот она, награда для всех этих маловерных, – думал он, оглядываясь на приближенных и на подходившие и строившиеся войска. – Одно мое слово, одно движение моей руки, и погибла эта древняя столица des Czars. Mais ma clemence est toujours prompte a descendre sur les vaincus. [царей. Но мое милосердие всегда готово низойти к побежденным.] Я должен быть великодушен и истинно велик. Но нет, это не правда, что я в Москве, – вдруг приходило ему в голову. – Однако вот она лежит у моих ног, играя и дрожа золотыми куполами и крестами в лучах солнца. Но я пощажу ее. На древних памятниках варварства и деспотизма я напишу великие слова справедливости и милосердия… Александр больнее всего поймет именно это, я знаю его. (Наполеону казалось, что главное значение того, что совершалось, заключалось в личной борьбе его с Александром.) С высот Кремля, – да, это Кремль, да, – я дам им законы справедливости, я покажу им значение истинной цивилизации, я заставлю поколения бояр с любовью поминать имя своего завоевателя. Я скажу депутации, что я не хотел и не хочу войны; что я вел войну только с ложной политикой их двора, что я люблю и уважаю Александра и что приму условия мира в Москве, достойные меня и моих народов. Я не хочу воспользоваться счастьем войны для унижения уважаемого государя. Бояре – скажу я им: я не хочу войны, а хочу мира и благоденствия всех моих подданных. Впрочем, я знаю, что присутствие их воодушевит меня, и я скажу им, как я всегда говорю: ясно, торжественно и велико. Но неужели это правда, что я в Москве? Да, вот она!»
– Qu'on m'amene les boyards, [Приведите бояр.] – обратился он к свите. Генерал с блестящей свитой тотчас же поскакал за боярами.
Прошло два часа. Наполеон позавтракал и опять стоял на том же месте на Поклонной горе, ожидая депутацию. Речь его к боярам уже ясно сложилась в его воображении. Речь эта была исполнена достоинства и того величия, которое понимал Наполеон.
Тот тон великодушия, в котором намерен был действовать в Москве Наполеон, увлек его самого. Он в воображении своем назначал дни reunion dans le palais des Czars [собраний во дворце царей.], где должны были сходиться русские вельможи с вельможами французского императора. Он назначал мысленно губернатора, такого, который бы сумел привлечь к себе население. Узнав о том, что в Москве много богоугодных заведений, он в воображении своем решал, что все эти заведения будут осыпаны его милостями. Он думал, что как в Африке надо было сидеть в бурнусе в мечети, так в Москве надо было быть милостивым, как цари. И, чтобы окончательно тронуть сердца русских, он, как и каждый француз, не могущий себе вообразить ничего чувствительного без упоминания о ma chere, ma tendre, ma pauvre mere, [моей милой, нежной, бедной матери ,] он решил, что на всех этих заведениях он велит написать большими буквами: Etablissement dedie a ma chere Mere. Нет, просто: Maison de ma Mere, [Учреждение, посвященное моей милой матери… Дом моей матери.] – решил он сам с собою. «Но неужели я в Москве? Да, вот она передо мной. Но что же так долго не является депутация города?» – думал он.
Между тем в задах свиты императора происходило шепотом взволнованное совещание между его генералами и маршалами. Посланные за депутацией вернулись с известием, что Москва пуста, что все уехали и ушли из нее. Лица совещавшихся были бледны и взволнованны. Не то, что Москва была оставлена жителями (как ни важно казалось это событие), пугало их, но их пугало то, каким образом объявить о том императору, каким образом, не ставя его величество в то страшное, называемое французами ridicule [смешным] положение, объявить ему, что он напрасно ждал бояр так долго, что есть толпы пьяных, но никого больше. Одни говорили, что надо было во что бы то ни стало собрать хоть какую нибудь депутацию, другие оспаривали это мнение и утверждали, что надо, осторожно и умно приготовив императора, объявить ему правду.
– Il faudra le lui dire tout de meme… – говорили господа свиты. – Mais, messieurs… [Однако же надо сказать ему… Но, господа…] – Положение было тем тяжеле, что император, обдумывая свои планы великодушия, терпеливо ходил взад и вперед перед планом, посматривая изредка из под руки по дороге в Москву и весело и гордо улыбаясь.
– Mais c'est impossible… [Но неловко… Невозможно…] – пожимая плечами, говорили господа свиты, не решаясь выговорить подразумеваемое страшное слово: le ridicule…
Между тем император, уставши от тщетного ожидания и своим актерским чутьем чувствуя, что величественная минута, продолжаясь слишком долго, начинает терять свою величественность, подал рукою знак. Раздался одинокий выстрел сигнальной пушки, и войска, с разных сторон обложившие Москву, двинулись в Москву, в Тверскую, Калужскую и Дорогомиловскую заставы. Быстрее и быстрее, перегоняя одни других, беглым шагом и рысью, двигались войска, скрываясь в поднимаемых ими облаках пыли и оглашая воздух сливающимися гулами криков.
Увлеченный движением войск, Наполеон доехал с войсками до Дорогомиловской заставы, но там опять остановился и, слезши с лошади, долго ходил у Камер коллежского вала, ожидая депутации.
Москва между тем была пуста. В ней были еще люди, в ней оставалась еще пятидесятая часть всех бывших прежде жителей, но она была пуста. Она была пуста, как пуст бывает домирающий обезматочивший улей.
В обезматочившем улье уже нет жизни, но на поверхностный взгляд он кажется таким же живым, как и другие.
Так же весело в жарких лучах полуденного солнца вьются пчелы вокруг обезматочившего улья, как и вокруг других живых ульев; так же издалека пахнет от него медом, так же влетают и вылетают из него пчелы. Но стоит приглядеться к нему, чтобы понять, что в улье этом уже нет жизни. Не так, как в живых ульях, летают пчелы, не тот запах, не тот звук поражают пчеловода. На стук пчеловода в стенку больного улья вместо прежнего, мгновенного, дружного ответа, шипенья десятков тысяч пчел, грозно поджимающих зад и быстрым боем крыльев производящих этот воздушный жизненный звук, – ему отвечают разрозненные жужжания, гулко раздающиеся в разных местах пустого улья. Из летка не пахнет, как прежде, спиртовым, душистым запахом меда и яда, не несет оттуда теплом полноты, а с запахом меда сливается запах пустоты и гнили. У летка нет больше готовящихся на погибель для защиты, поднявших кверху зады, трубящих тревогу стражей. Нет больше того ровного и тихого звука, трепетанья труда, подобного звуку кипенья, а слышится нескладный, разрозненный шум беспорядка. В улей и из улья робко и увертливо влетают и вылетают черные продолговатые, смазанные медом пчелы грабительницы; они не жалят, а ускользают от опасности. Прежде только с ношами влетали, а вылетали пустые пчелы, теперь вылетают с ношами. Пчеловод открывает нижнюю колодезню и вглядывается в нижнюю часть улья. Вместо прежде висевших до уза (нижнего дна) черных, усмиренных трудом плетей сочных пчел, держащих за ноги друг друга и с непрерывным шепотом труда тянущих вощину, – сонные, ссохшиеся пчелы в разные стороны бредут рассеянно по дну и стенкам улья. Вместо чисто залепленного клеем и сметенного веерами крыльев пола на дне лежат крошки вощин, испражнения пчел, полумертвые, чуть шевелящие ножками и совершенно мертвые, неприбранные пчелы.
Пчеловод открывает верхнюю колодезню и осматривает голову улья. Вместо сплошных рядов пчел, облепивших все промежутки сотов и греющих детву, он видит искусную, сложную работу сотов, но уже не в том виде девственности, в котором она бывала прежде. Все запущено и загажено. Грабительницы – черные пчелы – шныряют быстро и украдисто по работам; свои пчелы, ссохшиеся, короткие, вялые, как будто старые, медленно бродят, никому не мешая, ничего не желая и потеряв сознание жизни. Трутни, шершни, шмели, бабочки бестолково стучатся на лету о стенки улья. Кое где между вощинами с мертвыми детьми и медом изредка слышится с разных сторон сердитое брюзжание; где нибудь две пчелы, по старой привычке и памяти очищая гнездо улья, старательно, сверх сил, тащат прочь мертвую пчелу или шмеля, сами не зная, для чего они это делают. В другом углу другие две старые пчелы лениво дерутся, или чистятся, или кормят одна другую, сами не зная, враждебно или дружелюбно они это делают. В третьем месте толпа пчел, давя друг друга, нападает на какую нибудь жертву и бьет и душит ее. И ослабевшая или убитая пчела медленно, легко, как пух, спадает сверху в кучу трупов. Пчеловод разворачивает две средние вощины, чтобы видеть гнездо. Вместо прежних сплошных черных кругов спинка с спинкой сидящих тысяч пчел и блюдущих высшие тайны родного дела, он видит сотни унылых, полуживых и заснувших остовов пчел. Они почти все умерли, сами не зная этого, сидя на святыне, которую они блюли и которой уже нет больше. От них пахнет гнилью и смертью. Только некоторые из них шевелятся, поднимаются, вяло летят и садятся на руку врагу, не в силах умереть, жаля его, – остальные, мертвые, как рыбья чешуя, легко сыплются вниз. Пчеловод закрывает колодезню, отмечает мелом колодку и, выбрав время, выламывает и выжигает ее.
- Родившиеся 27 декабря
- Родившиеся в 1761 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Пакруойском районе
- Умершие 26 мая
- Умершие в 1818 году
- Умершие в Черняховске
- Кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного
- Кавалеры ордена Святого Георгия I класса
- Кавалеры ордена Святого Георгия II класса
- Кавалеры ордена Святого Георгия III класса
- Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
- Кавалеры ордена Святого Владимира 1 степени
- Кавалеры ордена Святого Владимира 2 степени
- Кавалеры ордена Святого Владимира 4 степени
- Кавалеры ордена Святого Александра Невского
- Кавалеры ордена Святой Анны 1 степени
- Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
- Кавалеры ордена Чёрного орла
- Кавалеры ордена Красного орла
- Кавалеры ордена Марии Терезии
- Кавалеры Большого креста ордена Почётного легиона
- Кавалеры ордена Святого Людовика
- Рыцари Большого креста ордена Бани
- Кавалеры ордена Меча
- Кавалеры Большого креста военного ордена Вильгельма
- Кавалеры Военного ордена Святого Генриха
- Генерал-фельдмаршалы (Российская империя)
- Финляндские генерал-губернаторы
- Члены Государственного совета Российской империи
- Военные министры Российской империи
- Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
- Кавалеры креста «За победу при Прейсиш-Эйлау»
- Участники Русско-турецкой войны (1787—1791)
- Участники войны против польских повстанцев 1794 года
- Участники Русско-шведской войны 1808—1809
- Участники Отечественной войны 1812 года
- Участники сражения под Кульмом
- Военная галерея
- Похороненные в Эстонии
- Участники Бородинской битвы
- Сенаторы Российской империи