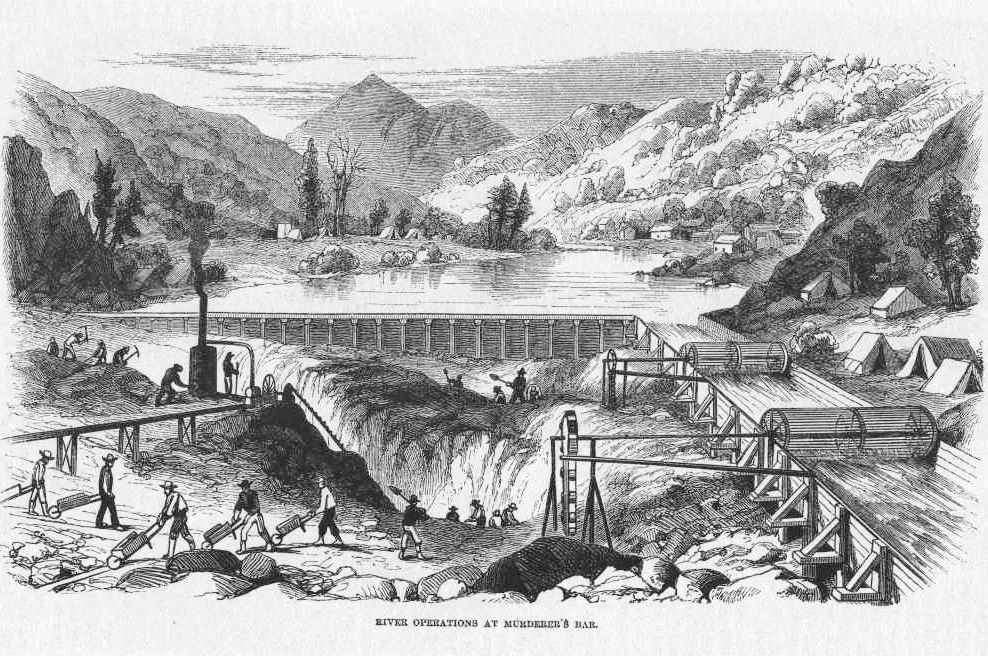Бёрбанк, Лютер
| Лютер Бёрбанк | |
| Luther Burbank | |
 Лютер Бёрбанк, приблизительно 1902 год | |
| Место рождения: |
Ланкастер, штат Массачусетс |
|---|---|
| Место смерти: |
Санта-Роза, штат Калифорния, США |
| Научная сфера: | |
| Альма-матер: |
Академия Ланкастера |
| Известен как: |
Американский селекционер, учёный-дарвинист |
Лютер Бёрбанк (англ. Luther Burbank; 7 марта 1849 — 11 апреля 1926) — американский селекционер, садовод[1]. Помимо создания ряда новых сортов, востребованных сельским хозяйством США (картофель, яблоня, груша и другие культуры), Бёрбанк вывел несколько необычных растений — в частности, бесколючковый кактус и бескосточковую сливу, а также санберри[2]. Одним из наиболее известных достижений селекционера стало выведение в 1872 году сорта картофеля «Burbank». Мутация этого сорта под названием «Russet Burbank» в начале 21 века составляет около 50 %[3] производства картофеля в США, является в стране фактическим стандартом для производства картофеля фри и экспортируется за её пределы[4].
Бёрбанк последовательно придерживался эволюционизма, выступал в оппозиции к антидарвинистам во время «обезьяньего процесса» в США и признавал наследование приобретённых признаков по Ж.-Б. Ламарку[5]. После подавления развития генетики в СССР сторонниками Лысенко западные учёные стали воспринимать самого Бёрбанка (уже посмертно), как «лысенковца», а его селекционную деятельность — как дилетантскую и даже шарлатанскую[6].
В СССР в середине 1920-х годов имя Лютера Бёрбанка получило широкую известность благодаря Н. И. Вавилову[7]. В последующие годы Лысенко и его сторонники провозгласили Бёрбанка одним из классиков агробиологии[8].
Содержание
- 1 История жизни
- 2 Методы работы
- 3 Селекционные достижения Бёрбанка
- 4 Итоги научной и практической деятельности
- 5 Сочинения
- 6 Примечания
- 7 Литература
- 8 Ссылки
История жизни
Детство и школьные годы
Родился 7 марта 1849 года[1][10] в городе Ланкастере, в стороне от главной дороги на Гарвард[10], близ Бостона (штат Массачусетс) в семье фермера и фабриканта, тринадцатым ребёнком из пятнадцати детей[5].
Унаследовал от отца (шотландца) Самуила Уолтона Бёрбанка любовь к чтению, а от матери англичанки (урождённая Оливия Росс[10]) — эстетическое воспитание, пристрастие к выращиванию цветов[11].
Мать Бёрбанка устроила сад-парк, где росли садовые и лесные растения.
Будучи живым и любознательным мальчиком, Бёрбанк работал в саду, на ферме, на сахарной плантации, собирал дрова в лесу для отопления дома и для построенной дедом гончарной печи[12]. Описывая ландшафт близ Ланкастера, Бёрбанк упоминал мощные вязы, луга, холмы и долины, реку Нэйшуа, и маленькие, окруженные лесом озёра Новой Англии[10].
Из детских воспоминаний Бёрбанк сохранил впечатление о растущих среди снега сочных растениях, которые он обнаружил, гуляя по зимнему лесу. Зелёные плауны, стелющиеся камыши, сочные вьющиеся растения и жёлтые калужницы получали тепло от родника, который пробивался из земли. В отличие от своих спящих под снегом собратьев, они не удовлетворялись семью месяцами лета, и и радовали глаз яркими красками в лучах солнечного света[13].
Отец Бёрбанка, используя залежи высококачественной глины на своей ферме, выделывал глиняную посуду. Заводы и фабрики, которые выросли по соседству, сделали более выгодным производство кирпича. Для его обжига он скупал обширные лесные угодья и нанимал множество работников; он хорошо разбирался в качестве и цене леса на корню. Бёрбанк с братом Альфредом в возрасте 6—8 лет находил увлекательным, наряду с другими работниками фабрики, быть погонщиком волов, и развозить кирпич в Клинтон, Ланкастер, Гарвард и другие близлежащие города. С лесопилен Бёрбанков много материала поставлялось на пороховые и бумажные заводы в городе. Бёрбанк писал: «И каким же наслаждением было для меня доставлять материалы фабрикантам ковров, бумаги, тканей, проволоки и видеть изумительные процессы превращения сырья в такие полезные и прекрасные сложные формы»![10]
В доме Бёрбанков встречались представители духовенства, учителя, лекторы. В период назревавшего гражданского конфликта в США, интеллектуальные и религиозные волнения вызвали высказывания Дарвина и Уоллеса[10]. В круг друзей семьи Бёрбанков входили Эмерсон[11] и Агассис, геолог и автор работы «Эозойские известняки восточного Массачусетса»[10].
Влияние на мировоззрение юного Бёрбанка оказал его двоюродный брат Леви-Земмер (Леви Самнер[10]) Бёрбанк, преподаватель Падукайского колледжа[14][15].
Лютер Бёрбанк учился в Академии Ланкастера в штате Массачусетс, где он получил эквивалент среднего образования[5].
Каждая семья в Ланкастере должна была делать взносы на содержание унитарианской церкви. Посещение детьми церкви в воскресенье было обязательным и состояло из утреннего богослужения, воскресной школы с 12 часов, и второго богослужения после обеда. Эти богослужения воспринимались Бёрбанком как утомительные, так же как и шестидневное в неделю обучение в школе[10].
В 9—10 летнем возрасте он самостоятельно в течение октября и ноября построил дамбу через ручей на ферме, чтобы устроить каток. Это было разрешено под предлогом увеличения урожая клюквы. В Рождество каток был заполнен товарищами и одноклассниками. Сбор клюквы производился при помощи особого вида грабель с длинной ручкой. За час один человек мог собрать несколько бушелей ягод[10].
Бёрбанк как механик
С детства Бёрбанк живо интересовался вопросами механики, проводил опыты с моделями ветряных мельниц, изготовил из старого чайника паровой свисток. Изготовленную им миниатюрную паровую машину удалось продать для установки на небольшой лодке. В Ланкастерской академии Бёрбанка интересовали рисование и черчение[10].
Дядя Бёрбанка, Лютер Росс, заведовал деревообделочным отделом большой акционерной компании, у которой были заводы в Вустере, Гроутоне и Чикопии в штате Массачусетс. После окончания школы он стал работать на фабрике в Вустере, где проявил себя как изобретатель. Испытывая нехватку средств (оплата 50 центов в день за обточку плужных деталей целиком уходила на содержание), он повысил производительность токарного станка, зарабатывая уже 16 долларов в день. При обточке лесных материалов, однако, поднималась пыль, которая сказалась на его здоровье. Обладая достаточно слабым телосложением и здоровьем, он, к тому же, после ухода с фабрики пострадал от перегревания, пробежав 3 мили в очень жаркий день, чтобы сообщить начальству Бостонской и Главной Эймской железной дороги о том, что искры их паровозов вызвали пожар в лесу отца. Этот случай навёл его на мысль избрать своей профессией медицину, и в течение следующего года он продолжал учебные занятия, намереваясь стать врачом. Впоследствии он считал знания физиологии живых организмов полезными для своей деятельности в качестве селекционера. Однако, после смерти отца семья переехала в Гроутон, штат Массачусетс, где проявилась его врождённая склонность к садоводству[10].
Работа в Лунебурге
Недалеко от Ланкастера, в деревне Луненбург, Бёрбанк купил 17 акров хорошей земли вместе с домом и стал выращивать овощи и семена для сбыта на рынке. При этом он столкнулся с конкуренцией более опытных садоводов[10][16].
В своей книге «Жатва жизни» он впоследствии писал:
«Когда я начал работать, у меня не было никакого специального оборудования — кусок садовой земли и ничего более. Я не обладал ни микроскопом, ни ботаникой Грея[17],— всё, что у меня было, — мотыга и пара штанов. Я не получил сколько-нибудь систематического научного образования, у меня была лишь ненасытная жажда знания…»
Бёрбанк утверждал, что его овощи «были исключительно высокого качества». Он производил наблюдения и опыты над различными лесными и культурными растениями, включая, в частности, кукурузу и различные виды фасоли, нашёл способ выращивать раннюю сахарную кукурузу в соответствии с запросами рынка[10].
В это время, в 1872—1874 годах, он активно занимался селекцией картофеля, что привело к созданию знаменитого сорта «Бёрбанк». Однако, Бёрбанк посчитал, что задуманные опыты не могут дать полного эффекта в климатических условиях Новой Англии, и решил переехать в более тёплый климат. Он продал права на свой сорт за 150 долларов и истратил деньги на поездку в Санта-Розу в Калифорнии в 1875 году[10].
Работа в Санта-Розе (Калифорния)
В 1864 году в Калифорнию, где были открыты золотые россыпи (см. Калифорнийская золотая лихорадка), уехали два старших брата Бёрбанка. Они сообщали в своих письмах различные подробности об этом крае. Из сообщений о климате района Тихоокеанского побережья США ему стало ясно, что эта местность наиболее подходит для проведения намеченных опытов. Два старших брата Бёрбанка жили в Калифорнии, в Томалесе, но туда он не поехал, поскольку этот район находился вблизи океана, и климатические условия, как он считал, не подходили для проведения опытов[10].
Получая письменные советы, и время от времени читая книги и статьи о Калифорнии, которые удавалось достать, Бёрбанк получил представление о различных районах. При выборе места для своих опытов он колебался между местностями Сан-Хосе и Санта-Роза, и наконец остановил свой выбор на Санта-Розе, хотя более крупный город Сан-Хосе, расположенный в центре большого плодоводческого района, по мнению некоторых его биографов, мог дать лучшие стартовые условия[10].
Поводом, который толкнул Бёрбанка к отъезду, как он впоследствии вспоминал, послужила размолвка с любимой им женщиной. Несмотря на это, они оставались друзьями на протяжении многих лет[15].
В 1875 году, в возрасте 26 лет, Лютер Бёрбанк, взяв в свой чемодан десять картофелин нового сорта, отправился на Запад[15].
В это время Санта-Роза представляла собой небольшую деревню без тротуаров и без плодовых садов, с пшеничными полями в округе, где Бёрбанку было трудно найти работу и обеспечить себе средства к существованию. Осенью 1876 года Бёрбанк приступил к работе в питомнике Пеппера в Петалуме — одном из первых питомников в Калифорнии, учреждённом в 1852 году. Там он работал в течение всей зимы и весны, ночью занимая комнату над теплицей, а днём работая во влажной почве. Заболев лихорадкой, он тяжело больным вернулся в Санта-Розу. Он писал: «Мой сосед, видя меня в таком тяжелом положении, доставлял мне свежее молоко, не надеясь, что я когда-нибудь смогу с ним расплатиться»[10]. Будучи выхожен нищей старушкой и имея четко определённую цель, он понемногу поправил своё благосостояние[11].
Тем не менее, описывая природу Калифорнии, он не оставлял энтузиазма и восторга перед чудесами новой земли. В одном из писем матери и сестре того периода он писал[10]:
«Санта-Роза расположена в удивительно плодородной долине, размером около 100 кв. миль. На основании виденного я твёрдо верю, что в отношении природы это лучшее место на земле. Климат прекрасный. Воздух такой, что просто получаешь наслаждение, вдыхая его. Солнечный свет такой чистый и мягкий. Горы, опоясывающие долину, прекрасны. Долина покрыта величественными дубами, которые размещены так красиво, что руки человеческие не сумели бы достичь такого совершенства. Я не могу описать этого. Я просто готов плакать от радости, когда с холмов смотрю на прекрасную долину. Сады Калифорнии полны тропических растений: пальм, инжира, апельсинов, винограда и т. д. Громадные деревья розы до 30 футов высотою, покрытые бутонами и цветами всех оттенков, собранными в кисти от 20 до 60, как грозди винограда (как бы мне хотелось высыпать бушели этих цветов вам в фартук!), возвышаются, вьются над домами. Английский плющ обвивает большие деревья — и всюду, всюду цветы».
Приехав в Калифорнию в октябре 1875 года, он только к осени следующего года смог впервые попытаться начать намеченную работу. Днём Бёрбанк работал у плотника, а долгие летние вечера, после дневной работы с молотком, мог посвятить организации небольшого питомника, и уходу за своими сеянцами. По его словам, благодаря плотницкой работе он сумел добиться общего уважения, и это обеспечивало ему постоянный заработок[10].
Десять привезённых клубней картофеля нового сорта были высажены на участке брата (братья оказывали ему дружеское содействие), и к концу второго сезона появился запас клубней нового сорта как на семена, так и на продажу. Продажа картофеля помогла заработать деньги, но, несмотря на более высокую урожайность, величину и гладкость клубней, требовалось время, чтобы покупатели предпочли этот сорт привычным красным сортам картофеля. Но со временем картофель Бёрбанк занял ведущее место на Тихоокеанском побережье[10].
Первый крупный заказ
Первым крупным заказом Бёрбанка было выращивание 20 тыс. сливовых деревьев в течение 9 месяцев 1881 года (на четвёртый год его работы в питомнике) для посадки новой плантации. Этот заказ был дан Уорреном Даттоном, состоятельным купцом и банкиром из Петалумы, который решил взяться за культуру слив в широких масштабах, по возможности без задержки. В марте 1881 года заказчик пришёл к Бёрбанку и спросил, может ли он поставить ему 20 тыс. деревьев для закладки сада той же осенью. Поразмышляв несколько минут, Бёрбанк счёл это необычное предложение реалистичным, если взять сеянцы миндаля как подвой и заокулировать их в июне. Даттон согласился финансировать опыт и оплатить необходимые расходы на рабочую силу и на приобретение семян миндаля для посева. Кроме двух акров в питомнике, Бёрбанк взял в аренду ещё дополнительно пять акров земли[10].
Бёрбанк был знаком со свойством миндаля, в отличие от всех других косточковых, «давать всходы так же быстро, как и кукуруза». Он приступил к проращиванию двадцати тысяч миндальных орехов. Семена были разложены на хорошо дренированный крупный песок и накрыты рогожей, на которую сверху насыпались ещё 2,5 см песка — это позволяло просматривать семена, приподняв рогожу.
Примерно через 14 дней семена стали прорастать, после чего их высаживали в питомнике. Сеянцы миндаля были высажены в ряды на расстоянии около 10 см друг от друга с междурядьями около 1,2 м. В конце июня, в июле и августе большие бригады окулировщиков провели окулировку (прививку глазками) французской сливы на подвои миндаля. Спустя примерно 10 дней, когда глазки прижились, верхушки миндального подвоя, чтобы затормозить их рост и стимулировать рост глазков, были надломлены на высоте примерно 20 см от земли. После того как побеги сливы достигли 30 см в высоту, верхушка подвоя окончательно срезалась. К 1 декабря около 19 500 деревьев были готовы к высадке, остальные были готовы на следующий год. Плодовый сад был разбит на площади в 200 акров за один сезон[10]. Бёрбанк вспоминал: «Обрадованный заказчик назвал меня волшебником и с большим удовольствием оплатил счёт»[15].
Плодовый питомник Бёрбанка
Бёрбанк продавал свои саженцы без коммивояжёров, наличие которых увеличивало бы риск сбыта непроверенных растений, и к нему за саженцами начали стекаться фермеры издалека, за 100 и более миль. Число клиентов настолько увеличилось, что иногда создавались большие очереди[10].
Впоследствии Бёрбанк приобрёл в Санта-Розе сырую площадь, бывшую дном пруда, которая требовала осушения. Он установил систему дренажных труб на глубине 120 см, которая отводила дождевую воду в ближайший ручей, а в засушливую — напротив, увлажняла почву[15]. Кроме того, потребовалось удобрить тяжелую глинистую почву запахиванием в неё при помощи бригады рабочих 1800 возов навоза, поскольку он был дёшев и находился поблизости[10].
Желая повысить уровень промышленного садоводства в своём питомнике, и рассуждая о возможности ускоренного выведения качественных сортов, он писал[15]:
«Природа имеет в своем распоряжении множество разнообразнейших способов решать любой сложности задачу создания новой формы растения, не боясь неудач и не ограничиваясь сроками. Человек при своей интеллигентности, применяя систему, по которой действует природа, может и должен найти свои приёмы быстрого создания новых растений. Он не может мириться с миллионами неудач и ждать успеха создания новой формы тысячелетия».
Бёрбанк совершал поездки в окружающие районы, чтобы выполнить заказы восточных и иностранных фирм на семена и луковицы местных растений Калифорнии. В 1880—1881 годах он посетил район гейзеров, который оказался богат новыми растительными формами.
Около 1884 года питомник Бёрбанка занял прочное место среди предприятий такого типа, давая доход в 10 тысяч или более долларов в год[10].
Первая партия японских семян и сеянцев поступила к Бёрбанку 5 ноября 1884 года. Готовясь к её прибытию, он приобрёл участок Диммик и за несколько месяцев до этого подготовил опытные делянки для выращивания представителей экзотических видов плодовых. На следующий год Бёрбанк смог приобрести ферму в Себастополе, на реке Рашен-Ривер, в 7 милях от Санта Роса, где условия были более благоприятными для выращивания некоторых типов растений. Вторая посылка из Японии, включавшая сливу, пришла 20 декабря 1885 года. Опытный участок в Себастополе размером 18 акров, где предполагалось высадить её и культивировать, он приобрёл восемью днями позже[10].
Имя Бёрбанка, а также его фермы в Санта-Розе и в Себастополе, постепенно получили известность не только в США, но даже за океаном. Его методы выведения новых сортов, однако, встретили неприятие ряда современных ему учёных, которые сомневались в их обоснованности. Один из проповедников с церковной кафедры доказывал, что «он идёт наперекор воле Божией. Если бы такие новые формы были нужны, то Творец сам позаботился бы об их создании»[11].
C 1893 года Бёрбанк прекратил торговые операции и сосредоточился на селекции растений[11].
Бёрбанк переписывался с европейскими и австралийскими известными растениеводами и фирмами, обмениваясь с ними дикорастущими растениями Калифорнии и полезной информацией. В своей книге «Жатва жизни» он впоследствии писал[15]:
«Эта работа доставила мне много радости и, кроме того, дала деньги. Мало кому известно, но это факт, что калифорнийские дикорастущие цветы и кустарники в Англии и других европейских странах сделались любимыми садовыми растениями».
Бёрбанк вёл переписку и с простыми людьми, прочитавшими газетные заметки и объявления. Они присылали знаменитому садоводу посылки с семенами и клубнями из различных уголков Земного шара[15].
Влияние работ Дарвина
На молодого Бёрбанка большое впечатление произвела вышедшая в 1868 году работа Чарльза Дарвина «Изменчивость животных и растений в одомашненном состоянии» (англ. Charles Darwin «The Variation of Animals and Plants Under Domestication»)[18] Бёрбанк вспоминал:
«Эта книга открыла мне новый мир — трудно себе представить, какое значение имела для меня эта книга!».
Другой труд Дарвина, который вышел в 1877 году, «Действие самоопыления и перекрестного опыления в растительном царстве» (англ. Charles Darwin «The Effects of Cross- and Self-Fertilization in the Vegetable Kingdom»), также попал в руки Бёрбанка и поразил его следующим замечанием: «Поскольку растениям свойственно столько различных и приносящих результаты способов оплодотворения путём скрещивания, из этого факта можно было бы заключить лишь то, что они извлекают отсюда большую пользу, и задача настоящего труда и состоит в том, чтобы показать характер и значение полученных таким путём преимуществ»[15].
Об учении Дарвина он впоследствии высказывался так:
«Моя приверженность в течение всей моей жизни к учению Чарльза Дарвина не была слепой верой в его авторитет; некоторые из его теорий я даже взял вследствие моего небольшого опыта сперва под сомнение. Но со временем у меня все больше было случаев практически проверить его теории в саду и в поле, и чем старше я становился, тем крепче я убеждался, что он — действительный учитель, а все другие — только ученики, как и я сам».
Узнав об анти-дарвинском судебном процессе над учителем Скопсом (см. Обезьяний процесс), Бёрбанк поднял свой голос в защиту учения Дарвина и заявил, что всю жизнь следовал дарвинизму. Он считал, что выведенные им сорта обязаны своим появлением Чарльзу Дарвину[15].
Общественное и научное признание
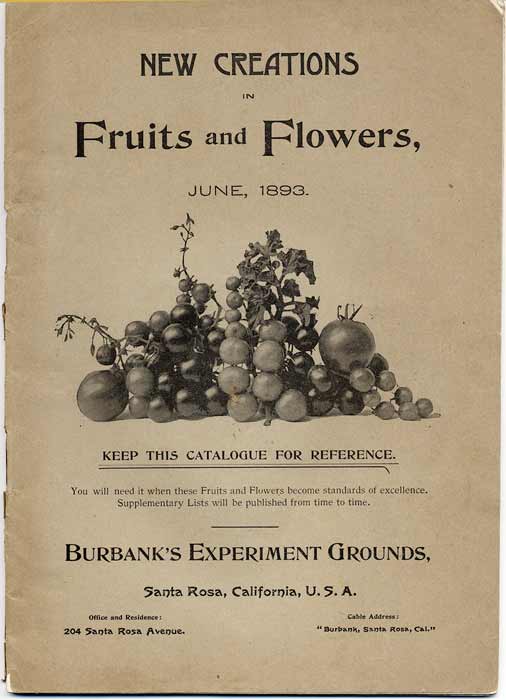 Официальные сведения о проводимой работе появились в опубликованной в июне 1893 года брошюре «Создание новых плодов и цветов», где на 50 страницах был приведён список новых растений. Эта публикация вызвала всеобщий интерес, однако ряд ботаников и растениеводов, за исключением лично посетивших участки Бёрбанка, открыто выражали недоверие. Со временем опытная работа подверглась внимательному осмотру многочисленными посетителями, включая видных помологов, садоводов и ботаников всего мира, скептицизм исчез, а в журналах и книгах появились заметки, которые отмечали и высоко оценивали новую работу. Профессор Де Фриз, который посещал опытные участки Бёрбанка, сказал, что упомянутый каталог 1893 года дал автору «мировую известность и познакомил его почти со всеми наиболее крупными садоводческими фирмами на земле»[10].
Официальные сведения о проводимой работе появились в опубликованной в июне 1893 года брошюре «Создание новых плодов и цветов», где на 50 страницах был приведён список новых растений. Эта публикация вызвала всеобщий интерес, однако ряд ботаников и растениеводов, за исключением лично посетивших участки Бёрбанка, открыто выражали недоверие. Со временем опытная работа подверглась внимательному осмотру многочисленными посетителями, включая видных помологов, садоводов и ботаников всего мира, скептицизм исчез, а в журналах и книгах появились заметки, которые отмечали и высоко оценивали новую работу. Профессор Де Фриз, который посещал опытные участки Бёрбанка, сказал, что упомянутый каталог 1893 года дал автору «мировую известность и познакомил его почти со всеми наиболее крупными садоводческими фирмами на земле»[10].
Бёрбанк получил поддержку института Карнеги в 1905 году, до этого производя опыты на собственные средства. Институт предложил помощь в размере 100 000 долларов (по 10 000 в год), в основном, для организации сложной записи «родословной» выводимых сортов, чтобы многие тысячи выводимых им форм получили документальное описание[11].
Прикомандированные молодые научные сотрудники (Холл и др.), однако, оказались в затруднительном положении: работа Бёрбанка была объемной, требовала обширных объяснений, и не имела документально-точных записей. Черновики же были понятны только самому Бёрбанку. Учёные специалисты вынуждены были отказаться от этой задачи[15].
В 1914—1915 годах в США было издано 12-томное описание 1250 наиболее выдающихся новых растений Бёрбанка[9]. Будучи снабжённым цветными фотографиями плодов, цветов и др., оно было живо и увлекательно написано, но отчасти лишено научно-документального характера изложения[15].
Попытка чтения университетских лекций в Станфордском университете не удовлетворяла Бёрбанка, поглощенного целиком опытами над растениями[15].
Значительные заслуги Бёрбанка в области селекции были признаны особым постановлением конгресса Соединённых Штатов[15].
С Бёрбанком поддерживали дружеские отношения представители «Белого дома» в Вашингтоне. Федеральное министерство земледелия использовало услуги Бёрбанка в качестве советника по вопросам растениеводства. Бёрбанк был идейным основоположником вашингтонского «Бюро растительной индустрии», которое занималось реорганизацией культурной флоры США[15].
Публикации в печати, почётные выборы в научные общества, награды, дипломы умножались с каждым годом на протяжении его более чем полувековой карьеры. В то же время, Бёрбанк жаловался на нехватку средств при расширении своих опытов и невозможность запатентовать по законодательству того времени свои образцы растительных форм[15].
По утверждению БСЭ, Бёрбанк не получал финансовой поддержки от правительства США, и постоянно нуждался в средствах. «Работы Бёрбанка в Америке не получили должного развития, многие выведенные им сорта утеряны или забыты»[1].
Однако, в 1986 году выдающиеся заслуги Бёрбанка были официально признаны организацией, отдающей должное вкладу наиболее видных изобратателей человеческого общества — National Inventors Hall of Fame.
Среди соседей Бёрбанка, которые часто навещали Санта-Розу, был писатель Джек Лондон, живший неподалеку в долине Сонома. У Бёрбанка было много друзей и доброжелателей, среди которых — Томас Эдисон, а также другие известные американцы. Будучи простым и общительным по характеру, он столкнулся с обилием одолевавших его посетителей, и был вынужден ограничить свои дружеские контакты ради опытов с растениями[15].
Методы работы
 Бёрбанк использовал методы межсортовой, межвидовой и межродовой гибридизации, а также семена, полученные от свободного опыления[1]. Его работу отличали массовость отбора сеянцев после их скрещивания, прививки сеянцев в крону деревьев с целью ускорения их плодоношения, а также отбор по косвенным признакам, таким как форма и качество листа.
Бёрбанк использовал методы межсортовой, межвидовой и межродовой гибридизации, а также семена, полученные от свободного опыления[1]. Его работу отличали массовость отбора сеянцев после их скрещивания, прививки сеянцев в крону деревьев с целью ускорения их плодоношения, а также отбор по косвенным признакам, таким как форма и качество листа.
Отдалённая гибридизация
Основным методом селекции, которым пользовался Бёрбанк, был отбор после отдалённого скрещивания растений, принадлежащих зачастую не только к различным видам, но и к разным родам. Это увеличивало разнообразие признаков у потомства. Этот способ селекции был общим у Бёрбанка и русского селекционера И. В. Мичурина. Для обоих селекционеров был характерно большое разнообразие вовлеченных в опытную работу культур, сортов и диких видов растений. Бёрбанк писал[10]:
«Простейший метод работы по улучшению растений заключаетется в отборе лучших сеянцев от свободного опыления. Расширение этого метода требует внутривидового перекрёстного оплодотворения с последующим отбором. Можно использовать ещё более смелый метод, требующий гораздо большего времени для отбора, а именно — гибридизацию различных видов. Наконец, метод может быть построен таким образом, что для выведения нового сорта в гибридизацию вовлекаются несколько различных видов»[10].
Массовый отбор
Особенностью работ Бёрбанка является массовость скрещиваний и значительное количество выращиваемых гибридов. В частности, сеянцев ромашки у Бёрбанка было около 500 тыс., а слив — 7 миллионов. При таких объёмах производилась строгая браковка. Бёрбанк утверждал, что он сж`г на одном костре 65 тыс. гибридов ежевики и оставил лишь несколько единиц лучших.
На опытной плантации Бёрбанка одновременно проводилось, по крайней мере, 3 тыс. различных серий опытов — нередко число сеянцев одной популяции достигало 1 млн. Для теоретиков в области наследственности растений такой подход к гибридному потомству дал бы неполные данные, поскольку при этом отбирались несколько индивидуумов, наиболее близко подходящих к намеченному идеалу, и безжалостно уничтожались остальные. По мнению Бёрбанка, это дублировало метод самой природы, с тем различием, что имелись в виду не способности к выживанию в природных условиях, а потребности и вкусы человека[10].
И. В. Мичурин критиковал массовые посевы с последующим отбором в условиях российского климата, считая этот метод «кладоискательства» пригодным лишь для благоприятного климата Калифорнии и других подобных местностей. Он утверждал: «У нас же, в особенности, в северной и средней полосах СССР, при наших суровых климатических условиях с относительно коротким вегетационным периодом, на таком способе далеко не уйдешь»[19].
Контроль формы и качества листа
Бёрбанк указывал на связь между формой листа и качеством плодов в селекции растений: правильные и хорошо сформированные листья являются косвенным признаком хороших плодов, и наоборот. Эта особенность позволяла Бёрбанку осуществлять массовую селекцию сеянцев плодовых растений, не дожидаясь того момента, когда они начнут плодоносить[9].
Прививка сеянцев в крону взрослого дерева
Бёрбанк рекомендовал прививку гибридными черенками плодоносящих деревьев, чтобы быстрее получить первые плоды в селекционной работе. Например, при получении Бёрбанком бескосточковой сливы, сеянцы, полученные от скрещивания бескосточковой терносливы с французской венгеркой, прививались и плодоносили, после чего все прививки, за исключением немногих наиболее перспективных, были удалены с деревьев, и опыт продолжался только с одними отобранными[10]. И. В. Мичурин предостерегал против бездумного применения этого метода, и указывал на сильное и зачастую не всегда благоприятное влияние подвоя на гибридные сеянцы плодовых растений[20].
Селекционные достижения Бёрбанка
По данным энциклопедии Британника, Лютер Бёрбанк вывел более чем 800 новых сортов и разновидностей растений[21], включая 113 разновидностей сливы, 20 из которых имели коммерческую ценность, 10 коммерческих разновидностей ягодных культур и более чем 50 разновидностей лилий[21].
Вальтер Ховард (Walter L. Howard), помолог Калифорнийского университета (Беркли), в течение 10 лет анализировал сорта, выведенные Бёрбанком[22].
В 2006 году Вильям Стэнсфилд в статье, посвящённой Л. Бёрбанку (опубликована в Journal of Heredity)[6] со ссылкой на статью этого исследователя[23] утверждал, что Бёрбанк вывел свыше 200 сортов только фруктовых растений, включая следующие из них:
| Культура | Число выведенных Бёрбанком сортов (Howard 1945)[6][23] |
|---|---|
| Яблоня | 10 |
| Ежевика | 16 |
| Малина | 13 |
| Земляника | 10 |
| Плодоносящий кактус | 10 |
| Вишня | 10 |
| Инжир | 2 |
| Виноград | 4 |
| Нектарин | 5 |
| Персик | 8 |
| Груша | 4 |
| Плумкот | 11 |
| Айва | 11 |
| Миндаль | 1 |
| Каштан со съедобными плодами | 6 |
| Грецкий орех | 3 |
| Слива и чернослив | 113 |
Помимо картофеля и садовых культур, в этом бюллетене Вальтер Ховард [23] [24] указывал на другие выведенные Бёрбанком сорта:
| Культура | Число выведенных Бёрбанком сортов (Howard 1945)[23][24] |
|---|---|
| Зерновые и кормовые культуры | 9 различных видов |
| Овощные культуры | 26 различных видов |
| Декоративные растения | 91 различный видов |
В целом, специалисты предполагают, что число выведенных Бёрбанком сортов для американского садоводства и сельского хозяйства составляет от 800 до 1000[6].
Необычные гибриды, выведенные Бёрбанком
По данным Большой советской энциклопедии, Бёрбанк вывел следующие сорта растений:
- Овощи, в том числе:
- Плодовые растения:
- слива без косточки[1]
- плумкот (гибрид абрикоса и сливы)[1]
- кактус без колючек. Этот кактус давал плоды с высокими вкусовыми качествами, а также ценный корм для скота[1]
- карликовый каштан, который приносил съедобные плоды на 2-м году жизни[1]
- грецкий орех с тонкой скорлупой[1]
- айва с запахом ананаса[1]
- белая ежевика[1]
- ежевика без шипов[1]
- ягода «ежемалина» (гибрид ежевики и малины)[11]
- Декоративные растения — 91 сорт (культивар), в том числе:
«Картофель Бёрбанка»
 Бёрбанк считал, что выведение этого сорта картофеля было первым важным его достижением в селекции, и оно должно было остаться наиболее важным. Тем не менее, успех в этом деле не был связан ни со сложной гибридизацией, ни с тщательными трудоёмкими отборами, к которым Бёрбанк прибегал впоследствии.
Бёрбанк считал, что выведение этого сорта картофеля было первым важным его достижением в селекции, и оно должно было остаться наиболее важным. Тем не менее, успех в этом деле не был связан ни со сложной гибридизацией, ни с тщательными трудоёмкими отборами, к которым Бёрбанк прибегал впоследствии.
Это произошло в 1872 году, благодаря случайной находке семенной ягоды на одном кусте картофеля сорта «Ранняя роза». Этот сорт картофеля плодов не даёт, и семенная ягода была исключением из правил. Молодой Бёрбанк решил выяснить, что получится, если посеять эти семена. Наблюдая за созреванием ягоды, в один из дней Бёрбанк с ужасом обнаружил её потерю, но после тщательных многодневных поисков нашёл её на расстоянии нескольких футов — это, по его предположению, могли проделать любопытные птицы или случайно пробежавшая по картофельной гряде собака. Он предпринял все меры предосторожности, чтобы семена надёжно сохранялись в течение зимы. Бёрбанк извлек семена из ягоды и обнаружил, что их было 23. С наступлением весны в 1873 года он посеял семена в открытый грунт (впоследствии он считал, что более безопасным с точки зрения защиты от животных или насекомых было бы посеять ценные семена в ящики), и из каждого семечка получил ростки, нежные семядоли, которые выросли в пышный куст. Ни один из этих кустов не дал семенных ягод, однако под каждым из них образовались клубни очень различного типа. Выбрав из них лучшие клубни белого цвета и особо хорошего качества, он приступил к их размножению.
Бёрбанк сообщил о новом сорте сначала одному из предпринимателей (который отклонил его), а затем — Джеймсу Грегори, жителю города Марблхед штата Массачусетс, которому он послал образцы нового картофеля. Грегори испытал картофель и был доволен результатами, и пригласил Бёрбанка для личной встречи. Грегори, по словам Бёрбанка, содержал интересный сад и хорошее семенное хозяйство. Бёрбанк уговорил своего друга X. Брауна сопровождать его в поездке к этому садоводу. Бёрбанк сохранил самые приятные и яркие воспоминания о дне, проведенном в садах Грегори, и о гостеприимстве, которое оказали ему хозяин сада и его семья. Сорт был продан Грегори за 150 долларов, хотя первоначально Бёрбанк запрашивал 500. У Бёрбанка по договорённости с Грегори осталось 10 клубней нового сорта, которые он интродуцировал в Калифорнии. Название «сеянец Бёрбанка» (Burbank’s Seedling) было дано картофелю покупателем. Грегори впоследствии утверждал в своем письме, что «тот, кто вывел такой сорт, заслуживает того, чтобы этот сорт носил его имя».
 После того, как Бёрбанк лично интродуцировал этот сорт в Калифорнии, предубеждение против картофеля с белыми клубнями было преодолено, и сорт Бёрбанк стал стандартным сортом на побережье от Аляски до Мексики. Департамент земледелия США оказал помощь по распространению сорта Бёрбанк, посылая его в различные штаты, среди которых был и Орегон, где этот сорт вскоре стал очень популярным. Сорт Бёрбанк давал лучшие результаты на сухой песчаной почве и в умеренно прохладном влажном климате, в частности, в долинах Сакраменто и Сан-Хоакин. Отдельные фермы в то время засаживали картофелем Бёрбанка от 40 до 400 га каждая. В районе Салинас, штат Калифорния, условия оказались наиболее благоприятными для этого сорта картофеля. За сезон 1906 года на Тихоокеанском побережье США было получено свыше 6 млн бушелей картофеля Бёрбанк, и урожай был относительно стабильным за предшествующие этому году 15—20 лет[10].
После того, как Бёрбанк лично интродуцировал этот сорт в Калифорнии, предубеждение против картофеля с белыми клубнями было преодолено, и сорт Бёрбанк стал стандартным сортом на побережье от Аляски до Мексики. Департамент земледелия США оказал помощь по распространению сорта Бёрбанк, посылая его в различные штаты, среди которых был и Орегон, где этот сорт вскоре стал очень популярным. Сорт Бёрбанк давал лучшие результаты на сухой песчаной почве и в умеренно прохладном влажном климате, в частности, в долинах Сакраменто и Сан-Хоакин. Отдельные фермы в то время засаживали картофелем Бёрбанка от 40 до 400 га каждая. В районе Салинас, штат Калифорния, условия оказались наиболее благоприятными для этого сорта картофеля. За сезон 1906 года на Тихоокеанском побережье США было получено свыше 6 млн бушелей картофеля Бёрбанк, и урожай был относительно стабильным за предшествующие этому году 15—20 лет[10].
Специалисты Департамента земледелия в Вашингтоне в начале XX века подсчитали объём продаж этого сорта, он составил 17 миллионов долларов[10][15].
Сорт картофеля, выведенный Бёрбанком, был устойчив к болезням и экспортировался для борьбы с картофельной эпидемией и неурожаем в Ирландии[5].
Позже сорт картофеля Бёрбанка был подвергнут отбору, и разновидность с красновато-коричневой кожицей была названа картофелем Russet Burbank. Сегодня этот сорт широко культивируется и пользуется значительной популярностью в США. В частности, в ресторанах Макдоналдс картофель фри делают из Russet Burbank[25][26].
Сорт картофеля Russet Burbank доминирует до настоящего времени на северо-западе тихоокеанского побережья США и в штате Айдахо[27][28][29].
Сорта сливы, выведенные Бёрбанком
Наибольших успехов Бёрбанк добился в работе со сливой, создав, согласно энциклопедии Britannica и другим авторитетным источникам, 113 сортов этой культуры, 20 из которых имели коммерческую ценность, особенно в Калифорнии и Южной Африке[1][5][21][30][31].
Бёрбанк приступил к опытам со сливами в 1880-е годы. В то время в Калифорнии разводили всего три сорта, один из них Бёрбанк считал непригодным даже для опытов, а два других давали плоды, которые не переносили транспортировки[15].
Перелистывая книги в Торговой библиотеке Сан-Франциско, Бёрбанк случайно натолкнулся на рассказ одного американского моряка; его внимание привлекло упоминание о сливе с красной мякотью исключительного качества, которую он видел и ел в провинции Сацума в Южной Японии. Приступая к выписке семян растений и луковиц из Японии, Бёрбанк попросил Исаака Бантинга, англичанина, торговца луковицами в Йокогаме, выполнявшего его заказы, раздобыть указанную сливу. Бантинг выполнил это поручение, однако, первая партия молодых деревьев, отправленная им, прибыла к Бёрбанку 5 ноября 1884 года в таком состоянии, что он отчаялся сделать что-либо с ними. Он немедленно послал заказ на новую партию и дал точную инструкцию относительно упаковки. Спустя год с небольшим, 20 декабря 1885 года, прибыли двенадцать сеянцев. Спустя несколько дней после прибытия сеянцев Бёрбанк приобрёл ферму Голд-Ридж в Себастополе, в восьми милях от своего участка в Санта-Розе, и здесь подросшие молодые черенки были привиты на старые деревья, чтобы ускорить их плодоношение. Одно из растений дало плоды на следующее лето, остальные — в течение одного или двух последующих сезонов[10].
Японские сливы отличались изменчивостью своих признаков, поскольку в Японии был обычай выращивать их из семян, а не путём прививки, как это было принято в Америке и в Европе. Каждый из двенадцати полученных сеянцев дал плоды с различными интересными признаками, а два из них дали плоды, по мнению Бёрбанка, совершенно исключительного качества. Эти два деревца послужили основой для создания двух новых сортов. Профессор X. Е. ван Диман, помолог Департамента земледелия Соединенных Штатов, заинтересовался новым сортом сливы и рекомендовал немедленно его внедрять. Он предложил дать ему наименование «Бёрбанк», что и было сделано в 1889 году[10].
Бёрбанк скрещивал японские сливы как между собой, так и с другими сортами слив, которые он получил из разных частей мира. На протяжении 15 лет Бёрбанк собрал мировую коллекцию слив, которые послужили ему основой для селекционной работы. При скрещивании Бёрбанк производил испытание и тщательный отбор гибридов сразу по многим критериям. В «Жатве жизни» он писал[32]:
«Даст ли дерево хороший урожай? Хорошо ли плоды раскинуты по ветвям? Хорошо ли висит зелёный плод, сопротивляется ли он ветру и встряхиванию дерева? Какое сопротивление он оказывает болезням и гниению? Это лишь некоторые из многих вопросов, которые я должен поставить и на которые плод должен хорошо ответить, иначе он не выдерживает экзамена. … Вопрос за вопросом, проба за пробой, опыт за опытом — принятие, условное согласие, сомнение, отказ — плод должен удовлетворять не одному и не двум, а целому десятку, пятидесяти, сотне требований; если этого нет, то он выходит из соревнования. И не следует думать, что это работа на два-три года. Я уже двенадцать лет работал над одной нектариной, которая, как я надеюсь, лишь в этом году будет настолько крупной, что я смогу её выпустить в свет».
На протяжении 25 тысяч опытов, Бёрбанк вывел около 60 высококачественных сортов, из которых 12 оказались выдающимися, и поднявшими культуру слив в Америке и в мире. При этом 13 сортов Бёрбанк вывел из европейских слив, 14 — из американских и 38 — из азиатских — японских и китайских[15].
Лучшие сорта сливы, выведенные Бёрбанком[1]:
- Санта-Роза
- Уиксон
- Бёрбанк
- Америка
- Бьюти
- Чернослив сахарный
- Клаймакс
- Дюарт
- Широ
Многие из выведенных Бёрбаком сортов сливы разводят, кроме США, также в Аргентине, Южной и Северной Африке, Новой Зеландии и Австралии[1].
В СССР, а затем — в России и в других постсоветских странах можно встретить сорта слив, родословная которых тесно связана с сортами Бёрбанка. Например, известен сорт алычи Десертная, выведенный в Никитском ботаническом саду — слива Бёрбанк × алыча Таврийская (автор К. Ф. Костина).
Бескосточковая слива
Сливу без косточки Бёрбанк получил из присланной ему одним из его корреспондентов французской сливы, которая считалась непригодной из-за мелких, несъедобных и кислых ягод, но косточка у неё была недоразвита. Путём длительного ряда скрещиваний с культурными сортами он получил разновидности сливы, плоды которых были одновременно крупными, и почти лишёнными косточек[15].
Бёрбанк писал:
С вопросом о бескосточковой сливе ко мне обращались чаще, чем в отношении других выведенных мною растений. Всегда всех интересовало, что слива, не отличаемая по внешнему виду от всякой другой, является бескосточковой. Даже посетители, для которых это не было неожиданностью, раскусив плод сливы, не могли удержаться от удивления, когда их зубы прокусывали сливу так же легко, как плод земляники[10].
В качестве исходного материала Бёрбанк использовал так называемую бессемянную сливу, которая росла во Франции и была известна там под названием «Бескосточковая» (Sans Noyau). Около 1890 года он получил черенки этой сливы из питомника братьев Трансом во Франции. Черенки были привиты на одно из деревьев сливы и через некоторое время дали урожай синевато-чёрных плодов, которые были сочными и очень кислыми на вкус, величиной с клюкву.
Оригинальное растение имело вид раскидистого колючего кустарника, и не имело никакой ценности, за исключением редкого свойства бескосточковости (оно проявлялось не на всех плодах). Цветки этой «уродливой» сливы были оплодотворены пыльцой французской венгерки и пыльцой других многочисленных слив и венгерок, а полученные сеянцы были привиты для ускорения плодоношения[10].
В 1904 году из большой партии сеянцев Бёрбанк получил два, которые, как ему казалось, имели требуемые свойства. Он пытался определить качества будущего дерева по качествам листа и стебля задолго до вступления дерева в плодоношение, и его предположения оправдались: была получена крупноплодная слива почти совершенно без косточек: в отдельных плодах случайно встречались очень тонкие остатки их, в виде небольшого полумесяца или пятнышка с одной стороны ядра. Вместе с тем плоды были крупными, обладали хорошим вкусом и не уступали по своим качествам французской венгерке. Сверх того, как часто бывает у гибридов, когда одна родительская форма является дикорастущим растением, новая слива оказалась очень урожайной. Бёрбанк полагал, что помимо более высокой товарной ценности, бескосточковая слива не тратит на построение косточки значительные ресурсы, и у бескосточковых слив они могут направляться в повышение урожайности[10].
Поскольку семена бескосточковых слив не были защищены панцирем от внешних воздействий (плесень, грибки, насекомые и др.), Бёрбанку приходилось использовать особые условия хранения семян такой сливы: он делал попытки хранить их в леднике, в стерилизованных опилках, в древесноугольном порошке и в песке. Семена, содержавшиеся в леднике, проросли сразу и в течение недели все взошли, тогда как семена из других партий, собранные от тех же самых деревьев, не прорастали около шести недель. Однако, сеянцы из семян, сохранившихся в леднике, отличались более слабым ростом. Впоследствии Бёрбанк использовал стерилизацию таких семян в слабом растворе бордосской жидкости (медный купорос и известковая вода) и хранил их во влажных опилках, прошедших кипячение.
Одна из бескосточковых слив Бёрбанка имела вместо семени только желеобразное вещество. Сливы с такой аномалией нельзя размножать семенами[10].
Кактус без колючек
 В книге «Жатва жизни» Бёрбанк писал:
В книге «Жатва жизни» Бёрбанк писал:
«Самые тщательные, дорогие и самые утомительные эксперименты, которые я когда-либо предпринимал, были проделаны над кактусом. Я раздобыл себе больше чем шестьсот различных сортов кактусов, которые я посадил и за которыми наблюдал. В общей сложности я потратил на эту работу больше шестнадцати лет… Моя кожа походила на подушку для иголок, столько торчало в ней колючек… Иногда у меня на руках и лице было их так много, что я должен был срезать их бритвой или соскабливать наждачной бумагой…[33]
Среди собранных Бёрбанком исходных форм кактуса были и мясистые кактусы с мощными колючками, и мелкие несъедобные кактусы без колючек из расщелин скал, а также вполне пригодные для употребления, но медленно растущие и не подходящие для хозяйственного выращивания виды. Бёрбанк поставил своей целью объединить полезные признаки в новых сортах кактусов[15].
При выведении новых сортов кактуса отмечалась низкая склонность этих растений к изменчивости их основных признаков и свойств[15]. Кроме того, сами колючки были устойчивым признаком, который с большим трудом поддавался селекции. Бёрбанк писал:
Мне пришлось иметь дело с глубоко укоренившейся особенностью кактуса, почти такой же древней, как и само растение, потому что оно должно было с самого начала покрыться этим предохранительным панцирем, чтобы не оказаться жертвой ищущих пищи животных. Моя работа подвигалась лишь медленно, и я терпел много поражений… Наконец мне удалось вывести кактус без колючек. Пока растение получается с помощью отводков, сохраняются признаки получаемого вида, но даже и у этой разновидности бывают „рецидивы“, когда растение выводится из семян; на это растение нельзя положиться. Быть может потребуются сотни поколений, пока кактус не будет больше думать о колючках при образовании семян».
Выведенные Бёрбанком сорта кактусов из рода Опунция (Opuntia) имели гладкую поверхность съедобных плашек и могли поедаться кроликами или козами в качестве фуражного растения, в отличие от диких сородичей этих кактусов. Помимо «плашек» (видоизменённых стеблей), Бёрбанк отбирал сорта кактусов по виду и качеству их плодов. Мякоть плодов кактуса сочнее большинства сортов яблок, но может напоминать по своему вкусу яблоки или груши. Различные сорта кактуса имели различную окраску плодов: белую, жёлтую или ярко-красную[15].
Плоды появлялись только на четырёх-пятилетнем растении, что увеличивало сложность их селекции по признаку качества плодов. Обильные урожаи на самых плохих почвах почти без ухода позволили считать кактусы самыми урожайными плодовыми растениями мира.
В последние годы жизни Бёрбанк вывел сорта кактусов, пригодные для более холодных по климату стран[15].
Выведенный Бёрбанком сорт опунции без колючек служил прекрасным кормовым растением, а его плоды могли использоваться в пищу в качестве конкурирующего с апельсинами фрукта[11].
Он давал урожай от 150 до 300 тонн зелёной массы с одного акра (акр — 4047 м²). Ткани кактуса содержали более 90 % воды, сахар и полезные минеральные вещества. К сожалению, многие полезные свойства новых и хозяйственно ценных в пустынной местности кактусов были утеряны, не передаваясь по наследству[34].
Новые сорта грецких орехов
 Скрестив два сорта грецкого ореха, Бёрбанк получил гибрид, достигавший полной зрелости в возрасте 14 лет, который мог в относительно короткие сроки снабжать ценной древесиной хозяйство США[11].
Скрестив два сорта грецкого ореха, Бёрбанк получил гибрид, достигавший полной зрелости в возрасте 14 лет, который мог в относительно короткие сроки снабжать ценной древесиной хозяйство США[11].
Бёрбанк обратил внимание на значительное разнообразие грецких орехов, которые встречаются в природе, и рекомендовал их в качестве объекта для работы начинающих селекционеров. Разновидности дикорастущих грецких орехов различаются по величине ореха, толщине скорлупы, по вкусу ядра, а также и по другим особенностям, таким как урожайность, срок созревания, форма кроны, мощность развития и т. д. Бёрбанк рекомендовал делать прививки сеянца в крону плодоносящего дерева, чтобы не ждать несколько лет до созревания растения, и иметь возможность ускоренно производить отбор по качеству плодов. Прививка грецкого ореха удаётся относительно легко, при этом предпочтительной является прививка в расщеп клинообразным вырезом.
Бёрбанк вывел ряд форм этого растения, в том числе известный сорт ореха «Санта-Роза с бумажной скорлупой» (Santa Rosa Soft-Shell) — значительная урожайность сочеталась в нём с наличием легко ломающейся от нажатия пальцем скорлупы. Бёрбанк получил этот сорт от дерева с тонкой скорлупой орехов, которое росло на одной из улиц Сан-Франциско. Скорлупа отдельных орехов этого дерева была настолько тонка, что иногда не срасталась, и птицы легко расклёвывали такие орехи. В результате отбора у Бёрбанка сначала получились орехи почти совсем без скорлупы, но ему пришлось отбором в обратном направлении несколько увеличить толщину скорлупы, чтобы защитить орехи от птиц. Бёрбанку удалось также путём простого отбора ускорить время начала плодоношения молодых растений грецкого ореха до одного-полутора лет[15].
И в настоящее время сеянцы сорта Бёрбанка «Парадокс» является самым распространённым в США подвоем[35].
Зерновые и кормовые культуры
Считается, что Бёрбанк был автором 9 сортов и гибридов зерновых и кормовых культур. По имеющимся в архивах ВИР сведениям, в 1922 году для России должны были быть закуплены гибриды Бёрбанка: гибрид между сорго и кукурузой; гибрид мягкой пшеницы.
Декоративные растения
- Prunus persica — Peach — 'GaLa' 'Elberta Queen' 'Redhaven' 'Burbank July Elberta'
Итоги научной и практической деятельности
Отзывы коллег
Как и Мичурин, Бёрбанк не получил специального образования — он был самоучкой, удивительно продуктивным любителем, благодаря трудолюбию и таланту оставившим далеко позади множество «специалистов» — профессиональных селекционеров.
Его вклад в селекционное дело высоко оценивали многие современники. Так, К. А. Тимирязев называл Бёрбанка «рабочим-чудотворцем». К. А. Тимирязев ставил имя Бёрбанка в один ряд с передовыми селекционерами и учёными. «Полученные им результаты, — пишет Тимирязев, — превосходят всё, что до сих пор удалось осуществить в этом направлении, и одинаково важны как в практическом, так и в научно-теоретическом отношении»[36].
И. В. Мичурин высоко оценивал работы своего калифорнийского коллеги, считая, что он «не был копиистом и не был чужеучкой, вёл работу своими оригинальными способами улучшения… Лишь одно глубокое изучение законов жизни растений дало ему возможность улучшать и пополнять ассортименты плодовых растений» (Соч., т. 4, 1948, с. 422).
Знаменитый голландский ботаник Де Фриз, который высоко ценил Бёрбанка, но ставил под сомнение научность его достижений, назвал его «гениальным садовником»[15].
Однако, И. В. Мичурин не соглашался с этой точкой зрения. В 1926 году он писал:
Ничего общего с простым садоводом в нём не было, и называть его лишь именем садовода, является крайней наглостью кастового жреца болтологии[37].
В 1921 году Н. И. Вавилов стал заведующим Отделом прикладной ботаники Сельскохозяйственного ученого комитета (в 1925 году реорганизован в ВИПБиНК, с 1931 — ВИР), и осенью этого года выехал в США для участия в Международном конгрессе по болезням хлебных злаков. Одной из целей этой командировки было знакомство с работами американских исследователей и, в частности, Вашингтонским бюро растительной индустрии. Было создано Нью-Йоркское бюро этого Отдела. В ходе этой поездки, Н. И. Вавилов «имел возможность ознакомиться с деятельностью и личностью Бёрбанка». Как писал Вавилов, «стоя с фотографическим аппаратом перед Бёрбанком среди цветов», он «почувствовал эту живую сказку — сказку силы индивидуальности в этом красивом старике с лицом артиста; художника среди его творений…»
Сущность идейного наследства Л. Бёрбанка, по мнению Н. И. Вавилова, «сводится к принципам широкого отбора среди мирового сортового материала, к исследованию в большом масштабе сеянцев от семян плодовых деревьев и к применению междувидовой гибридизации в целях плодоводства и садоводства, могущих пользоваться вегетативным размножением». При этом, по его словам, «идея широкого использования мировых растительных ресурсов нашла отображение в создании в Соединенных Штатах Вашингтонского бюро растительной индустрии при федеративном министерстве земледелия, придавшем ему планомерную мощную организацию»[38].
К. Э. Циолковский упоминал имя Бёрбанка в работе «Гений среди людей», а также в статье «Растение будущего», рассматривая выведение гигантского кактуса без колючек для пустынь и полупустынь со съедобными плодами в качестве продовольственной базы для растущего населения Земного шара. Мировоззренческие и философские особенности работ Бёрбанка, известные в СССР по 12-томному собранию сочинений «Методы и открытия и их практическое применение» (1914—1915 годы)[9], и цитируемые, в частности, Тимирязевым и Мичуриным, получили отражение в таких работах Циолковского, как «Растение будущего», «Животное космоса», «Мои идеи монизма в 1924 году», «Будущее Земли и человечества», «Идеальный строй жизни», «Общественная организация человечества», «Что делать на Земле», «Жизнь человечества», «Любовь к самому себе, или истинное себялюбие», «Очерки о вселенной»[39].
Вклад Бёрбанка в развитие патентного законодательства
При жизни Бёрбанка не существовало авторского или патентного права на выводимые растения. Бёрбанк говорил: «Мы, изобретатели растений, к сожалению, не можем запатентовать новую сливу, тогда как человек, соорудивший автомобильный рожок, который не очень отличается от бараньего рога, получает патент и может, вернувшись в Южную Калифорнию, до конца своей жизни ходить в шелку»[15].
В литературе имеются упоминания о полутора десятков патентов, полученных с 1930 по 1944 годы на сорта из хозяйства Бёрбанка, после его смерти в 1926 году.
Первый закон о патентовании растений в 1930 году проводился в конгрессе Паулем Старком (англ. Paul Stark), впоследствии — председателем Национального комитета по патентованию растений, и Арчибальдом Августином (англ. Archibald Augustine), президентом Американской ассоциации владельцев плодовых питомников, которые выступали в качестве адвокатов. Конгрессмен Фиорелло Ла Гардия, который впоследствии стал известен как мэр Нью-Йорка, был основным оппонентом. Когда автор законопроекта, конгрессмен Фред С.Парнелл (англ. Fred S. Purnell), спросил Ла Гардия, что он думает о Лютере Бёрбанке, он ответил: «Я считаю, что он является одним из величайших американцев, которые когда-либо жили». После этого Парнелл зачитал письмо, которое Старк получил от Бёрбанка незадолго до смерти селекционера в 1926 году. Письмо Бёрбанка прозвучало убедительно для принятия патентного права на растения. Ла Гардия снял своё возражение, и законопроект был принят в Палате представителей, а затем также и в Сенате. «Бёрбанк после смерти добился для растениеводов защиты, которую он сам не получил» (Dreyer 1993)[6].
Взгляды Бёрбанка о наследовании приобретённых признаков
Исследователь Вильям Д. Стенсфилд (William D. Stansfield) из Калифорнийского университета в 2006 году утверждал[6], что, несмотря на громкую славу в прошлом, ныне имя Бёрбанка оказалось не известным даже некоторым современным академическим селекционерам. Теми учёными, которые знают что-нибудь о нём, он часто рассматривается как неспециалист и/или шарлатан. Даже уважаемые современные книги по селекции растений избегают, по его словам, упоминать имя Бёрбанка (например, Allard 1960).
Бёрбанк придерживался ламаркистских взглядов, суть которых он изложил в своих собственных работах. Эти воззрения были широко распространены в начале XX века, что отражено и в названии одного из трудов Бёрбанка «The training of the human plant» (1912). Бёрбанк утверждал:
В своей книге «Жатва жизни» Бёрбанк называл «очень интересной» теорию «упражнения и неупражнения органов» (см. Ламаркизм), в результате чего живые организмы, по мнению сторонников этой теории, приобретают наиболее приспособленный к внешней среде вид.
Многие учёные не признают этой теории, для меня же, после моих работ, правильность её не вызывает никаких сомнений.
— Лютер Бёрбанк «Жатва жизни»[vodospad.kiev.ua/books/book3/raz-8.html]
Эти воззрения Бёрбанка в дальнейшем были использованы практиками и теоретиками в сельском хозяйстве СССР (см. Лысенковщина). В частности, книга Л. Бёрбанка и Х. Вильбура «Жатва жизни» цитировалась сподвижником Т.Лысенко И. Е. Глущенко в его работе «Вегетативная гибридизация растений»[42]. Высказывания Бёрбанка использовал в своих выступлениях и сам Т. Д. Лысенко, который отличался сходными взглядами на наследование живыми организмами приобретённых изменений[43][44].
Английский исследователь Langdon-Davies в 1949 году утверждал, что последователи Бёрбанка и учёные-генетики «на протяжении долгих лет … сражались и обвиняли друг друга», но при этом, в отличие от ситуации с политическим противостоянием в биологии в СССР, в западной науке никто не пытался подавить авторитет Бёрбанка как селекционера, или, напротив, прекратить исследования генетиков[41][45].
В то же время, Бёрбанк заявил, что его успех как селекционера растений непоколебимо основан на дарвинских принципах. В своей книге «Происхождение видов» («On the Origin of Species») (1859), Чарльз Дарвин прибег к теории наследования приобретённых признаков, поскольку это было единственным объяснением наследственности в то время. Ламарк не объяснял, как эффекты изменения среды могут приводить к наследственным приспособительным изменениям в организмах, и таким образом, Дарвин воскресил старую теорию, назвав её «пангенезисом» в книге 1868 года «Изменение животных и растений в домашнем состоянии» («The Variation of Animals and Plants under Domestication»). По теории Дарвина, клетки в различных частях тела выделяют наследственные частички (Дарвин назвал их «геммулами» (gemmules)), которые находят путь к репродуктивным клеткам. Бёрбанк сохранял свою веру в наследование приобретённых признаков даже после переоткрытия законов Менделя в 1900 году и до конца своей жизни[6].
Имя Бёрбанка и память о нём
Виды и сорта растений, названные в честь Бёрбанка
- Chrysanthemum burbankii Makino (Asteraceae)
- Myrica × burbankii A.Chev. (Myricaceae)
- Solanum burbankii Bitter (Solanaceae)
- Клематис 'Лютер Бербанк'
Прижизненное признание
- В начале XX века имя Лютера Бёрбанка, как и имя Ивана Мичурина, было широко известно в России.
«Плоды Мичурина и кактусы Бёрбанка» упоминает Н. А. Заболоцкий в первой редакции стихотворения «Венчание плодами» (1932; Литературный современник. — 1933. — № 1. — С. 71-72)[46][47]. Заболоцкий узнал об американском селекционере из брошюры своего единомышленника К. Э. Циолковского, посвященной съедобным кактусам[46][48].
В последующей редакции стихотворения, вышедшей после смерти И. В. Мичурина, эти строки были переадресованы Мичурину[49].
- Бёрбанк упоминается (рядом с Мичуриным) в очерках Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка».
«Не то ли это идеальное существо, о котором мы мечтали, не тот ли это роскошный гибрид, вывести который было бы не под силу даже Мичурину вместе с Бёрбанком?»[50]
Знания современников о Бёрбанке
- Бёрбанка упоминает Дейл Карнеги в работе «Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично». Рассматривая процесс сбора сведений при подготовке публичного выступления, Карнеги писал:
Соберите значительно больше материала, чем вы намерены использовать. Подражайте Лютеру Бёрбанку. Он часто выращивал миллион растений, чтобы отобрать одно или два, обладающие исключительными качествами. Подберите сто мыслей и отбросьте из них девяносто.— [51].
Критические высказывания
Н. И. Вавилов считал, что «интуитивное творчество художника-секционера шло нередко вразрез современным точным генетическим установлениям» и «не будучи теоретиком-селекционером, Бёрбанк делает немало ошибочных выводов в изложении своей работы»[38].
Он утверждал, что хороший учебник по селекции даст читателю значительно больше знаний, чем 12-томное сочинение Бёрбанка[15].
И. В. Мичурин в 1934 году указывал на отсутствие в каталогах западных торговых заведений большого числа новых сортов, о которых много писали Бёрбанк и другие деятели плодоводства, и отмечал спекулятивный характер науки буржуазного мира. В частности, он утверждал:
«Экономический кризис, охвативший весь Запад и потрясший все основы капитализма, не мог не отразиться на области естественных наук. Если в области выведения новых, качественно улучшенных сортов плодовых растений до кризиса в западных странах сделано было очень немного, то в настоящее время в связи с тягчайшим кризисом ждать какой-либо работы в этом отношении не приходится.
На страницах заграничной, да и нашей советской прессы мою деятельность зачастую сравнивают с работой американского плодовода Лютера Бёрбанка. Я считаю это сравнение неправильным. В методах работы Бёрбанка и моих существует разница. Об этом ещё задолго до революции указывали американские профессора, посещавшие из года в год мой питомник. То же нужно сказать и вообще о всей постановке дела и у других частных деятелей на Западе, не исключая и государственных опытных станций, из числа которых почти не найдется ни одной, специально работающей исключительно над выведением новых, качественно улучшенных сортов плодовых растений.
Если взять любой американский, да и западноевропейских торговых заведений каталог садовых растений, то вы в течение десятков лет встретите едва ли десяток новых сортов, пущенных в продажу.
Спрашивается, где же находится вся та многотысячная масса якобы выведенных новых сортов как Бёрбанком, так и всеми другими заграничными деятелями, о которых так много и часто писалось… в заграничной прессе. Здесь, как видно, многое (о чём писалось) существовало лишь в фантазии писателей или в практическом применении оказалось негодным. Такое явление вполне естественно, потому что над всеми деятелями Запада довлеют условия общественной жизни буржуазного строя, в которых почти всякая деятельность сводится к спекулятивному эффекту…»[52]
— И. В. Мичурин, 1934 год.
Как считает автор книги «Luther Burbank, a Victim of Hero Worship» (1946) Вальтер Ховард (Walter L. Howard), профессор помологии Калифорнийского университета, из множества разновидностей, указанных в каталогах Бёрбанка, определённое хозяйственное значение на тот момент имели лишь немногие (картофель, гибриды слив, зимний ревень, часть декоративных растений, из которых поименована только Shasta daisy).
В то же время, по мнению Ховарда, наука селекции быстро выросла и развивалась за первые две декады XX столетия, и хотя это не общепризнанно, вклад Бёрбанка прослеживается в качестве их мощного активатора. Профессор H. J. Webber, пионер в селекции растений и генетике и современник Бёрбанка, утверждал, что влияние Бёрбанка было весьма значительным в течение, как минимум, двадцати лет, и благодаря достижениям этого человека, он заслуживает порядочного размера памятника в его честь. [53]
Сочинения
- «Лютер Бёрбанк, его методы и открытия» («Luther Burbank, His Methods and Discoveries», в 12 томах, 1914—1915)[9].
- «Как обучить растения работать на человека» («How Plants are Trained to Work for Man», в 8 томах, 1921).
- «Создание растений для человека» («The Training of the Human Plant», 1907).
- «Избранные сочинения», Москва, 1955[10][54].
- Бербанк Лютер и Холл Вильбур. Жатва жизни. — М.: Сельхозгиз, 1939[55]
Напишите отзыв о статье "Бёрбанк, Лютер"
Примечания
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Бёрбанк, Лютер // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.</span>
- ↑ Мартынюк Г. [www.nkj.ru/archive/articles/6600/ Санберри — солнечная ягода]. // «Наука и жизнь», № 8, 2001.
- ↑ [usda.mannlib.cornell.edu/usda/ers/91011/Table067.xls Статистика] по основным культивируемы сортам картофеля в США по данным [usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/homepage.do USDA Economics, Statistics and Market Information System (ESMIS)] (совместный проект библиотеки Корнелльского университета и нескольких агентств из USDA)
- ↑ James Lang. [books.google.com/books?id=Lg9x_p2grM4C&pg=PA46&lpg=PA46&dq=RUSSET+BURBANK+became+a+paradigm&source=bl&ots=5jjWyQ7pMA&sig=u7v4Fnwp01nCn0oPOc8TB0XTSN0&hl=en&ei=3Vm9S7bhMovOsgPazZ3cBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBYQ6AEwAA#v=onepage&q=RUSSET%20BURBANK%20became%20a%20paradigm&f=false Notes of a potato watcher]. Проверено 8 апреля 2010.
- ↑ 1 2 3 4 5 [www.sjsu.edu/depts/Museum/bur.html SJSU virtual museum: Luther Burbank] (недоступная ссылка с 14-03-2014 (3689 дней) — история, копия)
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 [jhered.oxfordjournals.org/cgi/reprint/97/2/95 «Luther Burbank: Honorary Member of the American Breeders’ Association» William D. Stansfield // Journal of Heredity 2006 97(2):95-99; doi:10.1093]
- ↑ [www.vir.nw.ru/history/burbank.htm Лютер Бербанк (Luter Burbank) и Н. И. Вавилов]
- ↑ Т. Д. Лысенко. [imichurin.narod.ru/lysenko/agrobiology_28.html Задачи Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина] (1947). — Стенограмма доклада на открытом партийном собрании Академии (1947 г.) о задачах Академии в свете постановления Пленума ЦК ВКП(б) «О мерах подъёма сельского хозяйства в послевоенный период». Проверено 9 апреля 2010. [www.webcitation.org/65rnIlL5p Архивировано из первоисточника 2 марта 2012].
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Luther Burbank: his methods and discoveries and their practical application (1914). [digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/HistSciTech/HistSciTech-idx?type=header&id=HistSciTech.Burbank01&isize=]
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [djvu-books.narod.ru/burbank.html Лютер Бербанк «Избранные сочинения»] — Л.: Издательство иностранной литературы, 1955. По изданию: «LUTHER BURBANK: His methods and discoveries and their practical application» New York and London LUTHER BERBANK PRESS 1914—1915.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Тимирязев К. А. [imichurin.narod.ru/timiryazev/Timiryazev_Burbank.htm Лютер Бербанк] // Сочинения. Т. VI. — Сельхозгиз, 1939; энциклопедия «Гранат». — Т. 7.
- ↑ [vodospad.kiev.ua/books/book3/raz_1.html Л. Бёрбанк «Жатва жизни», гл. 1]
- ↑ Бёрбанк Л. [vodospad.kiev.ua/books/book3/raz_1_2.html Жатва жизни. — Гл. 1].
- ↑ [www.sjsu.edu/depts/Museum/bur.html SJSU Virtual Museum] (недоступная ссылка с 14-03-2014 (3689 дней) — история, копия)
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Молодчиков А. И. [www.sivatherium.h12.ru/library/Mldchkov/01_03.htm Лютер Бербанк]. — М., 1937.
- ↑ [vodospad.kiev.ua/books/book3/raz_1_3.html Л.Бёрбанк «Жатва жизни», гл. 1]
- ↑ Имеется в виду книга Gray A., Sullivant W.S. A Manual of the Botany of the Northern United States, from New England to Wisconsin and South to Ohio and Pennsylvania Inclusive. — Boston: J. Monroe, 1848 (англ.). Известна сейчас как просто „Определитель Грея“, или „Руководство Грея“; является своего рода стандартом в этом отделе ботаники.
- ↑ Дарвин Ч. [djvu-books.narod.ru/darwin_domestication.html Изменение животных и растений в домашнем состоянии]. — М.—Л.: ОГИЗ — СЕЛЬХОЗГИЗ, 1941.
- ↑ Мичурин И. В. [imichurin.narod.ru/Itogi60/part_1_meth.htm Итоги шестидесятилетних работ]. — Ч. 1. «Принципы и методы работы».
- ↑ Мичурин И. В. [imichurin.narod.ru/Itogi60/part_3_1934.htm Итоги шестидесятилетних работ]. — «Из итогов работы 1934 года».
- ↑ 1 2 3 [www.britannica.com/EBchecked/topic/84930 Luther Burbank (American plant breeder)] (англ.). — статья из Encyclopædia Britannica Online.
- ↑ [www.genetics.org/cgi/content/full/158/4/1391 Genetics, Vol. 158, 1391—1395, August 2001, Copyright © 2001. Plant Breeding Giants: Burbank, the Artist; Vavilov, the Scientist. James F. Crow]
- ↑ 1 2 3 4 Howard WL, 1945. Luther Burbank’s plant contributions. Berkeley: University of California Berkeley Agricultural Experiment Station Bulletin 691.
- ↑ 1 2 [www.wschs-grf.pon.net/bef.html Gold Ridge Luther Burbank’s Experiment Farm Est. 1885]
- ↑ [www.mcdonalds.ca/en/food/myth_busters.aspx McDonald’s uses only select Russet Burbank, Shepody and a few other varieties of Russet potatoes to make our French fries]
- ↑ [info.ag.uidaho.edu/magazine/summer2008/russet.htm University of Idaho | College of Agriculture and Life Sciences | Programs and People]
- ↑ [www.fao.org/docrep/004/y3655e/y3655e08.htm Deficit irrigation practices]
- ↑ [www.panhandle.unl.edu/potato/html/russet_burbank.htm Картофель Russet Burbank на сайте Университета штата Небраска] (англ.)
- ↑ [www.idahopotato.com/ Idaho Potato Commission]
- ↑ [www.peoples.ru/science/naturalist/luther_burbank/ peoples.ru — статья Лютер Бёрбанк]
- ↑ [web.archive.org/web/20070711050206/www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/001/280/09.htm Современный Энциклопедический словарь]. — Изд. «Большая Российская Энциклопедия», 1997.
- ↑ Бёрбанк Л. [vodospad.com/books/book3/raz-10_2.html Жатва жизни. — Раздел 10].
- ↑ [vodospad.com/books/book3/raz-16.html Л.Бёрбанк „Жатва жизни“, раздел 16]
- ↑ Турдиев С., Седых Р., Эрихман В. [www.cactuskiev.com.ua/cactuswiki/index.php/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80 Кактусы]. — Алма-Ата: Кайнар, 1974.
- ↑ [www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TC3-449V2M4-1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=3594b20bfc413a93c94434ba97c08c28 Scientia Horticulturae V. 94, Issues 1-2, 20 May 2002, Pages 157—170]
- ↑ Тимирязев К. А. Исторический метод в биологии. Сочинения, т. VI, Сельхозгиз, 1939. Цит. по: Глущенко И. Е. Вегетативная Гибридизация. — 1948. — С. 35. [djvu-books.narod.ru/glushenko.html]
- ↑ Яровизация, № 6(9), 1936. — С. 3—4.
- ↑ 1 2 [www.vir.nw.ru/history/burbank.htm Лютер Бербанк (Luter Burbank) и Н. И. Вавилов]
- ↑ Алексеева В. И. [readings.gmik.ru/lecture/2002-PRAKTICHESKAYA-DEYATELNOST-I-IDEI-LYUTERA-BERBANKA-KAK-ISTOCHNIK-MIROVOZZRENIYA-K-E-TSIOLKOVSKOGO Практическая деятельность и идеи Лютера Бербанка как источник мировоззрения К. Э. Циолковского]. — ГМИК им. К. Э. Циолковского, Секция «Исследование научного творчества К. Э. Циолковского», 2002.
- ↑ Jordan D. S., V. L. Kellog. 1909. The Scientific Aspects of Luther Burbank’s Work. San Francisco. — P. 85—86.
- ↑ 1 2 Животовский Л. А. [macroevolution.narod.ru/zh_lamark.pdf Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, «Наследование приобретённых признаков: Ламарк был прав»] //«Химия и Жизнь», 2003, № 4. — С. 22—26.
- ↑ Глущенко И. Е. [djvu-books.narod.ru/glushenko.html Вегетативная гибридизация растений]. — 1948. — С. 35.
- ↑ Лысенко Т. Д. [imichurin.narod.ru/lysenko/agrobiology_07.html «О двух направлениях в генетике» (1937)]
- ↑ Лысенко Т. Д. [imichurin.narod.ru/lysenko/agrobiology_05.html «О перестройке семеноводства» (1935)]
- ↑ Langdon-Davies J. 1949. Russia Puts the Clock Back (A study of Soviet science and some British scientists). — L.: Victor Gollancz Ltd., цит. по…
- ↑ 1 2 [magazines.russ.ru/ural/2003/5/bel.html Журнальный зал | Урал, 2003 N5 | Сергей Беляков — Гностик из Уржума]
- ↑ loshch.livejournal.com/24591.html «Деревья» по авторскому экземпляру корректуры невышедшего сборника «Стихотворения 1926—1932»
- ↑ [www.livejournal.com/go.bml?journal=ru_monument&itemid=244088&dir=next ru_monument: Мичурин в Мичуринске]
- ↑ [www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=13177 Николай Заболоцкий «Венчание плодами»]
- ↑ [lib.ru/ILFPETROV/amerika.txt Илья Ильф, Евгений Петров. «Одноэтажная Америка»] на сайте lib.ru
- ↑ [shnurok14.narod.ru/Psih/Karnegi/DeilKarnegi.htm Дейл Карнеги «Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично»]
- ↑ И. В. Мичурин Ответы на вопросы редакции журнала «За марксистско-ленинское естествознание». Впервые опубликовано в 1934 году в книге «Труды селекционно-генетической станции имени И. В. Мичурина — том 11». //[imichurin.narod.ru/michurin_izb/michurin_izb.htm И. В. Мичурин Избранные сочинения, М.:Московский рабочий, 1950]
- ↑ [www.wschs-grf.pon.net/bef.html net.net — One of the Internet’s premiere addresses]
- ↑ [vodospad.kiev.ua/book9.html Лютер Бербанк «Избранные сочинения»]
- ↑ [vodospad.kiev.ua/book3.html Бербанк Лютер и Холл Вильбур. «Жатва жизни»]
</ol>
Литература
- Бёрбанк, Лютер // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.</span>
- Тимирязев К. А. Два дара науки. Соч., т. 9. — М., 1939.
- Гарвуд А. Обновленная земля, в сокращ. изложении К. А. Тимирязева. — М., 1919.
- Молодчиков А. И. Лютер Бербанк. Садовод «чудотворец». — М.: Государственное антирелигиозное издательство, 1937.
- [www.fao.org/agris/search/display.do?f=./1989/v1506/US8813341.xml;US8813341 Dreyer, Peter. A gardener touched with genius: the life of Luther Burbank 1985] (англ.)
- [www.britannica.com/EBchecked/topic/84928/Burbank Britannica online encyclopedia article on Burbank: Burbank] (англ.)
Ссылки
- [www.botsad.ru/lib/one3.htm Страничка Л. Бёрбанка на сайте Ботанического сада Дальневосточного отделения Российской Академии наук]
- [www.invent.org/hall_of_fame/21.html National Inventors Hall of Fame profile]
- [www.wschs-grf.pon.net/bef.html Luther Burbank’s Experiment Farm Est. 1885]
- [score.rims.k12.ca.us/activity/LBSite/lobby.html Luther Burbank Virtual Museum] Виртуальное путешествие (фотографии) по реальному ботаническому саду, в котором растут деревья, созданные Бёрбанком — в том числе «[score.rims.k12.ca.us/activity/LBSite/hg/hgvt3.html Парадоксальный орех]» — быстрорастущее дерево с прочной древесиной.
- [www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/PUBLICAT/Cactusnt/cactus3.htm UN report on spineless cactus cultivation in Tunisia]
- [links.jstor.org/sici?sici=1073-9300%28200121%2915%3A1%3C52%3AARCFKA%3E2.0.CO%3B2-U&size=LARGE A Rare Crossing: Frida Kahlo and Luther Burbank]
- [digital.library.wisc.edu/1711.dl/HistSciTech.LutherBurbank Luther Burbank: His Methods and Discoveries and Their Practical Application], a 12-volume monographic series, is available online through the University of Wisconsin Digital Collections Center ([uwdc.library.wisc.edu]). ([digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/HistSciTech/HistSciTech-idx?type=browse&scope=HistSciTech.LutherBurbank Тут же размещены ссылки на труды], и фрагменты трудов Бёрбанка в свободном доступе).
- [www.wschs-grf.pon.net Official website of the Western Sonoma County Historical Society and Luther Burbank’s Gold Ridge Experiment Farm]
- [www.ananda.org/inspiration/books/ay/38.html Autobiography of a Yogi, by Paramhansa Yogananda, Chapter 38: Luther Burbank — A Saint Amidst the Roses] at www.ananda.org
- [www.saveseeds.org/biography/burbank/index.html Luther Burbank. A Pioneer Plant Breeder] (онлайн-библиотека трудов Бёрбанка, Burbank, Luther, 1849—1926. Whitson, John; John, Robert; Williams, Henry Smith, 1863—1943, Editor Luther Burbank: his methods and discoveries and their practical application New York: Luther Burbank Press, 1914 digital.library.wisc.edu/1711.dl/HistSciTech.Burbank01)
Отрывок, характеризующий Бёрбанк, Лютер
В избе, мимо которой проходили солдаты, собралось высшее начальство, и за чаем шел оживленный разговор о прошедшем дне и предполагаемых маневрах будущего. Предполагалось сделать фланговый марш влево, отрезать вице короля и захватить его.Когда солдаты притащили плетень, уже с разных сторон разгорались костры кухонь. Трещали дрова, таял снег, и черные тени солдат туда и сюда сновали по всему занятому, притоптанному в снегу, пространству.
Топоры, тесаки работали со всех сторон. Все делалось без всякого приказания. Тащились дрова про запас ночи, пригораживались шалашики начальству, варились котелки, справлялись ружья и амуниция.
Притащенный плетень осьмою ротой поставлен полукругом со стороны севера, подперт сошками, и перед ним разложен костер. Пробили зарю, сделали расчет, поужинали и разместились на ночь у костров – кто чиня обувь, кто куря трубку, кто, донага раздетый, выпаривая вшей.
Казалось бы, что в тех, почти невообразимо тяжелых условиях существования, в которых находились в то время русские солдаты, – без теплых сапог, без полушубков, без крыши над головой, в снегу при 18° мороза, без полного даже количества провианта, не всегда поспевавшего за армией, – казалось, солдаты должны бы были представлять самое печальное и унылое зрелище.
Напротив, никогда, в самых лучших материальных условиях, войско не представляло более веселого, оживленного зрелища. Это происходило оттого, что каждый день выбрасывалось из войска все то, что начинало унывать или слабеть. Все, что было физически и нравственно слабого, давно уже осталось назади: оставался один цвет войска – по силе духа и тела.
К осьмой роте, пригородившей плетень, собралось больше всего народа. Два фельдфебеля присели к ним, и костер их пылал ярче других. Они требовали за право сиденья под плетнем приношения дров.
– Эй, Макеев, что ж ты …. запропал или тебя волки съели? Неси дров то, – кричал один краснорожий рыжий солдат, щурившийся и мигавший от дыма, но не отодвигавшийся от огня. – Поди хоть ты, ворона, неси дров, – обратился этот солдат к другому. Рыжий был не унтер офицер и не ефрейтор, но был здоровый солдат, и потому повелевал теми, которые были слабее его. Худенький, маленький, с вострым носиком солдат, которого назвали вороной, покорно встал и пошел было исполнять приказание, но в это время в свет костра вступила уже тонкая красивая фигура молодого солдата, несшего беремя дров.
– Давай сюда. Во важно то!
Дрова наломали, надавили, поддули ртами и полами шинелей, и пламя зашипело и затрещало. Солдаты, придвинувшись, закурили трубки. Молодой, красивый солдат, который притащил дрова, подперся руками в бока и стал быстро и ловко топотать озябшими ногами на месте.
– Ах, маменька, холодная роса, да хороша, да в мушкатера… – припевал он, как будто икая на каждом слоге песни.
– Эй, подметки отлетят! – крикнул рыжий, заметив, что у плясуна болталась подметка. – Экой яд плясать!
Плясун остановился, оторвал болтавшуюся кожу и бросил в огонь.
– И то, брат, – сказал он; и, сев, достал из ранца обрывок французского синего сукна и стал обвертывать им ногу. – С пару зашлись, – прибавил он, вытягивая ноги к огню.
– Скоро новые отпустят. Говорят, перебьем до копца, тогда всем по двойному товару.
– А вишь, сукин сын Петров, отстал таки, – сказал фельдфебель.
– Я его давно замечал, – сказал другой.
– Да что, солдатенок…
– А в третьей роте, сказывали, за вчерашний день девять человек недосчитали.
– Да, вот суди, как ноги зазнобишь, куда пойдешь?
– Э, пустое болтать! – сказал фельдфебель.
– Али и тебе хочется того же? – сказал старый солдат, с упреком обращаясь к тому, который сказал, что ноги зазнобил.
– А ты что же думаешь? – вдруг приподнявшись из за костра, пискливым и дрожащим голосом заговорил востроносенький солдат, которого называли ворона. – Кто гладок, так похудает, а худому смерть. Вот хоть бы я. Мочи моей нет, – сказал он вдруг решительно, обращаясь к фельдфебелю, – вели в госпиталь отослать, ломота одолела; а то все одно отстанешь…
– Ну буде, буде, – спокойно сказал фельдфебель. Солдатик замолчал, и разговор продолжался.
– Нынче мало ли французов этих побрали; а сапог, прямо сказать, ни на одном настоящих нет, так, одна названье, – начал один из солдат новый разговор.
– Всё казаки поразули. Чистили для полковника избу, выносили их. Жалости смотреть, ребята, – сказал плясун. – Разворочали их: так живой один, веришь ли, лопочет что то по своему.
– А чистый народ, ребята, – сказал первый. – Белый, вот как береза белый, и бравые есть, скажи, благородные.
– А ты думаешь как? У него от всех званий набраны.
– А ничего не знают по нашему, – с улыбкой недоумения сказал плясун. – Я ему говорю: «Чьей короны?», а он свое лопочет. Чудесный народ!
– Ведь то мудрено, братцы мои, – продолжал тот, который удивлялся их белизне, – сказывали мужики под Можайским, как стали убирать битых, где страженья то была, так ведь что, говорит, почитай месяц лежали мертвые ихние то. Что ж, говорит, лежит, говорит, ихний то, как бумага белый, чистый, ни синь пороха не пахнет.
– Что ж, от холода, что ль? – спросил один.
– Эка ты умный! От холода! Жарко ведь было. Кабы от стужи, так и наши бы тоже не протухли. А то, говорит, подойдешь к нашему, весь, говорит, прогнил в червях. Так, говорит, платками обвяжемся, да, отворотя морду, и тащим; мочи нет. А ихний, говорит, как бумага белый; ни синь пороха не пахнет.
Все помолчали.
– Должно, от пищи, – сказал фельдфебель, – господскую пищу жрали.
Никто не возражал.
– Сказывал мужик то этот, под Можайским, где страженья то была, их с десяти деревень согнали, двадцать дён возили, не свозили всех, мертвых то. Волков этих что, говорит…
– Та страженья была настоящая, – сказал старый солдат. – Только и было чем помянуть; а то всё после того… Так, только народу мученье.
– И то, дядюшка. Позавчера набежали мы, так куда те, до себя не допущают. Живо ружья покидали. На коленки. Пардон – говорит. Так, только пример один. Сказывали, самого Полиона то Платов два раза брал. Слова не знает. Возьмет возьмет: вот на те, в руках прикинется птицей, улетит, да и улетит. И убить тоже нет положенья.
– Эка врать здоров ты, Киселев, посмотрю я на тебя.
– Какое врать, правда истинная.
– А кабы на мой обычай, я бы его, изловимши, да в землю бы закопал. Да осиновым колом. А то что народу загубил.
– Все одно конец сделаем, не будет ходить, – зевая, сказал старый солдат.
Разговор замолк, солдаты стали укладываться.
– Вишь, звезды то, страсть, так и горят! Скажи, бабы холсты разложили, – сказал солдат, любуясь на Млечный Путь.
– Это, ребята, к урожайному году.
– Дровец то еще надо будет.
– Спину погреешь, а брюха замерзла. Вот чуда.
– О, господи!
– Что толкаешься то, – про тебя одного огонь, что ли? Вишь… развалился.
Из за устанавливающегося молчания послышался храп некоторых заснувших; остальные поворачивались и грелись, изредка переговариваясь. От дальнего, шагов за сто, костра послышался дружный, веселый хохот.
– Вишь, грохочат в пятой роте, – сказал один солдат. – И народу что – страсть!
Один солдат поднялся и пошел к пятой роте.
– То то смеху, – сказал он, возвращаясь. – Два хранцуза пристали. Один мерзлый вовсе, а другой такой куражный, бяда! Песни играет.
– О о? пойти посмотреть… – Несколько солдат направились к пятой роте.
Пятая рота стояла подле самого леса. Огромный костер ярко горел посреди снега, освещая отягченные инеем ветви деревьев.
В середине ночи солдаты пятой роты услыхали в лесу шаги по снегу и хряск сучьев.
– Ребята, ведмедь, – сказал один солдат. Все подняли головы, прислушались, и из леса, в яркий свет костра, выступили две, держащиеся друг за друга, человеческие, странно одетые фигуры.
Это были два прятавшиеся в лесу француза. Хрипло говоря что то на непонятном солдатам языке, они подошли к костру. Один был повыше ростом, в офицерской шляпе, и казался совсем ослабевшим. Подойдя к костру, он хотел сесть, но упал на землю. Другой, маленький, коренастый, обвязанный платком по щекам солдат, был сильнее. Он поднял своего товарища и, указывая на свой рот, говорил что то. Солдаты окружили французов, подстелили больному шинель и обоим принесли каши и водки.
Ослабевший французский офицер был Рамбаль; повязанный платком был его денщик Морель.
Когда Морель выпил водки и доел котелок каши, он вдруг болезненно развеселился и начал не переставая говорить что то не понимавшим его солдатам. Рамбаль отказывался от еды и молча лежал на локте у костра, бессмысленными красными глазами глядя на русских солдат. Изредка он издавал протяжный стон и опять замолкал. Морель, показывая на плечи, внушал солдатам, что это был офицер и что его надо отогреть. Офицер русский, подошедший к костру, послал спросить у полковника, не возьмет ли он к себе отогреть французского офицера; и когда вернулись и сказали, что полковник велел привести офицера, Рамбалю передали, чтобы он шел. Он встал и хотел идти, но пошатнулся и упал бы, если бы подле стоящий солдат не поддержал его.
– Что? Не будешь? – насмешливо подмигнув, сказал один солдат, обращаясь к Рамбалю.
– Э, дурак! Что врешь нескладно! То то мужик, право, мужик, – послышались с разных сторон упреки пошутившему солдату. Рамбаля окружили, подняли двое на руки, перехватившись ими, и понесли в избу. Рамбаль обнял шеи солдат и, когда его понесли, жалобно заговорил:
– Oh, nies braves, oh, mes bons, mes bons amis! Voila des hommes! oh, mes braves, mes bons amis! [О молодцы! О мои добрые, добрые друзья! Вот люди! О мои добрые друзья!] – и, как ребенок, головой склонился на плечо одному солдату.
Между тем Морель сидел на лучшем месте, окруженный солдатами.
Морель, маленький коренастый француз, с воспаленными, слезившимися глазами, обвязанный по бабьи платком сверх фуражки, был одет в женскую шубенку. Он, видимо, захмелев, обнявши рукой солдата, сидевшего подле него, пел хриплым, перерывающимся голосом французскую песню. Солдаты держались за бока, глядя на него.
– Ну ка, ну ка, научи, как? Я живо перейму. Как?.. – говорил шутник песенник, которого обнимал Морель.
Vive Henri Quatre,
Vive ce roi vaillanti –
[Да здравствует Генрих Четвертый!
Да здравствует сей храбрый король!
и т. д. (французская песня) ]
пропел Морель, подмигивая глазом.
Сe diable a quatre…
– Виварика! Виф серувару! сидябляка… – повторил солдат, взмахнув рукой и действительно уловив напев.
– Вишь, ловко! Го го го го го!.. – поднялся с разных сторон грубый, радостный хохот. Морель, сморщившись, смеялся тоже.
– Ну, валяй еще, еще!
Qui eut le triple talent,
De boire, de battre,
Et d'etre un vert galant…
[Имевший тройной талант,
пить, драться
и быть любезником…]
– A ведь тоже складно. Ну, ну, Залетаев!..
– Кю… – с усилием выговорил Залетаев. – Кью ю ю… – вытянул он, старательно оттопырив губы, – летриптала, де бу де ба и детравагала, – пропел он.
– Ай, важно! Вот так хранцуз! ой… го го го го! – Что ж, еще есть хочешь?
– Дай ему каши то; ведь не скоро наестся с голоду то.
Опять ему дали каши; и Морель, посмеиваясь, принялся за третий котелок. Радостные улыбки стояли на всех лицах молодых солдат, смотревших на Мореля. Старые солдаты, считавшие неприличным заниматься такими пустяками, лежали с другой стороны костра, но изредка, приподнимаясь на локте, с улыбкой взглядывали на Мореля.
– Тоже люди, – сказал один из них, уворачиваясь в шинель. – И полынь на своем кореню растет.
– Оо! Господи, господи! Как звездно, страсть! К морозу… – И все затихло.
Звезды, как будто зная, что теперь никто не увидит их, разыгрались в черном небе. То вспыхивая, то потухая, то вздрагивая, они хлопотливо о чем то радостном, но таинственном перешептывались между собой.
Х
Войска французские равномерно таяли в математически правильной прогрессии. И тот переход через Березину, про который так много было писано, была только одна из промежуточных ступеней уничтожения французской армии, а вовсе не решительный эпизод кампании. Ежели про Березину так много писали и пишут, то со стороны французов это произошло только потому, что на Березинском прорванном мосту бедствия, претерпеваемые французской армией прежде равномерно, здесь вдруг сгруппировались в один момент и в одно трагическое зрелище, которое у всех осталось в памяти. Со стороны же русских так много говорили и писали про Березину только потому, что вдали от театра войны, в Петербурге, был составлен план (Пфулем же) поимки в стратегическую западню Наполеона на реке Березине. Все уверились, что все будет на деле точно так, как в плане, и потому настаивали на том, что именно Березинская переправа погубила французов. В сущности же, результаты Березинской переправы были гораздо менее гибельны для французов потерей орудий и пленных, чем Красное, как то показывают цифры.
Единственное значение Березинской переправы заключается в том, что эта переправа очевидно и несомненно доказала ложность всех планов отрезыванья и справедливость единственно возможного, требуемого и Кутузовым и всеми войсками (массой) образа действий, – только следования за неприятелем. Толпа французов бежала с постоянно усиливающейся силой быстроты, со всею энергией, направленной на достижение цели. Она бежала, как раненый зверь, и нельзя ей было стать на дороге. Это доказало не столько устройство переправы, сколько движение на мостах. Когда мосты были прорваны, безоружные солдаты, московские жители, женщины с детьми, бывшие в обозе французов, – все под влиянием силы инерции не сдавалось, а бежало вперед в лодки, в мерзлую воду.
Стремление это было разумно. Положение и бегущих и преследующих было одинаково дурно. Оставаясь со своими, каждый в бедствии надеялся на помощь товарища, на определенное, занимаемое им место между своими. Отдавшись же русским, он был в том же положении бедствия, но становился на низшую ступень в разделе удовлетворения потребностей жизни. Французам не нужно было иметь верных сведений о том, что половина пленных, с которыми не знали, что делать, несмотря на все желание русских спасти их, – гибли от холода и голода; они чувствовали, что это не могло быть иначе. Самые жалостливые русские начальники и охотники до французов, французы в русской службе не могли ничего сделать для пленных. Французов губило бедствие, в котором находилось русское войско. Нельзя было отнять хлеб и платье у голодных, нужных солдат, чтобы отдать не вредным, не ненавидимым, не виноватым, но просто ненужным французам. Некоторые и делали это; но это было только исключение.
Назади была верная погибель; впереди была надежда. Корабли были сожжены; не было другого спасения, кроме совокупного бегства, и на это совокупное бегство были устремлены все силы французов.
Чем дальше бежали французы, чем жальче были их остатки, в особенности после Березины, на которую, вследствие петербургского плана, возлагались особенные надежды, тем сильнее разгорались страсти русских начальников, обвинявших друг друга и в особенности Кутузова. Полагая, что неудача Березинского петербургского плана будет отнесена к нему, недовольство им, презрение к нему и подтрунивание над ним выражались сильнее и сильнее. Подтрунивание и презрение, само собой разумеется, выражалось в почтительной форме, в той форме, в которой Кутузов не мог и спросить, в чем и за что его обвиняют. С ним не говорили серьезно; докладывая ему и спрашивая его разрешения, делали вид исполнения печального обряда, а за спиной его подмигивали и на каждом шагу старались его обманывать.
Всеми этими людьми, именно потому, что они не могли понимать его, было признано, что со стариком говорить нечего; что он никогда не поймет всего глубокомыслия их планов; что он будет отвечать свои фразы (им казалось, что это только фразы) о золотом мосте, о том, что за границу нельзя прийти с толпой бродяг, и т. п. Это всё они уже слышали от него. И все, что он говорил: например, то, что надо подождать провиант, что люди без сапог, все это было так просто, а все, что они предлагали, было так сложно и умно, что очевидно было для них, что он был глуп и стар, а они были не властные, гениальные полководцы.
В особенности после соединения армий блестящего адмирала и героя Петербурга Витгенштейна это настроение и штабная сплетня дошли до высших пределов. Кутузов видел это и, вздыхая, пожимал только плечами. Только один раз, после Березины, он рассердился и написал Бенигсену, доносившему отдельно государю, следующее письмо:
«По причине болезненных ваших припадков, извольте, ваше высокопревосходительство, с получения сего, отправиться в Калугу, где и ожидайте дальнейшего повеления и назначения от его императорского величества».
Но вслед за отсылкой Бенигсена к армии приехал великий князь Константин Павлович, делавший начало кампании и удаленный из армии Кутузовым. Теперь великий князь, приехав к армии, сообщил Кутузову о неудовольствии государя императора за слабые успехи наших войск и за медленность движения. Государь император сам на днях намеревался прибыть к армии.
Старый человек, столь же опытный в придворном деле, как и в военном, тот Кутузов, который в августе того же года был выбран главнокомандующим против воли государя, тот, который удалил наследника и великого князя из армии, тот, который своей властью, в противность воле государя, предписал оставление Москвы, этот Кутузов теперь тотчас же понял, что время его кончено, что роль его сыграна и что этой мнимой власти у него уже нет больше. И не по одним придворным отношениям он понял это. С одной стороны, он видел, что военное дело, то, в котором он играл свою роль, – кончено, и чувствовал, что его призвание исполнено. С другой стороны, он в то же самое время стал чувствовать физическую усталость в своем старом теле и необходимость физического отдыха.
29 ноября Кутузов въехал в Вильно – в свою добрую Вильну, как он говорил. Два раза в свою службу Кутузов был в Вильне губернатором. В богатой уцелевшей Вильне, кроме удобств жизни, которых так давно уже он был лишен, Кутузов нашел старых друзей и воспоминания. И он, вдруг отвернувшись от всех военных и государственных забот, погрузился в ровную, привычную жизнь настолько, насколько ему давали покоя страсти, кипевшие вокруг него, как будто все, что совершалось теперь и имело совершиться в историческом мире, нисколько его не касалось.
Чичагов, один из самых страстных отрезывателей и опрокидывателей, Чичагов, который хотел сначала сделать диверсию в Грецию, а потом в Варшаву, но никак не хотел идти туда, куда ему было велено, Чичагов, известный своею смелостью речи с государем, Чичагов, считавший Кутузова собою облагодетельствованным, потому что, когда он был послан в 11 м году для заключения мира с Турцией помимо Кутузова, он, убедившись, что мир уже заключен, признал перед государем, что заслуга заключения мира принадлежит Кутузову; этот то Чичагов первый встретил Кутузова в Вильне у замка, в котором должен был остановиться Кутузов. Чичагов в флотском вицмундире, с кортиком, держа фуражку под мышкой, подал Кутузову строевой рапорт и ключи от города. То презрительно почтительное отношение молодежи к выжившему из ума старику выражалось в высшей степени во всем обращении Чичагова, знавшего уже обвинения, взводимые на Кутузова.
Разговаривая с Чичаговым, Кутузов, между прочим, сказал ему, что отбитые у него в Борисове экипажи с посудою целы и будут возвращены ему.
– C'est pour me dire que je n'ai pas sur quoi manger… Je puis au contraire vous fournir de tout dans le cas meme ou vous voudriez donner des diners, [Вы хотите мне сказать, что мне не на чем есть. Напротив, могу вам служить всем, даже если бы вы захотели давать обеды.] – вспыхнув, проговорил Чичагов, каждым словом своим желавший доказать свою правоту и потому предполагавший, что и Кутузов был озабочен этим самым. Кутузов улыбнулся своей тонкой, проницательной улыбкой и, пожав плечами, отвечал: – Ce n'est que pour vous dire ce que je vous dis. [Я хочу сказать только то, что говорю.]
В Вильне Кутузов, в противность воле государя, остановил большую часть войск. Кутузов, как говорили его приближенные, необыкновенно опустился и физически ослабел в это свое пребывание в Вильне. Он неохотно занимался делами по армии, предоставляя все своим генералам и, ожидая государя, предавался рассеянной жизни.
Выехав с своей свитой – графом Толстым, князем Волконским, Аракчеевым и другими, 7 го декабря из Петербурга, государь 11 го декабря приехал в Вильну и в дорожных санях прямо подъехал к замку. У замка, несмотря на сильный мороз, стояло человек сто генералов и штабных офицеров в полной парадной форме и почетный караул Семеновского полка.
Курьер, подскакавший к замку на потной тройке, впереди государя, прокричал: «Едет!» Коновницын бросился в сени доложить Кутузову, дожидавшемуся в маленькой швейцарской комнатке.
Через минуту толстая большая фигура старика, в полной парадной форме, со всеми регалиями, покрывавшими грудь, и подтянутым шарфом брюхом, перекачиваясь, вышла на крыльцо. Кутузов надел шляпу по фронту, взял в руки перчатки и бочком, с трудом переступая вниз ступеней, сошел с них и взял в руку приготовленный для подачи государю рапорт.
Беготня, шепот, еще отчаянно пролетевшая тройка, и все глаза устремились на подскакивающие сани, в которых уже видны были фигуры государя и Волконского.
Все это по пятидесятилетней привычке физически тревожно подействовало на старого генерала; он озабоченно торопливо ощупал себя, поправил шляпу и враз, в ту минуту как государь, выйдя из саней, поднял к нему глаза, подбодрившись и вытянувшись, подал рапорт и стал говорить своим мерным, заискивающим голосом.
Государь быстрым взглядом окинул Кутузова с головы до ног, на мгновенье нахмурился, но тотчас же, преодолев себя, подошел и, расставив руки, обнял старого генерала. Опять по старому, привычному впечатлению и по отношению к задушевной мысли его, объятие это, как и обыкновенно, подействовало на Кутузова: он всхлипнул.
Государь поздоровался с офицерами, с Семеновским караулом и, пожав еще раз за руку старика, пошел с ним в замок.
Оставшись наедине с фельдмаршалом, государь высказал ему свое неудовольствие за медленность преследования, за ошибки в Красном и на Березине и сообщил свои соображения о будущем походе за границу. Кутузов не делал ни возражений, ни замечаний. То самое покорное и бессмысленное выражение, с которым он, семь лет тому назад, выслушивал приказания государя на Аустерлицком поле, установилось теперь на его лице.
Когда Кутузов вышел из кабинета и своей тяжелой, ныряющей походкой, опустив голову, пошел по зале, чей то голос остановил его.
– Ваша светлость, – сказал кто то.
Кутузов поднял голову и долго смотрел в глаза графу Толстому, который, с какой то маленькою вещицей на серебряном блюде, стоял перед ним. Кутузов, казалось, не понимал, чего от него хотели.
Вдруг он как будто вспомнил: чуть заметная улыбка мелькнула на его пухлом лице, и он, низко, почтительно наклонившись, взял предмет, лежавший на блюде. Это был Георгий 1 й степени.
На другой день были у фельдмаршала обед и бал, которые государь удостоил своим присутствием. Кутузову пожалован Георгий 1 й степени; государь оказывал ему высочайшие почести; но неудовольствие государя против фельдмаршала было известно каждому. Соблюдалось приличие, и государь показывал первый пример этого; но все знали, что старик виноват и никуда не годится. Когда на бале Кутузов, по старой екатерининской привычке, при входе государя в бальную залу велел к ногам его повергнуть взятые знамена, государь неприятно поморщился и проговорил слова, в которых некоторые слышали: «старый комедиант».
Неудовольствие государя против Кутузова усилилось в Вильне в особенности потому, что Кутузов, очевидно, не хотел или не мог понимать значение предстоящей кампании.
Когда на другой день утром государь сказал собравшимся у него офицерам: «Вы спасли не одну Россию; вы спасли Европу», – все уже тогда поняли, что война не кончена.
Один Кутузов не хотел понимать этого и открыто говорил свое мнение о том, что новая война не может улучшить положение и увеличить славу России, а только может ухудшить ее положение и уменьшить ту высшую степень славы, на которой, по его мнению, теперь стояла Россия. Он старался доказать государю невозможность набрания новых войск; говорил о тяжелом положении населений, о возможности неудач и т. п.
При таком настроении фельдмаршал, естественно, представлялся только помехой и тормозом предстоящей войны.
Для избежания столкновений со стариком сам собою нашелся выход, состоящий в том, чтобы, как в Аустерлице и как в начале кампании при Барклае, вынуть из под главнокомандующего, не тревожа его, не объявляя ему о том, ту почву власти, на которой он стоял, и перенести ее к самому государю.
С этою целью понемногу переформировался штаб, и вся существенная сила штаба Кутузова была уничтожена и перенесена к государю. Толь, Коновницын, Ермолов – получили другие назначения. Все громко говорили, что фельдмаршал стал очень слаб и расстроен здоровьем.
Ему надо было быть слабым здоровьем, для того чтобы передать свое место тому, кто заступал его. И действительно, здоровье его было слабо.
Как естественно, и просто, и постепенно явился Кутузов из Турции в казенную палату Петербурга собирать ополчение и потом в армию, именно тогда, когда он был необходим, точно так же естественно, постепенно и просто теперь, когда роль Кутузова была сыграна, на место его явился новый, требовавшийся деятель.
Война 1812 го года, кроме своего дорогого русскому сердцу народного значения, должна была иметь другое – европейское.
За движением народов с запада на восток должно было последовать движение народов с востока на запад, и для этой новой войны нужен был новый деятель, имеющий другие, чем Кутузов, свойства, взгляды, движимый другими побуждениями.
Александр Первый для движения народов с востока на запад и для восстановления границ народов был так же необходим, как необходим был Кутузов для спасения и славы России.
Кутузов не понимал того, что значило Европа, равновесие, Наполеон. Он не мог понимать этого. Представителю русского народа, после того как враг был уничтожен, Россия освобождена и поставлена на высшую степень своей славы, русскому человеку, как русскому, делать больше было нечего. Представителю народной войны ничего не оставалось, кроме смерти. И он умер.
Пьер, как это большею частью бывает, почувствовал всю тяжесть физических лишений и напряжений, испытанных в плену, только тогда, когда эти напряжения и лишения кончились. После своего освобождения из плена он приехал в Орел и на третий день своего приезда, в то время как он собрался в Киев, заболел и пролежал больным в Орле три месяца; с ним сделалась, как говорили доктора, желчная горячка. Несмотря на то, что доктора лечили его, пускали кровь и давали пить лекарства, он все таки выздоровел.
Все, что было с Пьером со времени освобождения и до болезни, не оставило в нем почти никакого впечатления. Он помнил только серую, мрачную, то дождливую, то снежную погоду, внутреннюю физическую тоску, боль в ногах, в боку; помнил общее впечатление несчастий, страданий людей; помнил тревожившее его любопытство офицеров, генералов, расспрашивавших его, свои хлопоты о том, чтобы найти экипаж и лошадей, и, главное, помнил свою неспособность мысли и чувства в то время. В день своего освобождения он видел труп Пети Ростова. В тот же день он узнал, что князь Андрей был жив более месяца после Бородинского сражения и только недавно умер в Ярославле, в доме Ростовых. И в тот же день Денисов, сообщивший эту новость Пьеру, между разговором упомянул о смерти Элен, предполагая, что Пьеру это уже давно известно. Все это Пьеру казалось тогда только странно. Он чувствовал, что не может понять значения всех этих известий. Он тогда торопился только поскорее, поскорее уехать из этих мест, где люди убивали друг друга, в какое нибудь тихое убежище и там опомниться, отдохнуть и обдумать все то странное и новое, что он узнал за это время. Но как только он приехал в Орел, он заболел. Проснувшись от своей болезни, Пьер увидал вокруг себя своих двух людей, приехавших из Москвы, – Терентия и Ваську, и старшую княжну, которая, живя в Ельце, в имении Пьера, и узнав о его освобождении и болезни, приехала к нему, чтобы ходить за ним.
Во время своего выздоровления Пьер только понемногу отвыкал от сделавшихся привычными ему впечатлений последних месяцев и привыкал к тому, что его никто никуда не погонит завтра, что теплую постель его никто не отнимет и что у него наверное будет обед, и чай, и ужин. Но во сне он еще долго видел себя все в тех же условиях плена. Так же понемногу Пьер понимал те новости, которые он узнал после своего выхода из плена: смерть князя Андрея, смерть жены, уничтожение французов.
Радостное чувство свободы – той полной, неотъемлемой, присущей человеку свободы, сознание которой он в первый раз испытал на первом привале, при выходе из Москвы, наполняло душу Пьера во время его выздоровления. Он удивлялся тому, что эта внутренняя свобода, независимая от внешних обстоятельств, теперь как будто с излишком, с роскошью обставлялась и внешней свободой. Он был один в чужом городе, без знакомых. Никто от него ничего не требовал; никуда его не посылали. Все, что ему хотелось, было у него; вечно мучившей его прежде мысли о жене больше не было, так как и ее уже не было.
– Ах, как хорошо! Как славно! – говорил он себе, когда ему подвигали чисто накрытый стол с душистым бульоном, или когда он на ночь ложился на мягкую чистую постель, или когда ему вспоминалось, что жены и французов нет больше. – Ах, как хорошо, как славно! – И по старой привычке он делал себе вопрос: ну, а потом что? что я буду делать? И тотчас же он отвечал себе: ничего. Буду жить. Ах, как славно!
То самое, чем он прежде мучился, чего он искал постоянно, цели жизни, теперь для него не существовало. Эта искомая цель жизни теперь не случайно не существовала для него только в настоящую минуту, но он чувствовал, что ее нет и не может быть. И это то отсутствие цели давало ему то полное, радостное сознание свободы, которое в это время составляло его счастие.
Он не мог иметь цели, потому что он теперь имел веру, – не веру в какие нибудь правила, или слова, или мысли, но веру в живого, всегда ощущаемого бога. Прежде он искал его в целях, которые он ставил себе. Это искание цели было только искание бога; и вдруг он узнал в своем плену не словами, не рассуждениями, но непосредственным чувством то, что ему давно уж говорила нянюшка: что бог вот он, тут, везде. Он в плену узнал, что бог в Каратаеве более велик, бесконечен и непостижим, чем в признаваемом масонами Архитектоне вселенной. Он испытывал чувство человека, нашедшего искомое у себя под ногами, тогда как он напрягал зрение, глядя далеко от себя. Он всю жизнь свою смотрел туда куда то, поверх голов окружающих людей, а надо было не напрягать глаз, а только смотреть перед собой.
Он не умел видеть прежде великого, непостижимого и бесконечного ни в чем. Он только чувствовал, что оно должно быть где то, и искал его. Во всем близком, понятном он видел одно ограниченное, мелкое, житейское, бессмысленное. Он вооружался умственной зрительной трубой и смотрел в даль, туда, где это мелкое, житейское, скрываясь в тумане дали, казалось ему великим и бесконечным оттого только, что оно было неясно видимо. Таким ему представлялась европейская жизнь, политика, масонство, философия, филантропия. Но и тогда, в те минуты, которые он считал своей слабостью, ум его проникал и в эту даль, и там он видел то же мелкое, житейское, бессмысленное. Теперь же он выучился видеть великое, вечное и бесконечное во всем, и потому естественно, чтобы видеть его, чтобы наслаждаться его созерцанием, он бросил трубу, в которую смотрел до сих пор через головы людей, и радостно созерцал вокруг себя вечно изменяющуюся, вечно великую, непостижимую и бесконечную жизнь. И чем ближе он смотрел, тем больше он был спокоен и счастлив. Прежде разрушавший все его умственные постройки страшный вопрос: зачем? теперь для него не существовал. Теперь на этот вопрос – зачем? в душе его всегда готов был простой ответ: затем, что есть бог, тот бог, без воли которого не спадет волос с головы человека.
Пьер почти не изменился в своих внешних приемах. На вид он был точно таким же, каким он был прежде. Так же, как и прежде, он был рассеян и казался занятым не тем, что было перед глазами, а чем то своим, особенным. Разница между прежним и теперешним его состоянием состояла в том, что прежде, когда он забывал то, что было перед ним, то, что ему говорили, он, страдальчески сморщивши лоб, как будто пытался и не мог разглядеть чего то, далеко отстоящего от него. Теперь он так же забывал то, что ему говорили, и то, что было перед ним; но теперь с чуть заметной, как будто насмешливой, улыбкой он всматривался в то самое, что было перед ним, вслушивался в то, что ему говорили, хотя очевидно видел и слышал что то совсем другое. Прежде он казался хотя и добрым человеком, но несчастным; и потому невольно люди отдалялись от него. Теперь улыбка радости жизни постоянно играла около его рта, и в глазах его светилось участие к людям – вопрос: довольны ли они так же, как и он? И людям приятно было в его присутствии.
Прежде он много говорил, горячился, когда говорил, и мало слушал; теперь он редко увлекался разговором и умел слушать так, что люди охотно высказывали ему свои самые задушевные тайны.
Княжна, никогда не любившая Пьера и питавшая к нему особенно враждебное чувство с тех пор, как после смерти старого графа она чувствовала себя обязанной Пьеру, к досаде и удивлению своему, после короткого пребывания в Орле, куда она приехала с намерением доказать Пьеру, что, несмотря на его неблагодарность, она считает своим долгом ходить за ним, княжна скоро почувствовала, что она его любит. Пьер ничем не заискивал расположения княжны. Он только с любопытством рассматривал ее. Прежде княжна чувствовала, что в его взгляде на нее были равнодушие и насмешка, и она, как и перед другими людьми, сжималась перед ним и выставляла только свою боевую сторону жизни; теперь, напротив, она чувствовала, что он как будто докапывался до самых задушевных сторон ее жизни; и она сначала с недоверием, а потом с благодарностью выказывала ему затаенные добрые стороны своего характера.
Самый хитрый человек не мог бы искуснее вкрасться в доверие княжны, вызывая ее воспоминания лучшего времени молодости и выказывая к ним сочувствие. А между тем вся хитрость Пьера состояла только в том, что он искал своего удовольствия, вызывая в озлобленной, cyхой и по своему гордой княжне человеческие чувства.
– Да, он очень, очень добрый человек, когда находится под влиянием не дурных людей, а таких людей, как я, – говорила себе княжна.
Перемена, происшедшая в Пьере, была замечена по своему и его слугами – Терентием и Васькой. Они находили, что он много попростел. Терентий часто, раздев барина, с сапогами и платьем в руке, пожелав покойной ночи, медлил уходить, ожидая, не вступит ли барин в разговор. И большею частью Пьер останавливал Терентия, замечая, что ему хочется поговорить.
– Ну, так скажи мне… да как же вы доставали себе еду? – спрашивал он. И Терентий начинал рассказ о московском разорении, о покойном графе и долго стоял с платьем, рассказывая, а иногда слушая рассказы Пьера, и, с приятным сознанием близости к себе барина и дружелюбия к нему, уходил в переднюю.
Доктор, лечивший Пьера и навещавший его каждый день, несмотря на то, что, по обязанности докторов, считал своим долгом иметь вид человека, каждая минута которого драгоценна для страждущего человечества, засиживался часами у Пьера, рассказывая свои любимые истории и наблюдения над нравами больных вообще и в особенности дам.
– Да, вот с таким человеком поговорить приятно, не то, что у нас, в провинции, – говорил он.
В Орле жило несколько пленных французских офицеров, и доктор привел одного из них, молодого итальянского офицера.
Офицер этот стал ходить к Пьеру, и княжна смеялась над теми нежными чувствами, которые выражал итальянец к Пьеру.
Итальянец, видимо, был счастлив только тогда, когда он мог приходить к Пьеру и разговаривать и рассказывать ему про свое прошедшее, про свою домашнюю жизнь, про свою любовь и изливать ему свое негодование на французов, и в особенности на Наполеона.
– Ежели все русские хотя немного похожи на вас, – говорил он Пьеру, – c'est un sacrilege que de faire la guerre a un peuple comme le votre. [Это кощунство – воевать с таким народом, как вы.] Вы, пострадавшие столько от французов, вы даже злобы не имеете против них.
И страстную любовь итальянца Пьер теперь заслужил только тем, что он вызывал в нем лучшие стороны его души и любовался ими.
Последнее время пребывания Пьера в Орле к нему приехал его старый знакомый масон – граф Вилларский, – тот самый, который вводил его в ложу в 1807 году. Вилларский был женат на богатой русской, имевшей большие имения в Орловской губернии, и занимал в городе временное место по продовольственной части.
Узнав, что Безухов в Орле, Вилларский, хотя и никогда не был коротко знаком с ним, приехал к нему с теми заявлениями дружбы и близости, которые выражают обыкновенно друг другу люди, встречаясь в пустыне. Вилларский скучал в Орле и был счастлив, встретив человека одного с собой круга и с одинаковыми, как он полагал, интересами.
Но, к удивлению своему, Вилларский заметил скоро, что Пьер очень отстал от настоящей жизни и впал, как он сам с собою определял Пьера, в апатию и эгоизм.
– Vous vous encroutez, mon cher, [Вы запускаетесь, мой милый.] – говорил он ему. Несмотря на то, Вилларскому было теперь приятнее с Пьером, чем прежде, и он каждый день бывал у него. Пьеру же, глядя на Вилларского и слушая его теперь, странно и невероятно было думать, что он сам очень недавно был такой же.
Вилларский был женат, семейный человек, занятый и делами имения жены, и службой, и семьей. Он считал, что все эти занятия суть помеха в жизни и что все они презренны, потому что имеют целью личное благо его и семьи. Военные, административные, политические, масонские соображения постоянно поглощали его внимание. И Пьер, не стараясь изменить его взгляд, не осуждая его, с своей теперь постоянно тихой, радостной насмешкой, любовался на это странное, столь знакомое ему явление.
В отношениях своих с Вилларским, с княжною, с доктором, со всеми людьми, с которыми он встречался теперь, в Пьере была новая черта, заслуживавшая ему расположение всех людей: это признание возможности каждого человека думать, чувствовать и смотреть на вещи по своему; признание невозможности словами разубедить человека. Эта законная особенность каждого человека, которая прежде волновала и раздражала Пьера, теперь составляла основу участия и интереса, которые он принимал в людях. Различие, иногда совершенное противоречие взглядов людей с своею жизнью и между собою, радовало Пьера и вызывало в нем насмешливую и кроткую улыбку.
В практических делах Пьер неожиданно теперь почувствовал, что у него был центр тяжести, которого не было прежде. Прежде каждый денежный вопрос, в особенности просьбы о деньгах, которым он, как очень богатый человек, подвергался очень часто, приводили его в безвыходные волнения и недоуменья. «Дать или не дать?» – спрашивал он себя. «У меня есть, а ему нужно. Но другому еще нужнее. Кому нужнее? А может быть, оба обманщики?» И из всех этих предположений он прежде не находил никакого выхода и давал всем, пока было что давать. Точно в таком же недоуменье он находился прежде при каждом вопросе, касающемся его состояния, когда один говорил, что надо поступить так, а другой – иначе.
Теперь, к удивлению своему, он нашел, что во всех этих вопросах не было более сомнений и недоумений. В нем теперь явился судья, по каким то неизвестным ему самому законам решавший, что было нужно и чего не нужно делать.
Он был так же, как прежде, равнодушен к денежным делам; но теперь он несомненно знал, что должно сделать и чего не должно. Первым приложением этого нового судьи была для него просьба пленного французского полковника, пришедшего к нему, много рассказывавшего о своих подвигах и под конец заявившего почти требование о том, чтобы Пьер дал ему четыре тысячи франков для отсылки жене и детям. Пьер без малейшего труда и напряжения отказал ему, удивляясь впоследствии, как было просто и легко то, что прежде казалось неразрешимо трудным. Вместе с тем тут же, отказывая полковнику, он решил, что необходимо употребить хитрость для того, чтобы, уезжая из Орла, заставить итальянского офицера взять денег, в которых он, видимо, нуждался. Новым доказательством для Пьера его утвердившегося взгляда на практические дела было его решение вопроса о долгах жены и о возобновлении или невозобновлении московских домов и дач.
В Орел приезжал к нему его главный управляющий, и с ним Пьер сделал общий счет своих изменявшихся доходов. Пожар Москвы стоил Пьеру, по учету главно управляющего, около двух миллионов.
Главноуправляющий, в утешение этих потерь, представил Пьеру расчет о том, что, несмотря на эти потери, доходы его не только не уменьшатся, но увеличатся, если он откажется от уплаты долгов, оставшихся после графини, к чему он не может быть обязан, и если он не будет возобновлять московских домов и подмосковной, которые стоили ежегодно восемьдесят тысяч и ничего не приносили.
– Да, да, это правда, – сказал Пьер, весело улыбаясь. – Да, да, мне ничего этого не нужно. Я от разоренья стал гораздо богаче.
Но в январе приехал Савельич из Москвы, рассказал про положение Москвы, про смету, которую ему сделал архитектор для возобновления дома и подмосковной, говоря про это, как про дело решенное. В это же время Пьер получил письмо от князя Василия и других знакомых из Петербурга. В письмах говорилось о долгах жены. И Пьер решил, что столь понравившийся ему план управляющего был неверен и что ему надо ехать в Петербург покончить дела жены и строиться в Москве. Зачем было это надо, он не знал; но он знал несомненно, что это надо. Доходы его вследствие этого решения уменьшались на три четверти. Но это было надо; он это чувствовал.
Вилларский ехал в Москву, и они условились ехать вместе.
Пьер испытывал во все время своего выздоровления в Орле чувство радости, свободы, жизни; но когда он, во время своего путешествия, очутился на вольном свете, увидал сотни новых лиц, чувство это еще более усилилось. Он все время путешествия испытывал радость школьника на вакации. Все лица: ямщик, смотритель, мужики на дороге или в деревне – все имели для него новый смысл. Присутствие и замечания Вилларского, постоянно жаловавшегося на бедность, отсталость от Европы, невежество России, только возвышали радость Пьера. Там, где Вилларский видел мертвенность, Пьер видел необычайную могучую силу жизненности, ту силу, которая в снегу, на этом пространстве, поддерживала жизнь этого целого, особенного и единого народа. Он не противоречил Вилларскому и, как будто соглашаясь с ним (так как притворное согласие было кратчайшее средство обойти рассуждения, из которых ничего не могло выйти), радостно улыбался, слушая его.
Так же, как трудно объяснить, для чего, куда спешат муравьи из раскиданной кочки, одни прочь из кочки, таща соринки, яйца и мертвые тела, другие назад в кочку – для чего они сталкиваются, догоняют друг друга, дерутся, – так же трудно было бы объяснить причины, заставлявшие русских людей после выхода французов толпиться в том месте, которое прежде называлось Москвою. Но так же, как, глядя на рассыпанных вокруг разоренной кочки муравьев, несмотря на полное уничтожение кочки, видно по цепкости, энергии, по бесчисленности копышущихся насекомых, что разорено все, кроме чего то неразрушимого, невещественного, составляющего всю силу кочки, – так же и Москва, в октябре месяце, несмотря на то, что не было ни начальства, ни церквей, ни святынь, ни богатств, ни домов, была та же Москва, какою она была в августе. Все было разрушено, кроме чего то невещественного, но могущественного и неразрушимого.
Побуждения людей, стремящихся со всех сторон в Москву после ее очищения от врага, были самые разнообразные, личные, и в первое время большей частью – дикие, животные. Одно только побуждение было общее всем – это стремление туда, в то место, которое прежде называлось Москвой, для приложения там своей деятельности.
Через неделю в Москве уже было пятнадцать тысяч жителей, через две было двадцать пять тысяч и т. д. Все возвышаясь и возвышаясь, число это к осени 1813 года дошло до цифры, превосходящей население 12 го года.
Первые русские люди, которые вступили в Москву, были казаки отряда Винцингероде, мужики из соседних деревень и бежавшие из Москвы и скрывавшиеся в ее окрестностях жители. Вступившие в разоренную Москву русские, застав ее разграбленною, стали тоже грабить. Они продолжали то, что делали французы. Обозы мужиков приезжали в Москву с тем, чтобы увозить по деревням все, что было брошено по разоренным московским домам и улицам. Казаки увозили, что могли, в свои ставки; хозяева домов забирали все то, что они находили и других домах, и переносили к себе под предлогом, что это была их собственность.
Но за первыми грабителями приезжали другие, третьи, и грабеж с каждым днем, по мере увеличения грабителей, становился труднее и труднее и принимал более определенные формы.
Французы застали Москву хотя и пустою, но со всеми формами органически правильно жившего города, с его различными отправлениями торговли, ремесел, роскоши, государственного управления, религии. Формы эти были безжизненны, но они еще существовали. Были ряды, лавки, магазины, лабазы, базары – большинство с товарами; были фабрики, ремесленные заведения; были дворцы, богатые дома, наполненные предметами роскоши; были больницы, остроги, присутственные места, церкви, соборы. Чем долее оставались французы, тем более уничтожались эти формы городской жизни, и под конец все слилось в одно нераздельное, безжизненное поле грабежа.
Грабеж французов, чем больше он продолжался, тем больше разрушал богатства Москвы и силы грабителей. Грабеж русских, с которого началось занятие русскими столицы, чем дольше он продолжался, чем больше было в нем участников, тем быстрее восстановлял он богатство Москвы и правильную жизнь города.
Кроме грабителей, народ самый разнообразный, влекомый – кто любопытством, кто долгом службы, кто расчетом, – домовладельцы, духовенство, высшие и низшие чиновники, торговцы, ремесленники, мужики – с разных сторон, как кровь к сердцу, – приливали к Москве.
Через неделю уже мужики, приезжавшие с пустыми подводами, для того чтоб увозить вещи, были останавливаемы начальством и принуждаемы к тому, чтобы вывозить мертвые тела из города. Другие мужики, прослышав про неудачу товарищей, приезжали в город с хлебом, овсом, сеном, сбивая цену друг другу до цены ниже прежней. Артели плотников, надеясь на дорогие заработки, каждый день входили в Москву, и со всех сторон рубились новые, чинились погорелые дома. Купцы в балаганах открывали торговлю. Харчевни, постоялые дворы устраивались в обгорелых домах. Духовенство возобновило службу во многих не погоревших церквах. Жертвователи приносили разграбленные церковные вещи. Чиновники прилаживали свои столы с сукном и шкафы с бумагами в маленьких комнатах. Высшее начальство и полиция распоряжались раздачею оставшегося после французов добра. Хозяева тех домов, в которых было много оставлено свезенных из других домов вещей, жаловались на несправедливость своза всех вещей в Грановитую палату; другие настаивали на том, что французы из разных домов свезли вещи в одно место, и оттого несправедливо отдавать хозяину дома те вещи, которые у него найдены. Бранили полицию; подкупали ее; писали вдесятеро сметы на погоревшие казенные вещи; требовали вспомоществований. Граф Растопчин писал свои прокламации.
В конце января Пьер приехал в Москву и поселился в уцелевшем флигеле. Он съездил к графу Растопчину, к некоторым знакомым, вернувшимся в Москву, и собирался на третий день ехать в Петербург. Все торжествовали победу; все кипело жизнью в разоренной и оживающей столице. Пьеру все были рады; все желали видеть его, и все расспрашивали его про то, что он видел. Пьер чувствовал себя особенно дружелюбно расположенным ко всем людям, которых он встречал; но невольно теперь он держал себя со всеми людьми настороже, так, чтобы не связать себя чем нибудь. Он на все вопросы, которые ему делали, – важные или самые ничтожные, – отвечал одинаково неопределенно; спрашивали ли у него: где он будет жить? будет ли он строиться? когда он едет в Петербург и возьмется ли свезти ящичек? – он отвечал: да, может быть, я думаю, и т. д.
О Ростовых он слышал, что они в Костроме, и мысль о Наташе редко приходила ему. Ежели она и приходила, то только как приятное воспоминание давно прошедшего. Он чувствовал себя не только свободным от житейских условий, но и от этого чувства, которое он, как ему казалось, умышленно напустил на себя.
На третий день своего приезда в Москву он узнал от Друбецких, что княжна Марья в Москве. Смерть, страдания, последние дни князя Андрея часто занимали Пьера и теперь с новой живостью пришли ему в голову. Узнав за обедом, что княжна Марья в Москве и живет в своем не сгоревшем доме на Вздвиженке, он в тот же вечер поехал к ней.
Дорогой к княжне Марье Пьер не переставая думал о князе Андрее, о своей дружбе с ним, о различных с ним встречах и в особенности о последней в Бородине.
«Неужели он умер в том злобном настроении, в котором он был тогда? Неужели не открылось ему перед смертью объяснение жизни?» – думал Пьер. Он вспомнил о Каратаеве, о его смерти и невольно стал сравнивать этих двух людей, столь различных и вместе с тем столь похожих по любви, которую он имел к обоим, и потому, что оба жили и оба умерли.
В самом серьезном расположении духа Пьер подъехал к дому старого князя. Дом этот уцелел. В нем видны были следы разрушения, но характер дома был тот же. Встретивший Пьера старый официант с строгим лицом, как будто желая дать почувствовать гостю, что отсутствие князя не нарушает порядка дома, сказал, что княжна изволили пройти в свои комнаты и принимают по воскресеньям.
– Доложи; может быть, примут, – сказал Пьер.
– Слушаю с, – отвечал официант, – пожалуйте в портретную.
Через несколько минут к Пьеру вышли официант и Десаль. Десаль от имени княжны передал Пьеру, что она очень рада видеть его и просит, если он извинит ее за бесцеремонность, войти наверх, в ее комнаты.
В невысокой комнатке, освещенной одной свечой, сидела княжна и еще кто то с нею, в черном платье. Пьер помнил, что при княжне всегда были компаньонки. Кто такие и какие они, эти компаньонки, Пьер не знал и не помнил. «Это одна из компаньонок», – подумал он, взглянув на даму в черном платье.
Княжна быстро встала ему навстречу и протянула руку.
– Да, – сказала она, всматриваясь в его изменившееся лицо, после того как он поцеловал ее руку, – вот как мы с вами встречаемся. Он и последнее время часто говорил про вас, – сказала она, переводя свои глаза с Пьера на компаньонку с застенчивостью, которая на мгновение поразила Пьера.
– Я так была рада, узнав о вашем спасенье. Это было единственное радостное известие, которое мы получили с давнего времени. – Опять еще беспокойнее княжна оглянулась на компаньонку и хотела что то сказать; но Пьер перебил ее.
– Вы можете себе представить, что я ничего не знал про него, – сказал он. – Я считал его убитым. Все, что я узнал, я узнал от других, через третьи руки. Я знаю только, что он попал к Ростовым… Какая судьба!
Пьер говорил быстро, оживленно. Он взглянул раз на лицо компаньонки, увидал внимательно ласково любопытный взгляд, устремленный на него, и, как это часто бывает во время разговора, он почему то почувствовал, что эта компаньонка в черном платье – милое, доброе, славное существо, которое не помешает его задушевному разговору с княжной Марьей.
Но когда он сказал последние слова о Ростовых, замешательство в лице княжны Марьи выразилось еще сильнее. Она опять перебежала глазами с лица Пьера на лицо дамы в черном платье и сказала:
– Вы не узнаете разве?
Пьер взглянул еще раз на бледное, тонкое, с черными глазами и странным ртом, лицо компаньонки. Что то родное, давно забытое и больше чем милое смотрело на него из этих внимательных глаз.
«Но нет, это не может быть, – подумал он. – Это строгое, худое и бледное, постаревшее лицо? Это не может быть она. Это только воспоминание того». Но в это время княжна Марья сказала: «Наташа». И лицо, с внимательными глазами, с трудом, с усилием, как отворяется заржавелая дверь, – улыбнулось, и из этой растворенной двери вдруг пахнуло и обдало Пьера тем давно забытым счастием, о котором, в особенности теперь, он не думал. Пахнуло, охватило и поглотило его всего. Когда она улыбнулась, уже не могло быть сомнений: это была Наташа, и он любил ее.
В первую же минуту Пьер невольно и ей, и княжне Марье, и, главное, самому себе сказал неизвестную ему самому тайну. Он покраснел радостно и страдальчески болезненно. Он хотел скрыть свое волнение. Но чем больше он хотел скрыть его, тем яснее – яснее, чем самыми определенными словами, – он себе, и ей, и княжне Марье говорил, что он любит ее.
«Нет, это так, от неожиданности», – подумал Пьер. Но только что он хотел продолжать начатый разговор с княжной Марьей, он опять взглянул на Наташу, и еще сильнейшая краска покрыла его лицо, и еще сильнейшее волнение радости и страха охватило его душу. Он запутался в словах и остановился на середине речи.
Пьер не заметил Наташи, потому что он никак не ожидал видеть ее тут, но он не узнал ее потому, что происшедшая в ней, с тех пор как он не видал ее, перемена была огромна. Она похудела и побледнела. Но не это делало ее неузнаваемой: ее нельзя было узнать в первую минуту, как он вошел, потому что на этом лице, в глазах которого прежде всегда светилась затаенная улыбка радости жизни, теперь, когда он вошел и в первый раз взглянул на нее, не было и тени улыбки; были одни глаза, внимательные, добрые и печально вопросительные.
Смущение Пьера не отразилось на Наташе смущением, но только удовольствием, чуть заметно осветившим все ее лицо.
– Она приехала гостить ко мне, – сказала княжна Марья. – Граф и графиня будут на днях. Графиня в ужасном положении. Но Наташе самой нужно было видеть доктора. Ее насильно отослали со мной.
– Да, есть ли семья без своего горя? – сказал Пьер, обращаясь к Наташе. – Вы знаете, что это было в тот самый день, как нас освободили. Я видел его. Какой был прелестный мальчик.
Наташа смотрела на него, и в ответ на его слова только больше открылись и засветились ее глаза.
– Что можно сказать или подумать в утешенье? – сказал Пьер. – Ничего. Зачем было умирать такому славному, полному жизни мальчику?
– Да, в наше время трудно жить бы было без веры… – сказала княжна Марья.
– Да, да. Вот это истинная правда, – поспешно перебил Пьер.
– Отчего? – спросила Наташа, внимательно глядя в глаза Пьеру.
– Как отчего? – сказала княжна Марья. – Одна мысль о том, что ждет там…
Наташа, не дослушав княжны Марьи, опять вопросительно поглядела на Пьера.
– И оттого, – продолжал Пьер, – что только тот человек, который верит в то, что есть бог, управляющий нами, может перенести такую потерю, как ее и… ваша, – сказал Пьер.
Наташа раскрыла уже рот, желая сказать что то, но вдруг остановилась. Пьер поспешил отвернуться от нее и обратился опять к княжне Марье с вопросом о последних днях жизни своего друга. Смущение Пьера теперь почти исчезло; но вместе с тем он чувствовал, что исчезла вся его прежняя свобода. Он чувствовал, что над каждым его словом, действием теперь есть судья, суд, который дороже ему суда всех людей в мире. Он говорил теперь и вместе с своими словами соображал то впечатление, которое производили его слова на Наташу. Он не говорил нарочно того, что бы могло понравиться ей; но, что бы он ни говорил, он с ее точки зрения судил себя.
Княжна Марья неохотно, как это всегда бывает, начала рассказывать про то положение, в котором она застала князя Андрея. Но вопросы Пьера, его оживленно беспокойный взгляд, его дрожащее от волнения лицо понемногу заставили ее вдаться в подробности, которые она боялась для самой себя возобновлять в воображенье.
– Да, да, так, так… – говорил Пьер, нагнувшись вперед всем телом над княжной Марьей и жадно вслушиваясь в ее рассказ. – Да, да; так он успокоился? смягчился? Он так всеми силами души всегда искал одного; быть вполне хорошим, что он не мог бояться смерти. Недостатки, которые были в нем, – если они были, – происходили не от него. Так он смягчился? – говорил Пьер. – Какое счастье, что он свиделся с вами, – сказал он Наташе, вдруг обращаясь к ней и глядя на нее полными слез глазами.
Лицо Наташи вздрогнуло. Она нахмурилась и на мгновенье опустила глаза. С минуту она колебалась: говорить или не говорить?
– Да, это было счастье, – сказала она тихим грудным голосом, – для меня наверное это было счастье. – Она помолчала. – И он… он… он говорил, что он желал этого, в ту минуту, как я пришла к нему… – Голос Наташи оборвался. Она покраснела, сжала руки на коленах и вдруг, видимо сделав усилие над собой, подняла голову и быстро начала говорить:
– Мы ничего не знали, когда ехали из Москвы. Я не смела спросить про него. И вдруг Соня сказала мне, что он с нами. Я ничего не думала, не могла представить себе, в каком он положении; мне только надо было видеть его, быть с ним, – говорила она, дрожа и задыхаясь. И, не давая перебивать себя, она рассказала то, чего она еще никогда, никому не рассказывала: все то, что она пережила в те три недели их путешествия и жизни в Ярославль.
Пьер слушал ее с раскрытым ртом и не спуская с нее своих глаз, полных слезами. Слушая ее, он не думал ни о князе Андрее, ни о смерти, ни о том, что она рассказывала. Он слушал ее и только жалел ее за то страдание, которое она испытывала теперь, рассказывая.
Княжна, сморщившись от желания удержать слезы, сидела подле Наташи и слушала в первый раз историю этих последних дней любви своего брата с Наташей.
Этот мучительный и радостный рассказ, видимо, был необходим для Наташи.
Она говорила, перемешивая ничтожнейшие подробности с задушевнейшими тайнами, и, казалось, никогда не могла кончить. Несколько раз она повторяла то же самое.
За дверью послышался голос Десаля, спрашивавшего, можно ли Николушке войти проститься.
– Да вот и все, все… – сказала Наташа. Она быстро встала, в то время как входил Николушка, и почти побежала к двери, стукнулась головой о дверь, прикрытую портьерой, и с стоном не то боли, не то печали вырвалась из комнаты.
Пьер смотрел на дверь, в которую она вышла, и не понимал, отчего он вдруг один остался во всем мире.
Княжна Марья вызвала его из рассеянности, обратив его внимание на племянника, который вошел в комнату.
Лицо Николушки, похожее на отца, в минуту душевного размягчения, в котором Пьер теперь находился, так на него подействовало, что он, поцеловав Николушку, поспешно встал и, достав платок, отошел к окну. Он хотел проститься с княжной Марьей, но она удержала его.
– Нет, мы с Наташей не спим иногда до третьего часа; пожалуйста, посидите. Я велю дать ужинать. Подите вниз; мы сейчас придем.
Прежде чем Пьер вышел, княжна сказала ему:
– Это в первый раз она так говорила о нем.
Пьера провели в освещенную большую столовую; через несколько минут послышались шаги, и княжна с Наташей вошли в комнату. Наташа была спокойна, хотя строгое, без улыбки, выражение теперь опять установилось на ее лице. Княжна Марья, Наташа и Пьер одинаково испытывали то чувство неловкости, которое следует обыкновенно за оконченным серьезным и задушевным разговором. Продолжать прежний разговор невозможно; говорить о пустяках – совестно, а молчать неприятно, потому что хочется говорить, а этим молчанием как будто притворяешься. Они молча подошли к столу. Официанты отодвинули и пододвинули стулья. Пьер развернул холодную салфетку и, решившись прервать молчание, взглянул на Наташу и княжну Марью. Обе, очевидно, в то же время решились на то же: у обеих в глазах светилось довольство жизнью и признание того, что, кроме горя, есть и радости.
– Вы пьете водку, граф? – сказала княжна Марья, и эти слова вдруг разогнали тени прошедшего.
– Расскажите же про себя, – сказала княжна Марья. – Про вас рассказывают такие невероятные чудеса.
– Да, – с своей, теперь привычной, улыбкой кроткой насмешки отвечал Пьер. – Мне самому даже рассказывают про такие чудеса, каких я и во сне не видел. Марья Абрамовна приглашала меня к себе и все рассказывала мне, что со мной случилось, или должно было случиться. Степан Степаныч тоже научил меня, как мне надо рассказывать. Вообще я заметил, что быть интересным человеком очень покойно (я теперь интересный человек); меня зовут и мне рассказывают.
Наташа улыбнулась и хотела что то сказать.
– Нам рассказывали, – перебила ее княжна Марья, – что вы в Москве потеряли два миллиона. Правда это?
– А я стал втрое богаче, – сказал Пьер. Пьер, несмотря на то, что долги жены и необходимость построек изменили его дела, продолжал рассказывать, что он стал втрое богаче.
– Что я выиграл несомненно, – сказал он, – так это свободу… – начал он было серьезно; но раздумал продолжать, заметив, что это был слишком эгоистический предмет разговора.
– А вы строитесь?
– Да, Савельич велит.
– Скажите, вы не знали еще о кончине графини, когда остались в Москве? – сказала княжна Марья и тотчас же покраснела, заметив, что, делая этот вопрос вслед за его словами о том, что он свободен, она приписывает его словам такое значение, которого они, может быть, не имели.
– Нет, – отвечал Пьер, не найдя, очевидно, неловким то толкование, которое дала княжна Марья его упоминанию о своей свободе. – Я узнал это в Орле, и вы не можете себе представить, как меня это поразило. Мы не были примерные супруги, – сказал он быстро, взглянув на Наташу и заметив в лице ее любопытство о том, как он отзовется о своей жене. – Но смерть эта меня страшно поразила. Когда два человека ссорятся – всегда оба виноваты. И своя вина делается вдруг страшно тяжела перед человеком, которого уже нет больше. И потом такая смерть… без друзей, без утешения. Мне очень, очень жаль еe, – кончил он и с удовольствием заметил радостное одобрение на лице Наташи.
– Да, вот вы опять холостяк и жених, – сказала княжна Марья.
Пьер вдруг багрово покраснел и долго старался не смотреть на Наташу. Когда он решился взглянуть на нее, лицо ее было холодно, строго и даже презрительно, как ему показалось.
– Но вы точно видели и говорили с Наполеоном, как нам рассказывали? – сказала княжна Марья.
Пьер засмеялся.
– Ни разу, никогда. Всегда всем кажется, что быть в плену – значит быть в гостях у Наполеона. Я не только не видал его, но и не слыхал о нем. Я был гораздо в худшем обществе.
Ужин кончался, и Пьер, сначала отказывавшийся от рассказа о своем плене, понемногу вовлекся в этот рассказ.
– Но ведь правда, что вы остались, чтоб убить Наполеона? – спросила его Наташа, слегка улыбаясь. – Я тогда догадалась, когда мы вас встретили у Сухаревой башни; помните?
Пьер признался, что это была правда, и с этого вопроса, понемногу руководимый вопросами княжны Марьи и в особенности Наташи, вовлекся в подробный рассказ о своих похождениях.
Сначала он рассказывал с тем насмешливым, кротким взглядом, который он имел теперь на людей и в особенности на самого себя; но потом, когда он дошел до рассказа об ужасах и страданиях, которые он видел, он, сам того не замечая, увлекся и стал говорить с сдержанным волнением человека, в воспоминании переживающего сильные впечатления.
Княжна Марья с кроткой улыбкой смотрела то на Пьера, то на Наташу. Она во всем этом рассказе видела только Пьера и его доброту. Наташа, облокотившись на руку, с постоянно изменяющимся, вместе с рассказом, выражением лица, следила, ни на минуту не отрываясь, за Пьером, видимо, переживая с ним вместе то, что он рассказывал. Не только ее взгляд, но восклицания и короткие вопросы, которые она делала, показывали Пьеру, что из того, что он рассказывал, она понимала именно то, что он хотел передать. Видно было, что она понимала не только то, что он рассказывал, но и то, что он хотел бы и не мог выразить словами. Про эпизод свой с ребенком и женщиной, за защиту которых он был взят, Пьер рассказал таким образом:
– Это было ужасное зрелище, дети брошены, некоторые в огне… При мне вытащили ребенка… женщины, с которых стаскивали вещи, вырывали серьги…
Пьер покраснел и замялся.
– Тут приехал разъезд, и всех тех, которые не грабили, всех мужчин забрали. И меня.
– Вы, верно, не все рассказываете; вы, верно, сделали что нибудь… – сказала Наташа и помолчала, – хорошее.
Пьер продолжал рассказывать дальше. Когда он рассказывал про казнь, он хотел обойти страшные подробности; но Наташа требовала, чтобы он ничего не пропускал.
Пьер начал было рассказывать про Каратаева (он уже встал из за стола и ходил, Наташа следила за ним глазами) и остановился.
– Нет, вы не можете понять, чему я научился у этого безграмотного человека – дурачка.
– Нет, нет, говорите, – сказала Наташа. – Он где же?
– Его убили почти при мне. – И Пьер стал рассказывать последнее время их отступления, болезнь Каратаева (голос его дрожал беспрестанно) и его смерть.
Пьер рассказывал свои похождения так, как он никогда их еще не рассказывал никому, как он сам с собою никогда еще не вспоминал их. Он видел теперь как будто новое значение во всем том, что он пережил. Теперь, когда он рассказывал все это Наташе, он испытывал то редкое наслаждение, которое дают женщины, слушая мужчину, – не умные женщины, которые, слушая, стараются или запомнить, что им говорят, для того чтобы обогатить свой ум и при случае пересказать то же или приладить рассказываемое к своему и сообщить поскорее свои умные речи, выработанные в своем маленьком умственном хозяйстве; а то наслажденье, которое дают настоящие женщины, одаренные способностью выбирания и всасыванья в себя всего лучшего, что только есть в проявлениях мужчины. Наташа, сама не зная этого, была вся внимание: она не упускала ни слова, ни колебания голоса, ни взгляда, ни вздрагиванья мускула лица, ни жеста Пьера. Она на лету ловила еще не высказанное слово и прямо вносила в свое раскрытое сердце, угадывая тайный смысл всей душевной работы Пьера.
Княжна Марья понимала рассказ, сочувствовала ему, но она теперь видела другое, что поглощало все ее внимание; она видела возможность любви и счастия между Наташей и Пьером. И в первый раз пришедшая ей эта мысль наполняла ее душу радостию.
Было три часа ночи. Официанты с грустными и строгими лицами приходили переменять свечи, но никто не замечал их.
Пьер кончил свой рассказ. Наташа блестящими, оживленными глазами продолжала упорно и внимательно глядеть на Пьера, как будто желая понять еще то остальное, что он не высказал, может быть. Пьер в стыдливом и счастливом смущении изредка взглядывал на нее и придумывал, что бы сказать теперь, чтобы перевести разговор на другой предмет. Княжна Марья молчала. Никому в голову не приходило, что три часа ночи и что пора спать.
– Говорят: несчастия, страдания, – сказал Пьер. – Да ежели бы сейчас, сию минуту мне сказали: хочешь оставаться, чем ты был до плена, или сначала пережить все это? Ради бога, еще раз плен и лошадиное мясо. Мы думаем, как нас выкинет из привычной дорожки, что все пропало; а тут только начинается новое, хорошее. Пока есть жизнь, есть и счастье. Впереди много, много. Это я вам говорю, – сказал он, обращаясь к Наташе.
– Да, да, – сказала она, отвечая на совсем другое, – и я ничего бы не желала, как только пережить все сначала.
Пьер внимательно посмотрел на нее.
– Да, и больше ничего, – подтвердила Наташа.
– Неправда, неправда, – закричал Пьер. – Я не виноват, что я жив и хочу жить; и вы тоже.
Вдруг Наташа опустила голову на руки и заплакала.
– Что ты, Наташа? – сказала княжна Марья.
– Ничего, ничего. – Она улыбнулась сквозь слезы Пьеру. – Прощайте, пора спать.
Пьер встал и простился.
Княжна Марья и Наташа, как и всегда, сошлись в спальне. Они поговорили о том, что рассказывал Пьер. Княжна Марья не говорила своего мнения о Пьере. Наташа тоже не говорила о нем.
– Ну, прощай, Мари, – сказала Наташа. – Знаешь, я часто боюсь, что мы не говорим о нем (князе Андрее), как будто мы боимся унизить наше чувство, и забываем.
Княжна Марья тяжело вздохнула и этим вздохом признала справедливость слов Наташи; но словами она не согласилась с ней.
– Разве можно забыть? – сказала она.
– Мне так хорошо было нынче рассказать все; и тяжело, и больно, и хорошо. Очень хорошо, – сказала Наташа, – я уверена, что он точно любил его. От этого я рассказала ему… ничего, что я рассказала ему? – вдруг покраснев, спросила она.
– Пьеру? О нет! Какой он прекрасный, – сказала княжна Марья.
– Знаешь, Мари, – вдруг сказала Наташа с шаловливой улыбкой, которой давно не видала княжна Марья на ее лице. – Он сделался какой то чистый, гладкий, свежий; точно из бани, ты понимаешь? – морально из бани. Правда?
– Да, – сказала княжна Марья, – он много выиграл.
– И сюртучок коротенький, и стриженые волосы; точно, ну точно из бани… папа, бывало…
– Я понимаю, что он (князь Андрей) никого так не любил, как его, – сказала княжна Марья.
– Да, и он особенный от него. Говорят, что дружны мужчины, когда совсем особенные. Должно быть, это правда. Правда, он совсем на него не похож ничем?
– Да, и чудесный.
– Ну, прощай, – отвечала Наташа. И та же шаловливая улыбка, как бы забывшись, долго оставалась на ее лице.
Пьер долго не мог заснуть в этот день; он взад и вперед ходил по комнате, то нахмурившись, вдумываясь во что то трудное, вдруг пожимая плечами и вздрагивая, то счастливо улыбаясь.
Он думал о князе Андрее, о Наташе, об их любви, и то ревновал ее к прошедшему, то упрекал, то прощал себя за это. Было уже шесть часов утра, а он все ходил по комнате.
«Ну что ж делать. Уж если нельзя без этого! Что ж делать! Значит, так надо», – сказал он себе и, поспешно раздевшись, лег в постель, счастливый и взволнованный, но без сомнений и нерешительностей.
«Надо, как ни странно, как ни невозможно это счастье, – надо сделать все для того, чтобы быть с ней мужем и женой», – сказал он себе.
Пьер еще за несколько дней перед этим назначил в пятницу день своего отъезда в Петербург. Когда он проснулся, в четверг, Савельич пришел к нему за приказаниями об укладке вещей в дорогу.
«Как в Петербург? Что такое Петербург? Кто в Петербурге? – невольно, хотя и про себя, спросил он. – Да, что то такое давно, давно, еще прежде, чем это случилось, я зачем то собирался ехать в Петербург, – вспомнил он. – Отчего же? я и поеду, может быть. Какой он добрый, внимательный, как все помнит! – подумал он, глядя на старое лицо Савельича. – И какая улыбка приятная!» – подумал он.
– Что ж, все не хочешь на волю, Савельич? – спросил Пьер.
– Зачем мне, ваше сиятельство, воля? При покойном графе, царство небесное, жили и при вас обиды не видим.
– Ну, а дети?
– И дети проживут, ваше сиятельство: за такими господами жить можно.
– Ну, а наследники мои? – сказал Пьер. – Вдруг я женюсь… Ведь может случиться, – прибавил он с невольной улыбкой.
– И осмеливаюсь доложить: хорошее дело, ваше сиятельство.
«Как он думает это легко, – подумал Пьер. – Он не знает, как это страшно, как опасно. Слишком рано или слишком поздно… Страшно!»
– Как же изволите приказать? Завтра изволите ехать? – спросил Савельич.
– Нет; я немножко отложу. Я тогда скажу. Ты меня извини за хлопоты, – сказал Пьер и, глядя на улыбку Савельича, подумал: «Как странно, однако, что он не знает, что теперь нет никакого Петербурга и что прежде всего надо, чтоб решилось то. Впрочем, он, верно, знает, но только притворяется. Поговорить с ним? Как он думает? – подумал Пьер. – Нет, после когда нибудь».