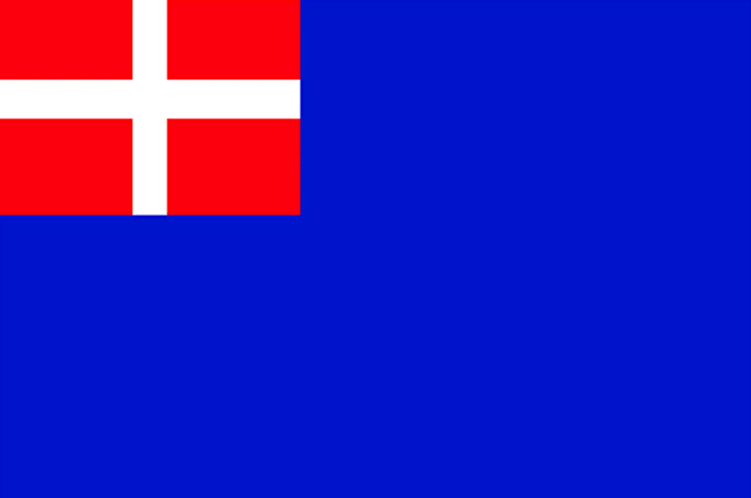Война первой коалиции
| война Первой коалиции | |||
| Основной конфликт: войны революционной Франции | |||
 Наполеон в битве при Риволи, Феликс Филипото | |||
| Дата | |||
|---|---|---|---|
| Место |
Франция, Центральная Европа, Италия, Бельгия, Нидерланды, Испания | ||
| Итог |
победа Франции, договор Кампо-Формио | ||
| Противники | |||
| |||
| Командующие | |||
| |||
| Силы сторон | |||
| |||
| Потери | |||
| |||
Война Первой коалиции — общее название военных действий в Европе, проходивших в 1792—1797 годах с целью защиты от Франции, объявившей в 1792 году войну Австрии, и реставрации во Франции монархии.
Военные действия начались с вторжения французских войск во владения германских государств на Рейне, за чем последовало вторжение войск коалиции в пределы Франции. Вскоре враги были отбиты и сама Франция начала активные военные действия против коалиции — вторглась в Испанию, Сардинское королевство и в западные германские государства. Вскоре, в 1793 году произошла битва при Тулоне, где впервые проявил себя молодой и талантливый полководец Наполеон Бонапарт. После ряда побед враги были вынуждены признать Французскую республику и все её завоевания (за исключением англичан), но затем, после ухудшения положения Франции, война возобновилась.
Содержание
Участники
- Австрийская империя
- Пруссия
- Великобритания
- Сардинское королевство (захвачено Наполеоном)
- Неаполитанское королевство
- Испания
- Российская империя[5]
Важные события
- Битва при Вальми (1792)
- Осада Тулона (1793)
- Битва при Ваттиньи 1793)
- Битва при Гондскоте (1793)
- Битва при Флерюсе (1794)
- Базельский мирный договор (1795)
- Сражение у Монтенотте (12.04.1796)
- Битва под Лоди (10.05.1796)
- Бой при Арколе (15-17.11.1796)
- Битва при Риволи (14-15.01.1797)
- Кампо-Формийский мир
Начало войны
Революция, происшедшая во Франции в 1789 году, сильно отразилась и на смежных с ней государствах и побудила их правительства прибегнуть к решительным мероприятиям против угрожавшей опасности. Император Леопольд II и прусский король Фридрих-Вильгельм II на личном свидании летом 1791 года в Пильнице, близ Дрездена, условились остановить распространение революционных принципов. К этому их побуждали и настояния французских эмигрантов, составивших в Кобленце корпус войск под начальством принца Конде. Монархи издали известную Пильницкую декларацию, которой призывали французский народ возвратиться к прежнему общественному порядку и восстановить королевскую власть, а 7 февраля 1792 года заключили австро-прусский союзный договор.
Военные приготовления были начаты, но монархи долго не решались на открытие враждебных действий. Инициатива последовала со стороны Франции. Республиканская партия потребовала от короля Людовика XVI объявить войну Австрии, когда же Людовик отказался, законодательное собрание, имея в виду выгоды начала войны ранее готовности к ней Австрии, объявила 20 апреля 1792 года от лица всего французского народа войну Леопольду II, не как главе Германской империи, а как королю богемскому и венгерскому — врагу Франции. Король Прусский, связанный договорами с Австрией, равно, как Сардиния и Испания, как государства, имевшие у себя государей из рода Бурбонов, поднялись против Франции. К союзу постепенно присоединились почти все прочие германские государства, а также Неаполитанское королевство. Таким образом, политической целью коалиции против Франции определялись как военная цель (стратегическая), так и характер войны с обеих сторон: решительные наступательные действия в пределах Франции со стороны коалиции и оборонительные со стороны Франции на границах.
В виду этого, как для начала войны, так и для дальнейшего её развития имела большое военное значение сухопутная граница Франции. На севере и северо-востоке граница направлялась от крепости Дюнкрихен (Дюнкерк, на берегу океана) через Менен, Конде, Филиппвиль, Живе, Лонгви, Сирк, Саарлуи и Бич до впадения реки Лаутера в Рейн. Река Маас разделяла границу на две части; северная — от Дюнкирхена до Живе — составляла границу с австрийскими Нидерландами (Бельгией) и была прикрыта с левого фланга морем, а с правого — Маасом; страна, ближайшая к морю, пересечена каналами и болотами, а остальная, до истоков реки Оазы (Уазы), не имела естественного прикрытия; эта часть границы прикрывалась тройным рядом крепостей: 1-й ряд составляли: Дюнкирхен, Лилль, Конде, Валансьенн, Кенуа, Мобеж и Филиппвиль; 2-й ряд: Сент-Омер, Эр, Бетюн, Дуэ, Бушен, Камбре, Ландреси, Авен и Рокруа; 3-й ряд: Сен-Кантен, Бапом, Аррас и Амьен — всего 20 крепостей; кратчайшие и удобные пути от северной границы к Парижу вели: из Мобежа (большая дорога из Брюсселя) через Авен, Лаон и Суассон и из Конде через Камбрэ и Перонн. Северо-восточная часть границы, от Живе до Лаутербурга, граничила с германскими владениями; она пересекается почти перпендикулярно реками Саар и Мозель; естественные препятствия — река Маас, Арденнские горы и отроги Вогезских гор — не представляют больших затруднений, но край был лесист; эта граница прикрывалась двойным рядом крепостей: 1-й ряд составляли: Бич, Саарлуи, Тионвиль, Лонгви, Монмеди, Буйон и Живе; 2-й ряд: Мец, Верден, Седан и Мезьер; это расположение крепостей было невыгодно тем, что неприятель, овладев Лонгви, выходил между Мецем и Седаном в открытое пространство, и до самого Парижа не встречал препятствий. Кратчайшие и удобнейшие пути к Парижу вели: из Живе через Рокруа, Мезьер, Суассон (или Шато-Тьерри); из Трира и Люксембурга — на Лонгви, Верден и Шалон, или из Вердена, обходом на Бар-ле-Дюк и Витри; из Саарлуи на Мец в Верден и далее по указанным дорогам.
Восточная граница Франции с германскими владениями направлялась от Лаутербурга по левому берегу Рейна до Базеля (или Гюнингена) и вообще была сильна; она прикрывалась: Рейном и на нём крепостями: Ландау, Страсбург, форт Вобан, Шлетштадт, Бризах и Гюнинген; за Рейном — вторым рядом крепостей (Бич, Пфальцбург и Бельфор) и, наконец, высоким, труднопроходимым хребтом Вогезских гор; нейтралитет Швейцарии обеспечивал правый фланг этой границы; кратчайшие и удобные пути от Рейна к Парижу — только из Страсбурга через Нанси и Витри, прочие были неудобны для больших масс.
Юго-восточная граница Франции делилась на две части. Одна, от Базеля по реке Дуб и по горному хребту Юры до Женевы, отделяла Францию от Швейцарии; многочисленные и удобные проходы в горах, хотя и были защищены укрепленными замками, но, вследствие их плохого расположения, не могли представить значительные препятствия; эту часть границы усиливали крепости Безансон и Оксон. Другая часть границы шла от Женевы по реке Роне до города Беллэ, по горному хребту савойских Альп, через проходы: Лез-Эшель, Мон-Женевр, Мон-Визо и Барселонет до реки Вар и по правому её берегу до Средиземного моря, и отделяли Францию от Италии; путей мало и те могли упорно обороняться; крепости: форт Барроль, Бриансон и Мон-Дофин, в тылу Гренобль, а на правом фланге — морская крепость Тулон. Законодательное собрание, объявив войну, деятельно готовилось к ней.
К началу войны на границах Франции находилось 145 тысяч войск, которые были разделены на 3 армии:
- Северная, маршала Рошамбо (около 40 тысяч пехоты и 8 тысяч конницы), была расположена между Дюнкирхеном и Филиппвилем;
- центральная, генерала Лафайета (около 45 тысяч пехоты, 7 тысяч конницы) — между Филиппвилем и рекой Лаутер;
- Рейнская, маршала Люкнера (около 35 тысяч пехоты, 8 тысяч конницы) — от Лаутербурга до Базеля.
Для обороны границ со стороны Италии, Средиземного моря и Испании была назначена Южная армия генерала Монтескью (до 25 тысяч человек), войска которой были разбросаны по крепостям. Все армии состояли большею частью из новобранцев.
Союзники готовились к войне весьма медленно. Пруссия выставила не более 42 тысяч, которые находились в движении к Кобленцу. Австрия имела в готовности около 60 тысяч, из которых 30 тысяч герцога Альберта Саксен-Тешенского были в австрийских Нидерландах, а 25 тысяч — на правом берегу Рейна. Австрия намеревалась присоединить к ним вскоре ещё 60 тысяч, кроме того, в состав австро-прусской армии входили: 6 тысяч гессенских войск и несколько отрядов французских эмигрантов (всего около 14 тысяч, под командованием братьев Людовика XV и принца Конде), расположенных около Трира и Кобленца. Всего союзников было от 120 до 130 тысяч, под общим командованием герцога Брауншвейгского (сподвижника Фридриха Великого).
Французы решили действовать наступательно против Нидерландов и оборонительно на всех прочих границах; союзники, с целью окончить войну одним ударом, намеревались главными силами действовать наступательно от Трира и Люксембурга через Шампань к Парижу, на прочих границах ограничиться обороной, а со стороны Италии и Испании — наблюдением.
Кампания 1792 года
Летом 1792 года союзные войска (в общем — до 250 тыс.) стали сосредоточиваться на границах Франции. Войска эти в тактическом отношении (по тогдашним понятиям) стояли гораздо выше французских; но предводители их, большей частью люди преклонных лет, умели подражать Фридриху Великому только в мелочах и внешней форме: притом и руки у них были связаны присутствием при армии короля прусского и указаниями венского гофкригсрата. Наконец, с самого начала военных действий обнаружилось полное несогласие в составлении операционного плана: наступательный задор пруссаков столкнулся с медлительностью и преувеличенной осторожностью австрийцев. Французская регулярная армия не превышала тогда 125 тыс., находилась в сильном расстройстве и лишилась многих опытных генералов и офицеров, эмигрировавших в чужие края; войска терпели лишения всякого рода, материальная часть военного устройства была в плачевном состоянии. Французское правительство приняло самые энергичные меры для усиления армии и поднятия её духа. Линейной и так называемой кордонной системам, которым следовали полководцы союзников, французы готовились противопоставить систему сомкнутых масс (колонн) и огонь многочисленных стрелков (по примеру американцев в борьбе за независимость). Всякому простому рядовому, выказавшему боевые качества, открыт был путь к достижению высших должностей в армии. Беспощадно вместе с тем карались ошибки и неудачи.
Действия в Нидерландах
Военные действия со стороны французов начались в конце апреля в австрийских Нидерландах 4-мя колоннами: Лафайета из Живе на Намюр (25 тысяч); Диллиона из Лилля к Турнэ (3 тысячи); Бирона из Валансьенна к Монсу (10 тысяч); Карля из Дюнкирхена для овладения Фюрном (11,5 тысяч). Первое наступление французов закончилось весьма неудачно. Колонна Бирона была отражена австрийцами Болье (31,5 тысяч человек), колонна Диллиона, не дождавшись атаки, обратилась в бегство. Другие две фланговые колонны, узнав об отступлении средних, также отступили. Неудача средних колонн объясняется недостатком порядка, дисциплины и воинского духа новых французских войск, которые состояли из новобранцев, а главное — недоверием их к своим новым командирам; малейшая неудача приписывалась измене, что было отголоском общественного настроения, господствовавшего тогда во Франции во время террора. Отступление же двух фланговых колонн, которые действовали успешно, является результатом кордонной системы, при которой центр и фланги должны были находиться всегда на одной высоте.
Несмотря на неудачу, маршал Люкнер, сменивший Рошамбо, начал приготовления к новому наступлению, для чего сосредоточил около 30 тысяч на реке Лис и во 2-й половине июня занял Куртрэ. В это же время герцог Альберт направил туда отдельные отряды Латура и Болье. Люкнер, довольствуясь первым незначительным успехом, не предпринял дальнейшего наступления и оставался в бездействии в Куртрэ до конца июня, а затем отступил в пределы Франции и расположился около Мобежа. Австрийская армия, после отступления Люкнера, заняла прежнее расположение при Монсе и Турнэ.
Обе стороны оставались в бездействии до середины августа. В это время командование над всей Северной французской армией было доверено генералу Дюмурье, который поручил защиту северо-восточных границ генералу Лабурдоне, а сам отправился к Седану для наблюдения за подготавливавшимися там операциями. Таким образом, обоюдные раздробления сил воюющих сторон и опасение за свои сообщения стали причиной той медлительности и нерешительности, печать которых носят на себе все действия в Нидерландах; после 4-х месяцев войны положение сторон было то же, что и перед её началом.
Действия в Шампани
В начале 1792 года Рейнская французская армия, охранявшая границу по Рейну от Лаутербурга до Базеля, была расположена в Эльзасе и до конца июля бездействовала. Здесь группировались: Северная армия (23 тысячи человек) Лафайета — у Седана; маршал Люкнер с 25 тысячами человек — при Меце; Бирон с главными силами Рейнской армии — около Вейсенбурга; кроме того, сильный отряд Келлермана — у Лаутербурга.
Союзники, которые ещё во второй половине июля начали сосредоточиваться к Рейну между Кобленцом и Шпейером (пруссаки — 42 тысячи, гессенцы — 6 тысяч, эмигранты — 14 тысяч, отряд Гогенлое-Кирхберг — 14 тысяч, граф Эрбах — 7 тысяч, австрийцы князя Эстергази — 10 тысяч), предполагали сосредоточенными силами действовать через Трир, Лонгви и Шалон к Парижу. К безотлагательному вторжению во Францию побуждали их эмигранты, которые рассчитывали на содействие восставшего народа и уверяли герцога, что при вступлении союзников во Францию все консервативные элементы страны восстанут для подавления революционного меньшинства и для освобождения короля.
Перейдя в начале августа Рейн, герцог Брауншвейгский с главной массой войск (75 тысяч) двинулся к рекам Маас и Мозель. К нему примкнул из Люксембурга австрийский корпус Клерфе (20 тысяч). Союзники стали сосредоточиваться между Кёльном и Майнцем. Грозная прокламация к французскому народу предшествовала этому вторжению, что вызвало негодование в Париже и ещё большее напряжение сил к созданию и увеличению вооруженных сил Франции. Менее чем за 2 месяца вооруженные силы превзошли уже 400 тысяч, правда, плохо устроенных и вооруженных, но способных подавить числом и энтузиазмом.
18 августа герцог вошел в пределы Франции; 19 августа его авангард (принц Гогенлое) оттеснил французов в укрепленный лагерь при Фонтуа близ Лонгви; 22 августа пруссаки овладели крепостью Лонгви, а 2 сентября сдалась крепость Верден. В то же время (1 сентября) Клерфе разбил французов при Стенэ, а принц Гогенлое начал осаду Тионвиля. На верхнем Рейне австрийские войска Эрбаха обложили Ландау; в Нидерландах герцог Саксен-Тешенский обложил Сен-Аман и приблизился к Лиллю, в надежде склонить к сдаче эту важную крепость, в чём, однако, успеха не имел.
Во время этих действий французы оставались почти неподвижными; между тем, они могли бы, пользуясь медлительностью союзников и действуя по внутренним операционным линиям, бить их по частям. Причины бездействия — непорядки во внутреннем управлении армии, перемена командования (Лафайет бежал) и недоверие к ним республиканского правительства. Успехи союзников встревожили Францию; вновь набираемые войска спешили к Марне для прикрытия Парижа, армия у Меца поручена Келлерману, армия у Седана, после бегства Лафайета — Дюмурье. Положение Дюмурье было весьма затруднительно при полнейшем расстройстве тыла и упадке дисциплины; кроме того, он был отделен от Келлермана пространством в 20 миль и неприятельской армией, которая была сильнее обеих французских армий вместе. Единственным выходом являлось спешное отступление и сближение с Келлерманом, которому и было послано приказание отступить за Маас. Обе армии должны были занять важнейшие проходы в Арденских лесистых горах, идущих параллельно Маасу от Седана к Сен-Менегу (Сен-Мену) и представляющих хорошую оборонительную позицию. Здесь французы должны были удерживать неприятеля до подхода подкреплений.
В начале сентября армия Дюмурье отступила: главные силы (12 тысяч) стали на позиции у прохода Гран-Пре (в центре), а отдельные отряды защищали: левее Гран-Пре проходы Круа-о-Буа и Шэн, правее — Ла-Шаланд и Лез-Илет; через последний пролегала удобнейшая дорога из Вердена в Париж. Пруссаки, разбив генерала Шазо при Круа-о-Буа, вынудили Дюмурье отступить за реку Эн. Если бы союзники после этого быстро и решительно продолжали наступление и не допустили Дюмурье соединиться с Келлерманом и Бернонвилем, спешившими к нему на подкрепление от Меца и среднего Рейна, то положение французов было бы критическое; однако, обыкновенная для того времени медлительность действий, а также порча от дождей дорог и недостаток продовольствия (магазинная система) избавили французов от опасности. Дюмурье успел притянуть к себе Келлермана и Бернонвиля, а затем принял весьма смелый план, который, однако, соответствовал отчаянному положению, в котором находилась французская армия. Дюмурье, открыв неприятелю дорогу в Париж, занял весьма выгодную фланговую позицию на высотах между Вальми и Сен-Менегу, рассчитывая, что союзники не пожертвуют своими сообщениями, а ему самому не страшно в собственной стране при реквизиционной системе потерять сообщение с Парижем. Так и случилось. Союзники, не решаясь миновать Дюмурье, направились к Вальми, что и привело 20 сентября к сражению или вернее канонаде при Вальми. Успех, одержанный здесь французами, является замечательным примером в военной истории, доказывающим до какой степени нравственное влияние на войска может содействовать или препятствовать успеху целой кампании. Незначительный по существу успех настолько ободрил французов, не выдерживавших до сих пор атак неприятеля, и вселил в них такую самоуверенность, что они сочли себя в силах бороться с целой Европой; союзники же, находясь в сильнейшем изнурении от продолжительного похода и болезней, после этой неудачи упали духом и стремились только к скорейшему отступлению в свои пределы.
Дальнейший ход действий не представляет интереса. Союзники, возвратив занятые крепости, в жалком состоянии отступили в октябре за Рейн; малейший натиск французов мог рассеять эти остатки. Однако, Дюмурье, обрадованный неожиданным и легким успехом, а также обнадеженный обещанием герцога немедленно выйти из пределов Франции, предпочел неполный, но верный успех неизвестному ходу событий со своей не обученной и также расстроенной армией. Вследствие отступления герцога Брауншвейгского, герцог Саксен-Тешенский снял осаду Лилля и возвратился в Бельгию.
Действия в Нидерландах
Пользуясь сложившимся положением, Дюмурье решился снова напасть на Бельгию и Голландию, недавно усмиренные австрийским и прусским оружием, где революционная партия только ждала прибытия французов, чтобы снова поднять мятеж. Дюмурье приближался к границам Бельгии в нескольких колоннах. 20 октября его авангард выступил на Киеврен, опрокинув передовые австрийские части и стал у Крепи. Это движение угрожало Монсу, тем более, что Клерфе на обратном пути из Шампани в Нидерланды едва мог поспеть к этой крепости. Затруднительное положение герцога Саксен-Тешенского ещё более увеличилось, когда французская колонна Лабурдоне выступила из Лилля для осады Остенде, а главные силы Дюмурье расположились (авангардом) у Киеврена (23 октября) с явным намерением овладеть Монсом. С 29 октября по 6 ноября австрийцы медленно и в полном порядке отступили до Жемаппа, где заняли позицию и где 6 ноября были атакованы французами; после храброй и искусной защиты они, однако, вынуждены были отступить.
После этого сражения французы заняли Монс, а затем Иперн (Ипр), Фюрн и Остенде; после боя при Андерлехте (14 ноября) Дюмурье вступил в Брюссель. Герцог Саксен-Тешенский, расположившийся с остатками войск при Левени, передал командование Клерфе, который должен был отойти ещё далее назад.
Между тем, генерал Миранда, принявший Северную французскую армию от Лабурдоне, угрожал Антверпену; австрийский генерал Болье, преследуемый неприятельской дивизией Валанса, 20 ноября перешел за реку Маас, обнажив левый фланг союзников, которых Дюмурье стремился обойти также с правого фланга, направляясь на Аршо и Дист. Неприязненное отношение населения Бельгии, недостаток средств и побеги до того ослабили австрийцев, что Клерфе тоже решил удалиться через Тирлемон за Маас. Дюмурье, обстреляв австрийский арьергард, при дальнейшем его отступлении, после жаркого боя, занял 18 ноября Люттих, 27 ноября сдался на капитуляцию Антверпен; 3 декабря сдалась Балансу цитадель Намюра.
Клерфе, продолжая отступать, 14 декабря ушел за реку Эрфт. Дюмурье, оставаясь в Люттихе, осадил Аахен. Менее успешно действовал Бернонвиль. С 6 по 16 декабря он имел с австрийцами несколько кровопролитных боев, но был отбит и вынужден занять зимние квартиры в Туре, Меце и Вердене.
Действия на среднем Рейне
Действия на среднем Рейне приняли также неблагоприятный для союзников оборот. После ухода Келлермана из Меца на соединение с Дюмурье, 15 тысяч человек, под командованием генерала Кюстина, были оставлены около Ландау. Против них союзники имели: на левом берегу Рейна — корпус графа Эбербаха в Шпейере, для прикрытия магазинов союзной армии, а на правом — отряды князя Эстергази и принца Конде, раздробленные вдоль реки от Швейцарии до Филипсбурга. Кюстин, имея против себя превосходящие силы, до середины сентября ограничивался лишь наблюдением за ними, но 28 сентября, по указанию Дюмурье, двинулся в тыл союзникам, действовавшим в Шампани, рассеял гессенский и пфальцский контингенты, занял Шпейер, Вормс и Оппенгейм (30 сентября), вторгнулся в Пфальц и 21 октября захватил важный опорный пункт — Майнц, где была образована Майнцская республика. Наконец, 23 октября он занял Франкфурт, но, после упорного боя (2 декабря) с пруссаками и гессенцами, должен был покинуть его и отступить в Майнц.
Действия в Италии (Савойе)
24 сентября альпийская французская армия Монтескью перешла савойскую границу и достигла без сопротивления Шамбери. Сардинские и австрийские войска, не готовые ещё к действию, медленно собирались по восточную сторону Альп. 28 сентября французский генерал Анзельм взял Ниццу, которая, как и Савойя, была присоединена к французской республике.
Таким образом, во всех описанных военных действиях видны только новые действия в лице французских конскриптов, которые постепенно приобретали боевой опыт; все остальное было свойственно войнам XVIII и даже конца XVII веков: раздробление сил, медленные и нерешительные действия, признание важного значения за путями сообщения и крепостями, осада последних, слабое развитие боевых действий, а потому и ничтожные результаты кампании.
Кампания 1793 года
Политическое положение Франции в начале 1793 года совершенно изменилось и сделалось для республики весьма опасным. Казнь Людовика XVI и другие выступления республиканского правительства вооружили против Франции почти всю Европу, за исключением некоторых отдаленных держав.
Захват в ноябре 1792 года части Нидерландов и объявление свободы плавания по реке Шельде, которая была ограничена предыдущими договорами в пользу Англии и Голландии, привели к натянутым отношениям Франции с этими державами, и 1 февраля 1793 года, тотчас после казни Людовика XVI, Французская республика объявила войну Нидерландам и Великобритании. Последняя с этого времени стала во главе держав, воевавших против революционной Франции, помогала им субсидиями и частными экспедициями и в то же время посредством своего флота наносила громадный вред колониям и торговле противника. 7 марта 1793 года Франция объявила войну и Испании.
Война в кампанию 1793 года происходила на границах Франции со стороны Нидерландов, Германии, Италии и Испании. Несмотря на все усилия, вооруженные силы Франции едва достигли 270 тысяч человек. Рейнская армия Кюстина (45 тысяч человек) в крепости Майнце и его окрестностях; Мозельская, Линьевиля, за рекой Саарой; на восточной границе в гарнизонах — 38 тысяч; Северная армия Дюмурье (около 100 тысяч) между реками Рер и Маас, частью у Антверпена; Альпийскую и Итальянскую армию на границах Италии предположено было довести до 50 тысяч; на границах Испании до 28—30 тысяч человек, под командованием генерала Сервана, составили две армии, Восточно- и Западно-Пиренейские; на верхнем Рейне — 30 тысяч человек и столько же внутри государства.
Силы союзников простирались до 375 тысяч человек. Они не только превосходили французов численностью, но и состояли большей частью из войск, отлично устроенных и хорошо снабженных. Для действий на Рейне находилось около 100 тысяч прусских австрийских и германских войск, разделенных на 2 армии, герцога Брауншвейгского и генерала Вурмзера; кроме того, князь Гогенлое-Кирхберг и генерал Болье с отдельными корпусами у Трира и Люксембурга; против северо-восточной границы Франции — около 80 тысяч прусских, австрийских и голландских войск, под командованием принца Кобургского; для защиты Пьемонта — 40 тысяч сардинцев и австрийцев; на пиренейской границе — более 30 тысяч испанцев.
Планы: союзников — оттеснить французов с северо-востока за Маас, с востока овладеть Майнцем, затем, очистив Бельгию и перейдя Рейн, с обеих сторон наступать внутрь Франции, на остальных театрах пока не предпринимать ничего решительного; французов — завоевать Бельгию, на юге утвердиться в графстве Ниццком и овладеть проходами в Альпах; на остальных границах обороняться.
Действия в Нидерландах
17 февраля Дюмурье вторгся в Голландию. Он быстро занял Бреду, Гердтруйденберг, Клундерт и дошел до Мардика, с намерением идти в Дортрехт, Амстердам и Роттердам; но препятствия при переправе через реку Мардик и неудачные действия подчиненного ему генерала Миранды против принца Кобургского расстроили план. Миранда тщетно осаждал Маастрихт, обороняемый принцем Гессен-Кассельским; столь же безуспешны были усилия другого отряда отнять у пруссаков Венлоо (17 февраля). 1 марта союзники, под командованием принца Кобургского, Клерфе и эрцгерцога Карла, начавшего здесь своё боевое поприще, напали на французов, расположенных вдоль реки Рер и разбили их при Альденговене, что произвело большое смятение у французов. 3 марта пруссаки одержали победу при Швальмене, и французы поспешно оставили Аахен. Миранда снял 4 марта осаду Маастрихта, а при троне он был разбит эрцгерцогом Карлом.
Австрийцы 5 марта заняли Люттих и вынудили французов отступить через Тирлемон в Сен-Трон и Левен. Дюмурье поспешил к бельгийской армии, передав командование голландской армией генералу Дефлеру. 14 марта он выступил против австрийцев, которые после упорной обороны отдали 16 марта Тирлемон. Принц Кобургский, видя решительные действия французов, занял 17 марта позиции близ Неервиндена (40 тысяч человек). 18 марта Дюмурье (45 тысяч человек) атаковал австрийцев, но проиграл сражение при Неервиндене, а 19 марта отступил через Тирлемон на Левен. Это поражение сильно расстроило армию Дюмурье, солдаты бежали, и на 3-й день в армии оставалось не более 20 тысяч, большей частью старых солдат.
Австрийцы, почти не преследуя французов, заняли Брюссель, Намюр, Гердтруйденберг и Бреду и направились к Монсу и Турнэ. Дюмурье, намереваясь возвести на престол Франции сына Людовика XVI, вступил после Неервиндена в тайные переговоры с принцем Кобургским, обещая присоединить свои войска к союзникам при движении их к Парижу. Этот замысел был обнаружен и Дюмурье бежал. Конвент, усилив армию, вручил её Дампьеру, который сосредоточил её в укрепленном лагере при Фамаре.
Между тем, союзники, вместо того, чтобы воспользоваться расстройством неприятеля и продолжать наступательные действия, собрались на военный совет в Антверпене, на котором было принято решение перейти в решительное наступление; однако, время было упущено, и французы успели принять меры для улучшения своего положения.
9 апреля принц Кобургский возобновил военные действия, прерванные переговорами с Дюмурье. Австрийцы (40 тысяч) и пруссаки (8 тысяч) сосредоточились на высотах Киеврена. Клерфе, командуя резервным корпусом, занял позицию, прервавшую сообщения между крепостями Конде и Валансьенном, которые предполагалось осадить. Генерал Отто и принц Фердинанд Вюртембергский обложили Конде, в то время как генерал Латур наблюдал за Мобежом. 1 мая Дампьер, произведя ложные демонстрации к Валансьенну, Побежу, Кенуа, Оришь и Сен-Аману, выступил для освобождения Конде. Будучи отбит с незначительными потерями, он вторично 26 мая напал на австрийцев, но также неудачно. 8 мая получив подкрепление из Лилля и Дуэ, Дампьер в 3-й раз устремился на Клерфе, но опять был отбит и, будучи ранен, умер.
23 мая принц Кобургский овладел лагерем при Фамаре и обложил Валансьенн. Командование французской армией было поручено вызванному из-под Майнца Кюстину, который, однако, не смог улучшить положение. 11 июня пал Конде, 28 июня Валансьенн, и Кюстин был оттеснен. Затем союзная армия разделилась: герцог Иоркский с англичанами и голландцами двинулся к Дюнкирхену, чтобы захватить этот важный для англичан порт, а принц Кобургский направился к Кенуа.
7 августа французы были вытеснены из древнего лагеря Цезаря и бежали до Авена, где прибывший на место Кюстина (погибшего на эшафоте) Гушар с трудом собрал их. Тем не менее, Гушар быстро двинулся на выручку Дюнкирхена, который был обложен герцогом Иоркским, и 7 сентября, после 3-х дневного сражения при Гондешоте, вынудил снять осаду. Этим был обнажен правый фланг союзников, что тотчас же восстановило дела французов; хотя 11 сентября они безуспешно атаковали Иперн, но 13 сентября разбили голландцев при Менене. Затем Кенуа вновь попала в руки австрийцев, а вскоре Гушар был вытеснен из Менена, за что погиб на эшафоте.
Преемником Гушара был назначен генерал Журдан. 29 сентября принц Кобургский перешел Самбру и осадил Мобеж. Журдан поспешил к крепости на помощь и 15 и 16 октября неудачно атаковал позицию наблюдательного корпуса Клерфе при Ватиньи, однако же, вынудил принца Кобургского снять осаду и отступить за Самбру. 10 ноября обе стороны заняли зимние квартиры.
Действия на среднем Рейне
Одновременно с действиями в Нидерландах пруссаки двинулись против Рейнской и Мозельской армий, которыми в то время командовал ещё Кюстин, напали на форт Кюстель, напротив Майнца, но затем в виду зимнего времени вынуждены были отступить (6 января).
В начале марта они возобновили наступление; Кюстин, пытавшийся помешать им переправиться на левый берег Рейна, был 27 марта разбит при Штромберге; вскоре затем пруссаки, саксонцы и гессенцы осадили Майнц, защищаемый 20-тысячным гарнизоном, под командованием д’Оаре. Кюстин отступил к Ландау и за Вейсенбургские линии, откуда послан был в Нидерланды.
После продолжительной борьбы Майнц 12 июля сдался, после чего прусская армия резделилась на 4 части: 1-я, под руководством самого короля, двинулась в Тюркгейм, со 2-й герцог Брауншвейгский расположился у Кайзерслаутерна, 3-я, принца Гогенлое, стала у Лаутернека, а 4-я, составленная из пруссаков и саксонцев, под командованием Калькрейта — у Крейцнаха. Этим расположением прусская армия держала в бездействии все левое крыло французов и помогла австрийцам на верхнем Рейне перейти эту реку; Вурмзер занял Вейсенбургские линии, а принц Вальдек угрожал правому крылу французов. При таких условиях поражение последних было неизбежно, если бы существовало согласие между союзными военачальниками. Однако, не доверяя друг другу и стараясь более о сохранении войск, чем об общем успехе, они упустили удобный случай нанести французам решительный удар; последние потеряли лишь свою артиллерию и обоз; форт Луи сдался 29 октября. Австрийцы подошли к Страсбургу.
В то же время пруссаки 16 августа двинулись через Эрбах к Пирмазенсу, где 14 сентября отразили сильное нападение французов и, преследуя, привели их в большое расстройство. Снова французы оказались в тяжелом положении, исправить которое конвент поручил Пишегрю и Гошу; они успешно атаковали пруссаков при Биче и Блискастеле 18 ноября и двинулись к Кайзерслаутерну. Но там они были совершенно разбиты герцогом Брауншвейгским и 30 ноября в беспорядке отступили в Цвейбрюкен. Не будучи, однако, преследуемы, Гош и Пишегрю собрали войска, снова напали на пруссаков и австрийцев, оттеснили их передовые части, проникли в Вейсенбургские линии и осадили 27 декабря Ландау. Австрийцы отступили 29 и 30 декабря между Фйлипсбургом и Мангеймом за Рейн, а пруссаки отошли в Оппенгейм и Бинген. 17 января 1794 года французы взяли форт Луи.
Действия в Испании
7 марта 1793 года Национальный конвент объявил войну Испании; в это время испанская армия генерала Антонио Рикардоса (25 тысяч человек) вторглась в Руссильон, а другая — генерала Вентура-Каро (тоже 25 тысяч человек) прикрывала границы Наварры. Французы имели на испанской границе только 35 тысяч человек, разделенных на 2 армии — Восточно-Пиренейскую, генерала Дефлера, и Западно-Пиренейскую, генерала Сервана.
25 апреля Рикардос атаковал французов при Ла-Серда-Сере и разбил их, а 19 мая вторично нанес им поражение при Мазде, овладел их артиллерией и оттеснил к Перпиньяну. 23 мая он осадил крепость Белльгард (к югу от Перпиньяна), где заперся французский гарнизон полковника Буабрюле (1200 человек и 4 орудия). 24 июня крепость была взята.
Тем временем Каро действовал в Наварре не менее успешно. Он перешел через Бидассоа, овладел Бигором и, вытеснив неприятеля из его крепкой позиции при Croix des bouquets, отбросил его к Сарру. Французы отошли к Пиндону, откуда вторглись в долину Ронсеваль. Каро последовал за ними и 6 июня разбил Дефлера у Пиндона. Дефлер отступил, но вскоре оправился от поражения, получил подкрепления и, перейдя в наступление, 17 июля обрушился на Рикардоса у Ниеля и, после боя, оттеснил его с потерею 1200 человек убитыми и ранеными. Рикардос снял осаду Перпиньяна; Дефлер, усиленный прибытием свежых войск, 24 августа овладел Пюисердой и готовился перенести войну в пределы Каталонии.
17 сентября при Перестортесе 8-и тысячный французский отряд, предводимый генералом Дау, разбил испанский арьергард (6 тысяч) Куртена, потеряв не более 800 человек убитыми и ранеными и 1 орудие, тогда как потери испанцев простирались до 1200 человек убитыми и ранеными и 26 орудий. Но уже 22 сентября Рикардос (17 тысяч человек) атаковал 22-и тысячный отряд генерала Дагобера при Труиласе (к северо-западу от Перпиньяна) и нанес ему поражение. Дагобер потерял 4 тысячи человек убитыми и ранеными, 11,5 тысяч пленными и 10 орудий. Испанцы потеряли около 2 тысяч человек. Вслед за этим, усиленный подкреплениями от Каро, испанский главнокомандующий 2 декабря при Сере разбил генерала Доппета, 3 декабря при Булу (к юго-западу от Перпиньяна) — генерала Дау и его же 7 декабря 1793 года при Виллелонге, после чего последовательно овладел укрепленными пунктами на Средиземном море: Баньолесом, Колиуром, Сен-Эльмо и Порт-Вандром.
Посреди своих успехов Рикардос умер; главное командование перешло к маркизу д’Амарильясу, оказавшемуся неспособным остановить наступление Дагобера, успевшего овладеть Монтеллой, Лерсом, Сео-де-Ургелем и всей линией Сегре. Вместо Амарильяса был назначен граф Ла-Унион, но ещё до вступления его в должность, 20 декабря 1793 года генерал Куэста (8 тысяч человек) при Колиуре (к юго-востоку от Перпиньяна) разбил 5-и тысячный отряд Делатра, потерявшего 4 тысячи человек убитыми и ранеными и 10 орудий.
Таким образом, 1793 год окончился удачно для испанцев, благодаря, главным образом, талантам Рикардоса и незначительности неприятельских сил.
Действия на других театрах
События на остальных театрах для общего хода дел были малозначительны. На альпийской границе против 30 тысяч французов Келлермана стояли 40—50 тысяч пьемонтцев и австрийцев. Несмотря на то, что деятельность Келлермана была стеснена восстанием в тылу, союзникам не удалось отнять у французов Савойю; не удалось им также поддержать восставших в Тулоне, который был осажден французами. Тулон был занят англичанами и испанцами, но затем осаждён и взят войсками республики. Во время этой осады впервые появился на поприще славы Бонапарт.
В Вандее все более разгоралось восстание и республиканские войска терпели там жестокие поражения от роялистов.
Таким образом, результаты кампании 1793 года были для союзников совершенно ничтожны. Обладая громадными средствами и хорошо устроенными вооруженными силами, имея против себя неустроенную и более слабую французскую армию, союзники могли бы решить войну одним ударом, но для этого необходимы были смелость, энергия, решительность и быстрота наступательных действий совокупными силами, цель — Париж, средство — бой, а не осады многочисленных крепостей. Наоборот, они действовали по ложным правилам методизма; затрачивая неимоверные усилия, теряя людей и средства, достигали овладения одной-двумя, часто неважными, крепостями, затягивая войну и давая французам время устраиваться; наконец, коалиционная война, как и всегда, с её центробежными целями и стремлениями участников, не способствовала решительным действиям. Наоборот, французская армия приобретала важные преимущества; среди царившего в ней хаоса она начала постепенно организовываться, приобрела навыки и приемы нового способа ведения войны; практически на боевом опыте начали создаваться новые войска, новая организация, новая школа командиров, новые полководцы.
Действия на море
Основные действия на море разворачивались между флотами Франции и Великобритании.
Французский флот был совершенно дезорганизован революцией, и в продолжение нескольких первых лет этой войны не мог предпринять никаких серьезных операций, но и потом его действия были крайне неудачны вследствие плохого состава офицеров, некомплекта и недисциплинированности команд и плохого снабжения.
Англия тоже не была готова к войне, так как в 1792 году держала в плавании всего лишь 12 линейных кораблей. Необходимость набрать огромный личный состав затянула мобилизацию, и только во второй половине года были подготовлены к плаванию 85 линейных кораблей. Из них 25 составляли, под командованием адмирала Хоу, эскадру канала, 25, под командованием адмирала Худа, пошли в Средиземное море, 12 кораблей пошли в Вест-Индию, а остальные составили резерв в Портсмуте и Плимуте.
Главным морским театром военных действий в этой войне явились европейские воды.
В первый же год войны французы сами отдали в руки англичанам значительную часть своего флота. В августе 1793 года в Тулоне произошла контр-революция, Людовик XVII был провозглашен королём, и в виду того, что на юг шла республиканская армия, город решил разоружить флот и передать его и укрепления под защиту адмирала Худа, командовавшего английской эскадрой в Средиземном море, причём Худ поручился, что, по заключении мира, форты и корабли в целости будут возвращены Франции. 27 августа соединенный англо-испанский флот из 40 кораблей, под командованием адмиралов Худа и де Лангара, вошел на тулонский рейд. В октябре Тулон был осажден республиканскими войсками, и 16 декабря они взяли возвышенные форты, которые командовали над рейдом; 19 декабря союзный флот оставил Тулон, причём Худ не выполнил своего обещания и хотел уничтожить адмиралтейство и флот, и только спешность отступления помешала ему выполнить это в полной мере. Из 27 линейных кораблей 9 были сожжены, а 4 линейных корабля и 15 легких судов англичане увели с собой.
На севере в этом году флоты противников не встречались. Поздняя готовность эскадры адмирала Хоу не позволила англичанам оказать существенную поддержку восставшей Вандее, а к концу года это восстание было подавлено.
Кампания 1794 года
Политические отношения, существовавшие между Францией и остальной Европой в течение 1793 года, оставались, за исключением весьма немногочисленных изменений, в прежнем виде. Душою коалиции была Англия, которая, увеличив свои военные средства, напрягала все усилия, чтобы привлечь к коалиции возможно большее число держав. Испания и Сардиния готовились принять деятельное участие; Португалия, Неаполь и Тоскана, хотя явно не примкнули, но были готовы принять участие в войне; Голландия готовилась к войне; Австрия продолжала быть одной из деятельнейших участниц коалиции; Пруссия, не видя для себя пользы в предстоящей войне, имела сначала намерение отпасть, но уступила убеждениям Англии и обещаниям денежных субсидий. Нейтралитет Швейцарии был весьма важен для Франции, которая имела в Швейцарии посредницу для приобретения средств войны; сверх того, нейтралитет Швейцарии обеспечивал ту часть французской границы, которая наименее других была защищена; Генуя соблюдала нейтралитет. Англия уже с середины 1793 года имела неоспоримый перевес на море над всеми державами.
Внутреннее положение Франции в начале 1794 года было самое бедственное; революция находилась в полном разгаре и развал во всех частях государственного управления доходил до крайней степени. Страной управлял террором комитет общественного спасения, финансы были в полном расстройстве и не в состоянии были покрыть расходы на содержание огромных военных сил; в довершение всего — голод и народная война в Вандее. Несмотря на это, Франция не только успешно сдержала нашествие коалиции, но на некоторых театрах войны даже сделала новые приобретения. Конец 1793 и начало 1794 года были употреблены с обеих сторон на усиление армий. Франция чрезвычайными мерами привела в действие громадные силы; в начале 1794 года вооруженные силы её увеличились до 1 млн. 200 тысяч, из них полевых войск около 750 тысяч; армия получила новое устройство, клонившееся к слиянию старых войск с новонабранными; в пехоте было введено новое разделение на полубригады (2500 человек с 6-ю 4-х фунтовыми пушками), общая численность пехоты превышала 600 тысяч; преобразования конницы довели её численность до 95 тысяч; в артиллерии осталось прежнее устройство и разделение. С этого года конница начинает массироваться, сводиться в резервные корпуса; в пехоте по прежнему в бою — строй рассыпной.
Распределение французских армий было следующее: Северная — 160 тысяч, занимала часть северных границ от Дюнкирхена до Мобежа; Арденнская, 35 тысяч, между Филипвилем, Рокруа и Живе; Мозельская, 60 тысяч, стояла на восточном склоне Вогезских гор до реки Мозель и далее до Саарлуи, поддерживая связь с Рейнской армией (45 тысяч), которая охраняла пространство от Саарлуи до Рейна (до Мангейма); Верхне-Рейнская армия (48 тысяч) по Рейну до Базеля; против Италии — Италийская (55 тысяч) и Альпийская (40 тысяч); на пиренейской границе — Восточно-Пиренейская (70 тысяч) и Западно-Пиренейская (50 тысяч); наконец, гарнизоны крепостей и 80 тысяч войск внутри государства, для охранения морских границ и внутренней службы. (Состав упомянутых армий беспрерывно изменялся, а потому и численность их показана приблизительно).
Из союзников деятельнее других готовилась Англия; Австрия и Пруссия ограничились укомплектованием прежних войск и добавлением немногочисленных новых; прусские войска содержались за счет Англии и Голландии. Войска германских княжеств были незначительны, разбросаны по всей союзной армии и по своему дурному устройству приносили незначительную помощь. Общий итог вооруженных сил коалиции на всех театрах простирался до 1 млн человек. Особых перемен в устройстве армий и их употреблении у союзников не было.
Действия в Нидерландах
В начале 1794 года союзные войска располагались: генерал Мелас прикрыл с 6 тысячами австрийцев Трир, генерал Болье (15 тысяч) стоял между Люксембургом и Намюром, Кауниц (14 тысяч) — у Монса с целью наблюдать за Филипвилем и Мобежем и прикрыть Шарлеруа и Маас, Клерфе (25 тысяч) должен был защищать все пространство от Валансьенна до Ньюпорта, где находился герцог Йоркский. Главнокомандующим был принц Кобургский, его генерал-квартирмейстером — Мак.
План союзников, составленный Маком, состоял в том, чтобы сначала взять крепость Ландреси, а затем через Сен-Кентен двинуться прямо на Париж. Французы, собрав до 200 тысяч (армии — Северную, под командованием Пишегрю, и Арденнскую, под командованием Шарбонье), намерены были двинуться по рекам Самбре и Лис, ударить в оба крыла и в тыл противнику, затем сосредоточиться в Брабанте и, таким образом, возвратить все потерянные в предыдущей кампании крепости.
17 апреля началось наступление союзников 9-ю колоннами; 18 апреля они взяли укрепленный лагерь под Ландреси и вогнали французов в крепость, открыв по ней бомбардирование. Французы, с целью скрыть свой план, с 18 по 26 апреля производили демонстративные частные атаки; 26 апреля при Троавиле французский генерал Шапью попал в плен, и у него был отобран план французов. Тотчас были приняты меры противодействия, но оказалось поздно. Пишегрю, после тщетных усилий освободить Ландреси — последнюю важную крепость по дороге в Париж — двинулся с Северной армией в Западную Фландрию. Сильные гарнизоны заняли Гиз, Сен-Кентен и Камбрэ; Шарбонье приказано было сосредоточить все свои войска на реке Самбре и тревожить левый фланг союзников с целью отвлечь их внимание от правого крыла.
30 апреля последовало падение Ландреси, тем не менее Пишегрю продолжал обходное движение; генерал Сугам с 30 тысячами выступил из Лилля, взял Куртрэ, а генерал Моро с 20 тысячами — Менен. Все усилия Клерфе отстоять эти города и соединиться с герцогом Йоркским были неудачны; тогда он поспешил в Тильт, чтобы прикрыть Гент. Принц Кобургский потянулся с большей частью армии в Турнэ (16 мая); другая часть стала на реке Самбре.
В этом положении австрийцы удержались против французов; Клерфе двинулся на помощь угрожаемой французами крепости Иперн, но там потерпел сильное поражение при Гооглеце 15 июня. 17 июня пал Иперн, и этим открылся для Пишегрю свободный путь в Голландию, тем более, что в это самое время центр и левое крыло союзников были прикованы к реке Самбре. Здесь Журдан, командовавший Мозельской армией и усиленный 15 тысячами из Рейнской армии, 18 июня перешел через реку Самбру и занял Шарлеруа. 26 июня Журдан встретился с союзниками при Флерюсе, где произошел упорный бой; победа уже клонилась на сторону австрийцев, но, получив сведения о падении Шарлеруа, они отступили в Нивель.
Движение Журдана к Самбре является искуснейшим маневром первых революционных войн; оно решило участь Нидерландов. Пишегрю взял Ньюпорт, Остенде и Брюгге, двинулся к Генту, оттеснил принца Кобургского до Брюсселя и разбил генерала Клерфе при Соанье 10 июля. Все завоеванные союзниками крепости вновь перешли в руки французов: Ландреси (15 июля), Кенуа (15 августа), Валансьенн (27 августа) и Конде (29 августа).
В Антверпене союзники также не смогли удержаться; австрийцы 21 июля отступили до Люттиха, англичане и голландцы к Бреде; сообщение между союзниками было прервано, и французы заняли 24 июля антверпенскую цитадель. 18 сентября Журдан разбил австрийцев при Апремоме и, прогнав их за Рейн, занял Аахен, Юлих, Кельн и Бонн; генерал Клебер осадил Маастрихт.
Между тем, Пишегрю, взяв 24 августа крепость Слей, овладел Бредою и 14 и 15 сентября при Бокстеле и Гестели принудил герцога Йоркского отступить за реку Маас. Крепость Креквер сдалась 2 октября. Французы явились на остров Боммель и в то же время начали осаду Венлоо, Граве и Нимвегена. 19 октября Пишегрю перешел при Тефелене через реку Маас; немедленно Сугам атаковал правое крыло герцога, примыкавшее к Другетину и реке Вааль, разбил его и 20 октября грозил той же участью главной англо-голландской армии. Герцог Йоркский отступил к Арнштейну, и ничто уже не могло его побудить оказать помощь Нимвегену и Венлоо, которые 27 октября сдались.
Испытанное голландцами средство — наводнение, при жесточайших морозах, лишь облегчило движение французских колонн. Французы, овладев всем островом Боммель, прорвали 27 декабря голландские линии у Бреды, перешли Вааль при Пандерне (январь 1795 года), пресекли сообщение голландцев с англичанами и, после занятия Амстердама и захвата вмерзшего в лёд голландского флота, заставили Голландию заключить союз с Францией, дав ей название Батавской республики. Штатгальтер принц Оранский бежал в Англию, куда возвратился также и герцог Йоркский.
Действия на Рейне
В виду событий в Нидерландах, действия на Рейне отошли на 2-й план; здесь обе стороны думали лишь о том, чтобы обеспечить и поддержать операции на главном театре. К тому же обе стороны разбросали свои силы от Мозеля до швейцарской границы. В мае, после отправления Журдана в Нидерланды, в командование Мозельской армией вступил Моро (30 тысяч); Рейнской армией (36 тысяч) командовал Мишо. Этим силам союзники противопоставили: 85 тысяч (австрийцы, германские контингенты и эмигранты) герцога Альберта Саксен-Тешенского между Базелем и Мангеймом; 50 тысяч пруссаков и 5 тысяч саксонцев, под командованием фельдмаршала Мюлендорфа, принявшего командование от герцога Брауншвейгского, находились у Майнца; 9 тысяч фельдмаршала Бланкенштейна (из состава Нидерландской австрийской армии) — у Трира.
Мюллендорф, как только выяснились условия договора с Англией, по которому Пруссии за 67 тысяч выставленных войск было выплачено 9 миллионов рублей, начал 22 мая свои операции вытеснением французов с позиций при Кайзерслаутерне и Моорлаутерне за рекой Саар. Но несколько недель позже соединения Рейнской и Мозельской французских армий, получившие значительные подкрепления, предприняли наступление и выгнали австрийцев с позиций при Эдесгейме. Это заставило Мюллендорфа снова отойти к Кайзерслаутерну, где он продержался 2 дня и затем с большим трудом успел утвердиться в Альцее и Вормсе; австрийцы у Мангейма отступили за Рейн и очистили левый берег, почему Рейнско-Мозельская армия могла соединиться с главными французскими силами в Нидерландах. Мозельская армия 9 августа двинулась к Триру, разбила там соединения австрийцев и пруссаков, взяла город и, прогнав союзников за Рейн, осадила крепость Люксембург; крепости Рейнфельс (2 ноября) и Рейншанц (24 декабря) сдались без сопротивления; Майнц остался единственной точкой, занятой союзниками на левом берегу Рейна. Этим закончились военные действия Франции с Пруссией, которая затем 5 апреля 1795 года заключила с Францией Базельский мир, передав ей все владения по левому берегу Рейна
Действия в Испании
Военные действия на пиренейском театре начались значительно позже; действия с обеих сторон не отличались решительностью и не имели влияния на события других театров; в общем же успех склонялся на сторону Франции.
В начале 1794 года к французам подошли подкрепления, и главнокоманующим Восточно-Пиренейской армией был назначен генерал Дюгомье, а Западно-Пиренейская вверена генералу Мюллеру, сменившему Сервана. Дюгомье тотчас же перешел в наступление и 1 мая 1794 года при Булу разбил Ла-Униона, имея одинаковые силы с противником (по 20 тысяч человек). Ла-Унион потерял 2 тысячи человек убитыми и ранеными, 11,5 тысяч пленными и 140 орудий; Дюгомье — 1 тысяча человек убитыми и ранеными. Отбросив Ла-Униона к границам Каталонии, французы последовательно овладели Портеллой, Колиуром, Сен-Эльмо и Порт-Вандром, так что к концу июля Пиренейская граница Франции оказалась очищенной от неприятеля.
На западных Пиренеях Мюллер действовал не с меньшим успехом, сначала против Каро, а после — против его преемника, неаполитанского наместника Каломера. Он овладел Веро, Уарзуном, Толозой, Фуэнтарабией (2 августа) и Сан-Себастьяном (4 августа).
Между тем, Конвент предписал своим полководцам перенести войну в пределы Испании. Дюгомье приступил к осаде Белльгарда, но ещё ранее падения крепости, генерал Ожеро 13 августа нанес поражение Ла-Униону при Сен-Лоренцо-де-Муга; испанцы потеряли 1400 человек убитыми и ранеными, а французы — 800 человек. По сдаче Белльгарда (18 сентября) Ла-Унион отошел къ Фигуэрасу и занял позицию впереди этой крепости за рекой Монга. Разбив испанский авангард при Террадасе, Дюгомье 17 ноября начал атаку укрепленной позиции Ла-Униона, имея всего 35 тысяч человек против 50 тысяч. После 3-х дневного ожесточенного боя у Монте-Неро (17—20 ноября), в котором пали оба главнокомандующих, французы штурмом взяли неприятельскую позицию, отбросив испанцев к Героне. Вслед за тем преемник Дюгомье генерал Периньон осадил Фигуэрас, который сдался 27 ноября.
На Западно-Пиренейском театре генерал Монсей, сменивший Мюллера, продолжал действовать наступательно против испанского генерала, принца Кастель-Франко, занявшего укрепленную линию Мондрагон — Памплона. По трудным тропинкам Наваррских гор Монсей обошел правый фланг испанской линии и, спустившись в долину Ронсеваль, у Вискаретты прорвал неприятельский центр, вследствие чего Кастель-Франко отошел к Памплоне. Испытав неудачу под стенами этой крепости, французский генерал отступил к Толозе и в долину Бастан. 17 декабря у Орбаисеты (близ Памплоны) Монсей разбил Оссуну, но эта победа никаких последствий не имела, и испанцы снова заняли прежнние позиции.
Тем временем Периньон вторгся в Каталонию, а генерал Соре вынудил Искиердо сдать осажденную с 21 ноября крепость Розас (3 февраля 1795 года). Но экспедиция Периньона в Сердань и к реке Флувии, благодаря целесообразным мерам, принятым новым испанским главнокомандующим, Уррутия, окончилась неудачей, после чего Периньон расположился лагерем у Фигуэраса и Пюисерды.
Действия на других театрах
Против французских армий — Италийской генерала Дюмербиона и Альпийской Дюма (назначенного вместо Келлермана) — на итальянском театре находились 40 тысяч пьемонтцев и австрийцев. Французы уже в марте перешли в наступление. Из Ниццы 5 апреля они двинулись через Генуэзскую область, заняли гор. Онелью и 16 апреля разбили австрийского генерала при Чеве. Затем 28 апреля они вторглись в Пьемонт, но появление в войсках эпидемических болезней и прибытие английского флота в Генуэзский залив вынудили французов отступить. В этом походе бригадный генерал Бонапарт исполнял должность начальника артиллерии Итальянской армии. Альпийская армия, также изнуренная болезнями, сохранила свои позиции в Савойе.
В сентябре французы, сосредоточившись на генуэзской границе при Лимоне и Тенде, внезапно вновь двинулись 3 колоннами в Генуэзскую область, заняли Савону, Вадо (24 сентября) и Финале и расположились на зимних квартирах при Ормее и Гарессио. Напуганный этими успехами, герцог Тосканский заключил отдельный мир, по которому признал французскую республику и заплатил 1 млн франков, за что его владения были признаны нейтральными (15 февраля 1795 года).
Действия на море
В 1793 году во Франции был сильный неурожай, а получить хлеб от соседей было нельзя, так как с ними со всеми она вела войну. Поэтому хлеб был заказан в Соединенных Штатах, и 11 апреля 1794 года из Чесапикского залива вышел караван в 130 коммерческих судов под конвоем 2 линейных кораблей и 3 фрегатов, под командованием контр-адмирала Ван-Стабеля. 10 апреля из Бреста навстречу вышел контр-адмирал Нилли (Nielly) с 5 линейными кораблями и расположился в 100 милях к западу от от острова Бель-Иль, выслав вперед по разным направлениям мелкие суда для встречи каравана. Кроме того, был мобилизован весь наличный флот в Бресте, и 16 мая оттуда вышел адмирал Вилларе-Жуаёз с 25 линейными кораблями. Франции грозил голод, а потому всеми операциями французов на море в этот период руководили соображения о благополучном проводе хлебного каравана, и главной задачей английского флота было этому помешать. Вилларе должен был соединиться с Нилли и уклоняться от боя с англичанами, если они не будут непосредственно угрожать каравану.
В Англии знали о караване, и лучший способ помешать ему прийти во Францию — это было захватить его у берегов Соединенных Штатов. Но это не было сделано. Вследствие неготовности эскадры, адмирал Хоу вышел из Портсмута с 34 линейными кораблями и 15 разведчиками только 2 мая, причём он ещё должен был вывести в океан 140 торговых судов, направлявшихся в Америку и Ост-Индию. У мыса Лизард он отправил с ними адмирала Монтегю с 6 линейными кораблями, который, доведя торговые суда до мыса Финистерре, должен был крейсировать в Бискайском заливе на предполагаемом пути каравана, а сам направился к острову Уэссан, чтобы собрать сведения об эскадре Вилларе. Удостоверившись, что тот стоить на рейде, Хоу тоже начал крейсировать в Бискайском заливе. Но 19 мая он получил известие о выходе Вилларе и о нахождении в море отряда Нилли.
Так как со времени выхода Вилларе, который имел, очевидно, задачу соединиться с Нилли, прошло уже 3 дня, то надеяться помешать этому соединению было нельзя, и настоятельно важно было присоединить к себе Монтегю. Вместе с тем, погоня за Вилларе могла увлечь Хоу от каравана, так как задача Вилларе могла состоять именно в таком отвлечении. При такой обстановке лучшим выходом для Хоу было сосредоточить свои силы и крейсировать с ними между Рошфором и Брестом — крайними пунктами назначения каравана, рассылая по различным направлениям разведчиков, чтобы его не пропустить. Вместо этого Хоу, узнав от встречных торговых судов о районе нахождения Вилларе, погнался за ним и догнал его 28 мая на расстоянии 400 миль к западу от острова Уэссан. Вилларе начал уходить и взял направление на северо-запад, расходящееся с путём каравана, а Хоу последовал за ним.
28 и 29 мая произошли стычки, в результате которых 1 английский корабль и 4 французских выбыли из строя и были отосланы в свои порты. Но 30 мая к Вилларе присоединился Нилли, и у него оказалось 26 линейных кораблей против 25 английских. Последовавший продолжительный туман помешал сражению, которое произошло только 1 июня, причём французский флот был разбит, и англичане взяли 6 кораблей, но отсутствие Монтегю не позволило Хоу добить французов, и он вынужден был для исправления повреждений уйти в Портсмут, куда прибыл 13 июня, а Вилларе пришел 11 июня в Брест. Это было первое последствие стратегической ошибки Хоу, а второе состояло в том, что хлебный караван прошел 30 мая как раз через то место, где Хоу догнал Вилларе 28 мая, и 12 июня он благополучно прибыл в Брест. Монтегю, хотя и получил сведения о выходе Вилларе и о том, что Хоу за ним погнался, не сделал попытки к нему присоединиться, а опасаясь встречи с превосходными силами французов, ушел в Англию и 30 мая пришел в Плимут.
В Средиземном море в 1794 году дела французов, вследствие слабости их флота, половина которого была уничтожена в Тулоне, были плохи. Задача английского флота состояла в поддержке сухопутных операций противников Франции в узкой береговой полосе между Альпами, Апеннинами и морем и в оказании давления на различные итальянские государства, а в случае нужды и помощи им, направляя их на продолжение борьбы против французов. Для этого английскому флоту непременно нужна была база вблизи итальянских берегов, и когда в декабре 1793 года англичанам пришлось оставить Тулон, они наметили для этой цели остров Корсику, северные гавани которого — Кальви, Сен-Флоран и Бастия — в полной мере удовлетворяли этим условиям. Этот план являлся удобоисполнимым, так как внутри острова было в полном разгаре восстание против французов, которые только и держались в северной его части, имея гарнизоны в перечисленных трех портах. После оставления Тулона эскадра Худа, на которой находился и английский гражданский комиссар сэр Эллиот, назначенный было для управления Тулоном, перешла на Гиерский рейд. В январе 1794 года Эллиот отправился на Корсику, где вошел в сообщение с восставшими, а 7 февраля английская эскадра овладела Сен-Флораном; 3 апреля Худ осадил Бастию и вынудил её к сдаче 21 мая. 19 июня был осажден Кальви, 10 августа сдался и он, и уже 19 июня корсиканцы предложили корону Корсики английскому королю, который её принял и назначил Эллиота вице-королём. Французы, с своей стороны, сосредоточили 18 000 войск в Тулоне, чтобы перевести их для операций против Корсики, но слабость их флота связывала их по рукам и ногам. Это привело их к стремлению перевести в Средиземное море часть северного флота, где у них на воде и в постройке было 44 линейных корабля.
Итоги кампании
В результате кампании 1794 года успех все более склонялся на сторону французской армии, и французы, приобретая все большую боевую подготовку, переходят от пассивной обороны сначала к активной, расширяя свои границы, а затем к концу третьего (1794) года войны к решительному наступлению. Главными и важнейшими причинами этого были необыкновенные энергия, решимость, единство и согласие действий французского правительства. Несмотря на то, что французские войска не были так хорошо устроены, как коалиционные, и французские военачальники действовали так же, как и предводители союзных войск, то-есть по правилам кордонной системы, тем не менее и при этом превосходство энергии и проявление необыкновенной нравственной силы давало французам такой перевес, что они одолели коалицию. Союзники очистили Нидерланды, а вследствие этого и весь левый берег Рейна от моря до Бабеля, то-есть Франция достигла того, чего не мог достигнуть Людовик XIV в течение 45-и лет войн своего царствования. На прочих театрах всюду перевес был на стороне французов, и союзники постепенно стали отпадать от коалиции.
Кампания 1795 года
Перед открытием военных действий политические отношения держав, принимавших в них участие, совершенно изменились. Успехи французского оружия в предыдущем году нанесли сильный удар коалиции и заставили участников подумать о собственной безопасности. Из всей коалиции на театре войны остались только Англия (которая по прежнему являлась её главным деятелем), Австрия, Испания и несколько мелких германских и итальянских владетелей; исключая первых двух, остальные ждали только малейшего предлога, чтобы заключить мир с Францией. Военные успехи и приобретения, сделанные Францией, однако, не исправили её внутренние расстройства по всем частям управления. Военные силы республики значительно уменьшились, с уничтожением террора меры, употреблявшиеся при наборе в войска, оказались недействительными, вследствие чего к августу 1795 года войск было не более 570 тысяч (против миллиона в сентябре 1794 года).
Эти силы были распределены: Северная армия, Моро, около 135 тысяч человек — в Голландии; Самбро-Маасская, Журдана, около 170 тысяч — по Рейну от Клеве до Кобленца; Рейно-Мозельская, Пишегрю, около 190 тысяч человек — также по Рейну от Майнца до Базеля; Альпийская, де-Муленя, около 50 тысяч человек; Италийская, Келлермана, около 30 тысяч; Восточно-Пиренейская, Шерера, около 80 тысяч; Западно-Пиренейская, Монсея, около 75 тысяч и, наконец, Западная, генерала Канкло, около 70 тысяч для действий в Вандее.
Союзники также приняли меры для усиления армий. После отделения от коалиции Пруссии осталось 180 тысяч, разделенных на 2 армии — Клерфе и Вурмзера; обе занимали правый берег Рейна от Везеля до Базеля. В Италии австрийцы (30 тысяч) находились между Тортоной и Асти, а сардинские войска (40 тысяч) между Мондови и Кони. Испания выставила 2 армии: каталонская (35 тысяч), герцога Уруттиа, стала около Сен-Эстевани и в Серданье и наваррская (30 тысяч), князя Кастельфранко, прикрывала одной частью границу Навары, другой — Бискайи. План французов состоял в наступлении на всех границах, более или менее деятельном, смотря по средствам и обстоятельствам. На Рейне, который теперь стал главным театром, французы намеревались, после взятия Люксембурга, перейти на правый берег, овладеть Майнцем и, опираясь на него, распространить операции далее. Австрийцы предполагали действовать также наступательно: взять обратно Люксембург и заставить снять осаду Майнца, а затем, опираясь на эти пункты, отнять у французов Бельгию. В Италии предположено было вытеснить французов из Савойи и графства Ниццского.
Действия на Рейне
Конец 1794 года и первая половина 1795 года прошли в блокировании французами крепости Люксембург, которая сдалась 7 июля; но и после этого обе стороны не предпринимали ничего решительного. Военные действия открылись лишь в первой половине августа. К этому времени союзники занимали следующее положение: армия Клерфе находилась на правом берегу Рейна, от Крефельда до Филиппсбурга; армия Вурмзера — от Филиппсбурга до Мюльгейма. С целью занять всю эту линию (450 километров), обе армии раздробились на отряды: на правом фланге между реками Ангербах и Виппер — корпус графа Эрбаха (11 тысяч); между реками Виппер и Зиг — принц Вюртембергский (91 тысяча); между реками Зиг и Лан — генерал Вартенслебен (14 тысяч человек), имея главные силы в Нейвиде; между реками Майн и Лан 8 тысяч; между Майном и Неккаром 19 тысяч; левее его ещё 15 тысяч человек; армия Вурмзера была сосредоточена в лагерях при Мюльгейме, Кроцингене и Фрейбурге.
Французы готовились к переходу через Рейн. Журдан приказал собрать перевозочные средства на нижнем Рейне и выказал намерение переправиться у Урдингена, Дюссельдорфа, Нейвида и Кобленца, отвлекая тем внимание от наступательного пункта перехода в окрестностях Дуйсбурга (Дёсбург, ниже Крефельда). Пишегрю перенес свою главную квартиру в Ней-Бризак, позднее в Гюнинген и также готовился к переправе и одновременно к постепенной осаде Майнца. Однако, переход армии через большую реку под огнём австрийских батарей представлял большие затруднения; поэтому французы решили нарушить нейтралитет, двинуться через демаркационную линию и, обойдя, таким образом, правое крыло союзников, угрожать их тылу. С этой целью, по приказанию Журдана, дивизия Лефевра, переправившись на судах через Рейн при Эйхелькампе, двинулась вверх по Рейну к реке Ангербах, а затем к Мюндельгейму (около Дуйсбурга), угрожая тылу всей оборонительной линии. Одновременно Шампионне (10 тысяч) перешел Рейн при Гамме, направляясь к Дюссельдорфу, который сдался на капитуляцию; наконец, дивизия Гренье переправилась близ Мюндельгейма и не встретила уже сопротивления. Остальные войска левого крыла перешли Рейн по плавучему мосту, и Журдан двинулся с ними вверх к реке Зиг. Противник поспешил очистить всю линию, вся кордонная линия была сбита одним ударом. Отряд Эрбаха направился на Зиген для соединения в Укерате с принцем Вюртембергским, отступавшим через Зигбург на Альтенкирхен; Вартенслебен, очистив позицию при Нейвиде, отступил за реку Лан, где 16 сентября соединились все 3 упомянутые отряда; Клерфе с остальными войсками прибыл туда же и, заняв левый берег Лана от Рейна до Вильбурга, предполагал здесь дать отпор Журдану. С отступлением Вартенслебена переправа у Нейвида сделалась свободной, и все правое крыло армии Журдана тотчас же перешло на правый берег Рейна и присоединилось к Журдану, который 19 сентября с 71 тысячей достиг правого берега Лана. 21 сентября Журдан перешел ниже Лимбурга реку Лан, австрийцы находились в полном отступлении. Этому обстоятельству, кроме того, помогли действия Пишегрю. Он получил приказание перейти Рейн при Мангейме и взять эту крепость. Едва он подошел, как последняя сдалась на капитуляцию (20 сентября). Благодаря этому французы приобрели надежный опорный пункт и вынудили союзников к быстрому отступлению; кроме того, заняв Гейдельберг с главными австрийскими магазинами и складами, они достигли того, что соединение армий Вурмзера и Клерфе в рейнской долине сделалось невозможным.
Это блестящее начало обещало французам решительные успехи, но вследствие измены Пишегрю, его распоряжения, после занятия Мангейма и Гейдельберга, дали союзникам возможность принять решительные меры для оттеснения французских армий обратно на левый берег Рейна. Пишегрю, вместо того, чтобы сосредоточенными силами направиться против раздробленных частей союзников, ограничился выдвижением двух дивизий к реке Неккар. Клерфе, спешивший в Гейдельберг на помощь Кваждановичу, атаковал их и заставил занять позицию на левом берегу Неккара. В происшедшем здесь 24 сентября сражении при Гандшусгейме французы были разбиты, оставили Гейдельберг и отступили к Мангейму. Сообщение между Клерфе и Вурмзером было восстановлено, а прибытие Вурмзера с значительными силами отклонило опасность, угрожавшую союзникам.
Между тем Журдан 23 сентября двинулся за австрийской армией к Майну и занял его правый берег от устья до Гехста (ниже Франкфурта). Однако, положение Журдана было тяжелое; вследствие отсутствия понтонов перейти Майн он не мог; в то же время он испытывал громадные затруднения вследствие недостатка продовольствия и упадка дисциплины. Австрийцы 10 октября перешли против Журдана в наступление, оттеснили его и заставили перейти на левый берег Рейна, на котором Самбро-Маасская армия растянулась от Кобленца до Дюссельдорфа. Клерфе, убедясь, что Журдан ему не опасен, двинулся с главными силами из Вейльмюнстера через Виккерт и 27 октября явился совершенно неожиданно для французов под Майнцем и атаковал их отряд, блокировавший эту крепость. Правый фланг французской контр-валационной линии был обойден и французы с поспешностью и в беспорядке отступили. Австрийцы преследовали слабо и дали возможность французам собрать части разбитого блокадного отряда. 31 октября французы собрались на правом берегу реки Фрим, куда Пишегрю направил все лишние войска из Мангейма, всего до 37 тысяч.
В это время Вурмзер двинулся к Мангейму, отбросил французов в крепость и занял пространство между реками Неккар и Рейн; при этом генерал Удино был взят в плен. Однако, Вурмзер не мог приступить к осаде Мангейма, пока не был оттеснен Пишегрю от реки Фрим. Эту задачу взял на себя Клерфе, к которому Вурмзер отправил подкрепление (14 батальонов, 40 эскадронов) под командованием Латура. Последний перешел при Гернсгейме на левый берег Рейна и присоединился к Клерфе, который в это время находился между Альцеем и Гернсгеймом. Австрийцы перешли в наступление 10 ноября, несколько раз атаковали французов, после чего Пишегрю 15 ноября отступил сперва за реку Шпейербах, а на другой день за реку Квейх. Австрийцы, преследуя, дошли до реки Шпейербах и заняли Кайзерслаутерн, Гомбург и Цвейбрюкен, а 22 ноября сдался Мангейм. Журдан после своего отступления за Рейн, в виду приказания директории, оставался в бездействии и только во 2-й половине ноября ему было указано действовать по своему усмотрению. Журдан пытался было перейти в наступление к Мозелю через укрепленный лагерь Трирбах. Суровое время года и изнурение войск заставило, наконец, австрийцев предложить перемирие, которое и было заключено обеими сторонами 1 января 1796 года.
Действия в Италии
Перед открытием военных действий в Италии, австро-сардинская армия имела около 70 тысяч (австрийцев — 30 тысяч), но, за исключением гарнизонов и больных, под ружьем находилось не более 50 тысяч человек. В середине мая эти войска были распределены следующим образом: австрийцы (20 батальонов, 10 эскадронов) барона Де-Вень стояли по квартирам между Тортоной и Асти; вспомогательный австрийский корпус и 15 тысяч пьемонтских войск генерала Колли — между Мондови и Кони; 15 тысяч пьемонтцев герцога Аостского — по левому берегу реки Стуры, занимали все выходы из Альп, через которые французы могли вторгнуться в Пьемонт с запада.
Французы имели под командованием Келлермана 2 армии: Италийская (30 тысяч) занимала линию от Вадо (на берегу моря) через Сан-Джакомо, Гарессио, Ормеа до проходов Тендского и Фенестры; Альпийская (15 тысяч) занимала все отнятые в предыдущем году проходы через Альпы, от Аржантьерского до Сен-Бернара. Положение французских войск было самое бедственное: недостаток продовольствия, одежды и жалованья, к тому же эпидемические болезни довели численность до 30 тысяч.
Союзники имели целью вытеснить французов из Савойи и графства Ниццского, для чего сначала проникнуть в Генуэзскую Ривьеру; успешные действия союзников угрожали отрезать французам сообщение с Генуей сухопутным путём, а английский флот мог бы содействовать в вытеснении французов из Приморских Альп; французское правительство, беспрестанно извещаемое о слабости и расстройстве армий, предоставило Келлерману оставаться в оборонительном положении и в крайности даже очистить графство Ниццское. На западной границе Пьемонта происходили незначительные военные действия, которые в сентябре даже вовсе прекратились, и войска обеих сторон остались в прежнем положении.
Больше значения имели действия Итальянской армии против де-Вень и Колли. Первое наступление союзников было в середине июня; Келлерман вынужден был до подхода подкреплений ограничиться обороной Генуэзской Ривьеры; ввиду этого Итальянская армия заняла правым крылом Боргетто, центром Ормеа, а левое крыло по-прежнему находилось в Тендском проходе. Австрийцы не преследовали и расположились почти в виду французов. В этом положении союзники оставались в бездействии 2 месяца, надеясь голодом заставить французов очистить Ривьеру.
В конце августа прибыли к Итальянской армии подкрепления: с Рейна 10 тысяч и из Испании, по заключении с ней мира, большая часть Западно-Пиренейской армии Шерера, которому было поручено командовать Итальянской армией, а Келлерману — одной Альпийской. В середине сентября военные действия возобновились, но ограничились небольшими стычками, не имевшими влияния на ход войны.
Во второй половине ноября Шерер предпринял общее наступление. Стянув войска в долину реки Танаро, он направил 3 колонны: Серюрье (7 тысяч) атаковал пьемонтцев при Сен-Бернаре и демонстрировал по левому берегу Танаро; Массену (13 тысяч человек) было приказано вытеснить из Бердинето генерала Аржанто и прервать связь между левым крылом австрийцев и корпусом Колли, против которого был направлен Ожеро с остальными войсками. Все атаки Серюрье были безуспешны: Массену, напротив, удалось отбросить Аржанто за реку Бормиду; Ожеро, после многократных атак овладел Лоано. Австрийцы 23 ноября отступили к Финале, где их армия была разделена на 2 колонны; одна из них 29 ноября дошла до Акви, а другая направилась к Дего, где соединилась с отрядом Аржанто, отступавшим от Бормиды.
Массена и Ожеро преследовали австрийцев, а Серюрье, получив от Шерера 5 тысяч подкреплений, снова атаковал пьемонтцев, которые, ничего не зная о поражении левого крыла и центра, продолжали оборонять позиции при Сен-Бернар и Гарессио. Пьемонтцы после упорного боя оставили обе позиции и отступили к Чева. За поздним временем года и ввиду изнурения войск, Шерер прекратил военные действия, но, желая подготовить благоприятное исходное положение к следующему году, занял все проходы через Аппенинский хребет; однако, ему пришлось в 1796 году уступить командование Бонапарту. Войска Шерера были расположены по квартирам при Савоне, Сан-Джакомо, в долинах рек Танаро и Бормиды и при Финале. Союзники расположились от Савильяно до Чевы, между Акви, Александрией и Тортоной, а также по левому берегу По от Павии до Кремоны.
Действия в Испании
Действия в Испании и в этом году не отличались решительностью и оказали влияние на общий ход войны только тем, что после заключения 5 августа мира с Испанией Франция могла послать подкрепления в Италию.
Генерал Шерер, сменивший Периньона, действовал крайне неудачно и 14 июня 1795 года при Баскаре потерпел поражение от Уррутии. Вслед за тем пала и Пюисерда (26 июля), взятая Куэстой. Только Монсей, несмотря на неудачи под Памплоной, действовал успешно: 6 июля он разбил испанцев при Ирулзуне и Ормеи, 17 июля овладел Бильбао, а 24 июля Витторией.
Тут пришло известие о заключении Базельского мира (подписан 22 июля 1795 года), по которому Конвент возвратил Испании все свои завоевания, кроме испанской части острова Санто-Доминго.
Действия на море
В январе 1795 года французы заняли Голландию, которая превратилась в Батавскую республику и стала союзницей Франции. Это заставило Англию отделить часть эскадры канала для действий против голландскаго флота и увеличило для неё военные расходы, так как до этих пор она вместе с голландцами поддерживала субсидиями ведение войны на суше против Франции, а теперь ей приходилось это делать одной, и богатства голландских купцов теперь могли быть использованы Францией. Однако, Англия, пользуясь бессилием своих противников на море, вознаградила себя за счет голландской морской торговли и колоний.
В конце 1794 года адмирал Вилларе получил приказание (см. предыдущую кампанию) выйти с 35 кораблями из Бреста и, дойдя до мыса Финистерре, отправить в Средиземное море 6 кораблей. «Комитет общественной безопасности», совершенно невежественный в морском деле, не принял никаких возражений о полной невозможности для дезорганизованного и плохо снабженного флота плавания в зимнее время, и 24 декабря Вилларе вышел из Бреста. Уже при выходе разбился один корабль, а во время страшного шторма 1 января 1795 года погибло ещё 4 корабля, и эскадра была приведена в такое плачевное состояние, что ей пришлось возвратиться в Брест, причём часть кораблей была разбросана штормом по другим портам.
Адмирал Хоу был противником тесной блокады неприятельских портов и считал, что постоянное крейсерство, в особенности в зимнее время, ослабляет флот. Поэтому англичан не было перед Брестом, и Хоу, получив сведения о движении французов, вышел из Портсмута только 14 февраля, тогда как к 1 февраля французы уже были в своих портах, и случай уничтожить дезорганизованный и приведенный штормом почти в беспомощное состояние флот противника был упущен. Узнав о возвращении французов, Хоу тоже возвратился в Портсмут.
А между тем, 22 февраля 6 кораблей, под командованием адмирала Ренодена, вышли из Бреста и на этот раз благополучно добрались до Средиземного моря. Однако, французы не дождались его прихода в Тулон, и 2 марта 1795 года адмирал Мартен вышел оттуда с 15 кораблями и фрегатами и 7 марта подошел к мысу Корсо.
В это время английская эскадра, которая состояла теперь из 14 кораблей, под командованием адмирала Хотама, сменившего адмирала Худа, находилась в Ливорно, куда зашла для снабжения после долгого и тяжелого крейсерства. В Сен-Флоране был оставлен ремонтировавшийся там 1 линейный корабль, который, идя в Ливорно на присоединение к флоту, встретил у мыса Корсо французов и был ими захвачен.
Узнав о выходе неприятеля в море, Хотам 9 марта погнался за ним. 13 и 14 марта у мыса Ноли ему удалось вступить с французами в бой, в результате которого англичане захватили 2 корабля. Адмирал Хотам удовольствовался этим и не стал преследовать французов, и те ушли в Тулон.
Бурная погода заставила его зайти в Специю, причём у Хотама разбился один корабль, а затем он пошел в Сен-Флоран. Как раз в это время вошел в Средиземное море адмирал Реноден и, благодаря таким передвижениям Хотама, прибыл 4 апреля благополучно в Тулон. Преимущество в численности теперь было на стороне французов, которые могли выставить 20 кораблей против 13 английских. Хотам ожидал подкреплений, и для французов теперь был лучший момент, чтобы не допустить их прибытия и разбить противника по частям. Но как раз в это время в Тулоне начался мятеж якобинцев, которые не позволили флоту выйти, и пока правительство с ними справилось, прошло 2 месяца, и только 7 июня адмирал Мартен вышел с 19 кораблями, с большими нехватками команды, разбежавшейся во время безпорядков. Было уже поздно, так как 27 апреля к Хотаму прибыл караван с припасами, а 14 июня около Минорки к нему присоединился контр-адмирал Манн с 9 линейными кораблями, а затем 22 июня и другой караван, и 29 июня он вернулся в Сен-Флоран.
Адмирал Мартен между тем крейсировал у берегов Генуэзского залива и погнался за небольшим английским отрядом, под командованием адмирала Нельсона, который был выслан Хотамом для содействия австрийской армии. Подойдя к Сен-Флорану и увидав там многочисленный английский флот, он поспешно отступил, и погнавшейся за ним Хотам настиг его только 13 июля у самаго Гиерскаго рейда, так что англичанам удалось овладеть только одним отставшим кораблем.
Так же плохо шли дела французов и на севере. Французский отряд из 3 линейных кораблей, конвоируя большой караван каботажных торговых судов, шедших из Бордо, был настигнут 8 июня английским отрядом из 5 линейных кораблей, под командованием адмирала Корнуоллиса, который овладел 8 торговыми судами. Узнав об этом, адмирал Вилларе вышел из Бреста с 9 линейными кораблями и, соединившись с вышеупомянутыми тремя, погнался за Корнуоллисом, но, хотя и нагнал его 17 июня, не мог принудить к бою и прекратил погоню.
12 июня вышла из Портсмута эскадра канала, в числе 14 кораблей, под командованием адмирала Бриджпорта, и 22 июня он встретил Вилларе, который в свою очередь начал отступать к Лориану; но 23 июня на небольшом расстоянии от острова Груа англичане завладели тремя задними кораблями, причём Бриджпорта обвиняли в том, что он упустил случай захватить всю эскадру Вилларе.
Все эти неудачи, как на севере, так и в Средиземном море, привели французов к решению не высылать в море свой линейный флот и ограничиться крейсерской войной, тем более, что снабжение его было очень затруднительно, так как корабельные материалы шли, главным образом, из Балтики и с Корсики, а не только последняя, но и путь из Балтики были в руках англичан. Но кроме того, Англия заключила оборонительный союз с Россией. В целях крейсерской войны и нападения на колонии, из остатков Тулонской эскадры, с которой после сражения 13 июня дезертировало большинство матросов, было с большим трудом изготовлено к плаванию 7 кораблей и 8 фрегатов, из которых 6 кораблей и 3 фрегата, под командованием адмирала Ришери, вышли 14 сентября из Тулона, с назначением идти в Северную Америку, а остальные, под командованием капитана Гантома, пробрались к Леванту. Это была вина Хотама, который очень вяло блокировал Тулон; узнав 22 сентября о выходе Ришери, он только 5 октября послал в погоню за ним контр-адмирала Манна с 6 кораблями. Но Ришери уже успел пройти Гибралтар, и 7 октября он нагнал караван торговых судов, шедший из Леванта, под конвоем 3 линейных кораблей. Ему удалось завладеть одним из них и всем караваном, который он решил отвести в Кадис, так как уже 22 июля Франция заключила с Испанией мир, но здесь он был заблокирован Манном.
Итоги кампании
Таким образом, политические и военные результаты кампании 1794 года подготовили для Франции благоприятную обстановку к началу кампании 1795 года, которой Франция и воспользовалась. Французы упредили союзников на главном театре войны — Рейне, успешно направили 2 свои армии (Журдана и Пишегрю) на правую сторону нижнего и среднего Рейна, захватили в свои руки инициативу и сразу же поставили союзников в тяжелое положение. Однако, в дальнейшем, отсутствие единства и согласованности в действиях обеих армий, а главное ошибки Пишегрю, разрушили надежды на успех. Тем не менее, этот, хотя и неудачный, опыт перенесения военных действий на правую сторону Рейна имел ту выгоду, что Франция из стороны обороняющейся обратилась в наступавшую вне пределов её границ и открыла путь для последующих наступательных действий в Германии. Этот важный перелом в войне, совершившийся в 1795 году, заканчивает первый, вступительный акт войн Франции с коалицией, после него начинается другой, имеющий уже совершенно иной, более интересный и поучительный характер.
Кампания 1796 года
Политическая обстановка перед началом кампании в общем изменилась мало; внешние отношения Франции почти со всеми европейскими державами были большей частью неприязненные. Только Пруссия и Испания, согласно Базельским договорам, находились на стороне республики. Австрия, хотя и желала мира, но, убедившись, что нет надежды на скорое прекращение войны, стала готовиться к новой борьбе и вступила (28 сентября 1795 года) в союз с Россией, Англией, королём неаполитанским и другими итальянским владетелями. Англия, опасаясь союза Франции с Пруссией и Испанией, всеми мерами возбуждала войну против Франции, давая союзникам щедрые денежные субсидии. Россия ещё не могла принять деятельное участие в войне и вся её помощь выразилась в посылке нескольких кораблей в Северное море. Короли неаполитанский и сардинский вступили в союз с Австрией и Англией и обещали выставить вспомогательные войска; прочие же государства северной Италии, хотя и не принимали открытое участие в войне, но правительства их втайне более благоприятствовали Австрии. Швейцария, волнуемая внутренними смутами, признала французскую республику и держала нейтралитет. В Голландии установилось республиканское правление, которое охраняли французский отряд генерала Бернонвиля.
Внутри Франции волнения не прекращались; финансы были в полнейшем расстройстве, ассигнации, выпущенные в предыдущих годах, не имели никакой цены; все меры к улучшению финансов не достигали цели; директория, наконец, прибегла к принудительному внутреннему займу в 600 млн франков. Эти средства были обращены на армию, которая находилась в бедственном положении. Артиллерия и конница почти не имели лошадей; в пехоте, за полным недостатком обмундирования и продовольствия, исчезла дисциплина, целые батальоны покидали знамена. Однако, благодаря необычайной энергии, директория уже в марте располагала многочисленной армией, удовлетворительно устроенной и в важнейших отраслях снабженною.
Военные действия происходили на 2 отдельных театрах войны — в Германии и Италии. Наибольшая опасность угрожала Франции со стороны Рейна и Альп. Директория сочла за лучшее первой начать наступательные действия, так как эта мера служила залогом будущих успехов и, перенося войну в неприятельские земли, избавляла, страну от разорения, а директорию от расходов (содержание армий за счет неприятеля реквизициями).
Военным министром Карно был составлен смелый и величественный план действий, по которому 2 сильные армии должны были направиться от Рейна обоими берегами Дуная в пределы Германии и Австрии и соединиться под стенами Вены с 3-ей армией Бонапарта из Италии. Сообразно с этой главной целью выставлялись 3 армии: Журдана (около 80 тысяч), для наступательных действий на нижнем Рейне; Моро (около 80 тысяч), вызванного из Голландии, для действий в Эльзасе и третья — (около 43 тысяч), вверенная молодому генералу Бонапарту, едва достигшему 27-летнего возраста, предназначалась для вторжения в Северную Италию, с целью овладения Ломбардией, освобождения Пьемонта, а также отторжения мелких итальянских владений от коалиции. Кроме того, имелись ещё 2 резервные армии по 20 тысяч каждая: одна, Келлермана, занимала проходы, ведущие в Дофине и Савойю; другая — в графстве Ниццком и Провансе, частью занимала крепости, а частью предназначалась для поддержки армии Бонапарта.
Австрия была намерена действовать также наступательно. Главная её цель — очистить Бельгию от республиканских войск. Для этого предназначалась армия численностью около 90 тысяч, командование которой было возложено, вместо Клерфе, на молодого, энергичного эрцгерцога Карла. В Италии австрийцы предполагали действовать также наступательно с армией в 57 тысяч, под командованием генерала Болье; наконец, третья армия (около 80 тысяч), Вурмзера — для действий на верхнем Рейне и для поддержания связи между двумя предыдущими армиями. Как видно из распределения сил обеих сторон, никто из противников не ожидал, что в Италии могут развернуться важные события. Между тем в Австрии всё по-прежнему зависело от гофкригсрата, распоряжения которого только связывали руки главнокомандующих.
Действия в Италии
Итальянская кампания была весьма благоприятна для французов благодаря искусным действиям их молодого вождя. Приняв начальство над армией, Бонапарт нашёл её в самом жалком материальном положении, до которого довели её небрежность и казнокрадство прежних начальников и интендантства. Властной рукой он устранил все злоупотребления, поставил новых начальников, собрал нужные деньги и съестные припасы и сразу приобрёл этим доверие и преданность солдат. Операционный план свой он основал на быстроте действий и на сосредоточении сил против неприятеля, придерживавшегося кордонной системы и несоразмерно растянувшего свои войска. Быстрым наступлением ему удалось разобщить войска сардинского генерала Колли и австрийской армии Больё. Сардинский король, испуганный успехами французов, заключил с ними 28 апреля перемирие, которое дало Бонапарту несколько городов и свободный переход через реку По. 7 мая он переправился через эту реку, и в течение месяца очистил от австрийцев почти всю Северную Италию. Герцоги Пармский и Моденский принуждены были заключить перемирие, купленное значительной суммой денег; с Милана была тоже взята огромная контрибуция. А 15 мая Сардинский король заключил окончательный мир, по которому Савойя и Ницца были уступлены Франции.
3 июня Бонапарт вступил в Верону. В руках австрийцев остались лишь крепость Мантуя и цитадель Милана. Неаполитанский король также заключил перемирие с французами, примеру его последовал и Папа, владения которого были наводнены французскими войсками: ему пришлось заплатить 20 миллионов и предоставить французам значительное число произведений искусства. 29 июля пала Миланская цитадель, а затем Бонапарт осадил Мантую. Новая австрийская армия Вурмзера, прибывшая из Тироля, не могла поправить положения дел; после ряда неудач сам Вурмзер с частью своих сил принуждён был запереться в Мантуе, которую перед тем тщетно пытался освободить от осады. В конце октября в Италию были выдвинуты новые войска под начальством Альвинци и Давидовича; но после сражения при Риволи они были окончательно оттеснены в Тироль, понеся огромные потери.
Действия в Германии
Начатая 2 месяцами позже Итальянской кампании, законченная 3 месяцами ранее и тотчас же возобновленная весной 1797 года, кампания на Рейне хотя и бледнеет перед победной славой Бонапарта в Италии, тем не менее, принимая во внимание, что на Рейнскую армию были возложены главные операции, на них сосредоточивалось внимание правительств и народов, они поглощали с обеих сторон большую часть сил и управлялись наиболее известными полководцами, эта кампания для изучения эпохи также представляет большой интерес. Австрийцы, увеличив свои силы до 170 тысяч, расположили их к началу кампании следующим образом: армия Вурмзера (около 70 тысяч) стояла на верхнем Рейне, имела левое крыло и центр по правому берегу от Швейцарии до Мангейма, а правое крыло (Мессароша) на левом берегу около Мангейма и Кайзерслаутерна; другая армия, Нижне-Рейнская (около 90 тысяч), под командованием эрцгерцога Карла, имела правое крыло (70 тысяч) на реке Наге, а левое (20 тысяч) — на реках Зиг и Лан; сверх того 10 тысяч находилось в Майнце; левое крыло этой армии, как отдельно стоявшее, отдано под командование герцогу Вюртембергскому. После назначения Вурмзера в конце июня с 25 тысячами войск в Италию, эрцгерцог Карл вступил в командование обеими армиями. Это объединение власти имело весьма выгодные последствия, в то время как обе французские армии были независимы одна от другой.
Французы, доведя свои силы до 150 тысяч, были расположены так: Рейнско-Мозельская армия (77,5 тысяч) генерала Моро (сменившего Пишегрю) стояла правым крылом около Гюнингена, центром за рекой Квейх, левым крылом около Саарбрюкена; Самбро-Мааская армия генерала Журдана (74,5 тысячи) занимала: левое крыло (генерал Клебер) — укрепленный лагерь у Дюссельдорфа и все пространство до реки Виппер (Вуппер), центр и правое крыло по левому берегу Рейна от Кельна до Сен-Вендена.
21 мая австрийское правительство, намереваясь решительным наступлением на Трир нанести удар французам между Мозелем и Сааром, объявило, что перемирие, заключенное в конце 1795 года, будет прекращено 31 мая; но после выделения 25 тысяч с Вурмзером австрийцы от этого намерения отказались.
Между тем, французы, воспользовавшись медлительностью противника, перешли в наступление. Журдан перешел через Гундсрюкский хребет и у Дюссельдорфа через Рейн; Клебер разбил герцога Вюртембергского 4 июня при Альтенкирхене и вынудил его отступить за реку Лан. Преследуя принца Вюртембергского, Журдан расположился от устья Лана до Ветцлара. Узнав об этом, эрцгерцог Карл перешел 8 и 9 июня обратно за Рейн и, оставив в Майнце 20-и тысячный гарнизон, поспешил навстречу французам. Между тем, Журдан, видя растянутое положение австрийцев на реке Лан, решил прорвать его наступлением 3 колонн, но предварительно для обеспечения левого фланга решил занять Ветцлар дивизией Лефевра, что привело 15 июня к бою у Ветцлара. Победа, клонившаяся на сторону французов, с прибытием эрцгерцога Карла, перешла к австрийцам. 16 июня австрийцы перешли через реку Лан и преследовали Самбро-Мааскую армию до левого берега Рейна. Три колонны Журдана, отступавшие к Дюссельдорфу, были настигнуты генералом Краем 18 июня при Кирхгейме и после упорного сопротивления отброшены за реку Виппер. Главные силы австрийцев стали у Нейвида (24 июня), а фельдцейхмейстер Вартенслебен, сменивший герцога Вюртембергского — на берегу реки Зиг.
Верхне-Рейнская армия Вурмзера, ослабленная выделением войск в Италию, отказалась от наступления в Эльзасе и ограничилась оборонительными действиями. Вурмзер (7 и 8 июня) занял между Регютте и Франкенталем крепкую позицию. Моро решил (14 июня) прогнать австрийцев за Рейн и переправиться у Страсбурга. Генерал Дезе взял приступом шанцы позади Регютте, Сан-Сир овладел Франкенталем, Оггерсгеймом и Мосбахом, проникнув до Рейншанца при Мангейме; однако, здесь французы были отброшены; только Дезе удержался при Ребахе и Мутерштадте. Вурмзер перешел 16 июня на правый берег Рейна, оставив гарнизоны в Мангейме, Рейнгенгейме и Мунденгейме. Рейнгенгейм после упорного боя был 20 июня взят Моро, который 23 июня перевел свою квартиру в Нейштадт. Отсюда он форсированным маршем направился к Страсбургу. В это время Вурмзер отправился в Италию, сдав армию генералу графу Латуру.
23 июня рано утром передовые французские войска переправились у Келя, напротив Страсбурга, через Рейн, совершая в то же время демонстративные атаки по всей линии противника, растянутой до Гюнингена и занятой слабыми корпусами генерала Старая и эмигрантов. Французы заняли все укрепления на рейнских островах, овладели Келем и оттеснили неприятеля до реки Кинциг. После этого Моро решил проникнуть в Швабский округ: генерал Дезе 26 июня отбросил австрийцев из Неймюля, генерал Ферино двинулся вслед за корпусом эмигрантов Конде, в центре генерал Бопюи опрокинул неприятельский отряд при Корке. 27 июня Ферино направился на Оффенбург, который и был занят 28 июня; тогда же Дезе вытеснил неприятеля из лагеря при Биме.
В это время Латур приближался с сильным подкреплением из Мангейма. В свою очередь, Дезе, направленный в Ренхен, оттеснил Старая к Штольгофену; другая французская колонна, пройдя через Шварцвальд, заняла с боя проход между Книбисом и Росбюлем (2 июля); третья — овладела 4 июля Фреденштадтом. Австрийцы отступили до реки Мург, где Моро предполагал дать им решительное сражение, которое и произошло 5 июля при Раштадте; австрийцы отступили. Эрцгерцог Карл, узнав о переходе Моро через Рейн, выступил 5 июля с частью войск к Дурмерсгейму, намереваясь атаковать французов 10 июля; саксонцы подошли к Пфорцгейму. Однако, Моро упредил и начал наступление 9 июля. Австрийцы упорно и удачно сражались против Дезе при Раштадте, но генерал Кейм после упорного сопротивления был опрокинут при Ротензоле, а саксонцы при Вильдбаде. Эрцгерцог Карл, попав между двумя неприятельскими армиями (так как Журдан вновь перешел в наступление), отступил в полном порядке (10 и 11 июля) через Карлсруэ к Неккару.
После ухода эрцгерцога Карла с нижнего Рейна, Журдан получил строгое повеление безотлагательно перейти Рейн. Как и прежде, движение началось с левого крыла. Клебер 28 июня перешел Рейн и отбросил австрийцев с левого берега реки Зиг; сам Журдан перешел Рейн 2 июля при Нейвиде. Вартенслебен поспешно стянул свои разбросанные отряды и 6 июля со всеми силами отступил на левый берег Лана, а затем во Фридберг, где держался до 10 июля. Французы, вытеснив их отсюда, заняли Франкфурт-на-Майне, где нашли большие артиллерийские и продовольственные запасы. Столь быстрые успехи французов побудили герцога Вюртембергского, маркграфа Баденского и весь Швабский округ заключить (27 июля) мир с республикой, уплатив 6 млн ливров контрибуции и уступив владения на левом берегу Рейна.
Эрцгерцог Карл отступил в Людвигсбург и Штутгарт, с целью не допустить Моро переправиться через Неккар. Однако, французы двинулись за ним, тревожа его нападениями; наиболее упорные из них произошли 19 и 21 июля при Канштадте. Когда же эрцгерцог Карл убедился, что Моро своим движением угрожает его отступлению в Донауверт, то направился на Гмюнд и стал при Беменкирхе. Следовавший за австрийцами Сен-Сир отбросил 2 августа их арьергард из Гмюнда и 3 августа занял Гейденгейм. Эрцгерцог Карл отступил в Донауверт. При Бопфингене 5 августа французы потерпели неудачу, но за то 8 августа Моро отбросил австрийцев из Нересгейма.
Эрцгерцог, получив к этому времени подкрепления, решил напасть на правое крыло французов. Австрийцы проникли в тыл до Гейденгейма, где находилась главная квартира Моро, который едва успел спастись. Несмотря на успех, эрцгерцог не преследовал, а поторопился отойти снова в Донауверт и 16 августа был уже по ту сторону Дуная, откуда пошел к реке Лех и в Баварию. К реке Лех также отступил и Латур; таким образом, к 22 августа все австрийские силы успели собраться. Того же числа Моро занял Аугсбург.
Во время этих событий Журдан, преследуя Вартенслебена, 18 июля занял Ашафенбург, а 22 июля — Швейнфурт; 24 июля сдался Вюрцбург. Заняв 2 августа Кенигсгофен, французы вступили 4 августа в Бамберг, откуда двинулись к Форхгейму и заняли его 7 августа; после кавалерийского боя Лефевра с австрийской конницей при Аллендорфе, Вартенслебен отступил к Дунаю и занял 9 августа позицию между Ротенбергом и Лауфом, а 10 августа при Зульцбахе и Амберге генерал Ней с одной из колонн журдановской армии взял Ротенберг; с другой колонной генерал Бернадот овладел Неймарктом и двинулся к Альтдорфу; сам Журдан расположился напротив Вартенслебена при Зульцбахе. Австрийцы расположились за Зульцбахом на сильной позиции. Последовавший здесь 17 августа бой продолжался до ночи; австрийцы отступили за реку Вильс. Вартенслебен 22 августа занял сильную позицию у Шварценфельда. Журдан с дивизией Бернадота двинулся через Неймаркт до Дейнинга (к северу от Регенсбурга), откуда грозил прервать сообщения между Вартенслебеном и эрцгерцогом Карлом.
В этом крайне опасном положении, в то время, когда из Италии приходили неблагоприятные известия, эрцгерцог Карл проявил истинно полководческий талант. Поняв, что единственным средством остановить успехи французов была атака сосредоточенными силами на одну из французских армий, пока они были ещё разделены Дунаем, и, разбив данную, ударить во фланг и тыл другой, эрцгерцог решил: на реке Лех оставить корпус Латура и, обманув Моро искусными маневрами, внезапно перейти с остальными силами на левый берег Дуная и атаковать правый фланг Журдана.
21 августа главные силы эрцгерцога занимали возвышенности Гернрида, в то время как генерал Готце с авангардом подошел к Верхингу и 22 августа имел там первое сражение с Бернадотом. Австрийцы взяли Дейнинг; Бернадот отступил, преследуемый эрцгерцогом. 23 августа французы вторично были разбиты при Неймаркте, откуда отступили на Нюрнберг. Армия Журдана попала в опасное положение: эрцгерцог, не медля, устремился во фланг и тыл Журдану, разбил его 24 августа при Амберге и отбросил с большими потерями к Зульцбаху. В то же время князь Лихтенштейн взял Нюрнберг, захватив много обоза и артиллерии, Готце утвердился в Герспрук; Ротенберг также был занят австрийцами.
Между тем Моро, уяснив себе план действий эрцгерцога, решил остановить его стремительным наступлением на Латура; 24 августа он перешел реку Лех, разбил австрийцев при Гауштетене и Фридберге и преследовал их до Рейнталя. Курфюрст Баварский поспешил заключить договор в Мюнхене, по которому Бавария обязалась заплатить 10 млн франков контрибуции и доставить французам огромное количество провианта. Однако, желание Моро отвлечь Карла от преследования Журдана не исполнилось: эрцгерцог Карл, отправив генерала Науендорфа с 15 тысячами на поддержку Латура, продолжал теснить Журдана. Когда австрийцы овладели Гайфом, Журдан был вынужден отступить в горы и через Вальдек и Вильсек с большим трудом достиг 25 августа Гильпольштейна и Петценштейна; в то же время колонна Клебера отступила по крайне трудной местности между Байрейтом и Бамбергом в Гольфельд, потеряв все обозы и артиллерию.
Австрийцы заняли левый берег Майна, угрожая отрезать Самбро-Мааскую армию от Вюрцбурга; Журдан поспешил туда 30 августа через Швейнфурт. Готце, двинувшись через Шварцбах, 1 сентября достиг Вюрцбурга, занял город, но не смог склонить к сдаче коменданта цитадели и, поручив её обложение генералу Кинмайеру, занял позицию около Вюрцбурга. 2 сентября прибыли, с одной стороны, колонны Журдана, с другой эрцгерцога Карла. 3 сентября произошло сражение, в котором французы были совершенно разбиты, потеряв обоз, артиллерию и знамена и бежали к Ашафенбургу. 4 сентября сдалась цитадель Вюрцбурга. 8 сентября при Ашафенбурге была разбита дивизия Бернадота; в этот день французы оставили и Франкфурт; 9 сентября они сняли осаду Майнца на правом берегу Майна. На реке Зиг при Альтенкирхене 19 сентября произошло сражение, в котором французы снова были разбиты. Журдан сложил командование армией, передав его Бернонвилю, который не замедлил отступить в Дюссельдорф и на левый берег Рейна.
Бегство и совершенное расстройство Самбро-Мааской армии поставили Моро в весьма тяжелое положение, тем более, что эрцгерцог от берегов Зига повернул влево с целью идти к Келю и Штутгарту и отрезать Рейно-Мозельскую армию от Франции. Моро начал отступление, которое впоследствии громко прославило его имя. Несмотря на то, что левое крыло его армии с отступлением Журдана было обнажено и австрийцы угрожали его правому флангу из Тироля, он успел благополучно возвратиться за Рейн. Он переправился 19 сентября при Аугсбурге через Лех, отошел за Иллер и направился к Ульму, откуда, преследуемый Латуром, 26 сентября двинулся в Биберах, оставя понтоны и несколько магазинов австрийцам. При Биберахе 2 октября произошло сражение, в котором Моро разбил Латура. Отделавшись, от навязчивого преследования, Моро беспрепятственно достиг Шварцвальдских гор (15 октября). При Эммендингене он впервые столкнулся с эрцгерцогом Карлом; после упорного боя 19 октября французы вынуждены были отступить и заняли весьма выгодную позицию при Шлингене; здесь они снова были атакованы 25 октября и 28 октября отступили при Гюнингене за Рейн. Вновь правый берег Рейна был свободен от французов.
Вскоре после этого эрцгерцог Карл был назначен главнокомандующим войсками в северо-восточной Италии против Бонапарта и заключил на Рейне перемирие.
Действия на море
В 1796 году общая картина положения дел на море изменилась. Блестящая итальянская кампания Бонапарта 1796 года лишила Англию всякой опоры на берегах Италии и имела следствием усиление французской партии на Корсике, которая, при поддержке Франции, начала серьезно грозить английским гарнизонам; последние держались, только опираясь на силу английской эскадры, которой с конца 1795 года командовал адмирал Джервис. Но и эта опора становилась ненадежной. 19 августа 1796 года Испания заключила с Францией оборонительно-наступательный союз, и при первых слухах об этом Джервис отозвал Манна из Кадиса, так как ему грозили теперь, помимо отряда Ришери, находившиеся там 20 испанских линейных кораблей. И действительно, вскоре после ухода Манна, 4 августа Ришери вышел в сопровождение всей испанской эскадры, которая провела его на 300 миль в океан, а испанцы вернулись в Кадис. Манн, спеша соединиться с Джервисом, сделал крупную ошибку, не пополнив свои запасы в Гибралтаре.
Между тем, Джервис сам испытывал, вследствие перемены в обстановке, огромные затруднения в снабжении своей эскадры, так что ему пришлось отправить Манна назад в Гибралтар за продовольствием и для остальных судов. Но в это время испанская эскадра из 19 кораблей, под командованием адмирала Лангара, уже вошла в Средиземное море, и 1 октября Манн её встретил и едва ушел от неё в Гибралтар. Здесь он решил, и военный совет его поддержал, что раз между ним и Джервисом находится испанская эскадра, возвращаться невозможно, а потому он ушел в Англию, ослабив этим в такую критическую минуту Джервиса.
Между тем, Лангар прошел к Картахене, взял там ещё 7 кораблей и 26 октября вошел в Тулон, где, таким образом, собралось 38 линейных кораблей против 14 кораблей Джервиса. Присоединение Испании к Франции привело английское правительство к решению очистить и Корсику, и Средиземное море, так как послать подкрепления Джервису не решались в виду приготовлений французов на севере к высадке в Англии, с поддержкой испанского и голландского флотов. Джервис получил приказание об эвакуации 25 сентября, и 1 декабря он был уже в Гибралтаре. Только бездеятельностью союзного французско-испанского флота в Тулоне можно объяснить то, что он не помешал Джервису выполнить эту трудную операцию.
На пути Джервис получил новые приказания, вызванные временными успехами австрийцев в Италии — не очищать Корсики, если это ещё не сделано; но теперь овладеть Корсикой уже было невозможно, и английский гарнизон остался только на острове Эльба. По приходе в Гибралтар Джервиса ждали новые приказания — идти в Лиссабон, так как Франция и Испания замышляли нападение на Португалию; кроме того, ему приказано было очистить и Эльбу.
Между тем, в Бресте деятельно готовились к высадке в Ирландию, причём для прикрытия к эскадре Вилларе должен был присоединиться Ришери из Северной Америки, где он нанес серьезный вред английским рыбным промыслам и захватил около 100 английских торговых судов, а также было приказано идти в Брест отряду из 6 линейных кораблей, под командованием адмирала Вильнёва, из Тулона.
1 декабря Вильнёв вышел в сопровождении всей испанской эскадры, которая свернула в Картахену, а Вильнёв 10 декабря с попутным штормом проскочил Гибралтарский пролив, в виду эскадры Джервиса которому, тот же шторм не только мешал сняться с якоря, но и сорвал с якорей 3 линейных корабля.
Ирландская экспедиция, под командованием генерала Гоша и адмирала Морар-де-Галля, вышла из Бреста 16 декабря, но окончилась полной неудачей — не из-за встречи с английским морскими силами, а из-за дурной организации и плохого личного состава и снабжения французского флота. Счастье же, напротив, благоприятствовало французам в том отношении, что они добрались до берегов Ирландии, не встретив английской эскадры канала, и почти все их суда благополучно вернулись во Францию. Произошло это опять вследствие отсутствия тесной блокады Бреста, от которого английские адмиралы часто уходили для исправления и снабжения в Портсмут, оставляя перед Брестом только разведочные суда. Эта экспедиция, хотя и неудавшаяся, но показавшая, что английский флот недостаточно охраняет берега, возбудила большую тревогу в Англии.
Между тем, во Франции приготовления к высадке продолжались и, по полученным англичанами сведениям, испанский флот должен был перейти в Брест, чтобы совместно с французским прикрывать эту высадку, а голландский флот должен был отвлечь часть английского флота из Ла-Манша в Северное море.
Задача остановить испанский флот возложена была на адмирала Джервиса, который 16 декабря 1796 года вышел из Гибралтара в Лиссабон, отправив коммодора Нельсона с 2 фрегатами для эвакуации острова Эльбы. Эскадру Джервиса преследовали несчастья. При шторме 10 декабря в Гибралтаре и в реке Тахо он потерял 5 кораблей, и когда он 18 января 1797 года вышел в море, чтобы преградить дорогу испанскому флоту, у него оказалось всего 10 кораблей. 1 февраля испанская эскадра из 27 линейных кораблей, под командованием адмирала Кордовы, вышла из Картахены для следования в Брест. Между тем, 6 февраля Джервис, который занял позицию у мыса Сент-Винсент, получил подкрепление из 5 линейных кораблей, а 13 февраля к нему присоединился и Нельсон, удачно выполнивший своё поручение. 14 февраля показалась испанская эскадра, и Джервис, несмотря на огромное неравенство сил, атаковал и разбил Кордову, при чём англичане взяли 4 испанских корабля. Победа эта произвела огромное впечатление в Англии, где целый ряд неудач и страх перед высадкой французов привели к финансовой панике и к угнетению общественного мнения.
Итоги кампании
Кампания 1796 года в Германии, как и в предыдущем году не привела к положительным результатам. Из хода военных действий мы видим, что раз отступление какой-либо стороны началось, то оно непрерывно продолжалось целый период до какого-либо серьезного рубежа (Рейн, Дунай). Это объясняется все той же кордонной системой, которая не допускала свободы маневрирования, и войска к нему не были приучены; малейший намек на обход фланга и угроза сообщениям вынуждали к отступлению. Неудача французов во 2-й половине похода была в значительной мере результатом несогласованности действий Журдана и Моро; наоборот, единовластие эрцгерцога Карла, несмотря на стеснения, оказываемые гофкригсратом, и проявленная им решимость, при правильной оценке обстановки, свели к нулю успехи французов в 1-ю половину кампании. Сравнивая силы, планы и действия обеих сторон в Италии и Германии, мы видим большую разницу с той или другой стороны. В Италии Бонапарт с гораздо слабейшими силами бил австрийцев несколько раз, завоевал всю Северную Италию, овладел её твердынею — крепостью Мантуя и грозил границам Австрии. Столь большие успехи объясняются тем, что Бонапарт, обладая необыкновенными военными дарованиями, действовал по совершенно новому методу, существенно отличному от обычного старого способа — по методу весьма простому и вполне согласному с истинными принципами военного дела. Поэтому, несмотря на военные дарования эрцгерцога Карла и его искусные действия, весь поход этого года в Германии меркнет перед походом Бонапарта в Италии.
Кампания 1797 года
Политические отношения Франции к европейским державам в течение 1796 года почти не изменились. Внутри страны продолжались смуты и волнения. Финансы по прежнему находились в расстройстве, хотя французские войска были большей частью расположены в чужих странах, чем значительно сокращались расходы. После неудавшейся попытки французов высадиться на берегу Ирландии в конце 1796 года, войсками, участвовавшими в этой экспедиции, были усилены Рейнсккая и Итальянская армии. Громкие успехи французов в Италии вынудили Австрию обратить особое внимание на этот театр и послать туда значительные подкрепления. Директория же наоборот, видя в Бонапарте угрозу себе, если бы его действия продолжали сопровождаться громкими успехами, решила, что главные действия должны происходить в Германии. Вследствие этого рейнским армиям было назначено вторгнуться в Швабию и Франконию, чему Итальянская армия должна была содействовать; план этот был неправилен, потому что при данных условиях, пользуясь собранной 100-тысячной армией, можно было рассчитывать на мир с Австрией только вторжением в пределы Австрии со стороны Италии. Кроме того, нельзя было медлить открытием действий, так как малейшая потеря времени способствовала эрцгерцогу Карлу, назначенному главнокомандующим в Италию, в доставке сюда подкреплений из Рейнской армии. Вследствие этого Бонапарту пришлось открыть кампанию, не дожидаясь прибытия с Рейна в долину Дуная прочих армий. К этому времени Австрия не успела даже выработать плана действий.
Действия в Италии
Положение Мантуи, где свирепствовали повальные болезни и голод, сделалось отчаянным, и Вурмзер в начале 1797 года капитулировал, имея в распоряжении 18 тысяч человек.
В Италии первым ударам французов подвергся Папа Римский, нарушивший договор с Французской республикой: он поплатился уступкой нескольких городов и уплатой 15 млн франков.
10 марта Бонапарт двинулся против австрийцев, ослабленные и расстроенные войска которых уже не могли оказывать упорного сопротивления. Через двадцать дней французы находились лишь в нескольких переходах от Вены. Эрцгерцог Карл с разрешения императора предложил перемирие, на что Бонапарт охотно согласился, так как и его положение становилось затруднительным вследствие отдалённости от источников довольствия армии; к тому же он был озабочен известиями о враждебных ему движениях в Тироле и Венеции.
18 апреля 1797 года перемирие было заключено в Леобене. Немедленно после этого Бонапарт объявил войну Венецианской республике за нарушение нейтралитета и умерщвление множества французов. 16 мая Венеция была занята его войсками, а 6 июня подпала под французское владычество и Генуя, наименованная Лигурийской республикой.
В конце июня Бонапарт объявил самостоятельность Цизальпинской республики, составленной из Ломбардии, Мантуи, Модены и некоторых других смежных владений.
17 октября в Кампо-Формио был заключён мир с Австрией, закончивший Войну Первой коалиции, из которой Франция вышла полной победительницей, хотя Великобритания продолжала воевать. Австрия отказалась от Нидерландов, признала границей Франции левый берег Рейна и получила часть владений уничтоженной Венецианской республики. Штатгальтеру Голландии и имперским владельцам, лишившимся своих зарейнских земель, было обещано вознаграждение путём упразднения независимых духовных владений в Германии. Для разрешения всех этих крайне запутанных вопросов положено было собрать в городе Раштате конгресс из уполномоченных Франции, Австрии, Пруссии и других германских владений.
Действия в Германии
После удаления эрцгерцога Карла с подкреплениями в Италию, все силы имперских войск на Рейне достигали 80 тысяч и были разделены на 2 армии:
- Верхне-Рейнская группа Латура (40 тысяч) — центр её (генерал Старая) был расположен около Келя, правое крыло протягивалось по Рейну до Мангейма, а левое до Базеля;
- Нижне-Рейнская армия генерала Варнека (около 25 тысяч) стояла на реке Лан напротив французской Самбро-Мааской армии; австрийские резервы (до 10 тысяч), под командованием генерала Зимбшена, стояли между Ашафенбургом и Майнцем для поддержания той или другой армии; затем гарнизоны крепостей Эренбрейтштейна, Майнца, Мангейма и Филиппсбурга, около 20 тысяч, не входили в состав армий.
Французы на этом театре собрали до 130 тысяч, разделенных на 2 армии:
- Рейно-Мозельская Моро (60 тысяч) расположилась, после потери Келя и Гюнингенскаго тет-де-пона, по левому берегу Рейна, через Вогезы до Цвейбрюкена;
- Самбро-Мааская армия генерала Гоша (до 70 тысяч), размещенная также вдоль левого берега Рейна, занимала Дюссельдорф и Нейвид.
Смелое и быстрое наступление Бонапарта через Норические Альпы требовало содействия армий на Рейне; несмотря на это, вследствие недостатка снабжения, переход их на правый берег Рейна совершился только около середины апреля. Предположено было, что обе армии перейдут одновременно: Моро в Келе, Гош в Нейвиде — с целью отвлечения внимания австрийцев относительно истинного направления главных усилий. По стечению обстоятельств, Гош перешел Рейн 2 днями ранее Моро, но это имело хорошие последствия, так как он привлек на себя главные силы неприятеля и облегчил переход Моро, который не имел, подобно Гошу, обеспеченной переправы. 13 апреля Гош объявил о прекращении перемирия и 18 апреля, перейдя левым крылом через Рейн, проник до рек Виппер и Зиг; сам же с центром и правым крылом, перейдя Рейн у Нейвида, в тот же день разбил при Бендорф авангард армии Варнека, бывший под командованием Крала. Последний отступил в Нахенбург, а Варнек через Ветцлар во Франкфурт.
Французы продолжали быстро следовать за отступавшими, произошел ряд арьергардных боев. Вскоре последовало заключение мира, и военные действия были прекращены, река Нидда объявлена демаркационной линией для обеих сторон. Это спасло Варнека от неминуемой гибели, так как Гош, намереваясь отбросить австрийцев к Майну, занял уже такое расположение, которое не дало бы Варнеку возможности отступить к Вюрцбургу.
Моро 20 апреля перешел Рейн у Кильштедта с боем, а на следующий день произошли бои при Дирсгейме, Фрейштадте и Ганау. 22 апреля Латур продолжал отступление; 24 апреля между Моро и Латуром заключено перемирие.
Действия на море
22 февраля 1797 года у мыса Каррег-Уастад неподалёку от местечка Фишгард (Уэльс) высадился французский Чёрный легион под командованием ирландца Уильяма Тейта. Но пембрукские йомены, а также группы моряков и партизан, собранных лордом Каудором, оказали им яростное сопротивление. В результате последняя попытка иностранной державы высадиться на территории Великобритании окончилась полным провалом.
Английские морские силы в 1797 году были сосредоточены в Ла-Манше и у Кадиса, где Джервис тесно блокировал испанский флот, скрывшийся туда после сражения при Сент-Винсенте. Чтобы внести разнообразие в утомительную службу блокады, Джервис посылал небольшие отряды для различных партизанских действий. Именно с этой целью он разрешил в июле 1797 года адмиралу Нельсону с несколькими судами произвести нападение на испанский остров Тенерифе, где англичане надеялись захватить «серебряный галеон», но экспедиция эта окончилась полной неудачей. Нельсон был серьезно ранен и только в апреле 1798 года вновь присоединился к Джервису.
В 1797 году французы, оставив план отправления экспедиции из Бреста, начали её готовить в Текселе. Но и эта экспедиция не могла быть осуществлена. 11 октября 1797 года адмирал Дункан с 15 линейными кораблями напал напротив деревни Кампердаун на голландскую эскадру, тоже из 15 линейных кораблей под командованием адмирала Винтера, и разбил её на голову, при чём 9 голландских кораблей вместе с Винтером попали в плен.
В Ирландию же в августе и сентябре были отправлены 3 небольших отряда, но потерпели полную неудачу.
С Австрией — главным противником Франции на суше, 17 октября 1797 года был подписан Кампоформийский договор, по которому Франция получила Нидерланды и Ионические острова, и на севере Италии была создана Цизальпинская республика, находившаяся под полным влиянием Франции. Теперь Англия оставалась почти одинокой, и с этого года, вплоть до своего падения, Наполеон считал Англию главным и самым могущественным своим врагом, и все его действия вытекали из основной задачи, им себе поставленной — сломить теми или другими способами могущество Англии.
Итоги кампании
Таким образом, и в этом году центр тяжести операций лежал в Италии. Смелое и решительное наступление Бонапарта в Тироль и Фриуль заставило Австрию просить мира в то время, когда Рейнские французские армии ещё не перешли Рейн и далеко были от Дуная, а потому и не могли оказать влияния на общий ход военных событий, подтвердив этим всю ошибочность плана, выработанного директорией.
См. также
Напишите отзыв о статье "Война первой коалиции"
Примечания
- ↑ Нейтральная после Базельского мира 1795
- ↑ Практически все итальянские государства, включая нейтральную Папскую область и Венецианскую республику, были завоеваны вслеж за вторжением Наполеона в 1796 и стали сателлитами Франции
- ↑ Большинство войск отступило, нежели противостояло вторжению французов. В союзе с Францией с 1795 как Батавская республика в соответствии с Базельским договором
- ↑ Прибыл во Францию после упразднения Речи Посполитой в ходе её Третьего раздела в 1795
- ↑ Глава II. ИТАЛЬЯНСКАЯ КАМПАНИЯ 1796—1797 гг.
С того самого времени, как Бонапарт разгромил монархический мятеж 13 вандемьера и вошел в фавор к Баррасу и другим сановникам, он не переставал убеждать их в необходимости предупредить действия вновь собравшейся против Франции коалиции держав — повести наступательную войну против австрийцев и их итальянских союзников и вторгнуться для этого в северную Италию. Собственно, эта коалиция была не новая, а старая, та самая, которая образовалась ещё в 1792 г. и от которой в 1795 г. отпала Пруссия, заключившая сепаратный (Базельский) мир с Францией. В коалиции оставались Австрия, Англия, Россия, королевство Сардинское, Королевство обеих Сицилии и несколько германских государств (Вюртемберг, Бавария, Баден и др.).— ТАРЛЕ Е.В. НАПОЛЕОН
Литература
- Военная энциклопедия / Под ред. В. Ф. Новицкого и др. — СПб.: т-во И. В. Сытина, 1911—1915.
Ссылки
- [wars175x.narod.ru/1792_01.html Кампания 1792 г. (Н. С. Голицын. Всеобщая военная история новых времен (1650—1791)).]
| ||||||
| ||||||
Отрывок, характеризующий Война первой коалиции
Долго прислушивалась Наташа к внутренним и внешним звукам, доносившимся до нее, и не шевелилась. Она слышала сначала молитву и вздохи матери, трещание под ней ее кровати, знакомый с свистом храп m me Schoss, тихое дыханье Сони. Потом графиня окликнула Наташу. Наташа не отвечала ей.– Кажется, спит, мама, – тихо отвечала Соня. Графиня, помолчав немного, окликнула еще раз, но уже никто ей не откликнулся.
Скоро после этого Наташа услышала ровное дыхание матери. Наташа не шевелилась, несмотря на то, что ее маленькая босая нога, выбившись из под одеяла, зябла на голом полу.
Как бы празднуя победу над всеми, в щели закричал сверчок. Пропел петух далеко, откликнулись близкие. В кабаке затихли крики, только слышался тот же стой адъютанта. Наташа приподнялась.
– Соня? ты спишь? Мама? – прошептала она. Никто не ответил. Наташа медленно и осторожно встала, перекрестилась и ступила осторожно узкой и гибкой босой ступней на грязный холодный пол. Скрипнула половица. Она, быстро перебирая ногами, пробежала, как котенок, несколько шагов и взялась за холодную скобку двери.
Ей казалось, что то тяжелое, равномерно ударяя, стучит во все стены избы: это билось ее замиравшее от страха, от ужаса и любви разрывающееся сердце.
Она отворила дверь, перешагнула порог и ступила на сырую, холодную землю сеней. Обхвативший холод освежил ее. Она ощупала босой ногой спящего человека, перешагнула через него и отворила дверь в избу, где лежал князь Андрей. В избе этой было темно. В заднем углу у кровати, на которой лежало что то, на лавке стояла нагоревшая большим грибом сальная свечка.
Наташа с утра еще, когда ей сказали про рану и присутствие князя Андрея, решила, что она должна видеть его. Она не знала, для чего это должно было, но она знала, что свидание будет мучительно, и тем более она была убеждена, что оно было необходимо.
Весь день она жила только надеждой того, что ночью она уввдит его. Но теперь, когда наступила эта минута, на нее нашел ужас того, что она увидит. Как он был изуродован? Что оставалось от него? Такой ли он был, какой был этот неумолкавший стон адъютанта? Да, он был такой. Он был в ее воображении олицетворение этого ужасного стона. Когда она увидала неясную массу в углу и приняла его поднятые под одеялом колени за его плечи, она представила себе какое то ужасное тело и в ужасе остановилась. Но непреодолимая сила влекла ее вперед. Она осторожно ступила один шаг, другой и очутилась на середине небольшой загроможденной избы. В избе под образами лежал на лавках другой человек (это был Тимохин), и на полу лежали еще два какие то человека (это были доктор и камердинер).
Камердинер приподнялся и прошептал что то. Тимохин, страдая от боли в раненой ноге, не спал и во все глаза смотрел на странное явление девушки в бедой рубашке, кофте и вечном чепчике. Сонные и испуганные слова камердинера; «Чего вам, зачем?» – только заставили скорее Наташу подойти и тому, что лежало в углу. Как ни страшно, ни непохоже на человеческое было это тело, она должна была его видеть. Она миновала камердинера: нагоревший гриб свечки свалился, и она ясно увидала лежащего с выпростанными руками на одеяле князя Андрея, такого, каким она его всегда видела.
Он был таков же, как всегда; но воспаленный цвет его лица, блестящие глаза, устремленные восторженно на нее, а в особенности нежная детская шея, выступавшая из отложенного воротника рубашки, давали ему особый, невинный, ребяческий вид, которого, однако, она никогда не видала в князе Андрее. Она подошла к нему и быстрым, гибким, молодым движением стала на колени.
Он улыбнулся и протянул ей руку.
Для князя Андрея прошло семь дней с того времени, как он очнулся на перевязочном пункте Бородинского поля. Все это время он находился почти в постояниом беспамятстве. Горячечное состояние и воспаление кишок, которые были повреждены, по мнению доктора, ехавшего с раненым, должны были унести его. Но на седьмой день он с удовольствием съел ломоть хлеба с чаем, и доктор заметил, что общий жар уменьшился. Князь Андрей поутру пришел в сознание. Первую ночь после выезда из Москвы было довольно тепло, и князь Андрей был оставлен для ночлега в коляске; но в Мытищах раненый сам потребовал, чтобы его вынесли и чтобы ему дали чаю. Боль, причиненная ему переноской в избу, заставила князя Андрея громко стонать и потерять опять сознание. Когда его уложили на походной кровати, он долго лежал с закрытыми глазами без движения. Потом он открыл их и тихо прошептал: «Что же чаю?» Памятливость эта к мелким подробностям жизни поразила доктора. Он пощупал пульс и, к удивлению и неудовольствию своему, заметил, что пульс был лучше. К неудовольствию своему это заметил доктор потому, что он по опыту своему был убежден, что жить князь Андрей не может и что ежели он не умрет теперь, то он только с большими страданиями умрет несколько времени после. С князем Андреем везли присоединившегося к ним в Москве майора его полка Тимохина с красным носиком, раненного в ногу в том же Бородинском сражении. При них ехал доктор, камердинер князя, его кучер и два денщика.
Князю Андрею дали чаю. Он жадно пил, лихорадочными глазами глядя вперед себя на дверь, как бы стараясь что то понять и припомнить.
– Не хочу больше. Тимохин тут? – спросил он. Тимохин подполз к нему по лавке.
– Я здесь, ваше сиятельство.
– Как рана?
– Моя то с? Ничего. Вот вы то? – Князь Андрей опять задумался, как будто припоминая что то.
– Нельзя ли достать книгу? – сказал он.
– Какую книгу?
– Евангелие! У меня нет.
Доктор обещался достать и стал расспрашивать князя о том, что он чувствует. Князь Андрей неохотно, но разумно отвечал на все вопросы доктора и потом сказал, что ему надо бы подложить валик, а то неловко и очень больно. Доктор и камердинер подняли шинель, которою он был накрыт, и, морщась от тяжкого запаха гнилого мяса, распространявшегося от раны, стали рассматривать это страшное место. Доктор чем то очень остался недоволен, что то иначе переделал, перевернул раненого так, что тот опять застонал и от боли во время поворачивания опять потерял сознание и стал бредить. Он все говорил о том, чтобы ему достали поскорее эту книгу и подложили бы ее туда.
– И что это вам стоит! – говорил он. – У меня ее нет, – достаньте, пожалуйста, подложите на минуточку, – говорил он жалким голосом.
Доктор вышел в сени, чтобы умыть руки.
– Ах, бессовестные, право, – говорил доктор камердинеру, лившему ему воду на руки. – Только на минуту не досмотрел. Ведь вы его прямо на рану положили. Ведь это такая боль, что я удивляюсь, как он терпит.
– Мы, кажется, подложили, господи Иисусе Христе, – говорил камердинер.
В первый раз князь Андрей понял, где он был и что с ним было, и вспомнил то, что он был ранен и как в ту минуту, когда коляска остановилась в Мытищах, он попросился в избу. Спутавшись опять от боли, он опомнился другой раз в избе, когда пил чай, и тут опять, повторив в своем воспоминании все, что с ним было, он живее всего представил себе ту минуту на перевязочном пункте, когда, при виде страданий нелюбимого им человека, ему пришли эти новые, сулившие ему счастие мысли. И мысли эти, хотя и неясно и неопределенно, теперь опять овладели его душой. Он вспомнил, что у него было теперь новое счастье и что это счастье имело что то такое общее с Евангелием. Потому то он попросил Евангелие. Но дурное положение, которое дали его ране, новое переворачиванье опять смешали его мысли, и он в третий раз очнулся к жизни уже в совершенной тишине ночи. Все спали вокруг него. Сверчок кричал через сени, на улице кто то кричал и пел, тараканы шелестели по столу и образам, в осенняя толстая муха билась у него по изголовью и около сальной свечи, нагоревшей большим грибом и стоявшей подле него.
Душа его была не в нормальном состоянии. Здоровый человек обыкновенно мыслит, ощущает и вспоминает одновременно о бесчисленном количестве предметов, но имеет власть и силу, избрав один ряд мыслей или явлений, на этом ряде явлений остановить все свое внимание. Здоровый человек в минуту глубочайшего размышления отрывается, чтобы сказать учтивое слово вошедшему человеку, и опять возвращается к своим мыслям. Душа же князя Андрея была не в нормальном состоянии в этом отношении. Все силы его души были деятельнее, яснее, чем когда нибудь, но они действовали вне его воли. Самые разнообразные мысли и представления одновременно владели им. Иногда мысль его вдруг начинала работать, и с такой силой, ясностью и глубиною, с какою никогда она не была в силах действовать в здоровом состоянии; но вдруг, посредине своей работы, она обрывалась, заменялась каким нибудь неожиданным представлением, и не было сил возвратиться к ней.
«Да, мне открылась новое счастье, неотъемлемое от человека, – думал он, лежа в полутемной тихой избе и глядя вперед лихорадочно раскрытыми, остановившимися глазами. Счастье, находящееся вне материальных сил, вне материальных внешних влияний на человека, счастье одной души, счастье любви! Понять его может всякий человек, но сознать и предписать его мот только один бог. Но как же бог предписал этот закон? Почему сын?.. И вдруг ход мыслей этих оборвался, и князь Андрей услыхал (не зная, в бреду или в действительности он слышит это), услыхал какой то тихий, шепчущий голос, неумолкаемо в такт твердивший: „И пити пити питии“ потом „и ти тии“ опять „и пити пити питии“ опять „и ти ти“. Вместе с этим, под звук этой шепчущей музыки, князь Андрей чувствовал, что над лицом его, над самой серединой воздвигалось какое то странное воздушное здание из тонких иголок или лучинок. Он чувствовал (хотя это и тяжело ему было), что ему надо было старательна держать равновесие, для того чтобы воздвигавшееся здание это не завалилось; но оно все таки заваливалось и опять медленно воздвигалось при звуках равномерно шепчущей музыки. „Тянется! тянется! растягивается и все тянется“, – говорил себе князь Андрей. Вместе с прислушаньем к шепоту и с ощущением этого тянущегося и воздвигающегося здания из иголок князь Андрей видел урывками и красный, окруженный кругом свет свечки и слышал шуршанъе тараканов и шуршанье мухи, бившейся на подушку и на лицо его. И всякий раз, как муха прикасалась к егв лицу, она производила жгучее ощущение; но вместе с тем его удивляло то, что, ударяясь в самую область воздвигавшегося на лице его здания, муха не разрушала его. Но, кроме этого, было еще одно важное. Это было белое у двери, это была статуя сфинкса, которая тоже давила его.
«Но, может быть, это моя рубашка на столе, – думал князь Андрей, – а это мои ноги, а это дверь; но отчего же все тянется и выдвигается и пити пити пити и ти ти – и пити пити пити… – Довольно, перестань, пожалуйста, оставь, – тяжело просил кого то князь Андрей. И вдруг опять выплывала мысль и чувство с необыкновенной ясностью и силой.
«Да, любовь, – думал он опять с совершенной ясностью), но не та любовь, которая любит за что нибудь, для чего нибудь или почему нибудь, но та любовь, которую я испытал в первый раз, когда, умирая, я увидал своего врага и все таки полюбил его. Я испытал то чувство любви, которая есть самая сущность души и для которой не нужно предмета. Я и теперь испытываю это блаженное чувство. Любить ближних, любить врагов своих. Все любить – любить бога во всех проявлениях. Любить человека дорогого можно человеческой любовью; но только врага можно любить любовью божеской. И от этого то я испытал такую радость, когда я почувствовал, что люблю того человека. Что с ним? Жив ли он… Любя человеческой любовью, можно от любви перейти к ненависти; но божеская любовь не может измениться. Ничто, ни смерть, ничто не может разрушить ее. Она есть сущность души. А сколь многих людей я ненавидел в своей жизни. И из всех людей никого больше не любил я и не ненавидел, как ее». И он живо представил себе Наташу не так, как он представлял себе ее прежде, с одною ее прелестью, радостной для себя; но в первый раз представил себе ее душу. И он понял ее чувство, ее страданья, стыд, раскаянье. Он теперь в первый раз поняд всю жестокость своего отказа, видел жестокость своего разрыва с нею. «Ежели бы мне было возможно только еще один раз увидать ее. Один раз, глядя в эти глаза, сказать…»
И пити пити пити и ти ти, и пити пити – бум, ударилась муха… И внимание его вдруг перенеслось в другой мир действительности и бреда, в котором что то происходило особенное. Все так же в этом мире все воздвигалось, не разрушаясь, здание, все так же тянулось что то, так же с красным кругом горела свечка, та же рубашка сфинкс лежала у двери; но, кроме всего этого, что то скрипнуло, пахнуло свежим ветром, и новый белый сфинкс, стоячий, явился пред дверью. И в голове этого сфинкса было бледное лицо и блестящие глаза той самой Наташи, о которой он сейчас думал.
«О, как тяжел этот неперестающий бред!» – подумал князь Андрей, стараясь изгнать это лицо из своего воображения. Но лицо это стояло пред ним с силою действительности, и лицо это приближалось. Князь Андрей хотел вернуться к прежнему миру чистой мысли, но он не мог, и бред втягивал его в свою область. Тихий шепчущий голос продолжал свой мерный лепет, что то давило, тянулось, и странное лицо стояло перед ним. Князь Андрей собрал все свои силы, чтобы опомниться; он пошевелился, и вдруг в ушах его зазвенело, в глазах помутилось, и он, как человек, окунувшийся в воду, потерял сознание. Когда он очнулся, Наташа, та самая живая Наташа, которую изо всех людей в мире ему более всего хотелось любить той новой, чистой божеской любовью, которая была теперь открыта ему, стояла перед ним на коленях. Он понял, что это была живая, настоящая Наташа, и не удивился, но тихо обрадовался. Наташа, стоя на коленях, испуганно, но прикованно (она не могла двинуться) глядела на него, удерживая рыдания. Лицо ее было бледно и неподвижно. Только в нижней части его трепетало что то.
Князь Андрей облегчительно вздохнул, улыбнулся и протянул руку.
– Вы? – сказал он. – Как счастливо!
Наташа быстрым, но осторожным движением подвинулась к нему на коленях и, взяв осторожно его руку, нагнулась над ней лицом и стала целовать ее, чуть дотрогиваясь губами.
– Простите! – сказала она шепотом, подняв голову и взглядывая на него. – Простите меня!
– Я вас люблю, – сказал князь Андрей.
– Простите…
– Что простить? – спросил князь Андрей.
– Простите меня за то, что я сделала, – чуть слышным, прерывным шепотом проговорила Наташа и чаще стала, чуть дотрогиваясь губами, целовать руку.
– Я люблю тебя больше, лучше, чем прежде, – сказал князь Андрей, поднимая рукой ее лицо так, чтобы он мог глядеть в ее глаза.
Глаза эти, налитые счастливыми слезами, робко, сострадательно и радостно любовно смотрели на него. Худое и бледное лицо Наташи с распухшими губами было более чем некрасиво, оно было страшно. Но князь Андрей не видел этого лица, он видел сияющие глаза, которые были прекрасны. Сзади их послышался говор.
Петр камердинер, теперь совсем очнувшийся от сна, разбудил доктора. Тимохин, не спавший все время от боли в ноге, давно уже видел все, что делалось, и, старательно закрывая простыней свое неодетое тело, ежился на лавке.
– Это что такое? – сказал доктор, приподнявшись с своего ложа. – Извольте идти, сударыня.
В это же время в дверь стучалась девушка, посланная графиней, хватившейся дочери.
Как сомнамбулка, которую разбудили в середине ее сна, Наташа вышла из комнаты и, вернувшись в свою избу, рыдая упала на свою постель.
С этого дня, во время всего дальнейшего путешествия Ростовых, на всех отдыхах и ночлегах, Наташа не отходила от раненого Болконского, и доктор должен был признаться, что он не ожидал от девицы ни такой твердости, ни такого искусства ходить за раненым.
Как ни страшна казалась для графини мысль, что князь Андрей мог (весьма вероятно, по словам доктора) умереть во время дороги на руках ее дочери, она не могла противиться Наташе. Хотя вследствие теперь установившегося сближения между раненым князем Андреем и Наташей приходило в голову, что в случае выздоровления прежние отношения жениха и невесты будут возобновлены, никто, еще менее Наташа и князь Андрей, не говорил об этом: нерешенный, висящий вопрос жизни или смерти не только над Болконским, но над Россией заслонял все другие предположения.
Пьер проснулся 3 го сентября поздно. Голова его болела, платье, в котором он спал не раздеваясь, тяготило его тело, и на душе было смутное сознание чего то постыдного, совершенного накануне; это постыдное был вчерашний разговор с капитаном Рамбалем.
Часы показывали одиннадцать, но на дворе казалось особенно пасмурно. Пьер встал, протер глаза и, увидав пистолет с вырезным ложем, который Герасим положил опять на письменный стол, Пьер вспомнил то, где он находился и что ему предстояло именно в нынешний день.
«Уж не опоздал ли я? – подумал Пьер. – Нет, вероятно, он сделает свой въезд в Москву не ранее двенадцати». Пьер не позволял себе размышлять о том, что ему предстояло, но торопился поскорее действовать.
Оправив на себе платье, Пьер взял в руки пистолет и сбирался уже идти. Но тут ему в первый раз пришла мысль о том, каким образом, не в руке же, по улице нести ему это оружие. Даже и под широким кафтаном трудно было спрятать большой пистолет. Ни за поясом, ни под мышкой нельзя было поместить его незаметным. Кроме того, пистолет был разряжен, а Пьер не успел зарядить его. «Все равно, кинжал», – сказал себе Пьер, хотя он не раз, обсуживая исполнение своего намерения, решал сам с собою, что главная ошибка студента в 1809 году состояла в том, что он хотел убить Наполеона кинжалом. Но, как будто главная цель Пьера состояла не в том, чтобы исполнить задуманное дело, а в том, чтобы показать самому себе, что не отрекается от своего намерения и делает все для исполнения его, Пьер поспешно взял купленный им у Сухаревой башни вместе с пистолетом тупой зазубренный кинжал в зеленых ножнах и спрятал его под жилет.
Подпоясав кафтан и надвинув шапку, Пьер, стараясь не шуметь и не встретить капитана, прошел по коридору и вышел на улицу.
Тот пожар, на который так равнодушно смотрел он накануне вечером, за ночь значительно увеличился. Москва горела уже с разных сторон. Горели в одно и то же время Каретный ряд, Замоскворечье, Гостиный двор, Поварская, барки на Москве реке и дровяной рынок у Дорогомиловского моста.
Путь Пьера лежал через переулки на Поварскую и оттуда на Арбат, к Николе Явленному, у которого он в воображении своем давно определил место, на котором должно быть совершено его дело. У большей части домов были заперты ворота и ставни. Улицы и переулки были пустынны. В воздухе пахло гарью и дымом. Изредка встречались русские с беспокойно робкими лицами и французы с негородским, лагерным видом, шедшие по серединам улиц. И те и другие с удивлением смотрели на Пьера. Кроме большого роста и толщины, кроме странного мрачно сосредоточенного и страдальческого выражения лица и всей фигуры, русские присматривались к Пьеру, потому что не понимали, к какому сословию мог принадлежать этот человек. Французы же с удивлением провожали его глазами, в особенности потому, что Пьер, противно всем другим русским, испуганно или любопытна смотревшим на французов, не обращал на них никакого внимания. У ворот одного дома три француза, толковавшие что то не понимавшим их русским людям, остановили Пьера, спрашивая, не знает ли он по французски?
Пьер отрицательно покачал головой и пошел дальше. В другом переулке на него крикнул часовой, стоявший у зеленого ящика, и Пьер только на повторенный грозный крик и звук ружья, взятого часовым на руку, понял, что он должен был обойти другой стороной улицы. Он ничего не слышал и не видел вокруг себя. Он, как что то страшное и чуждое ему, с поспешностью и ужасом нес в себе свое намерение, боясь – наученный опытом прошлой ночи – как нибудь растерять его. Но Пьеру не суждено было донести в целости свое настроение до того места, куда он направлялся. Кроме того, ежели бы даже он и не был ничем задержан на пути, намерение его не могло быть исполнено уже потому, что Наполеон тому назад более четырех часов проехал из Дорогомиловского предместья через Арбат в Кремль и теперь в самом мрачном расположении духа сидел в царском кабинете кремлевского дворца и отдавал подробные, обстоятельные приказания о мерах, которые немедленно должны были бытт, приняты для тушения пожара, предупреждения мародерства и успокоения жителей. Но Пьер не знал этого; он, весь поглощенный предстоящим, мучился, как мучаются люди, упрямо предпринявшие дело невозможное – не по трудностям, но по несвойственности дела с своей природой; он мучился страхом того, что он ослабеет в решительную минуту и, вследствие того, потеряет уважение к себе.
Он хотя ничего не видел и не слышал вокруг себя, но инстинктом соображал дорогу и не ошибался переулками, выводившими его на Поварскую.
По мере того как Пьер приближался к Поварской, дым становился сильнее и сильнее, становилось даже тепло от огня пожара. Изредка взвивались огненные языка из за крыш домов. Больше народу встречалось на улицах, и народ этот был тревожнее. Но Пьер, хотя и чувствовал, что что то такое необыкновенное творилось вокруг него, не отдавал себе отчета о том, что он подходил к пожару. Проходя по тропинке, шедшей по большому незастроенному месту, примыкавшему одной стороной к Поварской, другой к садам дома князя Грузинского, Пьер вдруг услыхал подле самого себя отчаянный плач женщины. Он остановился, как бы пробудившись от сна, и поднял голову.
В стороне от тропинки, на засохшей пыльной траве, были свалены кучей домашние пожитки: перины, самовар, образа и сундуки. На земле подле сундуков сидела немолодая худая женщина, с длинными высунувшимися верхними зубами, одетая в черный салоп и чепчик. Женщина эта, качаясь и приговаривая что то, надрываясь плакала. Две девочки, от десяти до двенадцати лет, одетые в грязные коротенькие платьица и салопчики, с выражением недоумения на бледных, испуганных лицах, смотрели на мать. Меньшой мальчик, лет семи, в чуйке и в чужом огромном картузе, плакал на руках старухи няньки. Босоногая грязная девка сидела на сундуке и, распустив белесую косу, обдергивала опаленные волосы, принюхиваясь к ним. Муж, невысокий сутуловатый человек в вицмундире, с колесообразными бакенбардочками и гладкими височками, видневшимися из под прямо надетого картуза, с неподвижным лицом раздвигал сундуки, поставленные один на другом, и вытаскивал из под них какие то одеяния.
Женщина почти бросилась к ногам Пьера, когда она увидала его.
– Батюшки родимые, христиане православные, спасите, помогите, голубчик!.. кто нибудь помогите, – выговаривала она сквозь рыдания. – Девочку!.. Дочь!.. Дочь мою меньшую оставили!.. Сгорела! О о оо! для того я тебя леле… О о оо!
– Полно, Марья Николаевна, – тихим голосом обратился муж к жене, очевидно, для того только, чтобы оправдаться пред посторонним человеком. – Должно, сестрица унесла, а то больше где же быть? – прибавил он.
– Истукан! Злодей! – злобно закричала женщина, вдруг прекратив плач. – Сердца в тебе нет, свое детище не жалеешь. Другой бы из огня достал. А это истукан, а не человек, не отец. Вы благородный человек, – скороговоркой, всхлипывая, обратилась женщина к Пьеру. – Загорелось рядом, – бросило к нам. Девка закричала: горит! Бросились собирать. В чем были, в том и выскочили… Вот что захватили… Божье благословенье да приданую постель, а то все пропало. Хвать детей, Катечки нет. О, господи! О о о! – и опять она зарыдала. – Дитятко мое милое, сгорело! сгорело!
– Да где, где же она осталась? – сказал Пьер. По выражению оживившегося лица его женщина поняла, что этот человек мог помочь ей.
– Батюшка! Отец! – закричала она, хватая его за ноги. – Благодетель, хоть сердце мое успокой… Аниска, иди, мерзкая, проводи, – крикнула она на девку, сердито раскрывая рот и этим движением еще больше выказывая свои длинные зубы.
– Проводи, проводи, я… я… сделаю я, – запыхавшимся голосом поспешно сказал Пьер.
Грязная девка вышла из за сундука, прибрала косу и, вздохнув, пошла тупыми босыми ногами вперед по тропинке. Пьер как бы вдруг очнулся к жизни после тяжелого обморока. Он выше поднял голову, глаза его засветились блеском жизни, и он быстрыми шагами пошел за девкой, обогнал ее и вышел на Поварскую. Вся улица была застлана тучей черного дыма. Языки пламени кое где вырывались из этой тучи. Народ большой толпой теснился перед пожаром. В середине улицы стоял французский генерал и говорил что то окружавшим его. Пьер, сопутствуемый девкой, подошел было к тому месту, где стоял генерал; но французские солдаты остановили его.
– On ne passe pas, [Тут не проходят,] – крикнул ему голос.
– Сюда, дяденька! – проговорила девка. – Мы переулком, через Никулиных пройдем.
Пьер повернулся назад и пошел, изредка подпрыгивая, чтобы поспевать за нею. Девка перебежала улицу, повернула налево в переулок и, пройдя три дома, завернула направо в ворота.
– Вот тут сейчас, – сказала девка, и, пробежав двор, она отворила калитку в тесовом заборе и, остановившись, указала Пьеру на небольшой деревянный флигель, горевший светло и жарко. Одна сторона его обрушилась, другая горела, и пламя ярко выбивалось из под отверстий окон и из под крыши.
Когда Пьер вошел в калитку, его обдало жаром, и он невольно остановился.
– Который, который ваш дом? – спросил он.
– О о ох! – завыла девка, указывая на флигель. – Он самый, она самая наша фатера была. Сгорела, сокровище ты мое, Катечка, барышня моя ненаглядная, о ох! – завыла Аниска при виде пожара, почувствовавши необходимость выказать и свои чувства.
Пьер сунулся к флигелю, но жар был так силен, что он невольна описал дугу вокруг флигеля и очутился подле большого дома, который еще горел только с одной стороны с крыши и около которого кишела толпа французов. Пьер сначала не понял, что делали эти французы, таскавшие что то; но, увидав перед собою француза, который бил тупым тесаком мужика, отнимая у него лисью шубу, Пьер понял смутно, что тут грабили, но ему некогда было останавливаться на этой мысли.
Звук треска и гула заваливающихся стен и потолков, свиста и шипенья пламени и оживленных криков народа, вид колеблющихся, то насупливающихся густых черных, то взмывающих светлеющих облаков дыма с блестками искр и где сплошного, сноповидного, красного, где чешуйчато золотого, перебирающегося по стенам пламени, ощущение жара и дыма и быстроты движения произвели на Пьера свое обычное возбуждающее действие пожаров. Действие это было в особенности сильно на Пьера, потому что Пьер вдруг при виде этого пожара почувствовал себя освобожденным от тяготивших его мыслей. Он чувствовал себя молодым, веселым, ловким и решительным. Он обежал флигелек со стороны дома и хотел уже бежать в ту часть его, которая еще стояла, когда над самой головой его послышался крик нескольких голосов и вслед за тем треск и звон чего то тяжелого, упавшего подле него.
Пьер оглянулся и увидал в окнах дома французов, выкинувших ящик комода, наполненный какими то металлическими вещами. Другие французские солдаты, стоявшие внизу, подошли к ящику.
– Eh bien, qu'est ce qu'il veut celui la, [Этому что еще надо,] – крикнул один из французов на Пьера.
– Un enfant dans cette maison. N'avez vous pas vu un enfant? [Ребенка в этом доме. Не видали ли вы ребенка?] – сказал Пьер.
– Tiens, qu'est ce qu'il chante celui la? Va te promener, [Этот что еще толкует? Убирайся к черту,] – послышались голоса, и один из солдат, видимо, боясь, чтобы Пьер не вздумал отнимать у них серебро и бронзы, которые были в ящике, угрожающе надвинулся на него.
– Un enfant? – закричал сверху француз. – J'ai entendu piailler quelque chose au jardin. Peut etre c'est sou moutard au bonhomme. Faut etre humain, voyez vous… [Ребенок? Я слышал, что то пищало в саду. Может быть, это его ребенок. Что ж, надо по человечеству. Мы все люди…]
– Ou est il? Ou est il? [Где он? Где он?] – спрашивал Пьер.
– Par ici! Par ici! [Сюда, сюда!] – кричал ему француз из окна, показывая на сад, бывший за домом. – Attendez, je vais descendre. [Погодите, я сейчас сойду.]
И действительно, через минуту француз, черноглазый малый с каким то пятном на щеке, в одной рубашке выскочил из окна нижнего этажа и, хлопнув Пьера по плечу, побежал с ним в сад.
– Depechez vous, vous autres, – крикнул он своим товарищам, – commence a faire chaud. [Эй, вы, живее, припекать начинает.]
Выбежав за дом на усыпанную песком дорожку, француз дернул за руку Пьера и указал ему на круг. Под скамейкой лежала трехлетняя девочка в розовом платьице.
– Voila votre moutard. Ah, une petite, tant mieux, – сказал француз. – Au revoir, mon gros. Faut etre humain. Nous sommes tous mortels, voyez vous, [Вот ваш ребенок. А, девочка, тем лучше. До свидания, толстяк. Что ж, надо по человечеству. Все люди,] – и француз с пятном на щеке побежал назад к своим товарищам.
Пьер, задыхаясь от радости, подбежал к девочке и хотел взять ее на руки. Но, увидав чужого человека, золотушно болезненная, похожая на мать, неприятная на вид девочка закричала и бросилась бежать. Пьер, однако, схватил ее и поднял на руки; она завизжала отчаянно злобным голосом и своими маленькими ручонками стала отрывать от себя руки Пьера и сопливым ртом кусать их. Пьера охватило чувство ужаса и гадливости, подобное тому, которое он испытывал при прикосновении к какому нибудь маленькому животному. Но он сделал усилие над собою, чтобы не бросить ребенка, и побежал с ним назад к большому дому. Но пройти уже нельзя было назад той же дорогой; девки Аниски уже не было, и Пьер с чувством жалости и отвращения, прижимая к себе как можно нежнее страдальчески всхлипывавшую и мокрую девочку, побежал через сад искать другого выхода.
Когда Пьер, обежав дворами и переулками, вышел назад с своей ношей к саду Грузинского, на углу Поварской, он в первую минуту не узнал того места, с которого он пошел за ребенком: так оно было загромождено народом и вытащенными из домов пожитками. Кроме русских семей с своим добром, спасавшихся здесь от пожара, тут же было и несколько французских солдат в различных одеяниях. Пьер не обратил на них внимания. Он спешил найти семейство чиновника, с тем чтобы отдать дочь матери и идти опять спасать еще кого то. Пьеру казалось, что ему что то еще многое и поскорее нужно сделать. Разгоревшись от жара и беготни, Пьер в эту минуту еще сильнее, чем прежде, испытывал то чувство молодости, оживления и решительности, которое охватило его в то время, как он побежал спасать ребенка. Девочка затихла теперь и, держась ручонками за кафтан Пьера, сидела на его руке и, как дикий зверек, оглядывалась вокруг себя. Пьер изредка поглядывал на нее и слегка улыбался. Ему казалось, что он видел что то трогательно невинное и ангельское в этом испуганном и болезненном личике.
На прежнем месте ни чиновника, ни его жены уже не было. Пьер быстрыми шагами ходил между народом, оглядывая разные лица, попадавшиеся ему. Невольно он заметил грузинское или армянское семейство, состоявшее из красивого, с восточным типом лица, очень старого человека, одетого в новый крытый тулуп и новые сапоги, старухи такого же типа и молодой женщины. Очень молодая женщина эта показалась Пьеру совершенством восточной красоты, с ее резкими, дугами очерченными черными бровями и длинным, необыкновенно нежно румяным и красивым лицом без всякого выражения. Среди раскиданных пожитков, в толпе на площади, она, в своем богатом атласном салопе и ярко лиловом платке, накрывавшем ее голову, напоминала нежное тепличное растение, выброшенное на снег. Она сидела на узлах несколько позади старухи и неподвижно большими черными продолговатыми, с длинными ресницами, глазами смотрела в землю. Видимо, она знала свою красоту и боялась за нее. Лицо это поразило Пьера, и он, в своей поспешности, проходя вдоль забора, несколько раз оглянулся на нее. Дойдя до забора и все таки не найдя тех, кого ему было нужно, Пьер остановился, оглядываясь.
Фигура Пьера с ребенком на руках теперь была еще более замечательна, чем прежде, и около него собралось несколько человек русских мужчин и женщин.
– Или потерял кого, милый человек? Сами вы из благородных, что ли? Чей ребенок то? – спрашивали у него.
Пьер отвечал, что ребенок принадлежал женщине и черном салопе, которая сидела с детьми на этом месте, и спрашивал, не знает ли кто ее и куда она перешла.
– Ведь это Анферовы должны быть, – сказал старый дьякон, обращаясь к рябой бабе. – Господи помилуй, господи помилуй, – прибавил он привычным басом.
– Где Анферовы! – сказала баба. – Анферовы еще с утра уехали. А это либо Марьи Николавны, либо Ивановы.
– Он говорит – женщина, а Марья Николавна – барыня, – сказал дворовый человек.
– Да вы знаете ее, зубы длинные, худая, – говорил Пьер.
– И есть Марья Николавна. Они ушли в сад, как тут волки то эти налетели, – сказала баба, указывая на французских солдат.
– О, господи помилуй, – прибавил опять дьякон.
– Вы пройдите вот туда то, они там. Она и есть. Все убивалась, плакала, – сказала опять баба. – Она и есть. Вот сюда то.
Но Пьер не слушал бабу. Он уже несколько секунд, не спуская глаз, смотрел на то, что делалось в нескольких шагах от него. Он смотрел на армянское семейство и двух французских солдат, подошедших к армянам. Один из этих солдат, маленький вертлявый человечек, был одет в синюю шинель, подпоясанную веревкой. На голове его был колпак, и ноги были босые. Другой, который особенно поразил Пьера, был длинный, сутуловатый, белокурый, худой человек с медлительными движениями и идиотическим выражением лица. Этот был одет в фризовый капот, в синие штаны и большие рваные ботфорты. Маленький француз, без сапог, в синей шипели, подойдя к армянам, тотчас же, сказав что то, взялся за ноги старика, и старик тотчас же поспешно стал снимать сапоги. Другой, в капоте, остановился против красавицы армянки и молча, неподвижно, держа руки в карманах, смотрел на нее.
– Возьми, возьми ребенка, – проговорил Пьер, подавая девочку и повелительно и поспешно обращаясь к бабе. – Ты отдай им, отдай! – закричал он почти на бабу, сажая закричавшую девочку на землю, и опять оглянулся на французов и на армянское семейство. Старик уже сидел босой. Маленький француз снял с него последний сапог и похлопывал сапогами один о другой. Старик, всхлипывая, говорил что то, но Пьер только мельком видел это; все внимание его было обращено на француза в капоте, который в это время, медлительно раскачиваясь, подвинулся к молодой женщине и, вынув руки из карманов, взялся за ее шею.
Красавица армянка продолжала сидеть в том же неподвижном положении, с опущенными длинными ресницами, и как будто не видала и не чувствовала того, что делал с нею солдат.
Пока Пьер пробежал те несколько шагов, которые отделяли его от французов, длинный мародер в капоте уж рвал с шеи армянки ожерелье, которое было на ней, и молодая женщина, хватаясь руками за шею, кричала пронзительным голосом.
– Laissez cette femme! [Оставьте эту женщину!] – бешеным голосом прохрипел Пьер, схватывая длинного, сутоловатого солдата за плечи и отбрасывая его. Солдат упал, приподнялся и побежал прочь. Но товарищ его, бросив сапоги, вынул тесак и грозно надвинулся на Пьера.
– Voyons, pas de betises! [Ну, ну! Не дури!] – крикнул он.
Пьер был в том восторге бешенства, в котором он ничего не помнил и в котором силы его удесятерялись. Он бросился на босого француза и, прежде чем тот успел вынуть свой тесак, уже сбил его с ног и молотил по нем кулаками. Послышался одобрительный крик окружавшей толпы, в то же время из за угла показался конный разъезд французских уланов. Уланы рысью подъехали к Пьеру и французу и окружили их. Пьер ничего не помнил из того, что было дальше. Он помнил, что он бил кого то, его били и что под конец он почувствовал, что руки его связаны, что толпа французских солдат стоит вокруг него и обыскивает его платье.
– Il a un poignard, lieutenant, [Поручик, у него кинжал,] – были первые слова, которые понял Пьер.
– Ah, une arme! [А, оружие!] – сказал офицер и обратился к босому солдату, который был взят с Пьером.
– C'est bon, vous direz tout cela au conseil de guerre, [Хорошо, хорошо, на суде все расскажешь,] – сказал офицер. И вслед за тем повернулся к Пьеру: – Parlez vous francais vous? [Говоришь ли по французски?]
Пьер оглядывался вокруг себя налившимися кровью глазами и не отвечал. Вероятно, лицо его показалось очень страшно, потому что офицер что то шепотом сказал, и еще четыре улана отделились от команды и стали по обеим сторонам Пьера.
– Parlez vous francais? – повторил ему вопрос офицер, держась вдали от него. – Faites venir l'interprete. [Позовите переводчика.] – Из за рядов выехал маленький человечек в штатском русском платье. Пьер по одеянию и говору его тотчас же узнал в нем француза одного из московских магазинов.
– Il n'a pas l'air d'un homme du peuple, [Он не похож на простолюдина,] – сказал переводчик, оглядев Пьера.
– Oh, oh! ca m'a bien l'air d'un des incendiaires, – смазал офицер. – Demandez lui ce qu'il est? [О, о! он очень похож на поджигателя. Спросите его, кто он?] – прибавил он.
– Ти кто? – спросил переводчик. – Ти должно отвечать начальство, – сказал он.
– Je ne vous dirai pas qui je suis. Je suis votre prisonnier. Emmenez moi, [Я не скажу вам, кто я. Я ваш пленный. Уводите меня,] – вдруг по французски сказал Пьер.
– Ah, Ah! – проговорил офицер, нахмурившись. – Marchons! [A! A! Ну, марш!]
Около улан собралась толпа. Ближе всех к Пьеру стояла рябая баба с девочкою; когда объезд тронулся, она подвинулась вперед.
– Куда же это ведут тебя, голубчик ты мой? – сказала она. – Девочку то, девочку то куда я дену, коли она не ихняя! – говорила баба.
– Qu'est ce qu'elle veut cette femme? [Чего ей нужно?] – спросил офицер.
Пьер был как пьяный. Восторженное состояние его еще усилилось при виде девочки, которую он спас.
– Ce qu'elle dit? – проговорил он. – Elle m'apporte ma fille que je viens de sauver des flammes, – проговорил он. – Adieu! [Чего ей нужно? Она несет дочь мою, которую я спас из огня. Прощай!] – и он, сам не зная, как вырвалась у него эта бесцельная ложь, решительным, торжественным шагом пошел между французами.
Разъезд французов был один из тех, которые были посланы по распоряжению Дюронеля по разным улицам Москвы для пресечения мародерства и в особенности для поимки поджигателей, которые, по общему, в тот день проявившемуся, мнению у французов высших чинов, были причиною пожаров. Объехав несколько улиц, разъезд забрал еще человек пять подозрительных русских, одного лавочника, двух семинаристов, мужика и дворового человека и нескольких мародеров. Но из всех подозрительных людей подозрительнее всех казался Пьер. Когда их всех привели на ночлег в большой дом на Зубовском валу, в котором была учреждена гауптвахта, то Пьера под строгим караулом поместили отдельно.
В Петербурге в это время в высших кругах, с большим жаром чем когда нибудь, шла сложная борьба партий Румянцева, французов, Марии Феодоровны, цесаревича и других, заглушаемая, как всегда, трубением придворных трутней. Но спокойная, роскошная, озабоченная только призраками, отражениями жизни, петербургская жизнь шла по старому; и из за хода этой жизни надо было делать большие усилия, чтобы сознавать опасность и то трудное положение, в котором находился русский народ. Те же были выходы, балы, тот же французский театр, те же интересы дворов, те же интересы службы и интриги. Только в самых высших кругах делались усилия для того, чтобы напоминать трудность настоящего положения. Рассказывалось шепотом о том, как противоположно одна другой поступили, в столь трудных обстоятельствах, обе императрицы. Императрица Мария Феодоровна, озабоченная благосостоянием подведомственных ей богоугодных и воспитательных учреждений, сделала распоряжение об отправке всех институтов в Казань, и вещи этих заведений уже были уложены. Императрица же Елизавета Алексеевна на вопрос о том, какие ей угодно сделать распоряжения, с свойственным ей русским патриотизмом изволила ответить, что о государственных учреждениях она не может делать распоряжений, так как это касается государя; о том же, что лично зависит от нее, она изволила сказать, что она последняя выедет из Петербурга.
У Анны Павловны 26 го августа, в самый день Бородинского сражения, был вечер, цветком которого должно было быть чтение письма преосвященного, написанного при посылке государю образа преподобного угодника Сергия. Письмо это почиталось образцом патриотического духовного красноречия. Прочесть его должен был сам князь Василий, славившийся своим искусством чтения. (Он же читывал и у императрицы.) Искусство чтения считалось в том, чтобы громко, певуче, между отчаянным завыванием и нежным ропотом переливать слова, совершенно независимо от их значения, так что совершенно случайно на одно слово попадало завывание, на другие – ропот. Чтение это, как и все вечера Анны Павловны, имело политическое значение. На этом вечере должно было быть несколько важных лиц, которых надо было устыдить за их поездки во французский театр и воодушевить к патриотическому настроению. Уже довольно много собралось народа, но Анна Павловна еще не видела в гостиной всех тех, кого нужно было, и потому, не приступая еще к чтению, заводила общие разговоры.
Новостью дня в этот день в Петербурге была болезнь графини Безуховой. Графиня несколько дней тому назад неожиданно заболела, пропустила несколько собраний, которых она была украшением, и слышно было, что она никого не принимает и что вместо знаменитых петербургских докторов, обыкновенно лечивших ее, она вверилась какому то итальянскому доктору, лечившему ее каким то новым и необыкновенным способом.
Все очень хорошо знали, что болезнь прелестной графини происходила от неудобства выходить замуж сразу за двух мужей и что лечение итальянца состояло в устранении этого неудобства; но в присутствии Анны Павловны не только никто не смел думать об этом, но как будто никто и не знал этого.
– On dit que la pauvre comtesse est tres mal. Le medecin dit que c'est l'angine pectorale. [Говорят, что бедная графиня очень плоха. Доктор сказал, что это грудная болезнь.]
– L'angine? Oh, c'est une maladie terrible! [Грудная болезнь? О, это ужасная болезнь!]
– On dit que les rivaux se sont reconcilies grace a l'angine… [Говорят, что соперники примирились благодаря этой болезни.]
Слово angine повторялось с большим удовольствием.
– Le vieux comte est touchant a ce qu'on dit. Il a pleure comme un enfant quand le medecin lui a dit que le cas etait dangereux. [Старый граф очень трогателен, говорят. Он заплакал, как дитя, когда доктор сказал, что случай опасный.]
– Oh, ce serait une perte terrible. C'est une femme ravissante. [О, это была бы большая потеря. Такая прелестная женщина.]
– Vous parlez de la pauvre comtesse, – сказала, подходя, Анна Павловна. – J'ai envoye savoir de ses nouvelles. On m'a dit qu'elle allait un peu mieux. Oh, sans doute, c'est la plus charmante femme du monde, – сказала Анна Павловна с улыбкой над своей восторженностью. – Nous appartenons a des camps differents, mais cela ne m'empeche pas de l'estimer, comme elle le merite. Elle est bien malheureuse, [Вы говорите про бедную графиню… Я посылала узнавать о ее здоровье. Мне сказали, что ей немного лучше. О, без сомнения, это прелестнейшая женщина в мире. Мы принадлежим к различным лагерям, но это не мешает мне уважать ее по ее заслугам. Она так несчастна.] – прибавила Анна Павловна.
Полагая, что этими словами Анна Павловна слегка приподнимала завесу тайны над болезнью графини, один неосторожный молодой человек позволил себе выразить удивление в том, что не призваны известные врачи, а лечит графиню шарлатан, который может дать опасные средства.
– Vos informations peuvent etre meilleures que les miennes, – вдруг ядовито напустилась Анна Павловна на неопытного молодого человека. – Mais je sais de bonne source que ce medecin est un homme tres savant et tres habile. C'est le medecin intime de la Reine d'Espagne. [Ваши известия могут быть вернее моих… но я из хороших источников знаю, что этот доктор очень ученый и искусный человек. Это лейб медик королевы испанской.] – И таким образом уничтожив молодого человека, Анна Павловна обратилась к Билибину, который в другом кружке, подобрав кожу и, видимо, сбираясь распустить ее, чтобы сказать un mot, говорил об австрийцах.
– Je trouve que c'est charmant! [Я нахожу, что это прелестно!] – говорил он про дипломатическую бумагу, при которой отосланы были в Вену австрийские знамена, взятые Витгенштейном, le heros de Petropol [героем Петрополя] (как его называли в Петербурге).
– Как, как это? – обратилась к нему Анна Павловна, возбуждая молчание для услышания mot, которое она уже знала.
И Билибин повторил следующие подлинные слова дипломатической депеши, им составленной:
– L'Empereur renvoie les drapeaux Autrichiens, – сказал Билибин, – drapeaux amis et egares qu'il a trouve hors de la route, [Император отсылает австрийские знамена, дружеские и заблудшиеся знамена, которые он нашел вне настоящей дороги.] – докончил Билибин, распуская кожу.
– Charmant, charmant, [Прелестно, прелестно,] – сказал князь Василий.
– C'est la route de Varsovie peut etre, [Это варшавская дорога, может быть.] – громко и неожиданно сказал князь Ипполит. Все оглянулись на него, не понимая того, что он хотел сказать этим. Князь Ипполит тоже с веселым удивлением оглядывался вокруг себя. Он так же, как и другие, не понимал того, что значили сказанные им слова. Он во время своей дипломатической карьеры не раз замечал, что таким образом сказанные вдруг слова оказывались очень остроумны, и он на всякий случай сказал эти слова, первые пришедшие ему на язык. «Может, выйдет очень хорошо, – думал он, – а ежели не выйдет, они там сумеют это устроить». Действительно, в то время как воцарилось неловкое молчание, вошло то недостаточно патриотическое лицо, которого ждала для обращения Анна Павловна, и она, улыбаясь и погрозив пальцем Ипполиту, пригласила князя Василия к столу, и, поднося ему две свечи и рукопись, попросила его начать. Все замолкло.
– Всемилостивейший государь император! – строго провозгласил князь Василий и оглянул публику, как будто спрашивая, не имеет ли кто сказать что нибудь против этого. Но никто ничего не сказал. – «Первопрестольный град Москва, Новый Иерусалим, приемлет Христа своего, – вдруг ударил он на слове своего, – яко мать во объятия усердных сынов своих, и сквозь возникающую мглу, провидя блистательную славу твоея державы, поет в восторге: «Осанна, благословен грядый!» – Князь Василий плачущим голосом произнес эти последние слова.
Билибин рассматривал внимательно свои ногти, и многие, видимо, робели, как бы спрашивая, в чем же они виноваты? Анна Павловна шепотом повторяла уже вперед, как старушка молитву причастия: «Пусть дерзкий и наглый Голиаф…» – прошептала она.
Князь Василий продолжал:
– «Пусть дерзкий и наглый Голиаф от пределов Франции обносит на краях России смертоносные ужасы; кроткая вера, сия праща российского Давида, сразит внезапно главу кровожаждущей его гордыни. Се образ преподобного Сергия, древнего ревнителя о благе нашего отечества, приносится вашему императорскому величеству. Болезную, что слабеющие мои силы препятствуют мне насладиться любезнейшим вашим лицезрением. Теплые воссылаю к небесам молитвы, да всесильный возвеличит род правых и исполнит во благих желания вашего величества».
– Quelle force! Quel style! [Какая сила! Какой слог!] – послышались похвалы чтецу и сочинителю. Воодушевленные этой речью, гости Анны Павловны долго еще говорили о положении отечества и делали различные предположения об исходе сражения, которое на днях должно было быть дано.
– Vous verrez, [Вы увидите.] – сказала Анна Павловна, – что завтра, в день рождения государя, мы получим известие. У меня есть хорошее предчувствие.
Предчувствие Анны Павловны действительно оправдалось. На другой день, во время молебствия во дворце по случаю дня рождения государя, князь Волконский был вызван из церкви и получил конверт от князя Кутузова. Это было донесение Кутузова, писанное в день сражения из Татариновой. Кутузов писал, что русские не отступили ни на шаг, что французы потеряли гораздо более нашего, что он доносит второпях с поля сражения, не успев еще собрать последних сведений. Стало быть, это была победа. И тотчас же, не выходя из храма, была воздана творцу благодарность за его помощь и за победу.
Предчувствие Анны Павловны оправдалось, и в городе все утро царствовало радостно праздничное настроение духа. Все признавали победу совершенною, и некоторые уже говорили о пленении самого Наполеона, о низложении его и избрании новой главы для Франции.
Вдали от дела и среди условий придворной жизни весьма трудно, чтобы события отражались во всей их полноте и силе. Невольно события общие группируются около одного какого нибудь частного случая. Так теперь главная радость придворных заключалась столько же в том, что мы победили, сколько и в том, что известие об этой победе пришлось именно в день рождения государя. Это было как удавшийся сюрприз. В известии Кутузова сказано было тоже о потерях русских, и в числе их названы Тучков, Багратион, Кутайсов. Тоже и печальная сторона события невольно в здешнем, петербургском мире сгруппировалась около одного события – смерти Кутайсова. Его все знали, государь любил его, он был молод и интересен. В этот день все встречались с словами:
– Как удивительно случилось. В самый молебен. А какая потеря Кутайсов! Ах, как жаль!
– Что я вам говорил про Кутузова? – говорил теперь князь Василий с гордостью пророка. – Я говорил всегда, что он один способен победить Наполеона.
Но на другой день не получалось известия из армии, и общий голос стал тревожен. Придворные страдали за страдания неизвестности, в которой находился государь.
– Каково положение государя! – говорили придворные и уже не превозносили, как третьего дня, а теперь осуждали Кутузова, бывшего причиной беспокойства государя. Князь Василий в этот день уже не хвастался более своим protege Кутузовым, а хранил молчание, когда речь заходила о главнокомандующем. Кроме того, к вечеру этого дня как будто все соединилось для того, чтобы повергнуть в тревогу и беспокойство петербургских жителей: присоединилась еще одна страшная новость. Графиня Елена Безухова скоропостижно умерла от этой страшной болезни, которую так приятно было выговаривать. Официально в больших обществах все говорили, что графиня Безухова умерла от страшного припадка angine pectorale [грудной ангины], но в интимных кружках рассказывали подробности о том, как le medecin intime de la Reine d'Espagne [лейб медик королевы испанской] предписал Элен небольшие дозы какого то лекарства для произведения известного действия; но как Элен, мучимая тем, что старый граф подозревал ее, и тем, что муж, которому она писала (этот несчастный развратный Пьер), не отвечал ей, вдруг приняла огромную дозу выписанного ей лекарства и умерла в мучениях, прежде чем могли подать помощь. Рассказывали, что князь Василий и старый граф взялись было за итальянца; но итальянец показал такие записки от несчастной покойницы, что его тотчас же отпустили.
Общий разговор сосредоточился около трех печальных событий: неизвестности государя, погибели Кутайсова и смерти Элен.
На третий день после донесения Кутузова в Петербург приехал помещик из Москвы, и по всему городу распространилось известие о сдаче Москвы французам. Это было ужасно! Каково было положение государя! Кутузов был изменник, и князь Василий во время visites de condoleance [визитов соболезнования] по случаю смерти его дочери, которые ему делали, говорил о прежде восхваляемом им Кутузове (ему простительно было в печали забыть то, что он говорил прежде), он говорил, что нельзя было ожидать ничего другого от слепого и развратного старика.
– Я удивляюсь только, как можно было поручить такому человеку судьбу России.
Пока известие это было еще неофициально, в нем можно было еще сомневаться, но на другой день пришло от графа Растопчина следующее донесение:
«Адъютант князя Кутузова привез мне письмо, в коем он требует от меня полицейских офицеров для сопровождения армии на Рязанскую дорогу. Он говорит, что с сожалением оставляет Москву. Государь! поступок Кутузова решает жребий столицы и Вашей империи. Россия содрогнется, узнав об уступлении города, где сосредоточивается величие России, где прах Ваших предков. Я последую за армией. Я все вывез, мне остается плакать об участи моего отечества».
Получив это донесение, государь послал с князем Волконским следующий рескрипт Кутузову:
«Князь Михаил Иларионович! С 29 августа не имею я никаких донесений от вас. Между тем от 1 го сентября получил я через Ярославль, от московского главнокомандующего, печальное известие, что вы решились с армиею оставить Москву. Вы сами можете вообразить действие, какое произвело на меня это известие, а молчание ваше усугубляет мое удивление. Я отправляю с сим генерал адъютанта князя Волконского, дабы узнать от вас о положении армии и о побудивших вас причинах к столь печальной решимости».
Девять дней после оставления Москвы в Петербург приехал посланный от Кутузова с официальным известием об оставлении Москвы. Посланный этот был француз Мишо, не знавший по русски, но quoique etranger, Busse de c?ur et d'ame, [впрочем, хотя иностранец, но русский в глубине души,] как он сам говорил про себя.
Государь тотчас же принял посланного в своем кабинете, во дворце Каменного острова. Мишо, который никогда не видал Москвы до кампании и который не знал по русски, чувствовал себя все таки растроганным, когда он явился перед notre tres gracieux souverain [нашим всемилостивейшим повелителем] (как он писал) с известием о пожаре Москвы, dont les flammes eclairaient sa route [пламя которой освещало его путь].
Хотя источник chagrin [горя] г на Мишо и должен был быть другой, чем тот, из которого вытекало горе русских людей, Мишо имел такое печальное лицо, когда он был введен в кабинет государя, что государь тотчас же спросил у него:
– M'apportez vous de tristes nouvelles, colonel? [Какие известия привезли вы мне? Дурные, полковник?]
– Bien tristes, sire, – отвечал Мишо, со вздохом опуская глаза, – l'abandon de Moscou. [Очень дурные, ваше величество, оставление Москвы.]
– Aurait on livre mon ancienne capitale sans se battre? [Неужели предали мою древнюю столицу без битвы?] – вдруг вспыхнув, быстро проговорил государь.
Мишо почтительно передал то, что ему приказано было передать от Кутузова, – именно то, что под Москвою драться не было возможности и что, так как оставался один выбор – потерять армию и Москву или одну Москву, то фельдмаршал должен был выбрать последнее.
Государь выслушал молча, не глядя на Мишо.
– L'ennemi est il en ville? [Неприятель вошел в город?] – спросил он.
– Oui, sire, et elle est en cendres a l'heure qu'il est. Je l'ai laissee toute en flammes, [Да, ваше величество, и он обращен в пожарище в настоящее время. Я оставил его в пламени.] – решительно сказал Мишо; но, взглянув на государя, Мишо ужаснулся тому, что он сделал. Государь тяжело и часто стал дышать, нижняя губа его задрожала, и прекрасные голубые глаза мгновенно увлажились слезами.
Но это продолжалось только одну минуту. Государь вдруг нахмурился, как бы осуждая самого себя за свою слабость. И, приподняв голову, твердым голосом обратился к Мишо.
– Je vois, colonel, par tout ce qui nous arrive, – сказал он, – que la providence exige de grands sacrifices de nous… Je suis pret a me soumettre a toutes ses volontes; mais dites moi, Michaud, comment avez vous laisse l'armee, en voyant ainsi, sans coup ferir abandonner mon ancienne capitale? N'avez vous pas apercu du decouragement?.. [Я вижу, полковник, по всему, что происходит, что провидение требует от нас больших жертв… Я готов покориться его воле; но скажите мне, Мишо, как оставили вы армию, покидавшую без битвы мою древнюю столицу? Не заметили ли вы в ней упадка духа?]
Увидав успокоение своего tres gracieux souverain, Мишо тоже успокоился, но на прямой существенный вопрос государя, требовавший и прямого ответа, он не успел еще приготовить ответа.
– Sire, me permettrez vous de vous parler franchement en loyal militaire? [Государь, позволите ли вы мне говорить откровенно, как подобает настоящему воину?] – сказал он, чтобы выиграть время.
– Colonel, je l'exige toujours, – сказал государь. – Ne me cachez rien, je veux savoir absolument ce qu'il en est. [Полковник, я всегда этого требую… Не скрывайте ничего, я непременно хочу знать всю истину.]
– Sire! – сказал Мишо с тонкой, чуть заметной улыбкой на губах, успев приготовить свой ответ в форме легкого и почтительного jeu de mots [игры слов]. – Sire! j'ai laisse toute l'armee depuis les chefs jusqu'au dernier soldat, sans exception, dans une crainte epouvantable, effrayante… [Государь! Я оставил всю армию, начиная с начальников и до последнего солдата, без исключения, в великом, отчаянном страхе…]
– Comment ca? – строго нахмурившись, перебил государь. – Mes Russes se laisseront ils abattre par le malheur… Jamais!.. [Как так? Мои русские могут ли пасть духом перед неудачей… Никогда!..]
Этого только и ждал Мишо для вставления своей игры слов.
– Sire, – сказал он с почтительной игривостью выражения, – ils craignent seulement que Votre Majeste par bonte de c?ur ne se laisse persuader de faire la paix. Ils brulent de combattre, – говорил уполномоченный русского народа, – et de prouver a Votre Majeste par le sacrifice de leur vie, combien ils lui sont devoues… [Государь, они боятся только того, чтобы ваше величество по доброте души своей не решились заключить мир. Они горят нетерпением снова драться и доказать вашему величеству жертвой своей жизни, насколько они вам преданы…]
– Ah! – успокоенно и с ласковым блеском глаз сказал государь, ударяя по плечу Мишо. – Vous me tranquillisez, colonel. [А! Вы меня успокоиваете, полковник.]
Государь, опустив голову, молчал несколько времени.
– Eh bien, retournez a l'armee, [Ну, так возвращайтесь к армии.] – сказал он, выпрямляясь во весь рост и с ласковым и величественным жестом обращаясь к Мишо, – et dites a nos braves, dites a tous mes bons sujets partout ou vous passerez, que quand je n'aurais plus aucun soldat, je me mettrai moi meme, a la tete de ma chere noblesse, de mes bons paysans et j'userai ainsi jusqu'a la derniere ressource de mon empire. Il m'en offre encore plus que mes ennemis ne pensent, – говорил государь, все более и более воодушевляясь. – Mais si jamais il fut ecrit dans les decrets de la divine providence, – сказал он, подняв свои прекрасные, кроткие и блестящие чувством глаза к небу, – que ma dinastie dut cesser de rogner sur le trone de mes ancetres, alors, apres avoir epuise tous les moyens qui sont en mon pouvoir, je me laisserai croitre la barbe jusqu'ici (государь показал рукой на половину груди), et j'irai manger des pommes de terre avec le dernier de mes paysans plutot, que de signer la honte de ma patrie et de ma chere nation, dont je sais apprecier les sacrifices!.. [Скажите храбрецам нашим, скажите всем моим подданным, везде, где вы проедете, что, когда у меня не будет больше ни одного солдата, я сам стану во главе моих любезных дворян и добрых мужиков и истощу таким образом последние средства моего государства. Они больше, нежели думают мои враги… Но если бы предназначено было божественным провидением, чтобы династия наша перестала царствовать на престоле моих предков, тогда, истощив все средства, которые в моих руках, я отпущу бороду до сих пор и скорее пойду есть один картофель с последним из моих крестьян, нежели решусь подписать позор моей родины и моего дорогого народа, жертвы которого я умею ценить!..] Сказав эти слова взволнованным голосом, государь вдруг повернулся, как бы желая скрыть от Мишо выступившие ему на глаза слезы, и прошел в глубь своего кабинета. Постояв там несколько мгновений, он большими шагами вернулся к Мишо и сильным жестом сжал его руку пониже локтя. Прекрасное, кроткое лицо государя раскраснелось, и глаза горели блеском решимости и гнева.
– Colonel Michaud, n'oubliez pas ce que je vous dis ici; peut etre qu'un jour nous nous le rappellerons avec plaisir… Napoleon ou moi, – сказал государь, дотрогиваясь до груди. – Nous ne pouvons plus regner ensemble. J'ai appris a le connaitre, il ne me trompera plus… [Полковник Мишо, не забудьте, что я вам сказал здесь; может быть, мы когда нибудь вспомним об этом с удовольствием… Наполеон или я… Мы больше не можем царствовать вместе. Я узнал его теперь, и он меня больше не обманет…] – И государь, нахмурившись, замолчал. Услышав эти слова, увидав выражение твердой решимости в глазах государя, Мишо – quoique etranger, mais Russe de c?ur et d'ame – почувствовал себя в эту торжественную минуту – entousiasme par tout ce qu'il venait d'entendre [хотя иностранец, но русский в глубине души… восхищенным всем тем, что он услышал] (как он говорил впоследствии), и он в следующих выражениях изобразил как свои чувства, так и чувства русского народа, которого он считал себя уполномоченным.
– Sire! – сказал он. – Votre Majeste signe dans ce moment la gloire de la nation et le salut de l'Europe! [Государь! Ваше величество подписывает в эту минуту славу народа и спасение Европы!]
Государь наклонением головы отпустил Мишо.
В то время как Россия была до половины завоевана, и жители Москвы бежали в дальние губернии, и ополченье за ополченьем поднималось на защиту отечества, невольно представляется нам, не жившим в то время, что все русские люди от мала до велика были заняты только тем, чтобы жертвовать собою, спасать отечество или плакать над его погибелью. Рассказы, описания того времени все без исключения говорят только о самопожертвовании, любви к отечеству, отчаянье, горе и геройстве русских. В действительности же это так не было. Нам кажется это так только потому, что мы видим из прошедшего один общий исторический интерес того времени и не видим всех тех личных, человеческих интересов, которые были у людей того времени. А между тем в действительности те личные интересы настоящего до такой степени значительнее общих интересов, что из за них никогда не чувствуется (вовсе не заметен даже) интерес общий. Большая часть людей того времени не обращали никакого внимания на общий ход дел, а руководились только личными интересами настоящего. И эти то люди были самыми полезными деятелями того времени.
Те же, которые пытались понять общий ход дел и с самопожертвованием и геройством хотели участвовать в нем, были самые бесполезные члены общества; они видели все навыворот, и все, что они делали для пользы, оказывалось бесполезным вздором, как полки Пьера, Мамонова, грабившие русские деревни, как корпия, щипанная барынями и никогда не доходившая до раненых, и т. п. Даже те, которые, любя поумничать и выразить свои чувства, толковали о настоящем положении России, невольно носили в речах своих отпечаток или притворства и лжи, или бесполезного осуждения и злобы на людей, обвиняемых за то, в чем никто не мог быть виноват. В исторических событиях очевиднее всего запрещение вкушения плода древа познания. Только одна бессознательная деятельность приносит плоды, и человек, играющий роль в историческом событии, никогда не понимает его значения. Ежели он пытается понять его, он поражается бесплодностью.
Значение совершавшегося тогда в России события тем незаметнее было, чем ближе было в нем участие человека. В Петербурге и губернских городах, отдаленных от Москвы, дамы и мужчины в ополченских мундирах оплакивали Россию и столицу и говорили о самопожертвовании и т. п.; но в армии, которая отступала за Москву, почти не говорили и не думали о Москве, и, глядя на ее пожарище, никто не клялся отомстить французам, а думали о следующей трети жалованья, о следующей стоянке, о Матрешке маркитантше и тому подобное…
Николай Ростов без всякой цели самопожертвования, а случайно, так как война застала его на службе, принимал близкое и продолжительное участие в защите отечества и потому без отчаяния и мрачных умозаключений смотрел на то, что совершалось тогда в России. Ежели бы у него спросили, что он думает о теперешнем положении России, он бы сказал, что ему думать нечего, что на то есть Кутузов и другие, а что он слышал, что комплектуются полки, и что, должно быть, драться еще долго будут, и что при теперешних обстоятельствах ему не мудрено года через два получить полк.
По тому, что он так смотрел на дело, он не только без сокрушения о том, что лишается участия в последней борьбе, принял известие о назначении его в командировку за ремонтом для дивизии в Воронеж, но и с величайшим удовольствием, которое он не скрывал и которое весьма хорошо понимали его товарищи.
За несколько дней до Бородинского сражения Николай получил деньги, бумаги и, послав вперед гусар, на почтовых поехал в Воронеж.
Только тот, кто испытал это, то есть пробыл несколько месяцев не переставая в атмосфере военной, боевой жизни, может понять то наслаждение, которое испытывал Николай, когда он выбрался из того района, до которого достигали войска своими фуражировками, подвозами провианта, гошпиталями; когда он, без солдат, фур, грязных следов присутствия лагеря, увидал деревни с мужиками и бабами, помещичьи дома, поля с пасущимся скотом, станционные дома с заснувшими смотрителями. Он почувствовал такую радость, как будто в первый раз все это видел. В особенности то, что долго удивляло и радовало его, – это были женщины, молодые, здоровые, за каждой из которых не было десятка ухаживающих офицеров, и женщины, которые рады и польщены были тем, что проезжий офицер шутит с ними.
В самом веселом расположении духа Николай ночью приехал в Воронеж в гостиницу, заказал себе все то, чего он долго лишен был в армии, и на другой день, чисто начисто выбрившись и надев давно не надеванную парадную форму, поехал являться к начальству.
Начальник ополчения был статский генерал, старый человек, который, видимо, забавлялся своим военным званием и чином. Он сердито (думая, что в этом военное свойство) принял Николая и значительно, как бы имея на то право и как бы обсуживая общий ход дела, одобряя и не одобряя, расспрашивал его. Николай был так весел, что ему только забавно было это.
От начальника ополчения он поехал к губернатору. Губернатор был маленький живой человечек, весьма ласковый и простой. Он указал Николаю на те заводы, в которых он мог достать лошадей, рекомендовал ему барышника в городе и помещика за двадцать верст от города, у которых были лучшие лошади, и обещал всякое содействие.
– Вы графа Ильи Андреевича сын? Моя жена очень дружна была с вашей матушкой. По четвергам у меня собираются; нынче четверг, милости прошу ко мне запросто, – сказал губернатор, отпуская его.
Прямо от губернатора Николай взял перекладную и, посадив с собою вахмистра, поскакал за двадцать верст на завод к помещику. Все в это первое время пребывания его в Воронеже было для Николая весело и легко, и все, как это бывает, когда человек сам хорошо расположен, все ладилось и спорилось.
Помещик, к которому приехал Николай, был старый кавалерист холостяк, лошадиный знаток, охотник, владетель коверной, столетней запеканки, старого венгерского и чудных лошадей.
Николай в два слова купил за шесть тысяч семнадцать жеребцов на подбор (как он говорил) для казового конца своего ремонта. Пообедав и выпив немножко лишнего венгерского, Ростов, расцеловавшись с помещиком, с которым он уже сошелся на «ты», по отвратительной дороге, в самом веселом расположении духа, поскакал назад, беспрестанно погоняя ямщика, с тем чтобы поспеть на вечер к губернатору.
Переодевшись, надушившись и облив голову холодной подои, Николай хотя несколько поздно, но с готовой фразой: vaut mieux tard que jamais, [лучше поздно, чем никогда,] явился к губернатору.
Это был не бал, и не сказано было, что будут танцевать; но все знали, что Катерина Петровна будет играть на клавикордах вальсы и экосезы и что будут танцевать, и все, рассчитывая на это, съехались по бальному.
Губернская жизнь в 1812 году была точно такая же, как и всегда, только с тою разницею, что в городе было оживленнее по случаю прибытия многих богатых семей из Москвы и что, как и во всем, что происходило в то время в России, была заметна какая то особенная размашистость – море по колено, трын трава в жизни, да еще в том, что тот пошлый разговор, который необходим между людьми и который прежде велся о погоде и об общих знакомых, теперь велся о Москве, о войске и Наполеоне.
Общество, собранное у губернатора, было лучшее общество Воронежа.
Дам было очень много, было несколько московских знакомых Николая; но мужчин не было никого, кто бы сколько нибудь мог соперничать с георгиевским кавалером, ремонтером гусаром и вместе с тем добродушным и благовоспитанным графом Ростовым. В числе мужчин был один пленный итальянец – офицер французской армии, и Николай чувствовал, что присутствие этого пленного еще более возвышало значение его – русского героя. Это был как будто трофей. Николай чувствовал это, и ему казалось, что все так же смотрели на итальянца, и Николай обласкал этого офицера с достоинством и воздержностью.
Как только вошел Николай в своей гусарской форме, распространяя вокруг себя запах духов и вина, и сам сказал и слышал несколько раз сказанные ему слова: vaut mieux tard que jamais, его обступили; все взгляды обратились на него, и он сразу почувствовал, что вступил в подобающее ему в губернии и всегда приятное, но теперь, после долгого лишения, опьянившее его удовольствием положение всеобщего любимца. Не только на станциях, постоялых дворах и в коверной помещика были льстившиеся его вниманием служанки; но здесь, на вечере губернатора, было (как показалось Николаю) неисчерпаемое количество молоденьких дам и хорошеньких девиц, которые с нетерпением только ждали того, чтобы Николай обратил на них внимание. Дамы и девицы кокетничали с ним, и старушки с первого дня уже захлопотали о том, как бы женить и остепенить этого молодца повесу гусара. В числе этих последних была сама жена губернатора, которая приняла Ростова, как близкого родственника, и называла его «Nicolas» и «ты».
Катерина Петровна действительно стала играть вальсы и экосезы, и начались танцы, в которых Николай еще более пленил своей ловкостью все губернское общество. Он удивил даже всех своей особенной, развязной манерой в танцах. Николай сам был несколько удивлен своей манерой танцевать в этот вечер. Он никогда так не танцевал в Москве и счел бы даже неприличным и mauvais genre [дурным тоном] такую слишком развязную манеру танца; но здесь он чувствовал потребность удивить их всех чем нибудь необыкновенным, чем нибудь таким, что они должны были принять за обыкновенное в столицах, но неизвестное еще им в провинции.
Во весь вечер Николай обращал больше всего внимания на голубоглазую, полную и миловидную блондинку, жену одного из губернских чиновников. С тем наивным убеждением развеселившихся молодых людей, что чужие жены сотворены для них, Ростов не отходил от этой дамы и дружески, несколько заговорщически, обращался с ее мужем, как будто они хотя и не говорили этого, но знали, как славно они сойдутся – то есть Николай с женой этого мужа. Муж, однако, казалось, не разделял этого убеждения и старался мрачно обращаться с Ростовым. Но добродушная наивность Николая была так безгранична, что иногда муж невольно поддавался веселому настроению духа Николая. К концу вечера, однако, по мере того как лицо жены становилось все румянее и оживленнее, лицо ее мужа становилось все грустнее и бледнее, как будто доля оживления была одна на обоих, и по мере того как она увеличивалась в жене, она уменьшалась в муже.
Николай, с несходящей улыбкой на лице, несколько изогнувшись на кресле, сидел, близко наклоняясь над блондинкой и говоря ей мифологические комплименты.
Переменяя бойко положение ног в натянутых рейтузах, распространяя от себя запах духов и любуясь и своей дамой, и собою, и красивыми формами своих ног под натянутыми кичкирами, Николай говорил блондинке, что он хочет здесь, в Воронеже, похитить одну даму.
– Какую же?
– Прелестную, божественную. Глаза у ней (Николай посмотрел на собеседницу) голубые, рот – кораллы, белизна… – он глядел на плечи, – стан – Дианы…
Муж подошел к ним и мрачно спросил у жены, о чем она говорит.
– А! Никита Иваныч, – сказал Николай, учтиво вставая. И, как бы желая, чтобы Никита Иваныч принял участие в его шутках, он начал и ему сообщать свое намерение похитить одну блондинку.
Муж улыбался угрюмо, жена весело. Добрая губернаторша с неодобрительным видом подошла к ним.
– Анна Игнатьевна хочет тебя видеть, Nicolas, – сказала она, таким голосом выговаривая слова: Анна Игнатьевна, что Ростову сейчас стало понятно, что Анна Игнатьевна очень важная дама. – Пойдем, Nicolas. Ведь ты позволил мне так называть тебя?
– О да, ma tante. Кто же это?
– Анна Игнатьевна Мальвинцева. Она слышала о тебе от своей племянницы, как ты спас ее… Угадаешь?..
– Мало ли я их там спасал! – сказал Николай.
– Ее племянницу, княжну Болконскую. Она здесь, в Воронеже, с теткой. Ого! как покраснел! Что, или?..
– И не думал, полноте, ma tante.
– Ну хорошо, хорошо. О! какой ты!
Губернаторша подводила его к высокой и очень толстой старухе в голубом токе, только что кончившей свою карточную партию с самыми важными лицами в городе. Это была Мальвинцева, тетка княжны Марьи по матери, богатая бездетная вдова, жившая всегда в Воронеже. Она стояла, рассчитываясь за карты, когда Ростов подошел к ней. Она строго и важно прищурилась, взглянула на него и продолжала бранить генерала, выигравшего у нее.
– Очень рада, мой милый, – сказала она, протянув ему руку. – Милости прошу ко мне.
Поговорив о княжне Марье и покойнике ее отце, которого, видимо, не любила Мальвинцева, и расспросив о том, что Николай знал о князе Андрее, который тоже, видимо, не пользовался ее милостями, важная старуха отпустила его, повторив приглашение быть у нее.
Николай обещал и опять покраснел, когда откланивался Мальвинцевой. При упоминании о княжне Марье Ростов испытывал непонятное для него самого чувство застенчивости, даже страха.
Отходя от Мальвинцевой, Ростов хотел вернуться к танцам, но маленькая губернаторша положила свою пухленькую ручку на рукав Николая и, сказав, что ей нужно поговорить с ним, повела его в диванную, из которой бывшие в ней вышли тотчас же, чтобы не мешать губернаторше.
– Знаешь, mon cher, – сказала губернаторша с серьезным выражением маленького доброго лица, – вот это тебе точно партия; хочешь, я тебя сосватаю?
– Кого, ma tante? – спросил Николай.
– Княжну сосватаю. Катерина Петровна говорит, что Лили, а по моему, нет, – княжна. Хочешь? Я уверена, твоя maman благодарить будет. Право, какая девушка, прелесть! И она совсем не так дурна.
– Совсем нет, – как бы обидевшись, сказал Николай. – Я, ma tante, как следует солдату, никуда не напрашиваюсь и ни от чего не отказываюсь, – сказал Ростов прежде, чем он успел подумать о том, что он говорит.
– Так помни же: это не шутка.
– Какая шутка!
– Да, да, – как бы сама с собою говоря, сказала губернаторша. – А вот что еще, mon cher, entre autres. Vous etes trop assidu aupres de l'autre, la blonde. [мой друг. Ты слишком ухаживаешь за той, за белокурой.] Муж уж жалок, право…
– Ах нет, мы с ним друзья, – в простоте душевной сказал Николай: ему и в голову не приходило, чтобы такое веселое для него препровождение времени могло бы быть для кого нибудь не весело.
«Что я за глупость сказал, однако, губернаторше! – вдруг за ужином вспомнилось Николаю. – Она точно сватать начнет, а Соня?..» И, прощаясь с губернаторшей, когда она, улыбаясь, еще раз сказала ему: «Ну, так помни же», – он отвел ее в сторону:
– Но вот что, по правде вам сказать, ma tante…
– Что, что, мой друг; пойдем вот тут сядем.
Николай вдруг почувствовал желание и необходимость рассказать все свои задушевные мысли (такие, которые и не рассказал бы матери, сестре, другу) этой почти чужой женщине. Николаю потом, когда он вспоминал об этом порыве ничем не вызванной, необъяснимой откровенности, которая имела, однако, для него очень важные последствия, казалось (как это и кажется всегда людям), что так, глупый стих нашел; а между тем этот порыв откровенности, вместе с другими мелкими событиями, имел для него и для всей семьи огромные последствия.
– Вот что, ma tante. Maman меня давно женить хочет на богатой, но мне мысль одна эта противна, жениться из за денег.
– О да, понимаю, – сказала губернаторша.
– Но княжна Болконская, это другое дело; во первых, я вам правду скажу, она мне очень нравится, она по сердцу мне, и потом, после того как я ее встретил в таком положении, так странно, мне часто в голову приходило что это судьба. Особенно подумайте: maman давно об этом думала, но прежде мне ее не случалось встречать, как то все так случалось: не встречались. И во время, когда Наташа была невестой ее брата, ведь тогда мне бы нельзя было думать жениться на ней. Надо же, чтобы я ее встретил именно тогда, когда Наташина свадьба расстроилась, ну и потом всё… Да, вот что. Я никому не говорил этого и не скажу. А вам только.
Губернаторша пожала его благодарно за локоть.
– Вы знаете Софи, кузину? Я люблю ее, я обещал жениться и женюсь на ней… Поэтому вы видите, что про это не может быть и речи, – нескладно и краснея говорил Николай.
– Mon cher, mon cher, как же ты судишь? Да ведь у Софи ничего нет, а ты сам говорил, что дела твоего папа очень плохи. А твоя maman? Это убьет ее, раз. Потом Софи, ежели она девушка с сердцем, какая жизнь для нее будет? Мать в отчаянии, дела расстроены… Нет, mon cher, ты и Софи должны понять это.
Николай молчал. Ему приятно было слышать эти выводы.
– Все таки, ma tante, этого не может быть, – со вздохом сказал он, помолчав немного. – Да пойдет ли еще за меня княжна? и опять, она теперь в трауре. Разве можно об этом думать?
– Да разве ты думаешь, что я тебя сейчас и женю. Il y a maniere et maniere, [На все есть манера.] – сказала губернаторша.
– Какая вы сваха, ma tante… – сказал Nicolas, целуя ее пухлую ручку.
Приехав в Москву после своей встречи с Ростовым, княжна Марья нашла там своего племянника с гувернером и письмо от князя Андрея, который предписывал им их маршрут в Воронеж, к тетушке Мальвинцевой. Заботы о переезде, беспокойство о брате, устройство жизни в новом доме, новые лица, воспитание племянника – все это заглушило в душе княжны Марьи то чувство как будто искушения, которое мучило ее во время болезни и после кончины ее отца и в особенности после встречи с Ростовым. Она была печальна. Впечатление потери отца, соединявшееся в ее душе с погибелью России, теперь, после месяца, прошедшего с тех пор в условиях покойной жизни, все сильнее и сильнее чувствовалось ей. Она была тревожна: мысль об опасностях, которым подвергался ее брат – единственный близкий человек, оставшийся у нее, мучила ее беспрестанно. Она была озабочена воспитанием племянника, для которого она чувствовала себя постоянно неспособной; но в глубине души ее было согласие с самой собою, вытекавшее из сознания того, что она задавила в себе поднявшиеся было, связанные с появлением Ростова, личные мечтания и надежды.
Когда на другой день после своего вечера губернаторша приехала к Мальвинцевой и, переговорив с теткой о своих планах (сделав оговорку о том, что, хотя при теперешних обстоятельствах нельзя и думать о формальном сватовстве, все таки можно свести молодых людей, дать им узнать друг друга), и когда, получив одобрение тетки, губернаторша при княжне Марье заговорила о Ростове, хваля его и рассказывая, как он покраснел при упоминании о княжне, – княжна Марья испытала не радостное, но болезненное чувство: внутреннее согласие ее не существовало более, и опять поднялись желания, сомнения, упреки и надежды.
В те два дня, которые прошли со времени этого известия и до посещения Ростова, княжна Марья не переставая думала о том, как ей должно держать себя в отношении Ростова. То она решала, что она не выйдет в гостиную, когда он приедет к тетке, что ей, в ее глубоком трауре, неприлично принимать гостей; то она думала, что это будет грубо после того, что он сделал для нее; то ей приходило в голову, что ее тетка и губернаторша имеют какие то виды на нее и Ростова (их взгляды и слова иногда, казалось, подтверждали это предположение); то она говорила себе, что только она с своей порочностью могла думать это про них: не могли они не помнить, что в ее положении, когда еще она не сняла плерезы, такое сватовство было бы оскорбительно и ей, и памяти ее отца. Предполагая, что она выйдет к нему, княжна Марья придумывала те слова, которые он скажет ей и которые она скажет ему; и то слова эти казались ей незаслуженно холодными, то имеющими слишком большое значение. Больше же всего она при свидании с ним боялась за смущение, которое, она чувствовала, должно было овладеть ею и выдать ее, как скоро она его увидит.
Но когда, в воскресенье после обедни, лакей доложил в гостиной, что приехал граф Ростов, княжна не выказала смущения; только легкий румянец выступил ей на щеки, и глаза осветились новым, лучистым светом.
– Вы его видели, тетушка? – сказала княжна Марья спокойным голосом, сама не зная, как это она могла быть так наружно спокойна и естественна.
Когда Ростов вошел в комнату, княжна опустила на мгновенье голову, как бы предоставляя время гостю поздороваться с теткой, и потом, в самое то время, как Николай обратился к ней, она подняла голову и блестящими глазами встретила его взгляд. Полным достоинства и грации движением она с радостной улыбкой приподнялась, протянула ему свою тонкую, нежную руку и заговорила голосом, в котором в первый раз звучали новые, женские грудные звуки. M lle Bourienne, бывшая в гостиной, с недоумевающим удивлением смотрела на княжну Марью. Самая искусная кокетка, она сама не могла бы лучше маневрировать при встрече с человеком, которому надо было понравиться.
«Или ей черное так к лицу, или действительно она так похорошела, и я не заметила. И главное – этот такт и грация!» – думала m lle Bourienne.
Ежели бы княжна Марья в состоянии была думать в эту минуту, она еще более, чем m lle Bourienne, удивилась бы перемене, происшедшей в ней. С той минуты как она увидала это милое, любимое лицо, какая то новая сила жизни овладела ею и заставляла ее, помимо ее воли, говорить и действовать. Лицо ее, с того времени как вошел Ростов, вдруг преобразилось. Как вдруг с неожиданной поражающей красотой выступает на стенках расписного и резного фонаря та сложная искусная художественная работа, казавшаяся прежде грубою, темною и бессмысленною, когда зажигается свет внутри: так вдруг преобразилось лицо княжны Марьи. В первый раз вся та чистая духовная внутренняя работа, которою она жила до сих пор, выступила наружу. Вся ее внутренняя, недовольная собой работа, ее страдания, стремление к добру, покорность, любовь, самопожертвование – все это светилось теперь в этих лучистых глазах, в тонкой улыбке, в каждой черте ее нежного лица.
Ростов увидал все это так же ясно, как будто он знал всю ее жизнь. Он чувствовал, что существо, бывшее перед ним, было совсем другое, лучшее, чем все те, которые он встречал до сих пор, и лучшее, главное, чем он сам.
Разговор был самый простой и незначительный. Они говорили о войне, невольно, как и все, преувеличивая свою печаль об этом событии, говорили о последней встрече, причем Николай старался отклонять разговор на другой предмет, говорили о доброй губернаторше, о родных Николая и княжны Марьи.
Княжна Марья не говорила о брате, отвлекая разговор на другой предмет, как только тетка ее заговаривала об Андрее. Видно было, что о несчастиях России она могла говорить притворно, но брат ее был предмет, слишком близкий ее сердцу, и она не хотела и не могла слегка говорить о нем. Николай заметил это, как он вообще с несвойственной ему проницательной наблюдательностью замечал все оттенки характера княжны Марьи, которые все только подтверждали его убеждение, что она была совсем особенное и необыкновенное существо. Николай, точно так же, как и княжна Марья, краснел и смущался, когда ему говорили про княжну и даже когда он думал о ней, но в ее присутствии чувствовал себя совершенно свободным и говорил совсем не то, что он приготавливал, а то, что мгновенно и всегда кстати приходило ему в голову.
Во время короткого визита Николая, как и всегда, где есть дети, в минуту молчания Николай прибег к маленькому сыну князя Андрея, лаская его и спрашивая, хочет ли он быть гусаром? Он взял на руки мальчика, весело стал вертеть его и оглянулся на княжну Марью. Умиленный, счастливый и робкий взгляд следил за любимым ею мальчиком на руках любимого человека. Николай заметил и этот взгляд и, как бы поняв его значение, покраснел от удовольствия и добродушно весело стал целовать мальчика.
Княжна Марья не выезжала по случаю траура, а Николай не считал приличным бывать у них; но губернаторша все таки продолжала свое дело сватовства и, передав Николаю то лестное, что сказала про него княжна Марья, и обратно, настаивала на том, чтобы Ростов объяснился с княжной Марьей. Для этого объяснения она устроила свиданье между молодыми людьми у архиерея перед обедней.
Хотя Ростов и сказал губернаторше, что он не будет иметь никакого объяснения с княжной Марьей, но он обещался приехать.
Как в Тильзите Ростов не позволил себе усомниться в том, хорошо ли то, что признано всеми хорошим, точно так же и теперь, после короткой, но искренней борьбы между попыткой устроить свою жизнь по своему разуму и смиренным подчинением обстоятельствам, он выбрал последнее и предоставил себя той власти, которая его (он чувствовал) непреодолимо влекла куда то. Он знал, что, обещав Соне, высказать свои чувства княжне Марье было бы то, что он называл подлость. И он знал, что подлости никогда не сделает. Но он знал тоже (и не то, что знал, а в глубине души чувствовал), что, отдаваясь теперь во власть обстоятельств и людей, руководивших им, он не только не делает ничего дурного, но делает что то очень, очень важное, такое важное, чего он еще никогда не делал в жизни.
После его свиданья с княжной Марьей, хотя образ жизни его наружно оставался тот же, но все прежние удовольствия потеряли для него свою прелесть, и он часто думал о княжне Марье; но он никогда не думал о ней так, как он без исключения думал о всех барышнях, встречавшихся ему в свете, не так, как он долго и когда то с восторгом думал о Соне. О всех барышнях, как и почти всякий честный молодой человек, он думал как о будущей жене, примеривал в своем воображении к ним все условия супружеской жизни: белый капот, жена за самоваром, женина карета, ребятишки, maman и papa, их отношения с ней и т. д., и т. д., и эти представления будущего доставляли ему удовольствие; но когда он думал о княжне Марье, на которой его сватали, он никогда не мог ничего представить себе из будущей супружеской жизни. Ежели он и пытался, то все выходило нескладно и фальшиво. Ему только становилось жутко.
Страшное известие о Бородинском сражении, о наших потерях убитыми и ранеными, а еще более страшное известие о потере Москвы были получены в Воронеже в половине сентября. Княжна Марья, узнав только из газет о ране брата и не имея о нем никаких определенных сведений, собралась ехать отыскивать князя Андрея, как слышал Николай (сам же он не видал ее).
Получив известие о Бородинском сражении и об оставлении Москвы, Ростов не то чтобы испытывал отчаяние, злобу или месть и тому подобные чувства, но ему вдруг все стало скучно, досадно в Воронеже, все как то совестно и неловко. Ему казались притворными все разговоры, которые он слышал; он не знал, как судить про все это, и чувствовал, что только в полку все ему опять станет ясно. Он торопился окончанием покупки лошадей и часто несправедливо приходил в горячность с своим слугой и вахмистром.
Несколько дней перед отъездом Ростова в соборе было назначено молебствие по случаю победы, одержанной русскими войсками, и Николай поехал к обедне. Он стал несколько позади губернатора и с служебной степенностью, размышляя о самых разнообразных предметах, выстоял службу. Когда молебствие кончилось, губернаторша подозвала его к себе.
– Ты видел княжну? – сказала она, головой указывая на даму в черном, стоявшую за клиросом.
Николай тотчас же узнал княжну Марью не столько по профилю ее, который виднелся из под шляпы, сколько по тому чувству осторожности, страха и жалости, которое тотчас же охватило его. Княжна Марья, очевидно погруженная в свои мысли, делала последние кресты перед выходом из церкви.
Николай с удивлением смотрел на ее лицо. Это было то же лицо, которое он видел прежде, то же было в нем общее выражение тонкой, внутренней, духовной работы; но теперь оно было совершенно иначе освещено. Трогательное выражение печали, мольбы и надежды было на нем. Как и прежде бывало с Николаем в ее присутствии, он, не дожидаясь совета губернаторши подойти к ней, не спрашивая себя, хорошо ли, прилично ли или нет будет его обращение к ней здесь, в церкви, подошел к ней и сказал, что он слышал о ее горе и всей душой соболезнует ему. Едва только она услыхала его голос, как вдруг яркий свет загорелся в ее лице, освещая в одно и то же время и печаль ее, и радость.
– Я одно хотел вам сказать, княжна, – сказал Ростов, – это то, что ежели бы князь Андрей Николаевич не был бы жив, то, как полковой командир, в газетах это сейчас было бы объявлено.
Княжна смотрела на него, не понимая его слов, но радуясь выражению сочувствующего страдания, которое было в его лице.
– И я столько примеров знаю, что рана осколком (в газетах сказано гранатой) бывает или смертельна сейчас же, или, напротив, очень легкая, – говорил Николай. – Надо надеяться на лучшее, и я уверен…
Княжна Марья перебила его.
– О, это было бы так ужа… – начала она и, не договорив от волнения, грациозным движением (как и все, что она делала при нем) наклонив голову и благодарно взглянув на него, пошла за теткой.
Вечером этого дня Николай никуда не поехал в гости и остался дома, с тем чтобы покончить некоторые счеты с продавцами лошадей. Когда он покончил дела, было уже поздно, чтобы ехать куда нибудь, но было еще рано, чтобы ложиться спать, и Николай долго один ходил взад и вперед по комнате, обдумывая свою жизнь, что с ним редко случалось.
Княжна Марья произвела на него приятное впечатление под Смоленском. То, что он встретил ее тогда в таких особенных условиях, и то, что именно на нее одно время его мать указывала ему как на богатую партию, сделали то, что он обратил на нее особенное внимание. В Воронеже, во время его посещения, впечатление это было не только приятное, но сильное. Николай был поражен той особенной, нравственной красотой, которую он в этот раз заметил в ней. Однако он собирался уезжать, и ему в голову не приходило пожалеть о том, что уезжая из Воронежа, он лишается случая видеть княжну. Но нынешняя встреча с княжной Марьей в церкви (Николай чувствовал это) засела ему глубже в сердце, чем он это предвидел, и глубже, чем он желал для своего спокойствия. Это бледное, тонкое, печальное лицо, этот лучистый взгляд, эти тихие, грациозные движения и главное – эта глубокая и нежная печаль, выражавшаяся во всех чертах ее, тревожили его и требовали его участия. В мужчинах Ростов терпеть не мог видеть выражение высшей, духовной жизни (оттого он не любил князя Андрея), он презрительно называл это философией, мечтательностью; но в княжне Марье, именно в этой печали, выказывавшей всю глубину этого чуждого для Николая духовного мира, он чувствовал неотразимую привлекательность.
«Чудная должна быть девушка! Вот именно ангел! – говорил он сам с собою. – Отчего я не свободен, отчего я поторопился с Соней?» И невольно ему представилось сравнение между двумя: бедность в одной и богатство в другой тех духовных даров, которых не имел Николай и которые потому он так высоко ценил. Он попробовал себе представить, что бы было, если б он был свободен. Каким образом он сделал бы ей предложение и она стала бы его женою? Нет, он не мог себе представить этого. Ему делалось жутко, и никакие ясные образы не представлялись ему. С Соней он давно уже составил себе будущую картину, и все это было просто и ясно, именно потому, что все это было выдумано, и он знал все, что было в Соне; но с княжной Марьей нельзя было себе представить будущей жизни, потому что он не понимал ее, а только любил.
Мечтания о Соне имели в себе что то веселое, игрушечное. Но думать о княжне Марье всегда было трудно и немного страшно.
«Как она молилась! – вспомнил он. – Видно было, что вся душа ее была в молитве. Да, это та молитва, которая сдвигает горы, и я уверен, что молитва ее будет исполнена. Отчего я не молюсь о том, что мне нужно? – вспомнил он. – Что мне нужно? Свободы, развязки с Соней. Она правду говорила, – вспомнил он слова губернаторши, – кроме несчастья, ничего не будет из того, что я женюсь на ней. Путаница, горе maman… дела… путаница, страшная путаница! Да я и не люблю ее. Да, не так люблю, как надо. Боже мой! выведи меня из этого ужасного, безвыходного положения! – начал он вдруг молиться. – Да, молитва сдвинет гору, но надо верить и не так молиться, как мы детьми молились с Наташей о том, чтобы снег сделался сахаром, и выбегали на двор пробовать, делается ли из снегу сахар. Нет, но я не о пустяках молюсь теперь», – сказал он, ставя в угол трубку и, сложив руки, становясь перед образом. И, умиленный воспоминанием о княжне Марье, он начал молиться так, как он давно не молился. Слезы у него были на глазах и в горле, когда в дверь вошел Лаврушка с какими то бумагами.
– Дурак! что лезешь, когда тебя не спрашивают! – сказал Николай, быстро переменяя положение.
– От губернатора, – заспанным голосом сказал Лаврушка, – кульер приехал, письмо вам.
– Ну, хорошо, спасибо, ступай!
Николай взял два письма. Одно было от матери, другое от Сони. Он узнал их по почеркам и распечатал первое письмо Сони. Не успел он прочесть нескольких строк, как лицо его побледнело и глаза его испуганно и радостно раскрылись.
– Нет, это не может быть! – проговорил он вслух. Не в силах сидеть на месте, он с письмом в руках, читая его. стал ходить по комнате. Он пробежал письмо, потом прочел его раз, другой, и, подняв плечи и разведя руками, он остановился посреди комнаты с открытым ртом и остановившимися глазами. То, о чем он только что молился, с уверенностью, что бог исполнит его молитву, было исполнено; но Николай был удивлен этим так, как будто это было что то необыкновенное, и как будто он никогда не ожидал этого, и как будто именно то, что это так быстро совершилось, доказывало то, что это происходило не от бога, которого он просил, а от обыкновенной случайности.
Тот, казавшийся неразрешимым, узел, который связывал свободу Ростова, был разрешен этим неожиданным (как казалось Николаю), ничем не вызванным письмом Сони. Она писала, что последние несчастные обстоятельства, потеря почти всего имущества Ростовых в Москве, и не раз высказываемые желания графини о том, чтобы Николай женился на княжне Болконской, и его молчание и холодность за последнее время – все это вместе заставило ее решиться отречься от его обещаний и дать ему полную свободу.
«Мне слишком тяжело было думать, что я могу быть причиной горя или раздора в семействе, которое меня облагодетельствовало, – писала она, – и любовь моя имеет одною целью счастье тех, кого я люблю; и потому я умоляю вас, Nicolas, считать себя свободным и знать, что несмотря ни на что, никто сильнее не может вас любить, как ваша Соня».
Оба письма были из Троицы. Другое письмо было от графини. В письме этом описывались последние дни в Москве, выезд, пожар и погибель всего состояния. В письме этом, между прочим, графиня писала о том, что князь Андрей в числе раненых ехал вместе с ними. Положение его было очень опасно, но теперь доктор говорит, что есть больше надежды. Соня и Наташа, как сиделки, ухаживают за ним.
С этим письмом на другой день Николай поехал к княжне Марье. Ни Николай, ни княжна Марья ни слова не сказали о том, что могли означать слова: «Наташа ухаживает за ним»; но благодаря этому письму Николай вдруг сблизился с княжной в почти родственные отношения.
На другой день Ростов проводил княжну Марью в Ярославль и через несколько дней сам уехал в полк.
Письмо Сони к Николаю, бывшее осуществлением его молитвы, было написано из Троицы. Вот чем оно было вызвано. Мысль о женитьбе Николая на богатой невесте все больше и больше занимала старую графиню. Она знала, что Соня была главным препятствием для этого. И жизнь Сони последнее время, в особенности после письма Николая, описывавшего свою встречу в Богучарове с княжной Марьей, становилась тяжелее и тяжелее в доме графини. Графиня не пропускала ни одного случая для оскорбительного или жестокого намека Соне.
Но несколько дней перед выездом из Москвы, растроганная и взволнованная всем тем, что происходило, графиня, призвав к себе Соню, вместо упреков и требований, со слезами обратилась к ней с мольбой о том, чтобы она, пожертвовав собою, отплатила бы за все, что было для нее сделано, тем, чтобы разорвала свои связи с Николаем.
– Я не буду покойна до тех пор, пока ты мне не дашь этого обещания.
Соня разрыдалась истерически, отвечала сквозь рыдания, что она сделает все, что она на все готова, но не дала прямого обещания и в душе своей не могла решиться на то, чего от нее требовали. Надо было жертвовать собой для счастья семьи, которая вскормила и воспитала ее. Жертвовать собой для счастья других было привычкой Сони. Ее положение в доме было таково, что только на пути жертвованья она могла выказывать свои достоинства, и она привыкла и любила жертвовать собой. Но прежде во всех действиях самопожертвованья она с радостью сознавала, что она, жертвуя собой, этим самым возвышает себе цену в глазах себя и других и становится более достойною Nicolas, которого она любила больше всего в жизни; но теперь жертва ее должна была состоять в том, чтобы отказаться от того, что для нее составляло всю награду жертвы, весь смысл жизни. И в первый раз в жизни она почувствовала горечь к тем людям, которые облагодетельствовали ее для того, чтобы больнее замучить; почувствовала зависть к Наташе, никогда не испытывавшей ничего подобного, никогда не нуждавшейся в жертвах и заставлявшей других жертвовать себе и все таки всеми любимой. И в первый раз Соня почувствовала, как из ее тихой, чистой любви к Nicolas вдруг начинало вырастать страстное чувство, которое стояло выше и правил, и добродетели, и религии; и под влиянием этого чувства Соня невольно, выученная своею зависимою жизнью скрытности, в общих неопределенных словах ответив графине, избегала с ней разговоров и решилась ждать свидания с Николаем с тем, чтобы в этом свидании не освободить, но, напротив, навсегда связать себя с ним.
Хлопоты и ужас последних дней пребывания Ростовых в Москве заглушили в Соне тяготившие ее мрачные мысли. Она рада была находить спасение от них в практической деятельности. Но когда она узнала о присутствии в их доме князя Андрея, несмотря на всю искреннюю жалость, которую она испытала к нему и к Наташе, радостное и суеверное чувство того, что бог не хочет того, чтобы она была разлучена с Nicolas, охватило ее. Она знала, что Наташа любила одного князя Андрея и не переставала любить его. Она знала, что теперь, сведенные вместе в таких страшных условиях, они снова полюбят друг друга и что тогда Николаю вследствие родства, которое будет между ними, нельзя будет жениться на княжне Марье. Несмотря на весь ужас всего происходившего в последние дни и во время первых дней путешествия, это чувство, это сознание вмешательства провидения в ее личные дела радовало Соню.
В Троицкой лавре Ростовы сделали первую дневку в своем путешествии.
В гостинице лавры Ростовым были отведены три большие комнаты, из которых одну занимал князь Андрей. Раненому было в этот день гораздо лучше. Наташа сидела с ним. В соседней комнате сидели граф и графиня, почтительно беседуя с настоятелем, посетившим своих давнишних знакомых и вкладчиков. Соня сидела тут же, и ее мучило любопытство о том, о чем говорили князь Андрей с Наташей. Она из за двери слушала звуки их голосов. Дверь комнаты князя Андрея отворилась. Наташа с взволнованным лицом вышла оттуда и, не замечая приподнявшегося ей навстречу и взявшегося за широкий рукав правой руки монаха, подошла к Соне и взяла ее за руку.
– Наташа, что ты? Поди сюда, – сказала графиня.
Наташа подошла под благословенье, и настоятель посоветовал обратиться за помощью к богу и его угоднику.
Тотчас после ухода настоятеля Нашата взяла за руку свою подругу и пошла с ней в пустую комнату.
– Соня, да? он будет жив? – сказала она. – Соня, как я счастлива и как я несчастна! Соня, голубчик, – все по старому. Только бы он был жив. Он не может… потому что, потому… что… – И Наташа расплакалась.
– Так! Я знала это! Слава богу, – проговорила Соня. – Он будет жив!
Соня была взволнована не меньше своей подруги – и ее страхом и горем, и своими личными, никому не высказанными мыслями. Она, рыдая, целовала, утешала Наташу. «Только бы он был жив!» – думала она. Поплакав, поговорив и отерев слезы, обе подруги подошли к двери князя Андрея. Наташа, осторожно отворив двери, заглянула в комнату. Соня рядом с ней стояла у полуотворенной двери.
Князь Андрей лежал высоко на трех подушках. Бледное лицо его было покойно, глаза закрыты, и видно было, как он ровно дышал.
– Ах, Наташа! – вдруг почти вскрикнула Соня, хватаясь за руку своей кузины и отступая от двери.
– Что? что? – спросила Наташа.
– Это то, то, вот… – сказала Соня с бледным лицом и дрожащими губами.
Наташа тихо затворила дверь и отошла с Соней к окну, не понимая еще того, что ей говорили.
– Помнишь ты, – с испуганным и торжественным лицом говорила Соня, – помнишь, когда я за тебя в зеркало смотрела… В Отрадном, на святках… Помнишь, что я видела?..
– Да, да! – широко раскрывая глаза, сказала Наташа, смутно вспоминая, что тогда Соня сказала что то о князе Андрее, которого она видела лежащим.
– Помнишь? – продолжала Соня. – Я видела тогда и сказала всем, и тебе, и Дуняше. Я видела, что он лежит на постели, – говорила она, при каждой подробности делая жест рукою с поднятым пальцем, – и что он закрыл глаза, и что он покрыт именно розовым одеялом, и что он сложил руки, – говорила Соня, убеждаясь, по мере того как она описывала виденные ею сейчас подробности, что эти самые подробности она видела тогда. Тогда она ничего не видела, но рассказала, что видела то, что ей пришло в голову; но то, что она придумала тогда, представлялось ей столь же действительным, как и всякое другое воспоминание. То, что она тогда сказала, что он оглянулся на нее и улыбнулся и был покрыт чем то красным, она не только помнила, но твердо была убеждена, что еще тогда она сказала и видела, что он был покрыт розовым, именно розовым одеялом, и что глаза его были закрыты.
– Да, да, именно розовым, – сказала Наташа, которая тоже теперь, казалось, помнила, что было сказано розовым, и в этом самом видела главную необычайность и таинственность предсказания.
– Но что же это значит? – задумчиво сказала Наташа.
– Ах, я не знаю, как все это необычайно! – сказала Соня, хватаясь за голову.
Через несколько минут князь Андрей позвонил, и Наташа вошла к нему; а Соня, испытывая редко испытанное ею волнение и умиление, осталась у окна, обдумывая всю необычайность случившегося.
В этот день был случай отправить письма в армию, и графиня писала письмо сыну.
– Соня, – сказала графиня, поднимая голову от письма, когда племянница проходила мимо нее. – Соня, ты не напишешь Николеньке? – сказала графиня тихим, дрогнувшим голосом, и во взгляде ее усталых, смотревших через очки глаз Соня прочла все, что разумела графиня этими словами. В этом взгляде выражались и мольба, и страх отказа, и стыд за то, что надо было просить, и готовность на непримиримую ненависть в случае отказа.
Соня подошла к графине и, став на колени, поцеловала ее руку.
– Я напишу, maman, – сказала она.
Соня была размягчена, взволнована и умилена всем тем, что происходило в этот день, в особенности тем таинственным совершением гаданья, которое она сейчас видела. Теперь, когда она знала, что по случаю возобновления отношений Наташи с князем Андреем Николай не мог жениться на княжне Марье, она с радостью почувствовала возвращение того настроения самопожертвования, в котором она любила и привыкла жить. И со слезами на глазах и с радостью сознания совершения великодушного поступка она, несколько раз прерываясь от слез, которые отуманивали ее бархатные черные глаза, написала то трогательное письмо, получение которого так поразило Николая.
На гауптвахте, куда был отведен Пьер, офицер и солдаты, взявшие его, обращались с ним враждебно, но вместе с тем и уважительно. Еще чувствовалось в их отношении к нему и сомнение о том, кто он такой (не очень ли важный человек), и враждебность вследствие еще свежей их личной борьбы с ним.
Но когда, в утро другого дня, пришла смена, то Пьер почувствовал, что для нового караула – для офицеров и солдат – он уже не имел того смысла, который имел для тех, которые его взяли. И действительно, в этом большом, толстом человеке в мужицком кафтане караульные другого дня уже не видели того живого человека, который так отчаянно дрался с мародером и с конвойными солдатами и сказал торжественную фразу о спасении ребенка, а видели только семнадцатого из содержащихся зачем то, по приказанию высшего начальства, взятых русских. Ежели и было что нибудь особенное в Пьере, то только его неробкий, сосредоточенно задумчивый вид и французский язык, на котором он, удивительно для французов, хорошо изъяснялся. Несмотря на то, в тот же день Пьера соединили с другими взятыми подозрительными, так как отдельная комната, которую он занимал, понадобилась офицеру.
Все русские, содержавшиеся с Пьером, были люди самого низкого звания. И все они, узнав в Пьере барина, чуждались его, тем более что он говорил по французски. Пьер с грустью слышал над собою насмешки.
На другой день вечером Пьер узнал, что все эти содержащиеся (и, вероятно, он в том же числе) должны были быть судимы за поджигательство. На третий день Пьера водили с другими в какой то дом, где сидели французский генерал с белыми усами, два полковника и другие французы с шарфами на руках. Пьеру, наравне с другими, делали с той, мнимо превышающею человеческие слабости, точностью и определительностью, с которой обыкновенно обращаются с подсудимыми, вопросы о том, кто он? где он был? с какою целью? и т. п.
Вопросы эти, оставляя в стороне сущность жизненного дела и исключая возможность раскрытия этой сущности, как и все вопросы, делаемые на судах, имели целью только подставление того желобка, по которому судящие желали, чтобы потекли ответы подсудимого и привели его к желаемой цели, то есть к обвинению. Как только он начинал говорить что нибудь такое, что не удовлетворяло цели обвинения, так принимали желобок, и вода могла течь куда ей угодно. Кроме того, Пьер испытал то же, что во всех судах испытывает подсудимый: недоумение, для чего делали ему все эти вопросы. Ему чувствовалось, что только из снисходительности или как бы из учтивости употреблялась эта уловка подставляемого желобка. Он знал, что находился во власти этих людей, что только власть привела его сюда, что только власть давала им право требовать ответы на вопросы, что единственная цель этого собрания состояла в том, чтоб обвинить его. И поэтому, так как была власть и было желание обвинить, то не нужно было и уловки вопросов и суда. Очевидно было, что все ответы должны были привести к виновности. На вопрос, что он делал, когда его взяли, Пьер отвечал с некоторою трагичностью, что он нес к родителям ребенка, qu'il avait sauve des flammes [которого он спас из пламени]. – Для чего он дрался с мародером? Пьер отвечал, что он защищал женщину, что защита оскорбляемой женщины есть обязанность каждого человека, что… Его остановили: это не шло к делу. Для чего он был на дворе загоревшегося дома, на котором его видели свидетели? Он отвечал, что шел посмотреть, что делалось в Москве. Его опять остановили: у него не спрашивали, куда он шел, а для чего он находился подле пожара? Кто он? повторили ему первый вопрос, на который он сказал, что не хочет отвечать. Опять он отвечал, что не может сказать этого.
– Запишите, это нехорошо. Очень нехорошо, – строго сказал ему генерал с белыми усами и красным, румяным лицом.
На четвертый день пожары начались на Зубовском валу.
Пьера с тринадцатью другими отвели на Крымский Брод, в каретный сарай купеческого дома. Проходя по улицам, Пьер задыхался от дыма, который, казалось, стоял над всем городом. С разных сторон виднелись пожары. Пьер тогда еще не понимал значения сожженной Москвы и с ужасом смотрел на эти пожары.
В каретном сарае одного дома у Крымского Брода Пьер пробыл еще четыре дня и во время этих дней из разговора французских солдат узнал, что все содержащиеся здесь ожидали с каждым днем решения маршала. Какого маршала, Пьер не мог узнать от солдат. Для солдата, очевидно, маршал представлялся высшим и несколько таинственным звеном власти.
Эти первые дни, до 8 го сентября, – дня, в который пленных повели на вторичный допрос, были самые тяжелые для Пьера.
Х
8 го сентября в сарай к пленным вошел очень важный офицер, судя по почтительности, с которой с ним обращались караульные. Офицер этот, вероятно, штабный, с списком в руках, сделал перекличку всем русским, назвав Пьера: celui qui n'avoue pas son nom [тот, который не говорит своего имени]. И, равнодушно и лениво оглядев всех пленных, он приказал караульному офицеру прилично одеть и прибрать их, прежде чем вести к маршалу. Через час прибыла рота солдат, и Пьера с другими тринадцатью повели на Девичье поле. День был ясный, солнечный после дождя, и воздух был необыкновенно чист. Дым не стлался низом, как в тот день, когда Пьера вывели из гауптвахты Зубовского вала; дым поднимался столбами в чистом воздухе. Огня пожаров нигде не было видно, но со всех сторон поднимались столбы дыма, и вся Москва, все, что только мог видеть Пьер, было одно пожарище. Со всех сторон виднелись пустыри с печами и трубами и изредка обгорелые стены каменных домов. Пьер приглядывался к пожарищам и не узнавал знакомых кварталов города. Кое где виднелись уцелевшие церкви. Кремль, неразрушенный, белел издалека с своими башнями и Иваном Великим. Вблизи весело блестел купол Ново Девичьего монастыря, и особенно звонко слышался оттуда благовест. Благовест этот напомнил Пьеру, что было воскресенье и праздник рождества богородицы. Но казалось, некому было праздновать этот праздник: везде было разоренье пожарища, и из русского народа встречались только изредка оборванные, испуганные люди, которые прятались при виде французов.
Очевидно, русское гнездо было разорено и уничтожено; но за уничтожением этого русского порядка жизни Пьер бессознательно чувствовал, что над этим разоренным гнездом установился свой, совсем другой, но твердый французский порядок. Он чувствовал это по виду тех, бодро и весело, правильными рядами шедших солдат, которые конвоировали его с другими преступниками; он чувствовал это по виду какого то важного французского чиновника в парной коляске, управляемой солдатом, проехавшего ему навстречу. Он это чувствовал по веселым звукам полковой музыки, доносившимся с левой стороны поля, и в особенности он чувствовал и понимал это по тому списку, который, перекликая пленных, прочел нынче утром приезжавший французский офицер. Пьер был взят одними солдатами, отведен в одно, в другое место с десятками других людей; казалось, они могли бы забыть про него, смешать его с другими. Но нет: ответы его, данные на допросе, вернулись к нему в форме наименования его: celui qui n'avoue pas son nom. И под этим названием, которое страшно было Пьеру, его теперь вели куда то, с несомненной уверенностью, написанною на их лицах, что все остальные пленные и он были те самые, которых нужно, и что их ведут туда, куда нужно. Пьер чувствовал себя ничтожной щепкой, попавшей в колеса неизвестной ему, но правильно действующей машины.
Пьера с другими преступниками привели на правую сторону Девичьего поля, недалеко от монастыря, к большому белому дому с огромным садом. Это был дом князя Щербатова, в котором Пьер часто прежде бывал у хозяина и в котором теперь, как он узнал из разговора солдат, стоял маршал, герцог Экмюльский.
Их подвели к крыльцу и по одному стали вводить в дом. Пьера ввели шестым. Через стеклянную галерею, сени, переднюю, знакомые Пьеру, его ввели в длинный низкий кабинет, у дверей которого стоял адъютант.
Даву сидел на конце комнаты над столом, с очками на носу. Пьер близко подошел к нему. Даву, не поднимая глаз, видимо справлялся с какой то бумагой, лежавшей перед ним. Не поднимая же глаз, он тихо спросил:
– Qui etes vous? [Кто вы такой?]
Пьер молчал оттого, что не в силах был выговорить слова. Даву для Пьера не был просто французский генерал; для Пьера Даву был известный своей жестокостью человек. Глядя на холодное лицо Даву, который, как строгий учитель, соглашался до времени иметь терпение и ждать ответа, Пьер чувствовал, что всякая секунда промедления могла стоить ему жизни; но он не знал, что сказать. Сказать то же, что он говорил на первом допросе, он не решался; открыть свое звание и положение было и опасно и стыдно. Пьер молчал. Но прежде чем Пьер успел на что нибудь решиться, Даву приподнял голову, приподнял очки на лоб, прищурил глаза и пристально посмотрел на Пьера.
– Я знаю этого человека, – мерным, холодным голосом, очевидно рассчитанным для того, чтобы испугать Пьера, сказал он. Холод, пробежавший прежде по спине Пьера, охватил его голову, как тисками.