Галльская война
| Галльская война | |||
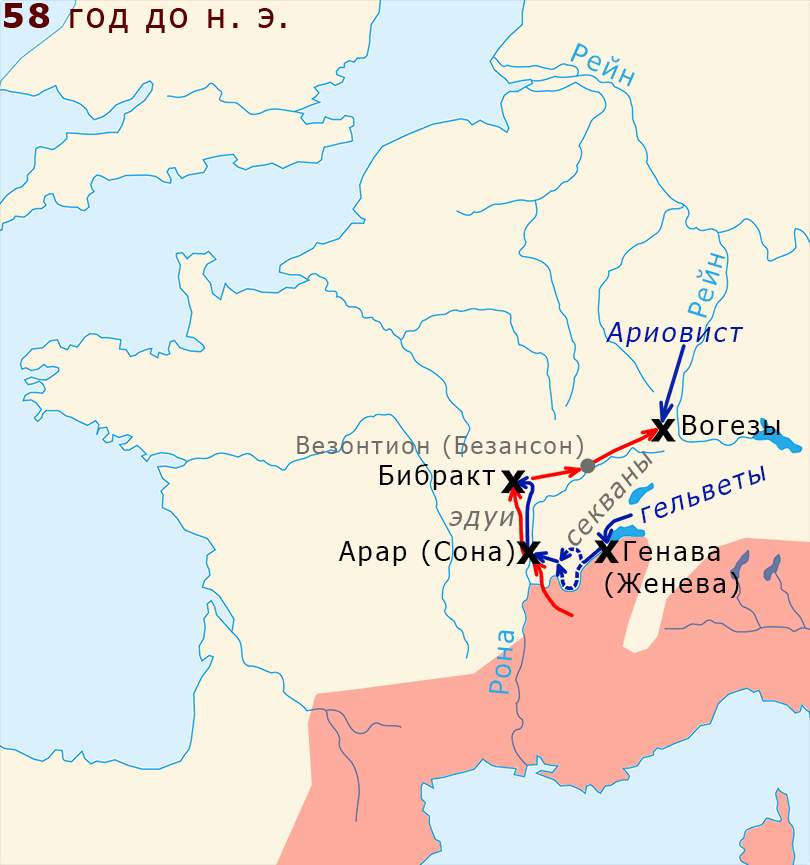 Галльская война (анимированная карта с шагом 4 секунды)
— Римская республика к началу войны↗ — действия Цезаря | |||
| Дата | |||
|---|---|---|---|
| Место | |||
| Итог |
победа Римской республики, присоединение Галлии к римским владениям | ||
| Противники | |||
| |||
| Командующие | |||
| |||
| Силы сторон | |||
| |||
| Потери | |||
| |||
Галльская война (лат. Bellum Gallicum; нередко говорят о галльских войнах во множественном числе) — протекавший в несколько этапов конфликт Римской республики с галльскими племенами (58—50 до н. э.), закончившийся покорением последних.
Войдя в Галлию по приглашению местных племён, Гай Юлий Цезарь постепенно подчинил все их земли и подавил ряд освободительных восстаний, включая всеобщее выступление галлов в 52 году до н. э. Кроме того, он дважды совершал походы в Германию и Британию с карательными, завоевательными и показательными целями. Постоянно сталкиваясь с превосходящими силами галлов, полководец неоднократно применял тактические хитрости и уловки, использовал сложные инженерные сооружения, а в кульминационной операции войны — осаде Алезии — одновременно разбил защитников города и пришедшие им на помощь подкрепления. По итогам войны к Римской республике была присоединена территория площадью в 500 тысяч квадратных километров, которую населяло несколько миллионов человек. Благодаря своим победам Цезарь добился популярности в Риме и сумел накопить огромные богатства, что позволило ему успешно начать гражданскую войну в 49 году до н. э.
Военные действия описаны Цезарем в подробных «Записках о Галльской войне». С подъёмом национализма в XIX веке война начала трактоваться во Франции как одно из важнейших событий национальной истории, а вождь восставших против Рима галлов Верцингеториг стал считаться одним из величайших героев Франции.
Содержание
- 1 Предыстория войны
- 2 Исторические источники
- 3 Кампания 58 года до н. э.
- 4 Кампания 57 года до н. э.
- 5 Кампания 56 года до н. э.
- 6 Кампания 55 года до н. э.
- 7 Кампания 54 года до н. э.
- 8 Кампания 53 года до н. э.
- 9 Кампания 52 года до н. э.
- 10 События 51 и 50 годов до н. э.
- 11 Итоги
- 12 Галльская война в культуре
- 13 Комментарии и цитаты
- 14 Примечания
- 15 Источники
- 16 Литература
Предыстория войны
Галлия к началу войны
В середине I века до н. э. римляне относили к независимой Галлии три территории: Аквитанию, Белгию[коммент. 2] и собственно Галлию. Население этих земель к 50-м годам до н. э. неизвестно. По различным оценкам, оно составляло 4-5[2], 5-10[3], 10-15[4] или 15-20 миллионов человек[5]. Большую часть населения составляли племена, говорившие на языках кельтской группы, а племена Аквитании, вероятно, пользовались языками, близкими к баскскому, то есть принадлежали к доиндоевропейскому населению Европы. Этническая и языковая принадлежность белгских племён неясна. Их считают как кельтскими, так и смешанными кельто-германскими народами[6][коммент. 3]. Впрочем, в римскую эпоху между кельтскими и германскими народами могло быть значительно больше общего, чем в настоящее время, и различия были не такими серьёзными, как представляют источники[7].
С политической точки зрения Галлия не была единым целым. Ещё до начала Галльской войны за влияние среди племён боролись белгско-британский союз и конфедерация во главе с арвернами, а к её началу наибольшее политическое значение имело противостояние союзных Риму эдуев против секванов. В большинстве других племён были как сторонники сближения с эдуями (и, соответственно, с Римом), так и их оппоненты[8]. Впрочем, почти вся информация о политическом развитии Галлии и об отношениях между племенами известна только из «Записок о Галльской войне» Цезаря. Незадолго до начала Галльской войны из-за Рейна по призыву племени секванов прибыл Ариовист с германскими наёмниками. Вскоре Ариовист обратил оружие против призвавших его секванов и отнял у них часть территории, а на занятые земли призвал германцев. Кельты опасались, что Ариовист может продолжить захват галльских территорий, но не могли ничего предпринять; по одной из версий, именно для изгнания Ариовиста были призваны гельветы (см. ниже).
В южной части современной Франции в 121 году до н. э.[9] (по другой версии, в 118 году до н. э.[10]) римляне организовали провинцию Нарбонская Галлия. Эта территория была в основном населена кельтскими племенами, которые поддерживали тесные связи со своими соплеменниками на севере. До Кимврской войны присутствие римлян в провинции было номинальным. Впрочем, вскоре нехватка земель в Италии подтолкнула римлян и италиков к освоению территорий Нарбонской Галлии. Уже к 80-м годам до н. э. римляне активно занимались земледелием и животноводством в провинции, а к 60-м годам до н. э. известно о многочисленных конфискациях ими пахотных земель и пастбищ. Кроме того, римляне стали полностью доминировать в финансовой сфере провинции[11]:
«…вся Галлия наполнена негоциантами из римских граждан, ни один сестерций в Галлии не может шевельнуться, не оставляя следа в кассовых книгах римских граждан…»
— Цицерон. Речь за Фонтея, II, 11[12].
Переселение гельветов
В конце 60-х годов до н. э. старейшины кельтского племени гельветов, проживавшего на территории современной Швейцарии, приняли решение переселиться подальше от границы с германскими племенами. Первые переселенцы из числа гельветов и их союзников покинули родину ещё раньше и обосновались, вероятно, в Нарбонской Галлии, но эта была эмиграция отдельных семей и малых общин, а не целых племён[13]. Конечной целью основной массы эмигрантов, возможно, были земли сантонов (между Гаронной и Луарой), с которыми мигрирующее племя связывали давние дружеские отношения[14].
Цезарь в «Записках о Галльской войне» приписывает инициативу переселения Оргеторигу[en], а в качестве мотивировки указывает на желание гельветов подчинить себе всю Галлию:
«У гельветов первое место по своей знатности и богатству занимал Оргеториг. Страстно стремясь к царской власти, он [в 61 году до н. э.] вступил в тайное соглашение со знатью и убедил общину выселиться всем народом из своей земли: так как гельветы, говорил он, превосходят всех своей храбростью, то им нетрудно овладеть верховной властью над всей Галлией».
— Цезарь. Записки о Галльской войне, I, 2. Здесь и далее «Записки о Галльской войне» цитируются в переводе М. М. Покровского.
Современные историки предполагают, что решающим фактором для переселения гельветов была угроза со стороны германцев, которые расширяли своё влияние в Галлии после их призыва племенем секванов[15]. Восприятие же римлянами гельветов как потенциальных захватчиков всей Галлии, вероятно, было следствием воздействия союзных Риму эдуев[16], а приписанное ими гельветам желание основать Галльскую империю вполне могло быть и тайным желанием самих эдуев[17].
Нередко высказывается предположение, что реальная подоплёка событий, связанных с массовым исходом галлов с территории современной Швейцарии, была намного глубже. Например, Гульельмо Ферреро рассматривает кампанию против гельветов как результат внутренней борьбы двух противоборствующих группировок, возглавляемых двумя эдуями, братьями Думноригом и Дивитиаком соответственно. Итальянский историк упрощённо называет две группировки, чьи сторонники имелись в каждом галльском племени, «романофилами» и «национальной партией». По его мнению, сперва последняя группировка сумела договориться с воинственными гельветами о помощи в изгнании Ариовиста в обмен на земли в основной части Галлии. Согласно этой версии, вся кампания Цезаря против гельветов была провокацией «романофилов» и использованием для борьбы против Ариовиста именно римлян[18].
Оценка Цезарем численности всех переселенцев в 368 тысяч человек явно завышена с целью произвести впечатление на римлян[15]. Гульельмо Ферреро оценивает численность всех эмигрантов в 150 тысяч, сомневаясь в правдивости подозрительно точных вычислений Цезаря и ссылаясь на Орозия, использовавшего другой источник информации[19]. Итальянский историк также присоединяется к мнению, что, вопреки уверениям Цезаря, эмигрировали не все гельветы, а только часть из них: согласно подсчётам Ганса Раухенштайна, 360 тысяч гельветов вместе с обозом с продовольствием на три месяца должны были образовать многокилометровый караван, чрезвычайно уязвимый для нападения[20].
Цезарь — новый проконсул
 В 59 году до н. э. консул Гай Юлий Цезарь получил право управлять в качестве наместника тремя провинциями — Нарбонской Галлией, Цизальпийской Галлией и Иллириком — на пять следующих лет вместо традиционного одного года. Первоначально Цезарь должен был получить только Цизальпийскую Галлию и Иллирик, но в год его консулата неожиданно скончался назначенный наместник Нарбонской Галлии Квинт Цецилий Метелл Целер, и сенат передал его провинцию Гаю[7].
В 59 году до н. э. консул Гай Юлий Цезарь получил право управлять в качестве наместника тремя провинциями — Нарбонской Галлией, Цизальпийской Галлией и Иллириком — на пять следующих лет вместо традиционного одного года. Первоначально Цезарь должен был получить только Цизальпийскую Галлию и Иллирик, но в год его консулата неожиданно скончался назначенный наместник Нарбонской Галлии Квинт Цецилий Метелл Целер, и сенат передал его провинцию Гаю[7].
Проконсул, вступивший в должность 1 января 58 года до н. э., обладал всей властью в трёх провинциях и располагал четырьмя легионами (номера VII, VIII, IX и X). Кроме того, он командовал вспомогательными отрядами: вероятно, это были балеарские пращники, нумидийские и критские лучники, испанская кавалерия. К каждому легиону прикреплялись также военные инженеры (лат. fabri) и обоз в 500—600 лошадей и мулов с погонщиками. Руководство каждым легионом осуществляли трибуны (по шесть человек на один легион), но полководец мог назначить легата для командования одним или несколькими легионами в отдельных операциях. Со всеми вспомогательными войсками начальная численность армии Цезаря достигала 20 тысяч человек[21].
Нередко Цезарю приписываются планы, основанные на будущих событиях (полное подчинение Галлии, война с Помпеем и узурпация власти в Риме). Так, по мнению Вильгельма Друмана, Цезарь задумывал всю Галльскую войну для подготовки грядущей войны гражданской и установления монархии в Риме, что он якобы планировал с молодости[22]. Эдуард Мейер же приписывал Цезарю стремление повторить подвиги Александра Македонского[23]. Однако существуют доводы против серьёзности намерений Цезаря, поскольку в жизни Цезаря подготовку такого крупного мероприятия ничего не предвещало. Во-первых, к началу похода Гай не был хорошо осведомлён о событиях в Галлии, о её географии и этнографии[24], и долгое время он полагался только на свидетельства римских купцов и галльской знати. Во-вторых, он практически не имел опыта командования войсками. Традиционно римские нобили сперва участвовали в военных кампаниях под руководством действующих наместников провинций или отдельных полководцев, и только после претуры или консульства получали самостоятельное назначение (современник и союзник Цезаря Гней Помпей был самым известным исключением). Вся военная карьера Гая к началу 58 года до н. э. была весьма краткой по римским меркам: в начале 70-х годов до н. э. он лично участвовал в штурме Митилен, в середине десятилетия возглавил нападение на захвативших его пиратов и предпринял какие-то действия для изгнания авангарда Митридата VI из провинции Азия, а детали его кампании в Дальней Испании почти не освещены в источниках, за исключением неудачной попытки получения права на триумф. Гай Саллюстий Крисп, описывая Цезаря в сочинении «О заговоре Катилины», не упоминает о его военных достижениях, однако пишет о больших планах в этом направлении. Тем не менее, Юлий познакомился с обязанностями полководцев на войне, когда был контуберналом[коммент. 4] у Марка Минуция Терма. Кроме того, он наверняка читал греческие и римские военные трактаты[25]. Таким образом, к 58 году до н. э. репутации полководца за Цезарем не сложилось, и он был известен прежде всего как публичный политик, хотя и имевший серьёзные амбиции на своё проконсульство.
Возможно, первоначальной целью завоеваний Цезаря, на которые он возлагал большие надежды, была не Галлия, а Иллирик: едва ли случайностью было расположение большей части его войск в Аквилее, недалеко от границы Иллирика с варварским миром. В этом случае начало массовой эмиграции гельветов стало для Цезаря поводом изменить первоначальные планы по захвату Балканского полуострова. Вторжение на Балканы могло задумываться Цезарем ещё раньше, тем более что ситуация в Нарбонской Галлии в середине 60-х годов до н. э. была спокойной. Впрочем, ситуация изменилась с приходом в Галлию Ариовиста и расширением его амбиций (см. выше)[25]. По мнению Томаса Райс-Холмса, Цезарь рассматривал именно германцев своим главным противником[21].
Цезарь наверняка знал о планах эмиграции гельветов. Вскоре после того, как галльское племя начало подготовку к переселению, посол союзного римлянам племени эдуев Дивитиак[en] сообщил о грядущей волне эмиграции римскому сенату. При этом он предрекал, что искусные в военном деле гельветы в скором времени объединят всю Галлию против Рима. Цезарь не мог не знать об этом до 58 года до н. э.[коммент. 5], но по каким-то причинам не переместил три легиона из Аквилеи в Нарбонскую Галлию к началу исхода гельветов, позволив застать себя врасплох[16].
Исторические источники
Важнейший источник информации о конфликте — «Записки о Галльской войне», написанные самим Цезарем. В античную эпоху эта работа не считалась заслуживающей полного доверия: Светоний приводит слова Азиния Поллиона, что его сочинение написано «без должной тщательности и заботы об истине: многое, что делали другие, Цезарь напрасно принимал на веру, и многое, что делал он сам, он умышленно или по забывчивости изображает превратно»[26]. Поллион, по-видимому, общался со многими участниками Галльской войны, которые и указывали ему на неточности в сочинении Цезаря[27]. Несмотря на подробность и точность изложения в целом, Цезарь практически никогда не прибегает к использованию абсолютной хронологии, не называет численность своих войск и не указывает на точные места сражений, а сами битвы обрисовывает лишь в общих чертах[28][29].
Нет единого мнения о времени написания «Записок». В настоящее время считается более вероятным создание всего сочинения в конце войны, а не написание его по частям в конце каждого года[30][31]. В то же время, существуют свидетельства, что ежегодные донесения Цезаря сенату были близки к книжному формату и, таким образом, имели значительное сходство с «Записками»[31].
Помимо Цезаря, о Галльской войне рассказывает Дион Кассий, в значительно меньшей степени — Плутарх, Аппиан, Флор, Орозий, Евтропий. Все эти авторы использовали и другие источники, однако их свидетельства значительно короче и, иногда, даже менее точны[32].
Кампания 58 года до н. э.
Война с гельветами
Получив известия о перемещениях гельветов, Цезарь покинул Рим 19 марта 58 года до н. э. или через несколько дней[33]. В конце марта всё кельтское племя собралось в заранее назначенной точке сбора на берегу Женевского озера[14]. У гельветов было два пути для пересечения гористой местности, отделявшей их земли от основной части Галлии: по крутым склонам Юрского хребта на правом берегу Роны или по сравнительно равнинному левому берегу, который несравненно лучше подходил для переселения целых племён. Однако Рона в верхнем течении служила границей между Римской республикой и независимыми землями галлов, и переселенцы могли пройти по левому равнинному берегу Роны только с разрешения Рима. Было решено направить посольство к проконсулу Нарбонской Галлии Цезарю, который уже прибыл в Генаву (современная Женева) и следил за ситуацией. Переселенцы просили у римлян право пройти через провинцию, обещая сохранять мир и порядок. После обращения гельветских послов Юлий попросил время на размышления до 13 апреля. За это время единственный находившийся в его распоряжении легион возвёл укрепления вдоль Роны от Генавы до Юрских гор (длина укреплений оценивается либо в 19 римских миль, или 30 километров, либо всего в 4 мили, то есть в 6 километров). Единственный мост через Рону в её верхнем течении возле Генавы был уже уничтожен римлянами. Когда послы гельветов повторно прибыли 13 апреля, Цезарь отказал им в разрешении[14][34].
Отчаявшись пройти по удобному пути мирным способом, гельветы напали на римские укрепления[34]. Впрочем, некоторые историки (в частности, Робер Этьен) считают единственный источник о нападении — сообщение Цезаря — вымыслом[14]. Гульельмо Ферреро добавляет, что речь могла идти лишь о единичных случаях пересечения гельветами Роны, которые Цезарь представил как нападение для оправдания своих дальнейших действий[19].
К этому моменту проконсул располагал лишь одним X легионом. Легионы VII, VIII и IX стояли в Аквилее, поскольку Цезарь был наместником сразу трёх провинций — Нарбонской Галлии, Цизальпийской Галлии и Иллирика — и должен был обеспечивать их защиту. Ожидая начало скорых столкновений с гельветами, Юлий направился в Цизальпийскую Галлию, где возглавил три аквилейских легиона и начал набор двух новых легионов — XI и XII[14].
 Когда Гай вернулся в Нарбонскую Галлию, гельветы уже перешли через Юрский хребет и вступили в земли племени эдуев, которых римский сенат ранее признал своими союзниками. Переселенцы грабили земли эдуев, и выборный правитель последних Дивитиак попросил Цезаря о помощи. Только что пересёкший Альпы Юлий немедленно откликнулся на просьбу эдуев и переправился через Рону, которая служила границей Нарбонской Галлии и, соответственно, всей Римской республики[34][35][36]. Гай настиг гельветов, когда они завершали переправу через реку Арар (современная Сона) неподалёку от современного города Макон. Последними должны были переправляться гельветы-тигуринцы, которые в 107 году до н. э. разбили римские войска в битве при Бурдигале[en]. Для римлян то поражение было памятно вдвойне: римскую армию тогда провели под ярмом, а действующий консул Луций Кассий Лонгин погиб. 6 июня войска Гая атаковали тигуринцев, и полностью их разбили[34][35].
Когда Гай вернулся в Нарбонскую Галлию, гельветы уже перешли через Юрский хребет и вступили в земли племени эдуев, которых римский сенат ранее признал своими союзниками. Переселенцы грабили земли эдуев, и выборный правитель последних Дивитиак попросил Цезаря о помощи. Только что пересёкший Альпы Юлий немедленно откликнулся на просьбу эдуев и переправился через Рону, которая служила границей Нарбонской Галлии и, соответственно, всей Римской республики[34][35][36]. Гай настиг гельветов, когда они завершали переправу через реку Арар (современная Сона) неподалёку от современного города Макон. Последними должны были переправляться гельветы-тигуринцы, которые в 107 году до н. э. разбили римские войска в битве при Бурдигале[en]. Для римлян то поражение было памятно вдвойне: римскую армию тогда провели под ярмом, а действующий консул Луций Кассий Лонгин погиб. 6 июня войска Гая атаковали тигуринцев, и полностью их разбили[34][35].
В «Записках о Галльской войне» Цезарь не без удовлетворения написал: «Таким образом, произошло ли это случайно, или промыслом бессмертных богов, во всяком случае та часть гельветского племени, которая когда-то нанесла римскому народу крупные поражения, первая и поплатилась»[37].
Впрочем, высказываются предположения, призванные уточнить порядок действий Цезаря. Традиционная датировка кампании 58 года до н. э. была предложена Наполеоном III во второй половине XIX века, однако она плохо согласуется с действиями гельветов при более подробном рассмотрении. Согласно традиционной версии, Цезарь сперва прибыл в Женеву, отказал гельветам в праве на проход по римской территории и лишь после этого вызвал три легиона из Аквилеи[33]. Время между пересечением гельветами Юрского хребта и битвой на реке Сона Цезарем не называется. По подсчётам Наполеона III, Цезарю должно было потребоваться около 60 дней, чтобы передать приказ легионам выдвинуться из Аквилеи и привести их к Соне, то есть битва должна была произойти приблизительно 7 июня[38]. Однако даже следуя самым длинным маршрутом, гельветам требовалось не больше месяца для прибытия к Соне. В попытке объяснить, где гельветы потеряли больше месяца, Джеймс Торн выдвинул гипотезу о необходимости переноса времени битвы на более ранний срок. По мнению британского учёного, гельветы должна были начать переправу через Сону задолго до 7 июня — приблизительно, на месяц раньше. Однако в этом случае раньше следовало выйти и дополнительным легионам из Аквилеи, для чего Цезарь должен был вызвать их ещё до прибытия в Женеву. Это предположение опровергает распространённую версию о неготовности Цезаря к сражению на том основании, что он покинул Италию и якобы оставил основные войска в Аквилее[39].
Несмотря на нехватку продовольствия, Цезарь не стал налаживать снабжение войск и быстро переправился через реку[коммент. 6]. Вскоре гельветы прислали к Цезарю посольство во главе со своим старейшиной Дивиконом[en]. Они выражали готовность простить нападение на свой арьергард и предложили римскому наместнику указать им любое место, куда им следует переселиться. Однако Цезарь отказался доверять гельветам и запросил у них заложников[коммент. 7], после чего Дивикон прервал переговоры, сказав, что «гельветы научились у своих предков брать заложников и не давать их»[41].
После срыва переговоров Цезарь отправил в погоню за гельветами кавалерию во главе с братом Дивитиака Думноригом. Последний, однако, сочувствовал переселенцам и не выполнил приказ Гая в полном объёме. Одновременно Цезарь узнал, что задержки в поставках провианта армии были не случайны, а вызваны противодействием Думнорига и его сторонников. Несмотря на саботирование военной кампании, Цезарь по просьбе Дивитиака лишь отстранил его брата от руководства конницей[35]. Впрочем, Гай должен был считаться и с популярностью Думнорига среди кельтов[42].
Гельветы и их преследователи двигались на север, а через несколько дней разведчики указали Цезарю на возможность внезапной атаки вражеского лагеря с выгодной позиции. Значительным упущением галлов стало их нежелание занимать стратегически важную высоту. Узнав об этом, Гай направил туда два легиона под командованием Тита Лабиена для того, чтобы организовать атаку на лагерь противника с двух сторон. По какой-то причине римский полководец не атаковал противника на рассвете, используя элемент неожиданности. Расстояние от римских отрядов до лагеря противника составляло уже около 1,5 километра. По версии, изложенной в «Записках о Галльской войне», виновником оказались разведчики во главе с Публием Консидием, который ошибочно принял знамёна Лабиена за галльские и сообщил Гаю, что гора занята противником. Впрочем, эта история может скрывать собственные ошибки Цезаря — на тот момент ещё совсем неопытного полководца[43][44]. Утром гельветы продолжили путь.
В конце концов, римляне, у которых почти закончилось продовольствие, отказались от преследования гельветов и выступили к эдуйскому городу Бибракте[коммент. 8], где находились крупные амбары. По версии Теодора Моммзена, Цезарь всерьёз рассматривал вариант с прекращением преследования гельветов. Однако они узнали о перемещениях Цезаря и тоже подошли к Бибракте, решив навязать римлянам сражение. Возможно, на изменение планов галлов повлияло предположение, что Гай испытывает острую нехватку продовольствия и собирается отступать[34][45]. По другой версии, гельветы решили отомстить за попытку внезапного нападения накануне[46].
Во время битвы при Бибракте Цезарь выстроил свои войска на склоне холма и вынудил гельветов атаковать выгодную для себя позицию. Запущенные с высоты пилумы его легионеров легко пробивали щиты противников, после чего их железные наконечники загибались и мешали движению, из-за чего многие галлы бросали свои щиты и сражались без них. Вскоре Дивикон попытался заманить Цезаря в ловушку своим отступлением. Расчёт, вероятно, был сделан на неопытность римского полководца. Его план оправдался: Юлий приказал преследовать отступающие войска, и Дивикон ввёл в бой свои резервы против растянувшихся сил римлян[47][48]. Гульельмо Ферреро замечает, что в рассказе о битве «Записок о Галльской войне» есть противоречия, а на фоне подробного описания начала сражения основная фаза битвы и перелом остаются совершенно неосвещёнными. Для традиционно ясного и точного автора, каким был Цезарь, это особенно странно. Итальянский историк полагает, что Цезарь не выиграл эту битву, и на самом деле итоги сражения были для римлян не разгромными, но по крайней мере тактически невыгодными, и неясное повествование было призвано скрыть не совсем благоприятный исход[47], и только невозможность осуществления первоначальных планов переселения вынудила гельветов просить мира. Впрочем, более распространена точка зрения о благоприятном исходе битвы для римлян: например, Эдриан Голдсуорси и Ричард Биллоуз говорят о непростой победе Цезаря[49][50].
Часть гельветов бежала с поля боя, но Цезарь объявил, что все галльские общины, которые помогут переселенцам, будут считаться врагами Рима. Племя лингонов, в чьи земли бежали гельветы, прислушалось к требованию Цезаря, и отказало им в помощи. Вскоре эмигранты сдались проконсулу. Мирный договор римляне и гельветы заключили на сравнительно лёгких условиях для побеждённых. Все гельветы и раураки должны были вернуться на свою родину, а шедшее с ними племя бойев по просьбе эдуев расселили в их области[45].
Война с Ариовистом
Вскоре после победы над гельветами состоялось совещание правителей галльских племён в Бибракте, собранное Цезарем. На встрече галлы попросили проконсула изгнать из их земель германское племя свевов под руководством Ариовиста, изначально призванное в качестве наёмников (см. выше). Свевы де-факто установили верховную власть над значительной частью Галлии, принудили многие племена платить себе дань, не пощадив и секванов, призвавших их из-за Рейна[51]. Гай согласился помочь галлам. Впрочем, раньше римляне придерживались дружелюбной политики по отношению к свевам, и Цезарь должен был иметь надёжное обоснование для любых враждебных действий против германцев[52].
Поскольку последовательность событий во время совещания в Бибракте известна только по описанию самого Цезаря, некоторые историки сомневаются в правдивости этой версии. Во-первых, Ариовист едва ли намеревался портить хорошие отношения с римлянами и нападать на их союзников, равно как и начинать подчинение Галлии, приписанное ему Дивитиаком, без должной подготовки. Кроме того, сам съезд вождей племён мог быть созван Цезарем, а вместо просьбы галлов о помощи Юлий мог на самом деле объявить о готовящемся выступлении против свевов и заручиться поддержкой галльских вождей[53]. Существуют и сомнения в правдивости рассказа Цезаря: по его словам, галльские вожди «всё время падали перед ним на колени, взывали к нему то „со слезами“, то „с громким плачем“»[54]. Наконец, Светоний свидетельствует, что во время наместничества Гай «не упускал ни одного случая для войны, даже для несправедливой или опасной, и первым нападал как на союзные племена, так и на враждебные и дикие»[54][55]. С другой стороны, в лице Цезаря галлы могли найти подходящего командира во главе боеспособной армии, которая была в состоянии изгнать Ариовиста. Впрочем, теперь Цезарь не мог рассчитывать на помощь воинственных гельветов, ненавидевших германцев и Ариовиста[56].
Прежде всего, Цезарь предложил галлам прекратить выплачивать дань германцам, а также потребовал вернуть заложников. Ариовист напал на галлов, указывая на нарушение соглашений, и тогда проконсул призвал его к переговорам. Германский полководец отказался принимать новые условия соглашения, среди которых был и отказ от переселения германцев на левый берег Рейна. Все переговоры велись через посредников, но когда Гай предложил германскому вождю прибыть к нему лично, он отказался: подобным образом римляне вызывали зависимых правителей[57]. Вместо скомпрометировавшего себя Думнорига новым командующим кавалерией был назначен Публий Лициний Красс, сын триумвира Марка Лициния Красса[58].
Примерно в это же время Гай узнал от племени треверов, что к переправе через Рейн готовится множество свевов. Получив известия о планах этого племени, которое могло усилить армию Ариовиста, он немедленно выступил на восток. Вскоре Цезарь прибыл в Везонтион (современный Безансон), главный город секванов, где пробыл несколько дней, организуя снабжение своей армии[59]. В августе 58 года до н. э., через семь дней после выхода из Везонтиона, римляне обнаружили неподалёку лагерь Ариовиста. На пятый день оба полководца встретились, но не сумели прийти к соглашению. Напротив, во время переговоров германская кавалерия напала на римлян. Кавалерия Цезаря отбила эту атаку, и проконсул поспешил скрыться[52]. Теодор Моммзен полагает, что именно покушение на Цезаря и было целью германцев, а личная встреча двух полководцев была для Ариовиста лишь предлогом[57]. На следующий день после покушения германцы предложили продолжить переговоры, но Цезарь отказался. Тем не менее, он отправил в лагерь германцев двоих послов, которых по прибытии заковали в цепи из-за подозрения в шпионаже[60].
В отображении «Записок о Галльской войне» Ариовист предстал как надменный полководец, который считал, что он, как и Цезарь, находится на завоёванной территории. Германский вождь якобы предложил Гаю союз: в обмен на признание своей власти над Северной Галлией он снабдит Цезаря войсками для захвата власти в Риме[57] (разумеется, в «Записках» Ариовист говорит не о захвате власти в Италии, а ограничивается указанием на «все войны, какие Цезарь пожелает вести»[61]).
После захвата послов в заложники германцы перестали проявлять инициативу. Вскоре стало известно об одной из причин, по которой германцы избегали сражения: якобы их прорицательницы предостерегали от вступления в сражение до новолуния[62]. Более вероятно, однако, что Ариовист ожидал прибытия подкреплений с севера, а история о прорицательницах могла быть придумана Цезарем и произнесена перед легионерами для их воодушевления[63][коммент. 9].
Хотя германцы воздерживались от активных действий, они активно обозначали своё присутствие нарушением коммуникаций и снабжения, а их опытная кавалерия при поддержке пехоты вступала в стычками со вспомогательными отрядами римлян. Одна из засад германцев едва не закончилась взятием малого лагеря Цезаря (всего проконсул организовал два лагеря). «Записки» об этой вылазке противника упоминают очень кратко. На следующий день после успеха германцы всё же приняли вызов римлян[64].
В сражении, известном как битва при Вогезах, правый фланг римлян во главе с проконсулом действовал очень успешно и разбил противника, однако левый фланг был смят германцами. В отсутствие увлёкшегося погоней Цезаря резервные силы умело ввёл в бой Публий Лициний Красс. Благодаря его своевременному вмешательству армия Ариовиста была полностью разгромлена[62]. Римская кавалерия преследовала германцев до самого Рейна, который протекал в нескольких километрах к востоку. Ариовист и некоторые его соратники сумели переправиться через реку, но большинство свевов было убито или взято в плен. Находившиеся вместе с лагерем две жены и одна из дочерей германского вождя погибли, а другую дочь взяли в плен. Новость о победе над Ариовистом быстро распространилась вниз по Рейну, и многие германцы, готовившиеся переправляться через реку, на время отказались от этого намерения. Часть свевов начала отступать вглубь Германии, но попала в засаду племени убиев и была разбита[65]. Цезарь позволил остаться уже переселившимся германцам, надеясь использовать их в интересах Рима. Однако детали этого соглашения неизвестны: «Записки о Галльской войне» обычно умалчивают о подобных действиях[66].
Вскоре после победы Цезарь отвёл свои легионы на зимние квартиры, расположенные в области секванов[65]. В своих «Записках» проконсул особо отмечал, что кампания 58 года до н. э., включавшая в себя сразу две войны, завершилась досрочно[цитата 2].
Кампания 57 года до н. э.
 Зимой 58/57 года до н. э. Цезарь находился в Цизальпийской Галлии, где много общался со своими соратниками, прибывавшими из Рима. Оставленный в области секванов Лабиен снабжал своего командира информацией о происходящем в провинции. Большое внимание уделялось белгам — жителям северной Галлии, которые готовились выступить против римлян. Уверившись в подготовке белгами сопротивления римлянам, Цезарь набрал ещё два легиона — XIII и XIV — и довёл общее их число до восьми, хотя в качестве наместника ему было позволено держать не более четырёх[67][68].
Зимой 58/57 года до н. э. Цезарь находился в Цизальпийской Галлии, где много общался со своими соратниками, прибывавшими из Рима. Оставленный в области секванов Лабиен снабжал своего командира информацией о происходящем в провинции. Большое внимание уделялось белгам — жителям северной Галлии, которые готовились выступить против римлян. Уверившись в подготовке белгами сопротивления римлянам, Цезарь набрал ещё два легиона — XIII и XIV — и довёл общее их число до восьми, хотя в качестве наместника ему было позволено держать не более четырёх[67][68].
Как и в случае с «призванием» гельветов, Гульельмо Ферреро видит в выступлении белгов результат борьбы проримской и независимой группировок внутри Галлии. По его мнению, сторонники кельтской независимости, потерпев неудачу с организацией из гельветов сильной армии, способной защитить Галлию от внешних угроз, избрали на аналогичную роль не менее воинственных белгов[69].
У Цезаря был выбор: дожидаться нападения армии белгов либо ещё сильнее испортить свою репутацию среди галлов, но нанести превентивный удар против северных племён, не имея формального повода к войне. Возможно, к выбору в пользу второго варианта его подтолкнула незначительная реакция римлян на прошлогодние победы, и новые сражения могли бы добавить популярности проконсулу. При этом проконсул в «Записках» признаётся, что не имел ни малейшего представления о ситуации на севере[70].
Выведя шесть легионов с зимних квартир, весной 57 года до н. э. проконсул направился на север. Вскоре он столкнулся с послами племени ремов, которые заверили его в своей дружбе с Римом и обеспечили римские войска необходимыми припасами[67].
К этому времени белги собрали крупную армию и выступили навстречу Цезарю, и встретились обе армии в сильно заболоченной местности на реке Аксона (современное название — Эна), препятствовавшей сражению. Римский полководец избегал битвы, приняв во внимание численное превосходство противника, а также отражал все попытки белгов нарушить свои коммуникации и пути снабжения. Единственная серьёзная схватка, известная как битва на Аксоне, закончилась поражением крупного отряда белгов. После этого поражения вождь племени суессионов[en] Гальба[en] больше не мог содержать крупные силы и удерживать ополчения разных племён на одном месте, и вскоре его войска разошлись по домам[71]. Способствовало распаду единой армии и наступление, предпринятое эдуями (союзниками Рима) в земли белловаков — одного из самых сильных белгских племён[72].
Проконсул воспользовался беспорядочным отступлением белгов и атаковал шедшие в арьергарде отряды[71]. Затем римская армия повернулась на северо-запад и без боя подчинила себе разрозненных суессионов, белловаков, амбианов и другие племена. Северо-восточные белги, однако, создали новый союз для борьбы против римлян. На реке Сабис (современная Самбра или Селль[en]) недалеко от современного города Баве римляне начали возводить лагерь, однако на них неожиданно напали войска белгов, самыми сильными из которых было племя нервиев. На левом фланге римлян находились IX и X легионы, в центре — VIII и XI, на правом фланге — VII и XII. Поскольку противнику удалось застать римлян врасплох при строительстве укреплений и разделить их на три группы, а Цезарь был вынужден сражаться в первых рядах, о централизованном командовании римскими войсками не могло идти и речи. Тем не менее, «Записки о Галльской войне» объясняют дальнейший перелом в сражении именно умелым руководством самого Цезаря. Однако более вероятно, что решающую роль сыграло мастерство легионеров и центурионов, а также действия Тита Лабиена. Левый фланг римлян под его командованием сумел обратить своих противников в бегство и некоторое время преследовал их. Уже перейдя реку, Лабиен обратил внимание на сложную ситуацию на правом фланге, где находился Цезарь, и отправил на помощь X легион. Кроме того, в бой вступил только что подошедший римский арьергард — XIII и XIV легионы. К этому времени часть белгов уже покинула поле битвы, разнося вести о разгроме римлян, и только племя нервиев продолжало сражаться. Они отказались отступать или сдаваться, и в конце концов были почти полностью перебиты[73][74][75][76].
После битвы племена нервиев, атребатов, веромандуев признали власть Рима. Они сдали всё оружие и выдали проконсулу заложников. Аналогичные условия мира приняли адуатуки — предположительно германское племя, которое пятьюдесятью годами ранее начало переселение вместе с кимврами и тевтонами, но осело среди белгов. Адуатуки спрятали часть своего оружия в лесах, а после заключения мира с Цезарем напали на римский лагерь ночью, но были отбиты. Проконсул преследовал адуатуков и разбил их, и вместо сравнительно лёгких условий капитуляции всех выживших представителей этого племени захватили и продали в рабство[77][78].
В то время как Цезарь находился в землях белгов, Публий Лициний Красс с одним легионом был направлен для покорения атлантического побережья Галлии, где не ожидалось серьёзного сопротивления. Без единого сражения все племена в Западной Галлии, самыми сильными из которых были венеты, признали власть Рима[79][80]. Кроме того, один легион под командованием Сервия Сульпиция Гальбы[en] был направлен на покорение племён в районе Сен-Готардского перевала. Целью операции было получение контроля над торговыми путями вглубь Галлии[81].
Уверенный в присоединении к Римской республике большей части Галлии, Цезарь направил в римский сенат соответствующее донесение[80]. Возможно, в это же время были изданы две первые книги «Записок»[коммент. 10], призванные засвидетельствовать успехи полководца[68]. На основании донесений наместника в его честь были впервые в истории назначены 15-дневные молитвы богам[80]. По мнению Гульельмо Ферреро, эти празднования были назначены не столько в честь военных успехов Цезаря, сколько в ознаменование организации новой провинции[82]. Юридическое оформление своих завоеваний в виде организации провинций позволило бы Цезарю превзойти славу современных ему полководцев Лукулла и Помпея, поскольку Галлия была значительно больше присоединённых ими Понта и Сирии[83]. Впрочем, окончательно галльские провинции были созданы позднее.
Осенью 57 года до н. э. проконсул покинул Галлию и занялся делами другой своей провинции — Иллирика[80].
Кампания 56 года до н. э.
 Зимой 57/56 года до н. э. и в начале наступившей весны в захваченной римлянами Галлии начались восстания. В Альпах сторожившего горные дороги из Италии в Галлию Сульпиция Гальбу атаковали местные племена, и его легион вынудили покинуть занятые территории. В только что присоединённой Западной Галлии был создан антиримский союз во главе с племенем венетов. Восставшие против римской власти венеты взяли в плен нескольких фуражиров Цезаря, собиравших продовольствие в их землях[коммент. 11]. Они потребовали от Цезаря вернуть всех заложников, которых взял с собой Красс в прошлом году. Наконец, появились известия, что к восставшим венетам готовятся присоединиться ещё независимые племена аквитанов[80][87][88].
Зимой 57/56 года до н. э. и в начале наступившей весны в захваченной римлянами Галлии начались восстания. В Альпах сторожившего горные дороги из Италии в Галлию Сульпиция Гальбу атаковали местные племена, и его легион вынудили покинуть занятые территории. В только что присоединённой Западной Галлии был создан антиримский союз во главе с племенем венетов. Восставшие против римской власти венеты взяли в плен нескольких фуражиров Цезаря, собиравших продовольствие в их землях[коммент. 11]. Они потребовали от Цезаря вернуть всех заложников, которых взял с собой Красс в прошлом году. Наконец, появились известия, что к восставшим венетам готовятся присоединиться ещё независимые племена аквитанов[80][87][88].
Получив известия о восстаниях, Цезарь разделил свои силы на три части. Тит Лабиен должен был присоединить область треверов — одного из самых сильных независимых белгских племён, а Публию Лицинию Крассу поручалось присоединение Аквитании. Сам проконсул занялся подавлением восстания венетов, а Квинту Титурию Сабину поручалось ведение боевых действий против союзных венетам племён[88][89].
Заранее предвидя проблемы в покорении венетов, Цезарь распорядился создать на реке Лигера (современная Луара) сильный флот, который мог бы сражаться с галльскими кораблями. Дело в том, что атлантические племена кельтов широко применяли более эффективные в условиях Атлантического океана парусные корабли, в то время как римляне по-прежнему знали только вёсельные суда с большим килем, которые плохо подходили для сильных волн и приливов этих мест. Кроме того, венеты фактически монополизировали торговлю между Галлией и Британией, и благодаря этому располагали крупным флотом, в то время как Цезарь кораблей не имел вовсе. Благодаря этому приморские города галлов имели надёжное снабжение и при необходимости могли эвакуировать всё население городов, которые захватывались сухопутными войсками Цезаря. Взятие венетских городов представляло проблему ещё и из-за сильных приливов, которые превращали галльские укрепления, соединённые с материком узкими и низко расположенными полосами земли, в острова. Постройкой римского флота руководил Децим Юний Брут Альбин[90][91][92][93].
Пока легаты Цезаря подчиняли дальние области Галлии, а Брут готовил флот, сам проконсул отправился в Лукку, где в апреле в неофициальной обстановке встретился с коллегами по триумвирату Помпеем и Крассом, чтобы обсудить ряд насущных вопросов. Было решено, что Помпей и Красс с помощью подконтрольных им плебейских трибунов будут оттягивать выборы консулов на следующий год. Цезарь должен был закончить летнюю кампанию и направить своих легионеров в Рим, чтобы они приняли участие в выборах и поддержали кандидатуры Помпея и Красса. Важнейшей целью выборов стало недопущение избрания Луция Домиция Агенобарба в консулы[95]. В случае успешного избрания Помпей и Красс должны были продлить полномочия Цезаря ещё на пять лет, а себе взять любые провинции для управления[96].
Одновременно Цезарь сумел увеличить свои полномочия в провинции. В мае 56 года Цицерон произнёс в римском сенате речь «О консульских полномочиях» (она сохранилась до наших дней), в которой поддержал идею расширения полномочий Цезаря. Соответствующее постановление было вскоре принято. Во многом именно благодаря оратору сенат согласился признать за проконсулом право на содержание не четырёх, а восьми легионов (все расходы на их содержание несла государственная казна), а также позволил Цезарю набрать ещё десять легатов. Старания Цицерона угодить Цезарю не остались незамеченными, и проконсул назначил Квинта Туллия Цицерона, брата оратора, одним из новых легатов[97][98].
Почти всё лето проконсул, располагавший четырьмя легионами, осаждал города венетов, но без особого успеха: галлы пользовались естественными особенностями своих городов (см. выше) и преимуществом на море[88][92]. Квинт Титурий Сабин, командовавший тремя легионами, успешно действовал неподалёку от Цезаря[99].
Впрочем, вскоре Децим Брут завершил строительство флота и вывел его в открытое море, но даже умелые римские мореходы не могли решить, как лучше всего бороться с кораблями незнакомой им конструкции. Традиционно римляне таранили корабли противника носами своих судов, обстреливали их экипаж из баллист и высаживали абордажные отряды. Корабли венетов с высокими дубовыми бортами не годились для применения тактики морского боя, которую римляне разработали ещё в Первую Пуническую войну. Тем не менее, они выработали новые способы морского боя против кораблей галлов. При благоприятной для галер погоде римляне подплывали вплотную к вражеским кораблям и начинали рубить канаты галльских судов серпами на длинных палках, стремясь срезать паруса и лишить корабли противника подвижности[100]. Затем римляне могли беспрепятственно высаживать абордажные отряды, что превращало морское сражение в выгодное для римской армии сухопутное. Благодаря использованию этой тактики и наступлению полного штиля на море Брут нанёс поражение венетам в решающей битве в бухте Киберон вблизи устья Луары. Проконсул и его войска наблюдали за морской битвой с берега. После этого венеты и их союзники запросили мира, но Цезарь приказал казнить старейшин восставших, а всё население продал в рабство[101][102][103]. Цезарь оправдывал эти действия захватом послов перед началом восстания, но вполне вероятно, что эти люди не имели дипломатического статуса, а лишь собирали продовольствие в землях венетов[86].
Когда основные силы Цезаря осаждали приморские города возле устья Луары и в Арморике, Публий Красс с 4-5 тысячами солдат, вспомогательными войсками и кавалерией прибыл в Аквитанию — область между рекой Гарумна (современная Гаронна) и Пиренеями. Местные племена (вероятно, родственные современным баскам) собрали ополчение, которое Цезарь в «Записках» оценил в 50 тысяч солдат, и доверили командование полководцам, сражавшимся в Серторианской войне против римлян. Благодаря опыту службы в армии Квинта Сертория командующие аквитанским ополчением действовали по римским обычаям ведения войны. Они разбили укреплённый лагерь на выгодной позиции и старались лишить римлян продовольствия. Несмотря на численное превосходство аквитанов, Красс напал на их лагерь, а в разгар битвы направил свои резервы через слабо укреплённые задние ворота в тыл противника, благодаря чему сумел добиться победы. Вскоре после сражения большинство аквитанских племён признало власть Рима[98][102][104].
В конце лета проконсул направился в низовья Рейна для подчинения остававшихся независимыми племён моринов[en] и менапиев[en], однако в в 56 году до н. э. завершить эту кампанию не удалось: ухудшение погоды в конце осени — начале зимы (по другой версии, погода ухудшилась ещё летом[105]) сделало ведение военных действий в болотистой местности невозможным[106]. Препятствовала войне и партизанская тактика этих племён: вместо того, чтобы принять открытый бой, они прятались в лесах и болотах на территории Фландрии. Проконсул приказал своим легионерам вырубать широкие просеки в лесах, строя из поваленных деревьев частокол вдоль дороги, но не успел завершить начатое[99][101][103].
Большинство легионеров Цезаря, однако, направились не на зимние квартиры, а в Рим. В конце 56 года до н. э. состоялись выборы консулов на следующий год. Традиционно проводимые летом, в этом году выборы под разными предлогами откладывались плебейскими трибунами из числа сторонников триумвирата. Их провели только когда в город вернулись солдаты Цезаря, которых привёл Публий Красс. Легионеры приняли участие в долгожданных выборах и поддержали на них Помпея и Марка Красса[98]. Выборы сопровождались столкновениями сторонников триумвирата с одной стороны, и Агенобарба с Катоном — с другой[96]:
«Помпей <…> не допустил Домиция на форум; он подослал вооружённых людей, которые убили сопровождавшего Домиция факелоносца, а остальных обратили в бегство. Последним отступил Катон: защищая Домиция, он получил рану в правый локоть.»
— Плутарх. Помпей, 52; перевод Г.А. Стратановского
В марте следующего, 55 года до н. э., Помпей и Красс консульским декретом продлили полномочия Цезаря на пять лет, исполнив свою часть уговора[98]. Теперь последним годом проконсульства Цезаря вместо 55 стал 50 год до н. э.[107]
Кампания 55 года до н. э.
Первая экспедиция в Германию
Первоначально Цезарь планировал в 55 году до н. э. укрепить римское господство в Галлии и организовать там систему администрации по образцу других провинций, но этим планам не суждено было сбыться[107]. В начале года проконсул получил известия о том, что на левый берег Рейна переселились германские племена тенктеров и узипетов, а галльские племена хотят просить их о помощи в избавлении от римлян. Собрав вождей галльских племён, Цезарь потребовал от них прислать ему кавалерийские отряды, и вскоре двинулся к Рейну[108]. Причина, по которой два многочисленных племени, зная об участи Ариовиста, решились перейти через Рейн, неясна. Сам Цезарь приписывает эту эмиграцию натиску свевов[109], однако германцев могли призвать галлы для борьбы с Цезарем[110].
Римская армия при поддержке галльской кавалерии начала поход к Рейну, однако римлян встретила не армия германцев, а их посольство. Эмигрировавшие племена заверяли Цезаря в мирных намерениях и просили его самого определить место в Галлии, где они могли бы расселиться. Проконсул не поверил послам и предположил, что они затягивают время, пока не вернётся германская кавалерия, направленная на разведку. Он отказался выделять им землю под предлогом отсутствия свободных территорий, но предложил вернуться в Германию и поселиться возле племени убиев, которые давно просили римлян помочь им защититься от свевов. Стороны договорились оставаться на месте, пока германцы не дадут ответ Цезарю через три дня. Проконсул, однако, повёл свои войска вперёд и расположился в 18 километрах от главного лагеря эмигрантов. Во время следующих переговоров, по версии «Записок о Галльской войне», германская кавалерия внезапно напала на римлян, и переговоры были прекращены. На следующий день, однако, в римский лагерь явились все старейшины обоих германских племён, уверяя, что инцидент был случайностью. Цезарь не только не поверил им, но и приказал взять их в плен. Одновременно римская армия начала наступление на лагерь германцев, который не был готов к отражению атаки. Проконсул приказал никого не щадить, и римляне перебили большую часть людей в лагере — 400 тысяч человек, включая женщин, детей и стариков по завышенной оценке Цезаря[111]. Очень немногие сумели спастись, переплыв Рейн. Жестокая расправа над двумя германскими племенами была призвана пресечь все попытки галлов воспользоваться помощью извне для освобождения от римской власти[112][113][114].
Сочинение Цезаря последовательно оправдывает его действия в этой кампании, хотя не всегда убедительно. Как отмечает С. Л. Утченко, «на сей раз даже автор „Записок“ не был уверен в том, что он действовал в пределах допустимой военной хитрости»[107][108]. Не верили в честность проконсула и в Риме. Реакция на его победу в столице была противоречивой, поскольку он попрал все воинские традиции. Это считалось позором для римского оружия, а захват послов прямо ударял по репутации Рима. Катон потребовал у сенаторов, чтобы Цезаря выдали германцам, однако его радикальное предложение не поддержали, а в честь победы всё же назначили торжественные жертвоприношения[115]:
«…когда сенат выносил постановления о празднике и жертвоприношениях в честь победы, Катон выступил с предложением выдать Цезаря варварам, чтобы очистить город от пятна клятвопреступления и обратить проклятие на того, кто один в этом повинен»
— Плутарх. Цезарь, 22; перевод Г. А. Стратановского и К. П. Лампсакова.
Вскоре после победы над тенктерами и узипетами римский полководец стал готовиться к пересечению Рейна, куда дружественное племя убиев давно приглашало его войска для защиты от набегов свевов. Вероятно, долгосрочных планов в Германии у Цезаря не было, однако он желал продемонстрировать силу римского оружия на германской земле. В районе современного Кобленца Цезарь возвёл деревянный мост длиной около 400 метров — по-видимому, первое подобное сооружение на Рейне. На германцев, никогда не видевших подобных конструкций, этот мост произвёл неизгладимое впечатление[112][113][116][117].
Строительство этого моста, подробно описанного Цезарем, было более важной задумкой, чем просто демонстрация мастерства римских инженеров галлам и германцам. Прежде всего, в позднеантичную эпоху стремление полководца перейти через установленные природой границы в неизведанные страны вызывало ассоциации с Александром Македонским. Определённую функцию выполняло и нацеленное на римскую аудиторию подробное описание строительства моста в «Записках»: Цезарь доказывал, что он не только удачливый полководец, но также умный и трудолюбивый организатор[118]. Мост через крупную реку был построен всего за десять дней[коммент. 12]. При этом практическая необходимость его возведения была сомнительной, поскольку убии предлагали римлянам корабли для переправы.
Сугамбры и часть свевов (возможно, хатты), узнав о переправе Цезаря, покинули свои поселения и скрылись в лесах. Это улучшило положение убиев, которые на время избавились от неприятного соседства. Тем не менее, проконсул не стал навязывать германцам борьбу, и через 18 дней после переправы вернулся вместе со своей армией на левый берег Рейна, а мост приказал за собой сжечь[120]. Рассказывая в своих «Записках» об этой кампании, проконсул составил и рассчитанный на римского читателя рассказ об обычаях и нравах германцев.
Первая экспедиция в Британию
Вскоре после завершения похода за Рейн Цезарь приказал организовать высадку в Британию. Помимо очередной демонстрации силы проконсул знал, что островные кельты поддерживают тесные связи с материковыми, предоставляют убежище беглецам и, возможно, поддерживают галлов в борьбе против Рима[121]. Кроме того, начало набора кельтов во вспомогательные и даже основные войска может свидетельствовать о желании проконсула удержать контроль над многочисленными воинами галльских племён, которые остались без своего традиционного занятия. Поход в Британию, таким образом, должен был обустроить галльских солдат в новой завоевательной кампании[122]. Хотя Цезарь распорядился начать подготовку к экспедиции, он по-прежнему ничего не знал об острове (по крайней мере, так он утверждает в «Записках»[123]).
О северном острове почти ничего не знали и античные географы, и даже многие материковые галлы. Галльские купцы, по свидетельству Цезаря, редко заходили вглубь острова, ограничиваясь торговлей с прибрежными поселениями, и потому не могли помочь информацией. Для разведки берегов проконсул направил через Ла-Манш Гая Волузена[en]. Вскоре в Британии узнали о планах Цезаря, и некоторые племена прислали к нему своих послов, предлагая союз. Проконсул отправил их назад с просьбой подождать, а с ними отправил галла Коммия, которому поручил подробно разведать местность и привлечь все местные племена на свою сторону. Коммий подплыл к побережью острова, но долго не решался сойти с корабля[124]. Когда же он высадился, кельты взяли его в плен.
Лагерь для отправки римской экспедиции находился где-то неподалёку от пролива Па-де-Кале: Цезарь утверждает, что воспользовался кратчайшим путём, но слабое знание им географии Ла-Манша не позволяет подтвердить эту версию[121].
Поскольку полномасштабное вторжение не планировалось, проконсул выделил для экспедиции 2 легиона, не считая вспомогательных войск. Для их переправки было подготовлено 80 кораблей, и наверняка использовались и суда, построенные Брутом для битвы с венетами. Перед началом похода Цезарь поручил Публию Сульпицию Руфу охранять место отправления, а Титурию Сабину и Аврункулею Котте — возглавить поход против той части племён менапиев и моринов, которая ещё оставалась независимой. Предположительно 27 августа 55 года до н. э. VII и X легионы погрузились на корабли и пересекли пролив; кавалерия должна была погрузиться на суда позднее и присоединиться к Цезарю уже на британском побережье[105][125].
Британская экспедиция не задалась с самого начала: на берегу, намеченном для высадки, римлян ожидали враждебно настроенные войска кельтов, а корабли с кавалерией так и не появились из-за непогоды. Римскому полководцу удалось высадить свои войска неподалёку, хотя во время десантирования кельты пытались напасть на римлян. Вскоре после строительства легионерами лагеря на берегу начались мирные переговоры. Попытки договориться прервал сильный прилив, которого римляне не ожидали. Смена погоды сильно повредила флот, не приспособленный к условиям Атлантического океана, чем воспользовались кельты и напали на VII легион. Когда вскоре появились сведения о приближении крупных войск кельтов, которых два легиона не смогли бы сдержать, Цезарь приказал возвращаться на материк[126]. Всего экспедиция заняла чуть больше месяца, и завершилась приблизительно 29 сентября[105].
Два транспорта римлян с 300 солдатами из-за непогоды не смогли причалить в назначенном месте, и были выброшены на берег в землях той части племени моринов, которые уже подчинились римлянам. Морины окружили высадившихся римлян и потребовали от них сдать оружие, а когда они отказались, немедленно атаковали. На стороне нападавших был значительный численный перевес, но они были разбиты подоспевшей кавалерией Цезаря. Проконсул использовал этот эпизод для обоснования очередного похода против моринов и менапиев, поручив их окончательное покорение Лабиену. Легат успешно справился с заданием, поскольку, по словам Цезаря, «болота, в которых они скрывались в прошлом году, высохли»[126][127].
Возвращение в Цизальпийскую Галлию
Направляясь в Цизальпийскую Галлию на зиму, Цезарь приказал готовить новый флот, который смог бы эффективно действовать в условиях Атлантического океана. Очевидно, проконсул наметил полномасштабное вторжение в Британию в качестве приоритета на будущий год, хотя, возможно, у него не было планов по долгосрочному освоению острова[128].
Получив отчёт о победах Цезаря (возможно, приукрашенные описания кампаний из этого донесения легли в основу «Записок о Галльской войне»), сенат не только вновь назначил в его честь торжественные молитвы богам, но ещё и увеличил их до двадцати дней[129]. Как полагает Ричард Биллоуз, на этот раз в Риме праздновали не столько победы своего полководца, сколько сам факт вторжения в Германию и Британию. В античную эпоху эти две большие территории были известны крайне слабо, и пробелы в знаниях о них заменялись небылицами[128]. Верили, что в Британии в изобилии встречается золото, серебро и жемчуг[130].
В конце года стало окончательно известно, что Цезаря вскоре покинет один из его самых многообещающих офицеров: Публий Лициний Красс должен был присоединиться к своему отцу Марку в его парфянском походе. Впрочем, точное время отбытия талантливого офицера из лагеря Гая неизвестно[коммент. 13]; известно, что Публий присоединился к экспедиции отца позднее, зимой 54-53 годов, и привёл для участия в кампании около тысячи всадников, набранных в Галлии[131].
На выборах консулов на следующий год победили Аппий Клавдий Пульхр и Луций Домиций Агенобарб, а одним из преторов стал Катон. Агенобарб, давний оппонент Цезаря, выступал за скорейший отзыв проконсула из Галлии. Впрочем, в защиту Цезаря успешно выступал Цицерон; кроме того, общественное мнение было благоприятно по отношению к полководцу из-за его новых достижений; возможно, этому способствовало активное распространение копий 4-й книги «Записок о Галльской войне»[коммент. 10] о событиях минувшего года[132].
Кампания 54 года до н. э.
Вторая экспедиция в Британию
Зимой 55/54 года до н. э. Цезарь задержался в Иллирике, где подавлял начавшееся там восстание. После его завершения проконсул сразу же направился в порт Итий, местоположение которого до сих пор не установлено (возможно, это Булонь; существует также предположение, что береговая линия в этом регионе в I веке до н. э. была иной[133], и возле современного города Виссан находилась достаточно крупная бухта[134]). Там завершалось строительство 600 новых транспортных судов и 28 больших боевых кораблей сопровождения [135].
До начала второго вторжения в Британию Цезарь предпринял поход в земли треверов, которые якобы планировали очередной призыв германцев из-за Рейна. Проконсул вмешался в борьбу двух враждующих друг с другом вождей треверов — Индуциомара и Цингеторига[en] — и поддержал последнего[135].
Первоначально Цезарь планировал переправить в Британию все 8 легионов и 4 тысячи кавалеристов, но затем изменил планы и взял в экспедицию только 5 легионов и 2 тысячи всадников. Все оставшиеся войска он передал Титу Лабиену с поручением внимательно следить за ситуацией в Галлии[135]. Причиной сохранения крупного гарнизона в покорённой провинции стала сложная ситуация в Галлии, что проявилось в конфликте Цезаря с популярным среди галлов вождём эдуев Думноригом. Он отказался плыть на остров вместе с полководцем, а затем покинул лагерь. После этого проконсул приказал догнать его и убить как дезертира[коммент. 14]. Кроме того, Квинт Цицерон писал своему брату о том, что Цезарь вовсе раздумывает об отмене экспедиции, хотя в качестве причины для сомнений он называл получение информации о приготовлениях кельтов в Британии[137].
Летом войска Цезаря на 800 кораблях переправились из Ития приблизительно на берег прошлогодней высадки. На этот раз десант прошёл без противодействия островных кельтов: увидев сотни приближающихся кораблей, прибрежные племена бежали вглубь страны. Разрозненные племена юго-восточной Британии временно объединились вокруг Кассивелауна — вероятно, вождя племени катувеллаунов. Под его руководством островные кельты отказывались от крупных сражений с римлянами, отступая вглубь острова и нанося отдельные удары отрядами кавалерии и боевыми колесницами, которых не могли преследовать тяжеловооружённые легионеры[138][139].
Переправившись на левый берег Темзы, Цезарь взял главную крепость владений Кассивелауна (возможно, на территории нынешнего графства Хартфордшир) и добился мира с кельтами, поскольку вожди племён перестали доверять полководцу. Впрочем, отсутствие серьёзных военных успехов не позволило римскому полководцу требовать полного подчинения кельтов, и они выдали Гаю заложников и пообещали не нападать на дружественное Риму племя триновантов. Кроме того, Цезарь обложил юго-восточные племена Британии данью, но она, вероятно, никогда не выплачивалась[138][139]. Приблизительно 20 сентября Цезарь вернулся в Галлию, переправив войска в два этапа[140].
Надежды на богатые трофеи не оправдались, и Цицерон писал, что вся добыча состояла из небольшого числа рабов, которым из-за неграмотности можно было поручать только самый простой труд[141]. Впрочем, в дальнейшем ничего не известно о какой-либо помощи, которую островные кельты оказывали материковым[139].
После британской экспедиции Цезарь распределил войска по восьми лагерям для зимовки:
- Гай Фабий — в землях моринов;
- Квинт Туллий Цицерон — в землях нервиев;
- Луций Аврункулей Котта[en] и Квинт Титурий Сабин — вдвоём командовали крупнейшим лагерем в землях эбуронов, где зимовал один легион и ещё пять когорт. Их лагерь находился в селении Адуатука (по разным версиям, это современный Тонгерен или Льеж);
- Луций Росций Фабат[en] — в землях эсувиев;
- Марк Лициний Красс Младший — в Белгике, южнее Самаробривы (современный Амьен);
- Луций Мунаций Планк — где-то в Белгике;
- Гай Требоний — в Белгике (возможно, в Самаробриве);
- Тит Лабиен — в землях ремов возле границы с областью треверов[142].
Известно, что Квинту Цицерону было предоставлено право самому определить место для расположения лагеря, и такие же полномочия, вероятно, получили и другие офицеры[143].
«Записки» сообщают причину, по которой армия зимовала по частям, порой на значительном отдалении друг от друга — из-за плохого урожая вследствие летней засухи[142]. Впрочем, другой причиной, по которой войскам не хватало продовольствия в одном месте, были длительные войны самого Цезаря, истощившие ранее процветавшую территорию[143].
В 54 году до н. э. Гай, вопреки обыкновению, сперва задержался на завоёванных территориях до укрепления лагерей всеми его офицерами, а затем и вовсе отказался от зимовки в Цизальпийской Галлии. Своё решение проконсул изменил после получения известий об убийстве Тазгетия (Тасгеция), вождя племени карнутов. Вместе с одним легионом он решил зимовать в Самаробриве (современный Амьен)[143], а Луцию Мунацию Планку приказал выдвинуться в земли карнутов и зимовать там[144].
Восстание белгов
В конце 54 года до н. э. Индуциомар, ранее отстранённый Цезарем от власти, узнал о разобщённости римских легионов и начал сбор верных себе треверов. Он также сообщил о своих планах другим вождям белгов, недовольных римской властью, призывая их напасть на ближайшие лагеря оккупантов. Впрочем, создание единого командования не планировалось, и все племена действовали по своему усмотрению[145].
Первыми против римлян выступило племя эбуронов, чьи войска возглавили Амбиориг и Катуволк (или Кативолк)[en]. Они напали на Адуатуку, где базировались XIV легион и пять когорт прочих войск — в общей сложности около 6-8 тысяч солдат. Римляне отбили первую атаку, и в их лагерь вскоре прибыл Амбиориг. Он утверждал, что эбуроны вынудили возглавить поход против его воли и предлагал им безопасно покинуть лагерь вместе с войсками. Кроме того, он сказал, что через Рейн уже переправился большой отряд германцев, который скоро будет помогать галлам брать лагеря римлян поодиночке. Поскольку Амбиориг пользовался доверием Цезаря (именно неоплаченным долгом перед проконсулом Амбиориг и мотивировал своё щедрое предложение), к его мнению прислушался Титурий Сабин, один из двух командующих лагерем и войсками, и предложил воспользоваться предложением. Его коллега Аврункулей Котта отказался, но в конце концов было решено выдвигаться. Однако эбуроны устроили на римлян засаду, использовав знание местности. Большая часть легионеров была убита, и лишь немногие сумели добраться до лагеря Лабиена[146]. Потери римлян от засады оцениваются в 7 тысяч человек[147].
Все эти события известны по «Запискам» и составлены из показаний немногочисленных выживших и взятых в плен галлов. Хотя основа рассказа заслуживает доверия, проконсул приписывает всю вину Титурию Сабину. Его современники, однако, возлагали вину на самого Цезаря: назначение двух командующих одним лагерем было его идеей, и, как командующий, он должен был нести полную ответственность за случившееся. Поражение римлян казалось особенно позорным из-за того, что эбуроны никогда не считались в Галлии умелыми воинами. Сам факт чувствительного поражения римской армии ослаблял авторитет Цезаря как полководца и доказывал галлам хрупкость римского господства[148].
Узнав об успехе эбуронов, решилось выступить племя нервиев. Воспользовавшись тем, что расположенный в их землях лагерь оставался в неведении об атаке эбуронов, они собрали крупные силы и подготовились к нападению[149]. Цезарь пишет о 60 тысячах нервиев; эта цифра наверняка завышена, но, несомненно, белги имели значительный численный перевес[150].
Лагерем в земле нервиев (располагался он на реке Самбре) командовал Квинт Туллий Цицерон, который никогда не отличался военными дарованиями, а легатом он стал только благодаря протекции своего брата Марка: Цезарь очень рассчитывал на защиту Марком его интересов в Риме. Из писем Квинта, сохранившихся среди переписки его брата, известно о том, что по пути в лагерь он занимался не вопросами обеспечения войск, а сочинением трагедий. Тем не менее во время внезапной атаки нервиев и их союзников он достойно проявил себя. К моменту нападения галлов лагерь не был укреплён до конца, и под руководством Квинта все работы были завершены всего за одну ночь. На следующий день нервии прислали послов с предложением, которое уже сработало в первом римском лагере, но Квинт решительно отверг его[цитата 3].
Не исключено, что заслуги Квинта в «Записках» намеренно приукрашены Цезарем ради сохранения расположения его брата, но едва ли преувеличения были всеобъемлющими. После провала переговоров белги приступили к осаде лагеря[149]. Ранее галлам были неизвестны греко-римские приёмы осады городов и осадные орудия, но их научило наблюдение за действиями Цезаря при осаде их собственных укреплений[цитата 4].
Поскольку Квинт не успел сообщить Цезарю о нападении, он пообещал большую награду тому, кто сумеет проникнуть через ряды осаждающих и доставить послание проконсулу о начале осады. После недели блокады и нескольких неудачных попыток это удалось одному галльскому рабу, который доставил сообщение о нападении Цезарю в Самаробриву. В этом городе проконсул сосредоточил крупные запасы продовольствия и собрал всех заложников от различных племён. Кроме того, здесь хранились деньги, предназначенные для выплаты жалованья, и вся переписка армии. Полководец вызвал младшего Марка Красса, чтобы он немедленно оставил свой лагерь и взял на себя охрану Самаробривы, а легион Цезаря в это время выступил на помощь Квинту Цицерону. В «Записках» утверждается, что войска Красса за ночь и утро прошли 25 миль (около 40 километров). Одновременно проконсул написал в два других ближайших лагеря Гаю Фабию и Титу Лабиену с приказом немедленно выступать и соединиться с ним неподалёку от лагеря Квинта[151]. Лабиену, впрочем, Цезарь предоставил возможность удержания лагеря, если этого потребует обстановка. Тит воспользовался этой оговоркой, поскольку племя треверов к приходу письма уже собирало силы вокруг его лагеря[152]. После объединения легиона Цезаря и небольшого числа вспомогательных войск с легионом Фабия римляне всё равно располагали небольшими силами — около 7 тысяч солдат. Причиной неполного комплектования легионов была длительная кампания, в течение которой подкрепления приходили нерегулярно[152]. Наконец, солдаты Цезаря подошли к осаждённому лагерю Цицерона. К этому времени запертые легионеры пережили поджог лагеря и отразили полномасштабный штурм, во время которого многие солдаты получили серьёзные ранения. Разведчик проконсула из галлов предупредил Цицерона о скором прибытии подкрепления, метнув в лагерь метательное копьё (лат. tragula) с прикреплённым письмом, написанным по-гречески, но оно попало в башню, и два дня никто не обращал на него внимания[153].
Нервии сильно превосходили римлян количеством войск, хотя едва ли они располагали 60 тысячами солдат, как утверждает Цезарь (см. выше). Узнав о приближении Цезаря, они сняли осаду и выступили против него. Цезарь, не желавший вести сражение в невыгодных условиях, спровоцировал галлов на нападение на заранее подготовленные позиции. Для этого полководец начал строительство слишком маленького лагеря, а своим солдатам приказал отступать за ворота при первых же признаках опасности. В «Записках» этот план сводится к желанию «внушить врагу полное презрение к нашему войску». Когда галлы вплотную подошли к лагерю (Цезарь увёл своих солдат со стен и с башен) и начали вручную засыпать ров, на них одновременно из всех ворот напали легионеры и обратили противника в бегство[152][154].
Поздно вечером того же дня вести о победе Цезаря достигли лагеря Лабиена, и Индуциомар, который наметил на следующий день штурм римского лагеря, распустил свои войска. Однако Лабиен немедленно отправил кавалерию в погоню за галльским вождём, и он был захвачен. Отказались от нападения на XIII легион и племена в Арморике[155][156].
Кампания 53 года до н. э.
Подавление восстания белгов и вторая экспедиция в Германию
Зимой Цезарь пополнил ряды своих войск и заново набрал два легиона: XV и новый XIV вместо уничтоженного. Кроме того, проконсул запросил у Помпея и вскоре получил недавно набранный I легион, который должен был направиться в Испанию. Таким образом, общее число римских войск в Галлии было доведено до десяти легионов. Усиление было особенно важно для демонстрации галлам неисчерпаемых человеческих ресурсов Римской республики[156].
Восставшие не имели единого командования, и Цезарь надеялся воспользоваться этой разобщённостью. В конце зимы он напал на нервиев с четырьмя легионами, и после разграбления их пограничных земель племя подчинилось полководцу и выдало заложников. В начале весны Цезарь созвал вождей галльских племён в Лютецию (современный Париж)[157]. По пути в Лютецию он вынудил сдаться племя сенонов, после чего прежде враждебно настроенные карнуты также запросили мира[158].
После совещания, в ходе которого вожди племён центральной Галлии заверили Цезаря в своей преданности, он направился в Белгику для окончательного подавления восстания в этих землях. Гай приступил к повторному покорению племени менапиев, а Тита Лабиена с тремя легионами выслал для борьбы с треверами, проживавшими южнее[159]. Менапии в очередной раз отступали, скрываясь в лесах и болотах, но Цезарь действовал против них по новому плану: его войска разделились на группы, которые вырубали лес и строили дамбы и мосты через болота и реки, проходя вглубь вражеских земель. Предвидя скорый разгром своих сил и разграбление всех своих селений, племя сдалось проконсулу. В это же время Тит Лабиен столкнулся с треверами и, вынудив их принять бой в неудобном для них месте, полностью разгромил противника[159].
Затем Цезарь узнал о переправе германских отрядов через Рейн по призыву Амбиорига. Римская армия поднялась вверх по течению Рейна, возвела ещё один мост через реку приблизительно в том же месте, что и в первый раз, и вновь переправилась в Германию. Целью была демонстрация германцам уже не самих достижений римской инженерной мысли, а тривиальности такой задачи. Римляне недвусмысленно давали понять, что Рейн для них не является преградой, и в случае нарушения неписаной границы германцами римляне немедленно проведут карательную экспедицию на другом берегу. Свевы, подошедшие близко к реке и к племени убиев, немедленно отошли вглубь Германии и призвали Цезаря сразиться с ними на их территории, но он не стал отдаляться от Рейна и вскоре вернулся в Галлию[160].
Карательная экспедиция против эбуронов и нападение германцев
Следующей операцией Цезаря стало подчинение эбуронов. Основные войска племени под руководством Амбиорига отступили, узнав о нападении на приграничные поселения. Другой вождь эбуронов, Катуволк, покончил жизнь самоубийством, съев ягоды тиса[цитата 5]. Возможно, это был вид ритуального самоубийства, с помощью которого Катуволк признавал свою вину и просил Цезаря пощадить своих соплеменников. В погоне за вражескими отрядами римляне прошли возле Адуатуки, и Цезарь приказал заново набранному XIV легиону под командованием Квинта Цицерона укрепить это место и охранять здесь обоз. Эбуроны, однако, уже скрылись в лесах, но не сдавались, и вскоре Цезарь прекратил преследование [161]. Понимая преимущество эбуронов в случае начала партизанской войны, он объявил их поселения свободными для разграбления, чем воспользовались не только их соседи, но и отряды мародёров со всей Галлии и даже из-за Рейна[162].
Вскоре после этого через Рейн переправился отряд германского племени сугамбров, которые приняли участие в грабеже эбуронов. По версии «Записок о Галльской войне», один из взятых в плен галлов рассказал им о слабо охраняемом лагере римлян, где находится весь их обоз. После этого германцы напали на Адуатуку, откуда только что по указанию Цицерона ушли все солдаты для сбора продовольствия[коммент. 15]. В лагере осталось много раненых и больных солдат, а также гражданские лица. Охрана практически отсутствовала, и германцам удалось прорваться к самым стенам. Некоторое время оборону лагеря держали все, включая раненых и больных. В конце концов, атака была отбита солдатами, возвращавшимися с продовольствием, и германцы отступили. Вскоре прибыл и Цезарь. Не желая портить отношения с Марком Цицероном[163], он частично оправдывает Квинта в «Записках»:
«Как человек, хорошо знакомый с превратностями войны, Цезарь по своём возвращении мог сделать упрёк единственно в том, что когорты были посланы с своего поста и из укреплённого лагеря: следовало избегать возможности даже самой незначительной неудачи; по его мнению, несомненной игрой судьбы было внезапное нападение врага, а ещё более — его удаление, после того как он был уже у самого вала, почти в воротах лагеря».
— Цезарь. Записки о Галльской войне, VI, 42.
После возвращения в Адуатуку римляне предприняли набег на близлежащие поля эбуронов, чтобы лишить прятавшиеся в лесах отряды Амбиорига продовольствия. Окрестные селения были сожжены, а созревшие зерновые скормлены скоту или собраны римскими фуражирами, а остатки вскоре сгнили. Оставив за собой полностью разграбленную местность, Гай направился в город Дурокорторум (современный Реймс), где занялся раскрытием и подавлением заговора в землях карнутов и сенонов. Его организатором был признан Аккона, которого казнили, а его скрывшихся пособников объявили вне закона. Затем римские легионы отправились на зимние квартиры в Белгику, хотя два легиона были расквартированы в центральной Галлии. Наконец, Цезарь впервые за два года вернулся в Цизальпийскую Галлию[164][165].
Операции Цезаря в 53 году до н. э. были восприняты в Риме как месть за прошлогодние нападения белгов. Известия о засаде и гибели большей части XIV легиона, несомненно, серьёзно ударили по репутации Цезаря в столице. Впрочем, вести о них достигли Рима не сразу, а уже через несколько месяцев в столице стало известно о гораздо большей катастрофе: во время похода в Парфию погибли десятки тысяч солдат, а Марк и Публий Крассы были убиты, что поставило под угрозу все восточные провинции. К концу 53 года до н. э. Цезарь, вероятно, завершил работу над 5-й и 6-й книгами «Записок» о событиях двух последних лет[коммент. 10], и их начали распространять в Риме. В них последовательно отстаивалась мысль о том, что галлов настигло возмездие за их злодеяния, а вся ответственность за неудачи снималась с Цезаря. Кроме того, проконсул поддерживал свою репутацию, не останавливая строительство ряда крупных общественных зданий на деньги от галльской добычи[166].
Кампания 52 года до н. э.
Начало всеобщего восстания
К началу 52 года до н. э. активные боевые действия в Галлии завершились; лишь в землях белгов происходили стычки с остатками отрядов восставших. В январе вблизи Рима был убит популярный в народе политик-демагог Клодий, и его смерть привела к обострению и без того сложной ситуации в Риме. Цезарь оставался в Цизальпийской Галлии, чтобы не допустить невыгодной для себя развязки событий, но о кризисе в столице узнали и галлы. Предполагая, что проконсул будет вынужден задержаться на Апеннинах, они начали обсуждать возможность организации нового выступления. Галлы решили воспользоваться сложившейся ситуацией и отрезать расквартированные среди белгов легионы от их командующего[цитата 6]. Решение о начале восстания было оформлено в виде священной клятвы, данной в присутствии друидов[167].
Сигналом к восстанию послужило нападение племени карнутов на Кенаб (или Ценаб; современный Орлеан) и убийство всех римлян в нём — в основном, торговцев. Согласно версии «Записок», только после начала восстания был определён единый лидер галлов. Им стал Верцингеториг из племени арвернов, которого Цезарь описывает как способного и жёсткого командующего, сумевшего объединить большинство племён центральной и южной Галлии[168]. Вскоре к восстанию присоединились и аквитаны, а впоследствии к мятежникам примкнули и многие племена белгов[169]. Робер Этьен, впрочем, полагает, что Верцингеториг не только стал лидером повстанцев до резни в Кенабе, но и спланировал всё восстание, включая необычное начало войны зимой. Его планом стало блокирование римских легионов на севере и вторжение в Нарбонскую Галлию на юге; согласно этому плану, Цезарю пришлось бы направить все силы на защиту римской провинции, а Верцингеториг с основной армией должен был беспрепятственно действовать в центральной Галлии[170].
Узнав о начале восстания, Цезарь немедленно покинул Цизальпийскую Галлию, по пути набирая войска в своих провинциях. После прибытия в Нарбонскую Галлию ему стали ясны планы повстанцев по недопущению соединения с войсками. Не желая оставаться в Нарбонской Галлии и не имея возможности прорваться к своим легионам, Гай с 22 когортами пересёк горы Севенны и вторгся в земли арвернов. Это племя полагало, что их земли надёжно защищены горами, с которых ещё не сошёл снег (Цезарь пишет о высоте снежного покрова в 6 футов — около 170—180 сантиметров[171]). Благодаря этому вторжению ему удалось спутать планы восставших, убедив Верцингеторига выступить на защиту своего родного племени[172]:
«[Арверны] были застигнуты врасплох, так как за Севеннами они чувствовали себя как за каменной стеной и в это время года в горах даже отдельные пешеходы не имели понятия о каких-либо тропинках. Ввиду этого Цезарь приказал своей коннице охватить своими набегами возможно более широкий район и как можно больше нагнать страху на неприятелей. Слухи и прямые вести об этом доходят до Верцингеторига. Его обступают в ужасе все арверны и умоляют позаботиться об их достоянии и не отдавать его на разграбление врагам, тем более что война, как и сам он видит, всей тяжестью обрушивается на их страну. Их просьбы побудили его выступить из области битуригов по направлению к стране арвернов».
— Цезарь. Записки о Галльской войне, VII, 8.
В землях арвернов Цезарь оставил Децима Брута с кавалерией и через земли сохранивших верность Риму эдуев вышел к двум легионам, зимовавшим среди племени лингонов, а оттуда вызвал остальные легионы из земель белгов. Таким образом, Гаю удалось тайно добраться к основным своим войскам, и Верцингеториг узнал о случившемся, когда силы римлян уже почти объединились. Вождь галлов в отместку напал на племя бойев, которое эдуи расселили в своих землях. Этим Верцингеториг вынудил Цезаря сделать сложный выбор: либо полководец начинал кампанию в условиях продолжающейся зимы, что гарантировало трудности в снабжении, либо он отказывает бойям в помощи, но в этом случае пошатнётся уверенность союзников Рима в том, что Цезарь способен их защитить[173].
Римский полководец принял решение прийти бойям на помощь, несмотря на ожидавшиеся трудности. Оставив два легиона в Агединке (современный Санс), он осадил один из главных городов восставших сенонов Веллаунодун[en] (местоположение неизвестно) и взял его за два дня. Столь быстрое взятие города стало неожиданностью для карнутов, которые не успели подготовить к приходу римлян Кенаб. Город был взят штурмом и сожжён дотла, а его жители проданы в рабство в наказание за содействие убийству римлян[173].
После взятия Кенаба римляне перешли через Луару и подошли к Новиодуну Битуригов (современный Нен-сюр-Беврон[en] или Нёви-сюр-Баранжон). Его жители уже были готовы открыть Цезарю ворота, когда показались войска Верцингеторига, и галлы изменили своё мнение. Впрочем, после того, как наступающие силы восставших (это был небольшой передовой отряд) были разбиты римлянами, жители поселения всё же открыли римлянам ворота[174].
 Нападения на эти укреплённые поселения, вероятно, задумывались не столько ради желания получить стратегическое преимущество и запугать галлов, сколько ради необходимости захвата продовольствия для грядущей кампании. По-видимому, именно понимание трудностей снабжения армии Цезаря подвигло Верцингеторига на изменение стратегии. Вождь галлов приказал перевезти все запасы продовольствия в небольшое число хорошо защищённых городов, а все прочие поселения и запасы потребовал сжечь, чтобы они не достались врагу. Затягивание времени работало на галлов, поскольку они могли продолжать стягивать подкрепления и собирать продовольствие в отдалённых районах. Соответствующее решение Верцингеториг озвучил на совещании вождей восставших галльских племён[175].
Нападения на эти укреплённые поселения, вероятно, задумывались не столько ради желания получить стратегическое преимущество и запугать галлов, сколько ради необходимости захвата продовольствия для грядущей кампании. По-видимому, именно понимание трудностей снабжения армии Цезаря подвигло Верцингеторига на изменение стратегии. Вождь галлов приказал перевезти все запасы продовольствия в небольшое число хорошо защищённых городов, а все прочие поселения и запасы потребовал сжечь, чтобы они не достались врагу. Затягивание времени работало на галлов, поскольку они могли продолжать стягивать подкрепления и собирать продовольствие в отдалённых районах. Соответствующее решение Верцингеториг озвучил на совещании вождей восставших галльских племён[175].
Одним из пунктов, куда свозили продовольствие, стал Аварик (современный Бурж), который племя битуригов упросило Верцингеторига не покидать, а защищать. Город был прекрасно укреплён и располагался среди труднопроходимых болот, лесов и рек, но Цезарь всё же решился его захватить, узнав о больших запасах продовольствия в городе. Для штурма он выбрал участок между двумя болотами и начал возводить там вал, крытые галереи и осадные башни. С их помощью Цезарь надеялся проникнуть на стену и захватить Аварик. Когда в середине апреля у римлян уже подходили к концу запасы еды, вал был завершён, и в ходе штурма войска Цезаря захватили город с богатыми запасами продовольствия, а скрывавшихся там жителей перебили[175][176].
Взятие Аварика нисколько не уменьшило авторитет Верцингеторига как полководца, а произвело обратный эффект:
«…так как он [Верцингеториг] ещё раньше, когда всё обстояло благополучно, сначала предлагал сжечь Аварик, а потом его оставить, то у них [галлов] ещё более повысилось представление о его предусмотрительности и способности предугадывать будущее».
— Цезарь. Записки о Галльской войне, VII, 30.
Битва при Герговии
Вскоре Цезарь разделил свои войска на две части. Он направил Тита Лабиена с четырьмя легионами на север, в земли сенонов и паризиев, а сам отправился на юг, в земли арвернов. Проконсул поднимался вверх по течению реки Элавер (современное название — Алье), Верцингеториг же следовал по другому берегу реки, уничтожая мосты и не давая Цезарю переправиться. Перехитрив галльского полководца, Гай переправился через Элавер и подошёл к опорному пункту галлов в землях арвернов — Герговии (возле современного Клермон-Феррана)[177][178]. Герговия была одним из важнейших городов повстанцев, а Робер Этьен и вовсе называет её «столицей восставшей Галлии»[179].
Город был удачно расположен на высоком холме и хорошо укреплён. Хотя его защищала основная армия Верцингеторига, Цезарь решил захватить стратегически важный пункт. Вскоре, впрочем, стало известно, что вожди племени эдуев готовятся изменить римлянам и перейти на сторону восставших. 10-тысячный вспомогательный отряд, который эдуи ещё раньше направили на помощь Цезарю, хотел перейти на сторону Верцингеторига из-за слухов об убийстве римлянами всех эдуев в их лагере. Гай узнал о распространявшихся слухах и направил к этому отряду свою кавалерию, причём включил в неё и эдуев, которых считали убитыми. После этого большая часть вспомогательного отряда присоединилась к Цезарю, но само племя эдуев продолжало склоняться к союзу с восставшими[180].
Дальнейшие события, известные как битва при Герговии (июнь 52 года до н. э.), не совсем ясны из-за уклончивости «Записок». Вероятно, невразумительное описание было составлено Цезарем намеренно, чтобы снять с себя вину за неудачу. Общий ход событий реконструируется следующим образом: полководец направил свои войска на рискованный штурм, отвлекая внимание осаждённых различными ухищрениями, но затем атака сорвалась. Цезарь, вероятно, сумел добиться внезапности нападения, однако осаждённые сумели вовремя стянуть силы к месту штурма. По версии «Записок», в самый ответственный момент легионы не услышали сигнал к отступлению. Впрочем, это описание не объясняет, для чего войскам потребовалось отступать, если штурм шёл удачно. Кроме того, неясно, почему полководец не поддержал атакующих — в резерве у него оставался по крайней мере один X легион. По сообщению Цезаря, римляне потеряли 746 человек убитыми (46 центурионов и 700 солдат), и вскоре отступили, дважды пытаясь спровоцировать Верцингеторига на битву на равнине. От Герговии римляне направились в область эдуев. Большинство из них к этому времени уже присоединилось к восстанию. Они перебили многочисленных римских торговцев и фуражиров в Новиодуне Эдуев (современный Невер), захватили множество продовольствия и денег, после чего сожгли город[181][182].
Осада Алезии
Тактики выжженной земли придерживались и галлы на севере. Они разоряли земли по пути легионов Тита Лабиена и, в частности, сожгли Лютецию (современный Париж), чтобы не позволить ему переправиться через Сену. К восставшим примкнуло большинство прежних союзников Рима, и только ремы и лингоны остались верны Цезарю. Из-за сложного положения на завоёванных землях соратники Цезаря начали предлагать ему отступить в Нарбонскую Галлию, но проконсул не дал согласия. Он приказал Лабиену следовать в Агединк (современный Санс), где обе армии должны были объединиться (по другой версии, информацию о соединении двух армий в Агединке Цезарь распространил намеренно, чтобы выманить Верцингеторига, а две римских армии должны были встретиться неподалёку[183]). По пути в этот город Тит сумел нанести поражение восставшим и значительно успокоить северную Галлию. Практически лишённый возможности набрать вспомогательные войска и кавалерию в Галлии, Цезарь обратился за помощью к германцам, и вскоре они прислали свои подкрепления[184]. Робер Этьен, однако, видит в действиях Цезаря после битвы при Герговии чёткий план. По мнению французского историка, Гай надеялся выманить Верцингеторига на северо-восток, куда уже стягивались подкрепления из Рима и Германии и где римлянам сохраняло верность несколько племён. Кроме того, по его версии, Цезарь отступал, создавая видимость бегства, чтобы Верцингеториг начал быстрое преследование лишь с частью войск, без ополчений ряда племён[185].
На съезде восставших в Бибракте Верцингеториг заявил о том, что галлам следует продолжать избегать генерального сражения, нарушая коммуникации и пути снабжения Цезаря. Опорным пунктом решено было сделать Алезию (вблизи современного Дижона; точное расположение было определено в результате раскопок, начатых по приказу Наполеона III[183]). Вождь кельтов вновь высказался в поддержку распространения восстания на Нарбонскую Галлию и начал посылать туда свои отряды. Впрочем, когда повстанцы попытались заручиться поддержкой кельтов этой провинции, самое крупное племя аллоброгов решительно отказалось сотрудничать с ними, а двоюродный брат проконсула Луций Юлий Цезарь вскоре набрал в провинции 22 когорты ополченцев и успешно противостоял всем попыткам вторжения[186][187].
 Получив известия об угрозе для провинции, Гай направился на юг. В походе его армия сильно растянулась, чем воспользовался Верцингеториг и выслал три сильных отряда кавалерии против римлян. Гай, впрочем, быстро разделил свою кавалерию на три отряда и разбил нападавших по частям. Вскоре Цезарь узнал, что его противник отступил в Алезию, и изменил свои планы, подойдя к этому укреплению. Робер Этьен, однако, видит в этом маневре осуществление задуманного ранее плана (см. выше). Алезия располагалась на крутом холме посреди долины и была хорошо укреплена. Верцингеториг, вероятно, надеялся повторить сценарий, сработавший у Герговии, однако римляне приступили к планомерной осаде вместо попытки штурма. Для этого Цезарю пришлось рассредоточить свои войска вдоль возводимых осадных стен[коммент. 16] общей длиной в 11 миль (17 километров; по другим данным, 20[188], 15[189] или 16 километров[190]). Осада была особенной ещё и из-за численного превосходства осаждённых над осаждающими: в Алезии, по свидетельству Цезаря, укрывалось 80 тысяч солдат[191]. Более вероятна, впрочем, оценка численности осаждённых в 50-60 тысяч[192], хотя Наполеон Бонапарт и Ганс Дельбрюк оценивали численность гарнизона Алезии всего в 20 тысяч галлов[193]. Римляне же располагали, по разным версиям, 10 ослабленными войной легионами в 40 тысяч солдат[192] или 11 легионами в 70 тысяч солдат, включая вспомогательные войска[190].
Получив известия об угрозе для провинции, Гай направился на юг. В походе его армия сильно растянулась, чем воспользовался Верцингеториг и выслал три сильных отряда кавалерии против римлян. Гай, впрочем, быстро разделил свою кавалерию на три отряда и разбил нападавших по частям. Вскоре Цезарь узнал, что его противник отступил в Алезию, и изменил свои планы, подойдя к этому укреплению. Робер Этьен, однако, видит в этом маневре осуществление задуманного ранее плана (см. выше). Алезия располагалась на крутом холме посреди долины и была хорошо укреплена. Верцингеториг, вероятно, надеялся повторить сценарий, сработавший у Герговии, однако римляне приступили к планомерной осаде вместо попытки штурма. Для этого Цезарю пришлось рассредоточить свои войска вдоль возводимых осадных стен[коммент. 16] общей длиной в 11 миль (17 километров; по другим данным, 20[188], 15[189] или 16 километров[190]). Осада была особенной ещё и из-за численного превосходства осаждённых над осаждающими: в Алезии, по свидетельству Цезаря, укрывалось 80 тысяч солдат[191]. Более вероятна, впрочем, оценка численности осаждённых в 50-60 тысяч[192], хотя Наполеон Бонапарт и Ганс Дельбрюк оценивали численность гарнизона Алезии всего в 20 тысяч галлов[193]. Римляне же располагали, по разным версиям, 10 ослабленными войной легионами в 40 тысяч солдат[192] или 11 легионами в 70 тысяч солдат, включая вспомогательные войска[190].
Галльский полководец попытался снять осаду, напав на возводивших укрепления легионеров, но атака была отбита. Часть кавалерии повстанцев сумела прорваться через ряды римлян и по заданию Верцингеторига разнесла весть об осаде по всей Галлии, призывая племена собрать ополчение из всех способных нести оружие и идти к Алезии. Цезарю доложили о планах галлов, и он приказал построить вторую линию укреплений, которая бы защитила римлян от нападения извне. Таким образом, наряду с укреплениями вокруг Алезии появились и стены вокруг лагерей осаждавших[коммент. 17] общей длиной в 14 миль (20-22 километра)[189][190][194].
Известное описание самих укреплений Цезарем не совсем точное, и данные археологических раскопок позволяют значительно уточнить текст «Записок». Прежде всего, первая линия укреплений (направленная против Алезии) включала не два вала, а три; не всегда точно расположение описанных Цезарем ловушек; расстояние между башнями (3 на 2,5 метра) составляло 50 футов (15 метров) вместо указанных Цезарем 80 футов (24 метра). Кроме того, проходившие по холмам укрепления имели свои особенности конструкции. В целом, возведённые Цезарем осадные укрепления свидетельствовали о следовании эллинистическим традициям осады городов, учитывали все особенности местности и порой применяли новые осадные приёмы (например, расположение «волчьих ям» в шахматном порядке до осады Алезии неизвестно)[195].
«Записки о Галльской войне» подробно описывают ход совещания, произошедшего в осаждённой Алезии (вероятно, на основе расспросов пленных и со введением некоторых драматических элементов). По словам Цезаря, галлы подсчитали, что продовольствия им хватит на месяц. Когда запасы еды закончились, Верцингеториг приказал вывести из города множество женщин, детей и стариков, хотя галл Критогнат якобы предлагал съесть их. Большинство из тех, кого вынудили покинуть Алезию, принадлежало к племени мандубиев, которые и предоставили свой город Верцингеторигу. Цезарь же приказал не открывать им ворота[196].
 В конце сентября к Алезии приблизилось огромное галльское ополчение, которое возглавляли Коммий, Виридомар, Эпоредориг и Веркассивеллаун. Его численность, по завышенной оценке Цезаря, составляла более 250 тысяч человек[197] (по оценке Ганса Дельбрюка, численность войск галлов составляла 50 тысяч солдат[198]). В следующие два дня попытки прорыва укреплений заканчивались в пользу римлян, а на третий день 60-тысячный (по свидетельству Цезаря) отряд галлов напал на римские укрепления на северо-западе, которые были самыми слабыми из-за пересечённой местности. Возглавил этот отряд Веркассивелаун, двоюродный брат Верцингеторига. Остальные войска совершали отвлекающие атаки, мешая проконсулу стянуть все силы для отражения главного удара. Исход битвы у северо-западных укреплений решили направленные и возглавленные Цезарем резервы, стянутые Титом Лабиеном на фланг 40 когорт, а также обошедшая противника с тыла кавалерия. Галлы были разбиты и бежали[199][200].
В конце сентября к Алезии приблизилось огромное галльское ополчение, которое возглавляли Коммий, Виридомар, Эпоредориг и Веркассивеллаун. Его численность, по завышенной оценке Цезаря, составляла более 250 тысяч человек[197] (по оценке Ганса Дельбрюка, численность войск галлов составляла 50 тысяч солдат[198]). В следующие два дня попытки прорыва укреплений заканчивались в пользу римлян, а на третий день 60-тысячный (по свидетельству Цезаря) отряд галлов напал на римские укрепления на северо-западе, которые были самыми слабыми из-за пересечённой местности. Возглавил этот отряд Веркассивелаун, двоюродный брат Верцингеторига. Остальные войска совершали отвлекающие атаки, мешая проконсулу стянуть все силы для отражения главного удара. Исход битвы у северо-западных укреплений решили направленные и возглавленные Цезарем резервы, стянутые Титом Лабиеном на фланг 40 когорт, а также обошедшая противника с тыла кавалерия. Галлы были разбиты и бежали[199][200].
На следующий день Верцингеториг сложил оружие, причём подробности сдачи полководца описывает не Цезарь, а его биограф Плутарх[201]:
«Верцингеториг, руководитель всей войны, надев самое красивое вооружение и богато украсив коня, выехал из ворот. Объехав вокруг возвышения, на котором сидел Цезарь, он соскочил с коня, сорвал с себя все доспехи и, сев у ног Цезаря, оставался там, пока его не заключили под стражу, чтобы сохранить для триумфа».
— Плутарх. Цезарь, 27.
Вскоре римлянам подчинились два сильных галльских племени — эдуи и арверны. Цезарь вновь признал первое племя союзниками, а последним предложил сравнительно лёгкие условия для сдачи. 20 тысяч представителей этих племён, сдавшихся при Алезии, он отпустил[201]. По два легиона Цезарь направил на зимовку в земли секванов, ремов и эдуев, остальных распределил по Галлии, а сам укрепился в Бибракте[202]. Несмотря на поражение под Алезией, многие галльские племена не спешили признавать верховенство Рима, что, вероятно, было связано с их желанием дождаться скорого отбытия проконсула из Галлии и возобновления войны[203]. В Риме в честь победы Цезаря были вновь устроены двадцатидневные торжественные молитвы богам[201].
События 51 и 50 годов до н. э.
 События 51 и 50 годов до н. э. описаны в восьмой книге «Записок о Галльской войне». В отличие от предыдущих семи книг этого сочинения, восьмую написал не сам Цезарь, а его подчинённый Авл Гирций.
События 51 и 50 годов до н. э. описаны в восьмой книге «Записок о Галльской войне». В отличие от предыдущих семи книг этого сочинения, восьмую написал не сам Цезарь, а его подчинённый Авл Гирций.
В декабре 52 года до н. э. Цезарь вторгся в земли племени битуригов и вынудил их капитулировать, а в январе следующего года ввёл войска в Кенаб (современный Орлеан) в землях карнутов. Оставив два легиона для подчинения этого племени, скрывшегося в лесах, Цезарь направился в земли белловаков. Это белгское племя отправило Верцингеторигу лишь небольшой отряд, поскольку его вожди планировали сразиться с римлянами в одиночку. После взятия Алезии белловаки подготовили крупную армию, куда включили и германских наёмников. Войско, возглавляемое Корреем и Коммием, сдерживало римлян, и однажды белловаки подготовили засаду на римских солдат. Цезарю, однако, удалось узнать о готовящейся засаде и тайно напасть на войска, уже расположившиеся на позициях для скрытного нападения. Основные силы белловаков оказались уничтожены, и вскоре прибыли послы племени с просьбой о капитуляции[203][204].
После победы над белловаками Цезарь направился в земли эбуронов, повторно объявил о полной свободе в разграблении их земель и активно помогал этому процессу. Тем не менее, вождю эбуронов Амбиоригу по-прежнему удалось скрыться. Вскоре римский полководец получил известия от своих легатов Гая Каниния Ребила и Гая Фабия о том, что крупный отряд восставших во главе с Луктерием[fr] и Драппом скрылся в практически неприступном Укселлодуне[en] вблизи границы с Аквитанией (точное расположение крепости неизвестно; чаще всего называются коммуны Верак[en], Мартель[en] и Капденак[en]). Цезарь оставил в северной Галлии Марка Антония и Фуфия Калена, которым поручалось завершить подчинение окрестных племён, а сам направился к Укселлодуну. После того, как римские инженеры отрезали город от подземных источников воды, повстанцы сдались. На этот раз Гай не ограничился лёгкими условиями мира, а приказал отрубить руки всем вражеским солдатам, после чего их отправили по домам. После взятия Укселлодуна Цезарь направился в Аквитанию, где большинство племён, сочувствовавших восставшим, сдалось без боя[205][206].
Зимой 51/50 года до н. э. Цезарь рассредоточил свои войска по разным областям Галлии: четыре легиона — в землях белгов, два — на атлантическом побережье, два — в землях эдуев, два — на территории племени лемовиков. Сам проконсул объехал все завоёванные земли, где он мог убедиться в прочности римского владычества и наградить верных Риму галлов. В конце зимы 50 года до н. э. Цезарь собрал свои войска в Неметоценне (современный Аррас) на общий смотр, который знаменовал окончание войны[207].
Итоги
 Галльская война завершилась присоединением к Римской республике примерно 500 тысяч квадратных километров территории, где проживало несколько миллионов человек (о различных оценках численности населения Галлии см. выше)[208]. Благодаря территории, завоёванной Цезарем, Римская республика приобрела черты континентальной империи: ранее все римские провинции располагались на берегах Средиземного моря[209]. В первое время в Галлии сохранялись племенная организация и полная власть вождей на местах, хотя за их деятельностью надзирал наместник[210].
Галльская война завершилась присоединением к Римской республике примерно 500 тысяч квадратных километров территории, где проживало несколько миллионов человек (о различных оценках численности населения Галлии см. выше)[208]. Благодаря территории, завоёванной Цезарем, Римская республика приобрела черты континентальной империи: ранее все римские провинции располагались на берегах Средиземного моря[209]. В первое время в Галлии сохранялись племенная организация и полная власть вождей на местах, хотя за их деятельностью надзирал наместник[210].
Контрибуция, которую проконсул наложил на завоёванные земли, оказалась сравнительно небольшой, что объясняется не бескорыстием полководца, а полной обескровленностью провинции[210]. Впрочем, Авл Гирций в VIII книге «Записок» прямо говорит об уступках Цезаря галлам (в том числе в вопросе о денежной контрибуции) только как о краткосрочной политике[цитата 7].
Сам Цезарь невероятно разбогател за годы пребывания в провинции. Светоний указывает, что он искал любой повод для грабежа галлов, включая расхищение имущества святилищ. Значительная часть награбленного досталась самому проконсулу, а золото из-за распродажи галльских драгоценностей упало в цене на 25 %, с обычных 4 до 3 тысяч сестерциев за один фунт[цитата 8]. Наряду со спонсированием строительства общественных сооружений, организацией игр и платой своим легионерам удвоенного жалованья, Цезарь давал взятки магистратам на десятки миллионов сестерциев, ссужал деньги многим политикам[211]. Лично Цезарю были преданы не только солдаты, но и офицеры: многие из них происходили не из римского нобилитета, и были обязаны своим возвышением исключительно полководцу[212]. Ряд легатов Цезаря поддержал его в гражданской войне 49-45 годов до н. э., и Гай щедро вознаградил их, выдвинув их на высокие должности. В частности, Марк Антоний был назначен начальником конницы (лат. magister equitum) — заместителем диктатора, а Гай Требоний, Публий Ватиний, Квинт Фуфий Кален — консулами. Среди легатов, служивших под командованием Цезаря, отдельно выделяют талантливого Тита Лабиена. Среди подчинённых проконсула он выделялся умелым руководством кавалерией, а также навыками организации разведки[213]. Тем не менее, он перешёл на сторону Гнея Помпея и погиб в гражданской войне.
В течение всей Галльской войны сторонники Цезаря Гай Оппий[en] и Луций Корнелий Бальб находились в Риме и заботились о поддержании репутации полководца, раздавая взятки магистратам и исполняя другие его поручения[214]. Благодаря этому Цезарь стал чрезвычайно известен в Риме, и ему отчасти удалось затмить недавние победы Гнея Помпея на Востоке. В то же время, во время консульства в 59 году до н. э. Гай нажил себе влиятельных врагов в Риме, и недовольные его возвышением сенаторы надеялись привлечь его к суду сразу по нескольким обвинениям. После окончания срока проконсульских полномочий Цезарь лишался судебного иммунитета, и вероятным исходом грядущего дела могло стать изгнание из Рима. Из-за этого будущее Гая, несмотря на успешное завоевание огромной территории, было туманным[212]. Провал попыток примирения сторон привёл к началу гражданской войны в январе 49 года до н. э.
Галльская война в культуре
Во многом благодаря завоеванию Галлии Цезарь в античную эпоху воспринимался как великий полководец, и Плиний Старший подсчитал, что Цезарь одержал больше побед, чем кто-либо из римлян (50, включая битвы гражданской войны)[215]. В отличие от крайне противоречивых оценок его политической деятельности, военные способности и заслуги римского полководца так или иначе признавались в античном мире всеми[216].
С конца XV века кампании Цезаря в Галлии начали внимательно изучаться, а военные теоретики и практики обращались к «Запискам о Галльской войне» за вдохновением[217]. В Новое время Цезаря высоко ценили Фридрих II, Наполеон I и многие другие полководцы[212]. Положительно оценивали деятельность Цезаря во время Галльской войны Джордж Бьюкенен и Томас Маколей. Напротив, во Франции делался акцент на насилие, которым сопровождалось покорение Галлии (Николя Буало, Жан-Жак Руссо)[209].
Находясь в заточении на острове святой Елены, Наполеон Бонапарт оставил описание Галльской войны, попытавшись реконструировать географию походов и рассмотрев различные аспекты деятельности римского полководца. Отношение Наполеона к Цезарю, однако, было далеко от слепого преклонения, и французский полководец критически рассмотрел Галльскую войну, указывая как на чисто военные просчёты, так и на политические ошибки[218]. Он также указывает на явное преимущество римской армии над галльскими ополчениями, что, по его мнению, и предопределило победу[219].
 Наполеон Бонапарт был невысокого мнения о Верцингеториге и прочих галльских вождях, в отличие от позднейших французских авторов, видевших именно в доримской Галлии истоки французской культуры. В эпоху романтизма и возросшего интереса к национальной истории Галльская война начала трактоваться во Франции как завоевание иноземцами свободолюбивых галлов, в которых видели предков современных французов. В частности, в 1828 году Амедей Тьерри выпустил сочинение «История галлов», в котором превознёс мужество древних галлов в их борьбе с римскими завоевателями. Во многом именно благодаря его популярному сочинению Верцингеториг и Бренн, вождь напавших на Рим в IV веке до н. э. галлов, стали считаться одними из национальных героев Франции. Деятельность Цезаря он, напротив, оценивал резко отрицательно. Историк Жюль Мишле под влиянием пересмотра роли Галльской войны изменил и свою оценку Цезаря: в первом томе «Истории Франции» его мнение о Гае очень высокое, но в поздних работах он сделал поправку сообразно с требованиями времени. К середине XIX века новый взгляд на доримскую историю Франции и на Галльскую войну распространился не только во французской исторической науке, но также в национальной публицистике и в художественной литературе: например, Эжен Сю проводил параллели между нападением Цезаря на Галлию и «вторжением пруссаков и казаков в 1814 году»[220].
Наполеон Бонапарт был невысокого мнения о Верцингеториге и прочих галльских вождях, в отличие от позднейших французских авторов, видевших именно в доримской Галлии истоки французской культуры. В эпоху романтизма и возросшего интереса к национальной истории Галльская война начала трактоваться во Франции как завоевание иноземцами свободолюбивых галлов, в которых видели предков современных французов. В частности, в 1828 году Амедей Тьерри выпустил сочинение «История галлов», в котором превознёс мужество древних галлов в их борьбе с римскими завоевателями. Во многом именно благодаря его популярному сочинению Верцингеториг и Бренн, вождь напавших на Рим в IV веке до н. э. галлов, стали считаться одними из национальных героев Франции. Деятельность Цезаря он, напротив, оценивал резко отрицательно. Историк Жюль Мишле под влиянием пересмотра роли Галльской войны изменил и свою оценку Цезаря: в первом томе «Истории Франции» его мнение о Гае очень высокое, но в поздних работах он сделал поправку сообразно с требованиями времени. К середине XIX века новый взгляд на доримскую историю Франции и на Галльскую войну распространился не только во французской исторической науке, но также в национальной публицистике и в художественной литературе: например, Эжен Сю проводил параллели между нападением Цезаря на Галлию и «вторжением пруссаков и казаков в 1814 году»[220].
Однако вскоре новым императором Франции стал Наполеон III, не скрывавший своего благоговения перед Цезарем. Его взгляды, окончательно оформленные в «Истории Юлия Цезаря», сводились к привнесению римлянами цивилизации в прежде варварские края. Кроме того, император покровительствовал археологическим раскопкам на местах сражений Галльской войны, благодаря чему стало возможным воссоздание точной географии походов римского полководца. Поддерживал распространение идей Наполеона Проспер Мериме, который начал писать биографию Цезаря, но не завершил её. В 1867 году, несмотря на свою симпатию к Цезарю, Наполеон III приказал установить на холме у Алезии статую Верцингеторига, который в массовом сознании уже воспринимался как герой. Более того, в чертах лица галльского вождя на памятнике находят сходство с самим императором[221].
Впрочем, взгляды императора не всегда поддерживались в обществе, в том числе и оппонентами Наполеона III (в частности, Альфонсом де Ламартином, резко отрицательно оценивавшего Цезаря). Отрицалась трактовка истории императором и в публицистике, и в далёкой от политики художественной литературе (Жан-Жак Ампер, Анри Мартен и многие другие)[222].
После поражения во франко-прусской войне врага всех галлов Цезаря начали сравнивать с Мольтке и Бисмарком, осаду Алезии — с недавней осадой Парижа, а Верцингеторига — с Леоном Гамбетта. Вскоре Италия образовала антифранцузский Тройственный союз, что привело к новой волне популярности сравнений с событиями двухтысячелетней давности[223].
К началу XX века, однако, тема противостояния галлов с римлянами постепенно теряла актуальность по сравнению с галло-германским противостоянием[223]. Истоки этого антагонизма двух древних народов, впрочем, тоже восходят к «Запискам о Галльской войне»[216]. В 1916 году, уже во время Первой мировой войны, историк Жюль Тутен[fr] опубликовал книгу «Герой и бандит: Верцингеториг и Ариминий», в которой жестокие и вероломные германцы представлялись извечными врагами галлов. Камилль Жюльян в работе «Галлия и Франция» утверждает, что Галльская война принесла побеждённым только смерть и разрушения[223]. В 1930-е годы французские публицисты (например, Мариус-Аре Леблон), проводя параллели со сближением Италии и Германии, обращали внимание на поддержку германцами Цезаря в борьбе против галлов[224].
В Галлии во время войны происходит действие французских комиксов про Астерикса, и в 1999 году по их мотивам снят фильм «Астерикс и Обеликс против Цезаря»[225]. Кроме того, события Галльской войны отражены в фильме 2001 года «Друиды» (в международном прокате — «Верцингеториг»)[226]. В фильме 2002 года «Юлий Цезарь»[227] подробно показана осада Алезии, а в телесериале 2005-07 годов «Рим»[228] однажды упомянутые Цезарем в «Записках о Галльской войне» Тит Пуллон и Луций Ворен являются главными героями, а вокруг событий в Галлии построена первая серия.
Напишите отзыв о статье "Галльская война"
Комментарии и цитаты
- Комментарии
- ↑ В настоящее время эти территории входят в состав современных Франции, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Германии, Швейцарии и Великобритании.
- ↑ В русскоязычной литературе для обозначения племён и их территории используются как варианты с мягким знаком (бельги, Бельгия), так и без него (белги, Белгия).
- ↑ Например, в конце I века н. э. Публий Корнелий Тацит причислял два белгских племени нервиев и треверов к германцам[7].
- ↑ Контуберналы — знатные юноши (дети сенаторов и всадников), обучавшиеся военному делу и провинциальному управлению под надзором действующего магистрата.
- ↑ Послов других народов традиционно принимали на заседаниях сената (чаще всего в феврале), и даже если Цезаря не было в Риме, все донесения протоколировались.
- ↑ Переправа, которая заняла у гельветов двадцать дней, была осуществлена Цезарем за одни сутки[40].
- ↑ Требование заложников было распространённой практикой в римской дипломатии при общении с варварскими народами, не являвшихся союзниками Рима.
- ↑ Теодор Моммзен считает Бибракте важнейшим городом эдуев[45].
- ↑ Ещё в Везонтионе галлы рассказали римским солдатам различные небылицы про выдающуюся силу германских воинов, которые оказали серьёзное психологическое воздействие на легионеров[цитата 1].
- ↑ 1 2 3 Возможно, «Записки» были написаны только в конце войны или вскоре после её окончания (см. раздел «Исторические источники»).
- ↑ Возможно, эти четыре человека (Тит Силий, Тит Террасидий, Марк Требий Галл и Квинт Веланий) занимали некие младшие должности — предположительно, военных трибунов или префектов[84]. По утверждению Цезаря[85], эти люди имели статус послов (лат. legatus), хотя некоторые исследователи считают, что дипломатического статуса они не имели, а Гай, приписывая им положение послов, надеялся оправдать своё нападение попранием дипломатического иммунитета[86].
- ↑ Возможно, Рейн обмелел, что существенно упрощало задачу римлянам[119].
- ↑ В IV и V книгах «Записок», повествующих о событиях 55 и 54 года до н. э., Публий не упоминается.
- ↑ Сам Цезарь в «Записках» обвинил в случившемся безумие вождя[136].
- ↑ Цезарь обещал вернуться в Адуатуку в назначенный день, но до Цицерона дошли слухи, что проконсул углубился в земли эбуронов.
- ↑ Так называемая циркумвалационная линия.
- ↑ Так называемая контрвалационная линия.
- Цитаты
- ↑ Цезарь. Записки о Галльской войне, I, 39. Цитата: «[галлы] заявляли, что германцы отличаются огромным ростом, изумительной храбростью и опытностью в употреблении оружия: в частых сражениях с ними галлы не могли выносить даже выражения их лица и острого взора. Вследствие этих россказней всем войском вдруг овладела такая робость, которая немало смутила все умы и сердца. <...> Везде во всём лагере составлялись завещания. Трусливые возгласы молодёжи стали мало-помалу производить сильное впечатление даже на очень опытных в лагерной службе людей: на солдат, центурионов, начальников конницы».
- ↑ Цезарь. Записки о Галльской войне, I, 54. Цитата: «Таким образом Цезарь окончил в одно лето две очень больших войны и потому несколько раньше, чем этого требовало время года, отвёл войско на зимние квартиры к секванам»
- ↑ Цезарь. Записки о Галльской войне, V, 38. Цитата: «Тогда вожди и князья нервиев, которые имели какой-либо случай побеседовать с Цицероном и находились с ним в дружественных отношениях, заявляют о своём желании переговорить с ним. Получив это разрешение, они указывают ему на то же, о чём Амбиориг говорил с Титурием: вся Галлия находится под оружием; германцы перешли через Рейн; зимние лагери Цезаря и всех его легатов осаждены. Прибавляют и сообщение о смерти Сабина; в подтверждение этого ссылаются на Амбиорига: большая ошибка — рассчитывать на какую-либо помощь со стороны тех, которые сами отчаялись в своём спасении. Тем не менее они отнюдь не враждебно настроены по отношению к Цицерону и римскому народу; они только против зимнего постоя и не желают, чтобы он обратился в постоянную привычку. Цицерону и его людям они позволяют покинуть свой лагерь невредимыми и спокойно отправляться, куда им угодно. На это Цицерон дал один ответ: римский народ не привык принимать условия от вооружённых врагов; если им угодно положить оружие, то пусть они обратятся к нему за содействием и отправят послов к Цезарю: принимая во внимание его справедливость, он надеется, что они добьются от него исполнения своих пожеланий».
- ↑ Цезарь. Записки о Галльской войне, V, 42. Цитата: «Обманувшись в своих ожиданиях, нервии окружают наш лагерь валом в десять футов [3 метра] вышиной и рвом в пятнадцать футов [4,5 метра] шириной. Эти знания они получили от нас в своих сношениях с нами за предыдущие годы, а также пользовались указаниями некоторых бывших у них пленных римлян из нашего войска. Но за отсутствием подходящих для этого дела железных инструментов они принуждены были снимать дёрн мечами, а землю выгребать руками и выносить в плащах. По этому можно было составить себе представление об их многочисленности: менее чем в три часа они окончили линию укрепления в десять миль [16 километров] в окружности и пятнадцать футов [4,5 метра] высотой, а в следующие дни начали готовить и воздвигать башни соразмерно с высотой вала, стенные багры, устраивать „черепахи“, чему их научили те же пленные».
- ↑ Цезарь. Записки о Галльской войне, VI, 31. Цитата: «Царь другой половины страны эбуронов — Катуволк, участник восстания Амбиорига, по своему преклонному возрасту не мог выносить тягости войны и бегства и, всячески проклиная Амбиорига как истинного виновника этого движения, отравился ягодами тиса, который в большом количестве водится в Галлии и в Германии».
- ↑ Цезарь. Записки о Галльской войне, VII, 1. Цитата: «Соответственно обстоятельствам, галлы преувеличивают события и сами сочиняют слух, что Цезаря удерживает восстание в Риме и из-за больших смут он не может прибыть к войску. Этот случай побудил людей, уже давно скорбевших о своём подчинении римской власти, строить с большой свободой и смелостью планы войны с римлянами. Галльские князья стали собираться в лесных и отдалённых местах и жаловаться на казнь Аккона: такая же участь, говорили они, может постигнуть и их самих. Они сокрушаются об общей для всей Галлии судьбе; всякими обещаниями и наградами вызывают желающих начать восстание и на свой риск добиваться свободы для Галлии. Главное дело — отрезать Цезаря от его армии, прежде чем их тайные планы сделаются известными. И это нетрудно, так как ни легионы не осмелятся выйти из зимнего лагеря в отсутствие полководца, ни полководец не может добраться до легионов без прикрытия; наконец, лучше пасть в бою, чем отказаться от попытки вернуть свою прежнюю военную славу и унаследованную от предков свободу».
- ↑ Гирций (Цезарь). Записки о Галльской войне, VIII, 49. Цитата: «Менее всего хотел бы он [Цезарь] быть поставленным в необходимость вести какие бы то ни было военные действия перед самым своим уходом, чтобы не оставлять за собой при выходе своей армии из Галлии такой войны, которую охотно предприняла бы вся Галлия, почувствовав себя свободной от непосредственной опасности. Поэтому он обращался к общинам в лестных выражениях, их князей осыпал наградами, не налагал никаких тяжелых повинностей и вообще старался смягчить для истощенной столькими несчастливыми сражениями Галлии условия подчинения римской власти. Таким путём он без труда поддерживал в ней спокойствие».
- ↑ Светоний. Божественный Юлий, 54. Цитата: «В Галлии он опустошал капища и храмы богов, полные приношений, и разорял города чаще ради добычи, чем в наказание. Оттого у него и оказалось столько золота, что он распродавал его по Италии и провинциям на вес, по три тысячи сестерциев за фунт».
Примечания
- ↑ Цезарь. Записки о Галльской войне, I, 1; перевод М. М. Покровского.
- ↑ Ферреро Г. Юлий Цезарь. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — С. 90.
- ↑ Игнаткович Г. М. Гай Юлий Цезарь — М.: Воениздат, 1940. — С. 23.
- ↑ Грант М. Юлий Цезарь: Жрец Юпитера. — М.: Центрполиграф, 2003. — С. 110.
- ↑ Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 119.
- ↑ Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 117.
- ↑ 1 2 3 Goldsworthy A. Caesar: Life of a Colossus. — New Haven; London: Yale University Press, 2006. — P. 238.
- ↑ Моммзен Т. История Рима. — Т. 3: От смерти Суллы до битвы при Тапсе. — СПб.: Наука, 2005. — С. 157.
- ↑ Грант М. Юлий Цезарь: Жрец Юпитера. — М.: Центрполиграф, 2003. — С. 92.
- ↑ Goldsworthy A. Caesar: Life of a Colossus. — New Haven; London: Yale University Press, 2006. — P. 243.
- ↑ Badian E. Roman Imperialism in the Late Republic. — P. 67.
- ↑ Цитируется по: Лесков В. А. Спартак. — М.: Молодая гвардия, 1983. — С. 219.
- ↑ Моммзен Т. История Рима. — Т. 3: От смерти Суллы до битвы при Тапсе. — СПб.: Наука, 2005. — С. 164.
- ↑ 1 2 3 4 5 Этьен Р. Цезарь. — М.: Молодая гвардия, 2003. — С. 106.
- ↑ 1 2 Этьен Р. Цезарь. — М.: Молодая гвардия, 2003. — С. 105.
- ↑ 1 2 Ферреро Г. Юлий Цезарь. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — С. 36-37.
- ↑ Ферреро Г. Юлий Цезарь. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — С. 42-43.
- ↑ Ферреро Г. Юлий Цезарь. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — С. 46-48.
- ↑ 1 2 Ферреро Г. Юлий Цезарь. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — С. 38-39.
- ↑ Ферреро Г. Юлий Цезарь. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — С.36-37.
- ↑ 1 2 Rice Holmes T. Caesar’s Conquest of Gaul. 2nd Edition. — Oxford: Clarendon Press, 1911. — P. 42-44.
- ↑ Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 27-28.
- ↑ Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 31.
- ↑ Ферреро Г. Юлий Цезарь. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — С. 35.
- ↑ 1 2 Rosenstein N. General and Imperialist // A Companion to Julius Caesar. — Malden; Oxford: Wiley-Blackwell, 2009. — P. 87-88.
- ↑ Светоний. Божественный Юлий, 56.
- ↑ Rice Holmes T. Caesar’s Conquest of Gaul. 2nd Edition. — Oxford: Clarendon Press, 1911. — P. 211—212.
- ↑ Бонапарт Н. Войны Цезаря, Тюренна, Фридриха Великого. — М.; Жуковский: Кучково поле, 2005. — С. 116.
- ↑ Rice Holmes T. Caesar’s Conquest of Gaul. 2nd Edition. — Oxford: Clarendon Press, 1911. — P. 212.
- ↑ Ogliwie R. M. Caesar / Cambridge History of Classical Literature. — Cambridge: Cambridge University Press, 1982. — P. 281—282.
- ↑ 1 2 Альбрехт М. История римской литературы. — Том 1. — М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2002. — С. 456.
- ↑ Rice Holmes T. Caesar’s Conquest of Gaul. 2nd Edition. — Oxford: Clarendon Press, 1911. — P. 215.
- ↑ 1 2 Thorne J. The Chronology of the Campaign against the Helvetii: A Clue to Caesar’s Intentions? // Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte. — 2007. — Bd. 56, H. 1. — P. 27.
- ↑ 1 2 3 4 5 Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 121-123.
- ↑ 1 2 3 Этьен Р. Цезарь. — М.: Молодая гвардия, 2003. — С. 107.
- ↑ Ферреро Г. Юлий Цезарь. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — С. 41-42.
- ↑ Цезарь. Записки о Галльской войне, I, 12.
- ↑ Thorne J. The Chronology of the Campaign against the Helvetii: A Clue to Caesar’s Intentions? // Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte. — 2007. — Bd. 56, H. 1. — P. 28.
- ↑ Thorne J. The Chronology of the Campaign against the Helvetii: A Clue to Caesar’s Intentions? // Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte. — 2007. — Bd. 56, H. 1. — P. 35-36.
- ↑ Моммзен Т. История Рима. — Т. 3: От смерти Суллы до битвы при Тапсе. — СПб.: Наука, 2005. — С. 166.
- ↑ Ферреро Г. Юлий Цезарь. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — С. 49-50.
- ↑ Ферреро Г. Юлий Цезарь. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — С. 51.
- ↑ Ферреро Г. Юлий Цезарь. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — С. 51-53.
- ↑ Игнаткович Г. М. Гай Юлий Цезарь — М.: Воениздат, 1940. — С. 28.
- ↑ 1 2 3 Моммзен Т. История Рима. — Т. 3: От смерти Суллы до битвы при Тапсе. — СПб.: Наука, 2005. — С. 167.
- ↑ Ферреро Г. Юлий Цезарь. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — С. 54.
- ↑ 1 2 Ферреро Г. Юлий Цезарь. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — С. 55-57.
- ↑ Игнаткович Г. М. Гай Юлий Цезарь — М.: Воениздат, 1940. — С. 29.
- ↑ Billows R. Julius Caesar: The Colossus of Rome. — London; New York: Routledge, 2009. — P. 134.
- ↑ Goldsworthy A. Caesar: Life of a Colossus. — New Haven; London: Yale University Press, 2006. — P. 222.
- ↑ Ферреро Г. Юлий Цезарь. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — С. 44.
- ↑ 1 2 Этьен Р. Цезарь. — М.: Молодая гвардия, 2003. — С. 108.
- ↑ Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 124.
- ↑ 1 2 Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 125.
- ↑ Светоний. Божественный Юлий, 24.
- ↑ Ферреро Г. Юлий Цезарь. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — С. 65-66.
- ↑ 1 2 3 Моммзен Т. История Рима. — Т. 3: От смерти Суллы до битвы при Тапсе. — СПб.: Наука, 2005. — С. 168.
- ↑ Ферреро Г. Юлий Цезарь. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — С. 69.
- ↑ Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 125-126.
- ↑ Цезарь. Записки о Галльской войне, I, 47.
- ↑ Цезарь. Записки о Галльской войне, I, 44.
- ↑ 1 2 Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 127.
- ↑ Ферреро Г. Юлий Цезарь. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — С. 71.
- ↑ Ферреро Г. Юлий Цезарь. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — С. 71-73.
- ↑ 1 2 Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 128.
- ↑ Моммзен Т. История Рима. — Т. 3: От смерти Суллы до битвы при Тапсе. — СПб.: Наука, 2005. — С. 169—170.
- ↑ 1 2 Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 128-129.
- ↑ 1 2 Этьен Р. Цезарь. — М.: Молодая гвардия, 2003. — С. 109.
- ↑ Ферреро Г. Юлий Цезарь. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — С. 81.
- ↑ Ферреро Г. Юлий Цезарь. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — С. 82.
- ↑ 1 2 Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 130.
- ↑ Моммзен Т. История Рима. — Т. 3: От смерти Суллы до битвы при Тапсе. — СПб.: Наука, 2005. — С. 171.
- ↑ Моммзен Т. История Рима. — Т. 3: От смерти Суллы до битвы при Тапсе. — СПб.: Наука, 2005. — С. 171—172.
- ↑ Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 131.
- ↑ Ферреро Г. Юлий Цезарь. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — С. 85-86.
- ↑ Billows R. Julius Caesar: The Colossus of Rome. — London; New York: Routledge, 2009. — P. 140—141.
- ↑ Моммзен Т. История Рима. — Т. 3: От смерти Суллы до битвы при Тапсе. — СПб.: Наука, 2005. — С. 172.
- ↑ Billows R. Julius Caesar: The Colossus of Rome. — London; New York: Routledge, 2009. — P. 141.
- ↑ Моммзен Т. История Рима. — Т. 3: От смерти Суллы до битвы при Тапсе. — СПб.: Наука, 2005. — С. 173.
- ↑ 1 2 3 4 5 Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 132-133.
- ↑ Ферреро Г. Юлий Цезарь. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — С. 92.
- ↑ Ферреро Г. Юлий Цезарь. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — С. 93.
- ↑ Ферреро Г. Юлий Цезарь. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — С. 89.
- ↑ Broughton T. R. S. The Magistrates of the Roman Republic. — Vol. II. — N. Y.: American Philological Association, 1952. — P. 212.
- ↑ Цезарь. Записки о Галльской войне, III, 9.
- ↑ 1 2 Грант М. Юлий Цезарь: Жрец Юпитера. — М.: Центрполиграф, 2003. — С. 131.
- ↑ Ферреро Г. Юлий Цезарь. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — С. 123.
- ↑ 1 2 3 Billows R. Julius Caesar: The Colossus of Rome. — London; New York: Routledge, 2009. — P. 142.
- ↑ Ферреро Г. Юлий Цезарь. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — С. 124.
- ↑ Моммзен Т. История Рима. — Т. 3: От смерти Суллы до битвы при Тапсе. — СПб.: Наука, 2005. — С. 151—152.
- ↑ Моммзен Т. История Рима. — Т. 3: От смерти Суллы до битвы при Тапсе. — СПб.: Наука, 2005. — С. 173—174.
- ↑ 1 2 Ферреро Г. Юлий Цезарь. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — С. 124—125.
- ↑ Billows R. Julius Caesar: The Colossus of Rome. — London; New York: Routledge, 2009. — P. 142—143.
- ↑ Грант М. Юлий Цезарь: Жрец Юпитера. — М.: Центрполиграф, 2003. — С. 127.
- ↑ Агенобарб желал получить после консулата Нарбонскую Галлию[94].
- ↑ 1 2 Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 137-138.
- ↑ Ферреро Г. Юлий Цезарь. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — С. 128.
- ↑ 1 2 3 4 Этьен Р. Цезарь. — М.: Молодая гвардия, 2003. — С. 111—112.
- ↑ 1 2 Моммзен Т. История Рима. — Т. 3: От смерти Суллы до битвы при Тапсе. — СПб.: Наука, 2005. — С. 174.
- ↑ Цезарь. Записки о Галльской войне, III, 14.
- ↑ 1 2 Ферреро Г. Юлий Цезарь. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — С. 131.
- ↑ 1 2 Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 133.
- ↑ 1 2 Billows R. Julius Caesar: The Colossus of Rome. — London; New York: Routledge, 2009. — P. 143.
- ↑ Цезарь. Записки о Галльской войне, III, 20-27.
- ↑ 1 2 3 Этьен Р. Цезарь. — М.: Молодая гвардия, 2003. — С. 113.
- ↑ Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 134.
- ↑ 1 2 3 Billows R. Julius Caesar: The Colossus of Rome. — London; New York: Routledge, 2009. — P. 144.
- ↑ 1 2 Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 139.
- ↑ Цезарь. Записки о Галльской войне, IV, 1.
- ↑ Ферреро Г. Юлий Цезарь. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — С. 139.
- ↑ В декабре 2015 года нидерландский археолог Нико Ройманс заявил, что обнаружил место массового убийства узипетов и тенктеров в районе деревни Кессел на юге Нидерландов (Осс, Северный Брабант): [www.nu.nl/wetenschap/4179896/plek-historische-veldslag-caesar-ontdekt-bij-kessel.html Plek historische veldslag Caesar ontdekt bij Kessel]; Roymans N., Fernández-Götz M. Caesar in Gaul. New perspectives on the archaeology of mass violence // TRAC 2014. Proceedings of the Twenty Fourth Theoretical Roman Archaeology Conference. Eds. T. Brindle, M. Allen, E. Durham, A. Smith. Oxford: Oxbow Books, 2015. P. 70—80.
- ↑ 1 2 Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 139-140.
- ↑ 1 2 Моммзен Т. История Рима. — Т. 3: От смерти Суллы до битвы при Тапсе. — СПб.: Наука, 2005. — С. 176.
- ↑ Billows R. Julius Caesar: The Colossus of Rome. — London; New York: Routledge, 2009. — P. 144—145.
- ↑ Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 141.
- ↑ Billows R. Julius Caesar: The Colossus of Rome. — London; New York: Routledge, 2009. — P. 145.
- ↑ Махлаюк А. В. Римские войны: Под знаком Марса. — М.: Центрполиграф, 2003. — С. 288.
- ↑ Brown R. D. Caesar’s Description of Bridging the Rhine (Bellum Gallicum 4.16-19): A Literary Analysis // Classical Philology. — 2013. — Vol. 108, No. 1. — P. 41.
- ↑ Бонапарт Н. Войны Цезаря, Тюренна, Фридриха Великого. — М.; Жуковский: Кучково поле, 2005. — С. 35-36.
- ↑ Моммзен Т. История Рима. — Т. 3: От смерти Суллы до битвы при Тапсе. — СПб.: Наука, 2005. — С. 176—177.
- ↑ 1 2 Моммзен Т. История Рима. — Т. 3: От смерти Суллы до битвы при Тапсе. — СПб.: Наука, 2005. — С. 177.
- ↑ Ферреро Г. Юлий Цезарь. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — С. 146.
- ↑ Цезарь. Записки о Галльской войне, IV, 20.
- ↑ Цезарь. Записки о Галльской войне, IV, 21.
- ↑ Billows R. Julius Caesar: The Colossus of Rome. — London; New York: Routledge, 2009. — P. 145—146.
- ↑ 1 2 Billows R. Julius Caesar: The Colossus of Rome. — London; New York: Routledge, 2009. — P. 146.
- ↑ Цезарь. Записки о Галльской войне, IV, 37-38.
- ↑ 1 2 Billows R. Julius Caesar: The Colossus of Rome. — London; New York: Routledge, 2009. — P. 147.
- ↑ Этьен Р. Цезарь. — М.: Молодая гвардия, 2003. — С. 114.
- ↑ Грант М. Юлий Цезарь: Жрец Юпитера. — М.: Центрполиграф, 2003. — С. 141.
- ↑ Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume IX: The Last Age of the Roman Republic, 146–43 BC. — Cambridge: Cambridge University Press, 1992. — P. 402.
- ↑ Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume IX: The Last Age of the Roman Republic, 146–43 BC. — Cambridge: Cambridge University Press, 1992. — P. 401.
- ↑ Goldsworthy A. Caesar: Life of a Colossus. — New Haven; London: Yale University Press, 2006. — P. 279.
- ↑ Грант М. Юлий Цезарь: Жрец Юпитера. — М.: Центрполиграф, 2003. — С. 142.
- ↑ 1 2 3 Billows R. Julius Caesar: The Colossus of Rome. — London; New York: Routledge, 2009. — P. 148.
- ↑ Цезарь. Записки о Галльской войне, V, 7-8.
- ↑ Ферреро Г. Юлий Цезарь. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — С. 156.
- ↑ 1 2 Billows R. Julius Caesar: The Colossus of Rome. — London; New York: Routledge, 2009. — P. 148—149.
- ↑ 1 2 3 Моммзен Т. История Рима. — Т. 3: От смерти Суллы до битвы при Тапсе. — СПб.: Наука, 2005. — С. 178—179.
- ↑ Этьен Р. Цезарь. — М.: Молодая гвардия, 2003. — С. 116.
- ↑ Billows R. Julius Caesar: The Colossus of Rome. — London; New York: Routledge, 2009. — P. 149.
- ↑ 1 2 Цезарь. Записки о Галльской войне, V, 24.
- ↑ 1 2 3 Goldsworthy A. Caesar: Life of a Colossus. — New Haven; London: Yale University Press, 2006. — P. 298.
- ↑ Цезарь. Записки о Галльской войне, V, 25.
- ↑ Goldsworthy A. Caesar: Life of a Colossus. — New Haven; London: Yale University Press, 2006. — P. 298—299.
- ↑ Goldsworthy A. Caesar: Life of a Colossus. — New Haven; London: Yale University Press, 2006. — P. 299.
- ↑ Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume IX: The Last Age of the Roman Republic, 146–43 BC. — Cambridge: Cambridge University Press, 1992. — P. 404.
- ↑ Goldsworthy A. Caesar: Life of a Colossus. — New Haven; London: Yale University Press, 2006. — P. 300.
- ↑ 1 2 Goldsworthy A. Caesar: Life of a Colossus. — New Haven; London: Yale University Press, 2006. — P. 301.
- ↑ Goldsworthy A. Caesar: Life of a Colossus. — New Haven; London: Yale University Press, 2006. — P. 304.
- ↑ Goldsworthy A. Caesar: Life of a Colossus. — New Haven; London: Yale University Press, 2006. — P. 302.
- ↑ 1 2 3 Goldsworthy A. Caesar: Life of a Colossus. — New Haven; London: Yale University Press, 2006. — P. 303.
- ↑ Цезарь. Записки о Галльской войне, V, 48.
- ↑ Цезарь. Записки о Галльской войне, V, 49.
- ↑ Цезарь. Записки о Галльской войне, V, 53.
- ↑ 1 2 Goldsworthy A. Caesar: Life of a Colossus. — New Haven; London: Yale University Press, 2006. — P. 306.
- ↑ Goldsworthy A. Caesar: Life of a Colossus. — New Haven; London: Yale University Press, 2006. — P. 306—307.
- ↑ Цезарь. Записки о Галльской войне, VI, 3-4.
- ↑ 1 2 Goldsworthy A. Caesar: Life of a Colossus. — New Haven; London: Yale University Press, 2006. — P. 308.
- ↑ Goldsworthy A. Caesar: Life of a Colossus. — New Haven; London: Yale University Press, 2006. — P. 308—309.
- ↑ Goldsworthy A. Caesar: Life of a Colossus. — New Haven; London: Yale University Press, 2006. — P. 310.
- ↑ Голдсуорти А. Во имя Рима: Люди, которые создали империю. — М.: АСТ; Транзиткнига, 2006. — С. 252.
- ↑ Goldsworthy A. Caesar: Life of a Colossus. — New Haven; London: Yale University Press, 2006. — P. 311.
- ↑ Цезарь. Записки о Галльской войне, VI, 43-44.
- ↑ Billows R. Julius Caesar: The Colossus of Rome. — London; New York: Routledge, 2009. — P. 154.
- ↑ Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume IX: The Last Age of the Roman Republic, 146–43 BC. — Cambridge: Cambridge University Press, 1992. — P. 405-406.
- ↑ Этьен Р. Цезарь. — М.: Молодая гвардия, 2003. — С. 117.
- ↑ Цезарь. Записки о Галльской войне, VII, 4.
- ↑ Billows R. Julius Caesar: The Colossus of Rome. — London; New York: Routledge, 2009. — P. 155.
- ↑ Этьен Р. Цезарь. — М.: Молодая гвардия, 2003. — С. 119.
- ↑ Цезарь. Записки о Галльской войне, VII, 8.
- ↑ Billows R. Julius Caesar: The Colossus of Rome. — London; New York: Routledge, 2009. — P. 155—156.
- ↑ 1 2 Billows R. Julius Caesar: The Colossus of Rome. — London; New York: Routledge, 2009. — P. 156.
- ↑ Billows R. Julius Caesar: The Colossus of Rome. — London; New York: Routledge, 2009. — P. 156—157.
- ↑ 1 2 Billows R. Julius Caesar: The Colossus of Rome. — London; New York: Routledge, 2009. — P. 157.
- ↑ Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 171-172.
- ↑ Billows R. Julius Caesar: The Colossus of Rome. — London; New York: Routledge, 2009. — P. 158.
- ↑ Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 173.
- ↑ Этьен Р. Цезарь. — М.: Молодая гвардия, 2003. — С. 120.
- ↑ Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 174-175.
- ↑ Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 175-177.
- ↑ Этьен Р. Цезарь. — М.: Молодая гвардия, 2003. — С. 121—122.
- ↑ 1 2 Этьен Р. Цезарь. — М.: Молодая гвардия, 2003. — С. 124.
- ↑ Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 177.
- ↑ Этьен Р. Цезарь. — М.: Молодая гвардия, 2003. — С. 123—125.
- ↑ Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 177-178.
- ↑ Billows R. Julius Caesar: The Colossus of Rome. — London; New York: Routledge, 2009. — P. 159—160.
- ↑ Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 180.
- ↑ 1 2 Этьен Р. Цезарь. — М.: Молодая гвардия, 2003. — С. 126.
- ↑ 1 2 3 Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории. — Т. 1: Античный мир. — СПб.: Наука; Ювента, 1999. — С. 356.
- ↑ Цезарь. Записки о Галльской войне, VII, 71.
- ↑ 1 2 Billows R. Julius Caesar: The Colossus of Rome. — London; New York: Routledge, 2009. — P. 160.
- ↑ Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории. — Т. 1: Античный мир. — СПб.: Наука; Ювента, 1999. — С. 356—358.
- ↑ Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 179-180.
- ↑ Этьен Р. Цезарь. — М.: Молодая гвардия, 2003. — С. 126—128.
- ↑ Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 180-181.
- ↑ Цезарь. Записки о Галльской войне, VII, 75.
- ↑ Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории. — Т. 1: Античный мир. — СПб.: Наука; Ювента, 1999. — С. 359.
- ↑ Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 181.
- ↑ Этьен Р. Цезарь. — М.: Молодая гвардия, 2003. — С. 128.
- ↑ 1 2 3 Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 182.
- ↑ Billows R. Julius Caesar: The Colossus of Rome. — London; New York: Routledge, 2009. — P. 161—162.
- ↑ 1 2 Billows R. Julius Caesar: The Colossus of Rome. — London; New York: Routledge, 2009. — P. 162.
- ↑ Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 183.
- ↑ Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 184.
- ↑ Billows R. Julius Caesar: The Colossus of Rome. — London; New York: Routledge, 2009. — P. 162—163.
- ↑ Billows R. Julius Caesar: The Colossus of Rome. — London; New York: Routledge, 2009. — P. 163.
- ↑ Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 185-187.
- ↑ 1 2 Грант М. Юлий Цезарь: Жрец Юпитера. — М.: Центрполиграф, 2003. — С. 177—178.
- ↑ 1 2 Грант М. Юлий Цезарь: Жрец Юпитера. — М.: Центрполиграф, 2003. — С. 179.
- ↑ Badian E. Roman Imperialism in the Late Republic. — P. 89-92.
- ↑ 1 2 3 Jehne M. Caesar. — München: C. H. Beck, 1997. — S. 71.
- ↑ Грант М. Юлий Цезарь: Жрец Юпитера. — М.: Центрполиграф, 2003. — С. 143.
- ↑ Грант М. Юлий Цезарь: Жрец Юпитера. — М.: Центрполиграф, 2003. — С. 146—147.
- ↑ Плиний Старший. Естественная история, VII, 25.
- ↑ 1 2 Goldsworthy A. Caesar: Life of a Colossus. — New Haven; London: Yale University Press, 2006. — P. 517.
- ↑ Goldsworthy A. Caesar: Life of a Colossus. — New Haven; London: Yale University Press, 2006. — P. 516.
- ↑ Pelling C. Judging Julius Caesar // Julius Caesar in Western Culture. Edited by M. Wyke. — Malden; Oxford: Blackwell, 2006. — P. 6.
- ↑ Pucci G. Caesar the Foe: Roman Conquest and National Resistance in French Popular Culture // Julius Caesar in Western Culture. Edited by M. Wyke. — Malden; Oxford: Blackwell, 2006. — P. 190.
- ↑ Pucci G. Caesar the Foe: Roman Conquest and National Resistance in French Popular Culture // Julius Caesar in Western Culture. Edited by M. Wyke. — Malden; Oxford: Blackwell, 2006. — P. 191.
- ↑ Pucci G. Caesar the Foe: Roman Conquest and National Resistance in French Popular Culture // Julius Caesar in Western Culture. Edited by M. Wyke. — Malden; Oxford: Blackwell, 2006. — P. 191—192.
- ↑ Pucci G. Caesar the Foe: Roman Conquest and National Resistance in French Popular Culture // Julius Caesar in Western Culture. Edited by M. Wyke. — Malden; Oxford: Blackwell, 2006. — P. 192.
- ↑ 1 2 3 Pucci G. Caesar the Foe: Roman Conquest and National Resistance in French Popular Culture // Julius Caesar in Western Culture. Edited by M. Wyke. — Malden; Oxford: Blackwell, 2006. — P. 192—195.
- ↑ Pucci G. Caesar the Foe: Roman Conquest and National Resistance in French Popular Culture // Julius Caesar in Western Culture. Edited by M. Wyke. — Malden; Oxford: Blackwell, 2006. — P. 195—196.
- ↑ Astérix et Obélix contre César (англ.) на сайте Internet Movie Database
- ↑ Vercingétorix (англ.) на сайте Internet Movie Database
- ↑ Julius Caesar (англ.) на сайте Internet Movie Database
- ↑ Rome (англ.) на сайте Internet Movie Database
Источники
- Гай Юлий Цезарь. Записки о Галльской войне: [ancientrome.ru/antlitr/caesar/index.htm онлайн].
- Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей, Божественный Юлий: [ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1354635514 онлайн].
- Дион Кассий. Римская история: [penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Cassius_Dio/home.html онлайн] (англ.).
- Плутарх. Сравнительные жизнеописания, Цезарь: [ancientrome.ru/antlitr/plutarch/sgo/caesar-f.htm онлайн].
Литература
- Бонапарт Н. Войны Цезаря, Тюренна, Фридриха Великого. — М.; Жуковский: Кучково поле, 2005. — 479 с. — 1000 экз. — ISBN 5-86090-102-X
- Галльские войны // Военная энциклопедия : [в 18 т.] / под ред. В. Ф. Новицкого [и др.]. — СПб. ; [М.] : Тип. т-ва И. В. Сытина, 1911—1915.</span>
- Голдсуорси А. Юлий Цезарь: полководец, император, легенда. — М.: Эксмо, 2007. — 669 с. — 5100 экз. — ISBN 978-5-699-23148-5 = Goldsworthy A. Caesar: Life of a Colossus. — New Haven; London: Yale University Press, 2006. — 592 p. — ISBN 978-0-300-12048-6
- Грант М. Юлий Цезарь: Жрец Юпитера. — М.: Центрполиграф, 2003. — 349 с. — 7000 экз. — ISBN 5-9524-0204-6
- Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории. — Т. 1: Античный мир. — СПб.: Наука; Ювента, 1999. — С. 326—364. — ISBN 5-02-028219-7
- Зарщиков А. В. Галльское проконсульство Цезаря и римская аристократия // Античный мир и археология. — Вып. 11. — Саратов, 2002. — С. 67-71.
- Игнаткович Г. М. Гай Юлий Цезарь. — М.: Воениздат, 1940. — 88 с.
- Козленко А. В. Военная история античности: Полководцы. Битвы. Оружие. — Мн.: Беларусь, 2001. — 479 с. — 5000 экз. — ISBN 985-01-0248-9
- Махлаюк А. В. Римские войны: Под знаком Марса. — М.: Центрполиграф, 2003. — С. 272—293. — 6000 экз. — ISBN 5-9524-0401-4
- Моммзен Т. История Рима. — Т. 3: От смерти Суллы до битвы при Тапсе. — СПб.: Наука, 2005. — 431 с. — 1000 экз. — ISBN 5-02-026897-6
- Парфёнов В. Н. Профессионализация римской армии и галльские войны Цезаря // Античный мир и археология. — Вып. 2. — Саратов, 1974. — С. 72—89.
- Ферреро Г. Юлий Цезарь. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — 576 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-85880-344-X
- Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — 365 с. — 135 000 экз.
- Этьен Р. Цезарь. — М.: Молодая гвардия, 2003. — 300 с. — 5000 экз. — ISBN 5-235-02482-6
- A Companion to Julius Caesar. Ed. by M. Griffin. — Malden; Oxford: Wiley-Blackwell, 2009. — 512 p. — ISBN 978-1-4051-4923-5
- Badian E. Roman Imperialism in the Late Republic. — Oxford: Blackwell, 1968. — 117 p.
- Balsdon J. P. V. D. Consular Provinces under the Late Republic: Caesar’s Gallic Command // The Journal of Roman Studies. — 1939. — Vol. 29, Part 2. — P. 167—183.
- Billows R. Julius Caesar: The Colossus of Rome. — London; New York: Routledge, 2009. — 335 p. — ISBN 978-0-415-33314-6 & ISBN 978-0-203-41276-3
- Brady S. G. Caesar and Britain // The Classical Journal. — 1952, May. — Vol. 47, No. 8. — P. 305—316.
- Canfora L. Julius Caesar: The Life and Times of the People’s Dictator. — Berkeley: University of California Press, 2007. — P. 98—124. — ISBN 0-520-23502-9
- Dodge T. A. Caesar, a History of the Art of War among the Romans down to the End of the Roman Empire, with a Detailed Account of the Campaigns of Caius Julius Caesar — Vol. 1. — New York: Biblio and Tannen Publishers, 1963. — 400 p.
- Gardner J. F. The 'Gallic Menace' in Caesar’s Propaganda // Greece & Rome, Second Series. — 1983, Oct. — Vol. 30, No. 2. — P. 181—189.
- Gilliver K. M. Caesar’s Gallic Wars (58-50 BC). — New York; London: Routledge; Oxford: Osprey, 2003. — 95 p. — ISBN 0-415-96858-5
- Jehne M. Caesar. — München: C. H. Beck, 1997. — 126 S. — ISBN 3-406-41044-8
- Julius Caesar in Western Culture. Edited by M. Wyke. — Malden; Oxford: Blackwell, 2006. — 386 p. — ISBN 978-1-4051-2598-7 & ISBN 978-1-4051-2599-4
- Osgood J. The Pen and the Sword: Writing and Conquest in Caesar’s Gaul // Classical Antiquity. — 2009, Oct. — Vol. 28, No. 2. — P. 328—358.
- Rice Holmes T. Caesar’s Conquest of Gaul. 2nd Edition. — Oxford: Clarendon Press, 1911. — 930 p.
- Riggsby A. M. Caesar in Gaul and Rome: War in Words. — Austin: University of Texas Press, 2006. — 285 p. — ISBN 978-0-292-77451-3
- Stevens C. E. The «Bellum Gallicum» as a Work of Propaganda // Latomus. — 1952. — T. 11, Fasc. 1. — P. 3-18.
- Thorne J. The Chronology of the Campaign against the Helvetii: A Clue to Caesar’s Intentions? // Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte. — 2007. — Bd. 56, H. 1. — P. 27-36.
- Walter G., Craufurd E., Pol T. Caesar: A Biography. — New York: Charles Scribner’s Sons, 1952. — 664 p.
| Эта статья входит в число избранных статей русскоязычного раздела Википедии. |
| Это статья 2014 года русскоязычного раздела Википедии. |
Отрывок, характеризующий Галльская война
– Право, брось! Ты только себя свяжешь…– Убирайся к чорту, – сказал Анатоль и, взявшись за волосы, вышел в другую комнату и тотчас же вернулся и с ногами сел на кресло близко перед Долоховым. – Это чорт знает что такое! А? Ты посмотри, как бьется! – Он взял руку Долохова и приложил к своему сердцу. – Ah! quel pied, mon cher, quel regard! Une deesse!! [О! Какая ножка, мой друг, какой взгляд! Богиня!!] A?
Долохов, холодно улыбаясь и блестя своими красивыми, наглыми глазами, смотрел на него, видимо желая еще повеселиться над ним.
– Ну деньги выйдут, тогда что?
– Тогда что? А? – повторил Анатоль с искренним недоумением перед мыслью о будущем. – Тогда что? Там я не знаю что… Ну что глупости говорить! – Он посмотрел на часы. – Пора!
Анатоль пошел в заднюю комнату.
– Ну скоро ли вы? Копаетесь тут! – крикнул он на слуг.
Долохов убрал деньги и крикнув человека, чтобы велеть подать поесть и выпить на дорогу, вошел в ту комнату, где сидели Хвостиков и Макарин.
Анатоль в кабинете лежал, облокотившись на руку, на диване, задумчиво улыбался и что то нежно про себя шептал своим красивым ртом.
– Иди, съешь что нибудь. Ну выпей! – кричал ему из другой комнаты Долохов.
– Не хочу! – ответил Анатоль, всё продолжая улыбаться.
– Иди, Балага приехал.
Анатоль встал и вошел в столовую. Балага был известный троечный ямщик, уже лет шесть знавший Долохова и Анатоля, и служивший им своими тройками. Не раз он, когда полк Анатоля стоял в Твери, с вечера увозил его из Твери, к рассвету доставлял в Москву и увозил на другой день ночью. Не раз он увозил Долохова от погони, не раз он по городу катал их с цыганами и дамочками, как называл Балага. Не раз он с их работой давил по Москве народ и извозчиков, и всегда его выручали его господа, как он называл их. Не одну лошадь он загнал под ними. Не раз он был бит ими, не раз напаивали они его шампанским и мадерой, которую он любил, и не одну штуку он знал за каждым из них, которая обыкновенному человеку давно бы заслужила Сибирь. В кутежах своих они часто зазывали Балагу, заставляли его пить и плясать у цыган, и не одна тысяча их денег перешла через его руки. Служа им, он двадцать раз в году рисковал и своей жизнью и своей шкурой, и на их работе переморил больше лошадей, чем они ему переплатили денег. Но он любил их, любил эту безумную езду, по восемнадцати верст в час, любил перекувырнуть извозчика и раздавить пешехода по Москве, и во весь скок пролететь по московским улицам. Он любил слышать за собой этот дикий крик пьяных голосов: «пошел! пошел!» тогда как уж и так нельзя было ехать шибче; любил вытянуть больно по шее мужика, который и так ни жив, ни мертв сторонился от него. «Настоящие господа!» думал он.
Анатоль и Долохов тоже любили Балагу за его мастерство езды и за то, что он любил то же, что и они. С другими Балага рядился, брал по двадцати пяти рублей за двухчасовое катанье и с другими только изредка ездил сам, а больше посылал своих молодцов. Но с своими господами, как он называл их, он всегда ехал сам и никогда ничего не требовал за свою работу. Только узнав через камердинеров время, когда были деньги, он раз в несколько месяцев приходил поутру, трезвый и, низко кланяясь, просил выручить его. Его всегда сажали господа.
– Уж вы меня вызвольте, батюшка Федор Иваныч или ваше сиятельство, – говорил он. – Обезлошадничал вовсе, на ярманку ехать уж ссудите, что можете.
И Анатоль и Долохов, когда бывали в деньгах, давали ему по тысяче и по две рублей.
Балага был русый, с красным лицом и в особенности красной, толстой шеей, приземистый, курносый мужик, лет двадцати семи, с блестящими маленькими глазами и маленькой бородкой. Он был одет в тонком синем кафтане на шелковой подкладке, надетом на полушубке.
Он перекрестился на передний угол и подошел к Долохову, протягивая черную, небольшую руку.
– Федору Ивановичу! – сказал он, кланяясь.
– Здорово, брат. – Ну вот и он.
– Здравствуй, ваше сиятельство, – сказал он входившему Анатолю и тоже протянул руку.
– Я тебе говорю, Балага, – сказал Анатоль, кладя ему руки на плечи, – любишь ты меня или нет? А? Теперь службу сослужи… На каких приехал? А?
– Как посол приказал, на ваших на зверьях, – сказал Балага.
– Ну, слышишь, Балага! Зарежь всю тройку, а чтобы в три часа приехать. А?
– Как зарежешь, на чем поедем? – сказал Балага, подмигивая.
– Ну, я тебе морду разобью, ты не шути! – вдруг, выкатив глаза, крикнул Анатоль.
– Что ж шутить, – посмеиваясь сказал ямщик. – Разве я для своих господ пожалею? Что мочи скакать будет лошадям, то и ехать будем.
– А! – сказал Анатоль. – Ну садись.
– Что ж, садись! – сказал Долохов.
– Постою, Федор Иванович.
– Садись, врешь, пей, – сказал Анатоль и налил ему большой стакан мадеры. Глаза ямщика засветились на вино. Отказываясь для приличия, он выпил и отерся шелковым красным платком, который лежал у него в шапке.
– Что ж, когда ехать то, ваше сиятельство?
– Да вот… (Анатоль посмотрел на часы) сейчас и ехать. Смотри же, Балага. А? Поспеешь?
– Да как выезд – счастлив ли будет, а то отчего же не поспеть? – сказал Балага. – Доставляли же в Тверь, в семь часов поспевали. Помнишь небось, ваше сиятельство.
– Ты знаешь ли, на Рожество из Твери я раз ехал, – сказал Анатоль с улыбкой воспоминания, обращаясь к Макарину, который во все глаза умиленно смотрел на Курагина. – Ты веришь ли, Макарка, что дух захватывало, как мы летели. Въехали в обоз, через два воза перескочили. А?
– Уж лошади ж были! – продолжал рассказ Балага. – Я тогда молодых пристяжных к каурому запрег, – обратился он к Долохову, – так веришь ли, Федор Иваныч, 60 верст звери летели; держать нельзя, руки закоченели, мороз был. Бросил вожжи, держи, мол, ваше сиятельство, сам, так в сани и повалился. Так ведь не то что погонять, до места держать нельзя. В три часа донесли черти. Издохла левая только.
Анатоль вышел из комнаты и через несколько минут вернулся в подпоясанной серебряным ремнем шубке и собольей шапке, молодцовато надетой на бекрень и очень шедшей к его красивому лицу. Поглядевшись в зеркало и в той самой позе, которую он взял перед зеркалом, став перед Долоховым, он взял стакан вина.
– Ну, Федя, прощай, спасибо за всё, прощай, – сказал Анатоль. – Ну, товарищи, друзья… он задумался… – молодости… моей, прощайте, – обратился он к Макарину и другим.
Несмотря на то, что все они ехали с ним, Анатоль видимо хотел сделать что то трогательное и торжественное из этого обращения к товарищам. Он говорил медленным, громким голосом и выставив грудь покачивал одной ногой. – Все возьмите стаканы; и ты, Балага. Ну, товарищи, друзья молодости моей, покутили мы, пожили, покутили. А? Теперь, когда свидимся? за границу уеду. Пожили, прощай, ребята. За здоровье! Ура!.. – сказал он, выпил свой стакан и хлопнул его об землю.
– Будь здоров, – сказал Балага, тоже выпив свой стакан и обтираясь платком. Макарин со слезами на глазах обнимал Анатоля. – Эх, князь, уж как грустно мне с тобой расстаться, – проговорил он.
– Ехать, ехать! – закричал Анатоль.
Балага было пошел из комнаты.
– Нет, стой, – сказал Анатоль. – Затвори двери, сесть надо. Вот так. – Затворили двери, и все сели.
– Ну, теперь марш, ребята! – сказал Анатоль вставая.
Лакей Joseph подал Анатолю сумку и саблю, и все вышли в переднюю.
– А шуба где? – сказал Долохов. – Эй, Игнатка! Поди к Матрене Матвеевне, спроси шубу, салоп соболий. Я слыхал, как увозят, – сказал Долохов, подмигнув. – Ведь она выскочит ни жива, ни мертва, в чем дома сидела; чуть замешкаешься, тут и слезы, и папаша, и мамаша, и сейчас озябла и назад, – а ты в шубу принимай сразу и неси в сани.
Лакей принес женский лисий салоп.
– Дурак, я тебе сказал соболий. Эй, Матрешка, соболий! – крикнул он так, что далеко по комнатам раздался его голос.
Красивая, худая и бледная цыганка, с блестящими, черными глазами и с черными, курчавыми сизого отлива волосами, в красной шали, выбежала с собольим салопом на руке.
– Что ж, мне не жаль, ты возьми, – сказала она, видимо робея перед своим господином и жалея салопа.
Долохов, не отвечая ей, взял шубу, накинул ее на Матрешу и закутал ее.
– Вот так, – сказал Долохов. – И потом вот так, – сказал он, и поднял ей около головы воротник, оставляя его только перед лицом немного открытым. – Потом вот так, видишь? – и он придвинул голову Анатоля к отверстию, оставленному воротником, из которого виднелась блестящая улыбка Матреши.
– Ну прощай, Матреша, – сказал Анатоль, целуя ее. – Эх, кончена моя гульба здесь! Стешке кланяйся. Ну, прощай! Прощай, Матреша; ты мне пожелай счастья.
– Ну, дай то вам Бог, князь, счастья большого, – сказала Матреша, с своим цыганским акцентом.
У крыльца стояли две тройки, двое молодцов ямщиков держали их. Балага сел на переднюю тройку, и, высоко поднимая локти, неторопливо разобрал вожжи. Анатоль и Долохов сели к нему. Макарин, Хвостиков и лакей сели в другую тройку.
– Готовы, что ль? – спросил Балага.
– Пущай! – крикнул он, заматывая вокруг рук вожжи, и тройка понесла бить вниз по Никитскому бульвару.
– Тпрру! Поди, эй!… Тпрру, – только слышался крик Балаги и молодца, сидевшего на козлах. На Арбатской площади тройка зацепила карету, что то затрещало, послышался крик, и тройка полетела по Арбату.
Дав два конца по Подновинскому Балага стал сдерживать и, вернувшись назад, остановил лошадей у перекрестка Старой Конюшенной.
Молодец соскочил держать под уздцы лошадей, Анатоль с Долоховым пошли по тротуару. Подходя к воротам, Долохов свистнул. Свисток отозвался ему и вслед за тем выбежала горничная.
– На двор войдите, а то видно, сейчас выйдет, – сказала она.
Долохов остался у ворот. Анатоль вошел за горничной на двор, поворотил за угол и вбежал на крыльцо.
Гаврило, огромный выездной лакей Марьи Дмитриевны, встретил Анатоля.
– К барыне пожалуйте, – басом сказал лакей, загораживая дорогу от двери.
– К какой барыне? Да ты кто? – запыхавшимся шопотом спрашивал Анатоль.
– Пожалуйте, приказано привесть.
– Курагин! назад, – кричал Долохов. – Измена! Назад!
Долохов у калитки, у которой он остановился, боролся с дворником, пытавшимся запереть за вошедшим Анатолем калитку. Долохов последним усилием оттолкнул дворника и схватив за руку выбежавшего Анатоля, выдернул его за калитку и побежал с ним назад к тройке.
Марья Дмитриевна, застав заплаканную Соню в коридоре, заставила ее во всем признаться. Перехватив записку Наташи и прочтя ее, Марья Дмитриевна с запиской в руке взошла к Наташе.
– Мерзавка, бесстыдница, – сказала она ей. – Слышать ничего не хочу! – Оттолкнув удивленными, но сухими глазами глядящую на нее Наташу, она заперла ее на ключ и приказав дворнику пропустить в ворота тех людей, которые придут нынче вечером, но не выпускать их, а лакею приказав привести этих людей к себе, села в гостиной, ожидая похитителей.
Когда Гаврило пришел доложить Марье Дмитриевне, что приходившие люди убежали, она нахмурившись встала и заложив назад руки, долго ходила по комнатам, обдумывая то, что ей делать. В 12 часу ночи она, ощупав ключ в кармане, пошла к комнате Наташи. Соня, рыдая, сидела в коридоре.
– Марья Дмитриевна, пустите меня к ней ради Бога! – сказала она. Марья Дмитриевна, не отвечая ей, отперла дверь и вошла. «Гадко, скверно… В моем доме… Мерзавка, девчонка… Только отца жалко!» думала Марья Дмитриевна, стараясь утолить свой гнев. «Как ни трудно, уж велю всем молчать и скрою от графа». Марья Дмитриевна решительными шагами вошла в комнату. Наташа лежала на диване, закрыв голову руками, и не шевелилась. Она лежала в том самом положении, в котором оставила ее Марья Дмитриевна.
– Хороша, очень хороша! – сказала Марья Дмитриевна. – В моем доме любовникам свидания назначать! Притворяться то нечего. Ты слушай, когда я с тобой говорю. – Марья Дмитриевна тронула ее за руку. – Ты слушай, когда я говорю. Ты себя осрамила, как девка самая последняя. Я бы с тобой то сделала, да мне отца твоего жалко. Я скрою. – Наташа не переменила положения, но только всё тело ее стало вскидываться от беззвучных, судорожных рыданий, которые душили ее. Марья Дмитриевна оглянулась на Соню и присела на диване подле Наташи.
– Счастье его, что он от меня ушел; да я найду его, – сказала она своим грубым голосом; – слышишь ты что ли, что я говорю? – Она поддела своей большой рукой под лицо Наташи и повернула ее к себе. И Марья Дмитриевна, и Соня удивились, увидав лицо Наташи. Глаза ее были блестящи и сухи, губы поджаты, щеки опустились.
– Оставь… те… что мне… я… умру… – проговорила она, злым усилием вырвалась от Марьи Дмитриевны и легла в свое прежнее положение.
– Наталья!… – сказала Марья Дмитриевна. – Я тебе добра желаю. Ты лежи, ну лежи так, я тебя не трону, и слушай… Я не стану говорить, как ты виновата. Ты сама знаешь. Ну да теперь отец твой завтра приедет, что я скажу ему? А?
Опять тело Наташи заколебалось от рыданий.
– Ну узнает он, ну брат твой, жених!
– У меня нет жениха, я отказала, – прокричала Наташа.
– Всё равно, – продолжала Марья Дмитриевна. – Ну они узнают, что ж они так оставят? Ведь он, отец твой, я его знаю, ведь он, если его на дуэль вызовет, хорошо это будет? А?
– Ах, оставьте меня, зачем вы всему помешали! Зачем? зачем? кто вас просил? – кричала Наташа, приподнявшись на диване и злобно глядя на Марью Дмитриевну.
– Да чего ж ты хотела? – вскрикнула опять горячась Марья Дмитриевна, – что ж тебя запирали что ль? Ну кто ж ему мешал в дом ездить? Зачем же тебя, как цыганку какую, увозить?… Ну увез бы он тебя, что ж ты думаешь, его бы не нашли? Твой отец, или брат, или жених. А он мерзавец, негодяй, вот что!
– Он лучше всех вас, – вскрикнула Наташа, приподнимаясь. – Если бы вы не мешали… Ах, Боже мой, что это, что это! Соня, за что? Уйдите!… – И она зарыдала с таким отчаянием, с каким оплакивают люди только такое горе, которого они чувствуют сами себя причиной. Марья Дмитриевна начала было опять говорить; но Наташа закричала: – Уйдите, уйдите, вы все меня ненавидите, презираете. – И опять бросилась на диван.
Марья Дмитриевна продолжала еще несколько времени усовещивать Наташу и внушать ей, что всё это надо скрыть от графа, что никто не узнает ничего, ежели только Наташа возьмет на себя всё забыть и не показывать ни перед кем вида, что что нибудь случилось. Наташа не отвечала. Она и не рыдала больше, но с ней сделались озноб и дрожь. Марья Дмитриевна подложила ей подушку, накрыла ее двумя одеялами и сама принесла ей липового цвета, но Наташа не откликнулась ей. – Ну пускай спит, – сказала Марья Дмитриевна, уходя из комнаты, думая, что она спит. Но Наташа не спала и остановившимися раскрытыми глазами из бледного лица прямо смотрела перед собою. Всю эту ночь Наташа не спала, и не плакала, и не говорила с Соней, несколько раз встававшей и подходившей к ней.
На другой день к завтраку, как и обещал граф Илья Андреич, он приехал из Подмосковной. Он был очень весел: дело с покупщиком ладилось и ничто уже не задерживало его теперь в Москве и в разлуке с графиней, по которой он соскучился. Марья Дмитриевна встретила его и объявила ему, что Наташа сделалась очень нездорова вчера, что посылали за доктором, но что теперь ей лучше. Наташа в это утро не выходила из своей комнаты. С поджатыми растрескавшимися губами, сухими остановившимися глазами, она сидела у окна и беспокойно вглядывалась в проезжающих по улице и торопливо оглядывалась на входивших в комнату. Она очевидно ждала известий об нем, ждала, что он сам приедет или напишет ей.
Когда граф взошел к ней, она беспокойно оборотилась на звук его мужских шагов, и лицо ее приняло прежнее холодное и даже злое выражение. Она даже не поднялась на встречу ему.
– Что с тобой, мой ангел, больна? – спросил граф. Наташа помолчала.
– Да, больна, – отвечала она.
На беспокойные расспросы графа о том, почему она такая убитая и не случилось ли чего нибудь с женихом, она уверяла его, что ничего, и просила его не беспокоиться. Марья Дмитриевна подтвердила графу уверения Наташи, что ничего не случилось. Граф, судя по мнимой болезни, по расстройству дочери, по сконфуженным лицам Сони и Марьи Дмитриевны, ясно видел, что в его отсутствие должно было что нибудь случиться: но ему так страшно было думать, что что нибудь постыдное случилось с его любимою дочерью, он так любил свое веселое спокойствие, что он избегал расспросов и всё старался уверить себя, что ничего особенного не было и только тужил о том, что по случаю ее нездоровья откладывался их отъезд в деревню.
Со дня приезда своей жены в Москву Пьер сбирался уехать куда нибудь, только чтобы не быть с ней. Вскоре после приезда Ростовых в Москву, впечатление, которое производила на него Наташа, заставило его поторопиться исполнить свое намерение. Он поехал в Тверь ко вдове Иосифа Алексеевича, которая обещала давно передать ему бумаги покойного.
Когда Пьер вернулся в Москву, ему подали письмо от Марьи Дмитриевны, которая звала его к себе по весьма важному делу, касающемуся Андрея Болконского и его невесты. Пьер избегал Наташи. Ему казалось, что он имел к ней чувство более сильное, чем то, которое должен был иметь женатый человек к невесте своего друга. И какая то судьба постоянно сводила его с нею.
«Что такое случилось? И какое им до меня дело? думал он, одеваясь, чтобы ехать к Марье Дмитриевне. Поскорее бы приехал князь Андрей и женился бы на ней!» думал Пьер дорогой к Ахросимовой.
На Тверском бульваре кто то окликнул его.
– Пьер! Давно приехал? – прокричал ему знакомый голос. Пьер поднял голову. В парных санях, на двух серых рысаках, закидывающих снегом головашки саней, промелькнул Анатоль с своим всегдашним товарищем Макариным. Анатоль сидел прямо, в классической позе военных щеголей, закутав низ лица бобровым воротником и немного пригнув голову. Лицо его было румяно и свежо, шляпа с белым плюмажем была надета на бок, открывая завитые, напомаженные и осыпанные мелким снегом волосы.
«И право, вот настоящий мудрец! подумал Пьер, ничего не видит дальше настоящей минуты удовольствия, ничто не тревожит его, и оттого всегда весел, доволен и спокоен. Что бы я дал, чтобы быть таким как он!» с завистью подумал Пьер.
В передней Ахросимовой лакей, снимая с Пьера его шубу, сказал, что Марья Дмитриевна просят к себе в спальню.
Отворив дверь в залу, Пьер увидал Наташу, сидевшую у окна с худым, бледным и злым лицом. Она оглянулась на него, нахмурилась и с выражением холодного достоинства вышла из комнаты.
– Что случилось? – спросил Пьер, входя к Марье Дмитриевне.
– Хорошие дела, – отвечала Марья Дмитриевна: – пятьдесят восемь лет прожила на свете, такого сраму не видала. – И взяв с Пьера честное слово молчать обо всем, что он узнает, Марья Дмитриевна сообщила ему, что Наташа отказала своему жениху без ведома родителей, что причиной этого отказа был Анатоль Курагин, с которым сводила ее жена Пьера, и с которым она хотела бежать в отсутствие своего отца, с тем, чтобы тайно обвенчаться.
Пьер приподняв плечи и разинув рот слушал то, что говорила ему Марья Дмитриевна, не веря своим ушам. Невесте князя Андрея, так сильно любимой, этой прежде милой Наташе Ростовой, променять Болконского на дурака Анатоля, уже женатого (Пьер знал тайну его женитьбы), и так влюбиться в него, чтобы согласиться бежать с ним! – Этого Пьер не мог понять и не мог себе представить.
Милое впечатление Наташи, которую он знал с детства, не могло соединиться в его душе с новым представлением о ее низости, глупости и жестокости. Он вспомнил о своей жене. «Все они одни и те же», сказал он сам себе, думая, что не ему одному достался печальный удел быть связанным с гадкой женщиной. Но ему всё таки до слез жалко было князя Андрея, жалко было его гордости. И чем больше он жалел своего друга, тем с большим презрением и даже отвращением думал об этой Наташе, с таким выражением холодного достоинства сейчас прошедшей мимо него по зале. Он не знал, что душа Наташи была преисполнена отчаяния, стыда, унижения, и что она не виновата была в том, что лицо ее нечаянно выражало спокойное достоинство и строгость.
– Да как обвенчаться! – проговорил Пьер на слова Марьи Дмитриевны. – Он не мог обвенчаться: он женат.
– Час от часу не легче, – проговорила Марья Дмитриевна. – Хорош мальчик! То то мерзавец! А она ждет, второй день ждет. По крайней мере ждать перестанет, надо сказать ей.
Узнав от Пьера подробности женитьбы Анатоля, излив свой гнев на него ругательными словами, Марья Дмитриевна сообщила ему то, для чего она вызвала его. Марья Дмитриевна боялась, чтобы граф или Болконский, который мог всякую минуту приехать, узнав дело, которое она намерена была скрыть от них, не вызвали на дуэль Курагина, и потому просила его приказать от ее имени его шурину уехать из Москвы и не сметь показываться ей на глаза. Пьер обещал ей исполнить ее желание, только теперь поняв опасность, которая угрожала и старому графу, и Николаю, и князю Андрею. Кратко и точно изложив ему свои требования, она выпустила его в гостиную. – Смотри же, граф ничего не знает. Ты делай, как будто ничего не знаешь, – сказала она ему. – А я пойду сказать ей, что ждать нечего! Да оставайся обедать, коли хочешь, – крикнула Марья Дмитриевна Пьеру.
Пьер встретил старого графа. Он был смущен и расстроен. В это утро Наташа сказала ему, что она отказала Болконскому.
– Беда, беда, mon cher, – говорил он Пьеру, – беда с этими девками без матери; уж я так тужу, что приехал. Я с вами откровенен буду. Слышали, отказала жениху, ни у кого не спросивши ничего. Оно, положим, я никогда этому браку очень не радовался. Положим, он хороший человек, но что ж, против воли отца счастья бы не было, и Наташа без женихов не останется. Да всё таки долго уже так продолжалось, да и как же это без отца, без матери, такой шаг! А теперь больна, и Бог знает, что! Плохо, граф, плохо с дочерьми без матери… – Пьер видел, что граф был очень расстроен, старался перевести разговор на другой предмет, но граф опять возвращался к своему горю.
Соня с встревоженным лицом вошла в гостиную.
– Наташа не совсем здорова; она в своей комнате и желала бы вас видеть. Марья Дмитриевна у нее и просит вас тоже.
– Да ведь вы очень дружны с Болконским, верно что нибудь передать хочет, – сказал граф. – Ах, Боже мой, Боже мой! Как всё хорошо было! – И взявшись за редкие виски седых волос, граф вышел из комнаты.
Марья Дмитриевна объявила Наташе о том, что Анатоль был женат. Наташа не хотела верить ей и требовала подтверждения этого от самого Пьера. Соня сообщила это Пьеру в то время, как она через коридор провожала его в комнату Наташи.
Наташа, бледная, строгая сидела подле Марьи Дмитриевны и от самой двери встретила Пьера лихорадочно блестящим, вопросительным взглядом. Она не улыбнулась, не кивнула ему головой, она только упорно смотрела на него, и взгляд ее спрашивал его только про то: друг ли он или такой же враг, как и все другие, по отношению к Анатолю. Сам по себе Пьер очевидно не существовал для нее.
– Он всё знает, – сказала Марья Дмитриевна, указывая на Пьера и обращаясь к Наташе. – Он пускай тебе скажет, правду ли я говорила.
Наташа, как подстреленный, загнанный зверь смотрит на приближающихся собак и охотников, смотрела то на того, то на другого.
– Наталья Ильинична, – начал Пьер, опустив глаза и испытывая чувство жалости к ней и отвращения к той операции, которую он должен был делать, – правда это или не правда, это для вас должно быть всё равно, потому что…
– Так это не правда, что он женат!
– Нет, это правда.
– Он женат был и давно? – спросила она, – честное слово?
Пьер дал ей честное слово.
– Он здесь еще? – спросила она быстро.
– Да, я его сейчас видел.
Она очевидно была не в силах говорить и делала руками знаки, чтобы оставили ее.
Пьер не остался обедать, а тотчас же вышел из комнаты и уехал. Он поехал отыскивать по городу Анатоля Курагина, при мысли о котором теперь вся кровь у него приливала к сердцу и он испытывал затруднение переводить дыхание. На горах, у цыган, у Comoneno – его не было. Пьер поехал в клуб.
В клубе всё шло своим обыкновенным порядком: гости, съехавшиеся обедать, сидели группами и здоровались с Пьером и говорили о городских новостях. Лакей, поздоровавшись с ним, доложил ему, зная его знакомство и привычки, что место ему оставлено в маленькой столовой, что князь Михаил Захарыч в библиотеке, а Павел Тимофеич не приезжали еще. Один из знакомых Пьера между разговором о погоде спросил у него, слышал ли он о похищении Курагиным Ростовой, про которое говорят в городе, правда ли это? Пьер, засмеявшись, сказал, что это вздор, потому что он сейчас только от Ростовых. Он спрашивал у всех про Анатоля; ему сказал один, что не приезжал еще, другой, что он будет обедать нынче. Пьеру странно было смотреть на эту спокойную, равнодушную толпу людей, не знавшую того, что делалось у него в душе. Он прошелся по зале, дождался пока все съехались, и не дождавшись Анатоля, не стал обедать и поехал домой.
Анатоль, которого он искал, в этот день обедал у Долохова и совещался с ним о том, как поправить испорченное дело. Ему казалось необходимо увидаться с Ростовой. Вечером он поехал к сестре, чтобы переговорить с ней о средствах устроить это свидание. Когда Пьер, тщетно объездив всю Москву, вернулся домой, камердинер доложил ему, что князь Анатоль Васильич у графини. Гостиная графини была полна гостей.
Пьер не здороваясь с женою, которую он не видал после приезда (она больше чем когда нибудь ненавистна была ему в эту минуту), вошел в гостиную и увидав Анатоля подошел к нему.
– Ah, Pierre, – сказала графиня, подходя к мужу. – Ты не знаешь в каком положении наш Анатоль… – Она остановилась, увидав в опущенной низко голове мужа, в его блестящих глазах, в его решительной походке то страшное выражение бешенства и силы, которое она знала и испытала на себе после дуэли с Долоховым.
– Где вы – там разврат, зло, – сказал Пьер жене. – Анатоль, пойдемте, мне надо поговорить с вами, – сказал он по французски.
Анатоль оглянулся на сестру и покорно встал, готовый следовать за Пьером.
Пьер, взяв его за руку, дернул к себе и пошел из комнаты.
– Si vous vous permettez dans mon salon, [Если вы позволите себе в моей гостиной,] – шопотом проговорила Элен; но Пьер, не отвечая ей вышел из комнаты.
Анатоль шел за ним обычной, молодцоватой походкой. Но на лице его было заметно беспокойство.
Войдя в свой кабинет, Пьер затворил дверь и обратился к Анатолю, не глядя на него.
– Вы обещали графине Ростовой жениться на ней и хотели увезти ее?
– Мой милый, – отвечал Анатоль по французски (как и шел весь разговор), я не считаю себя обязанным отвечать на допросы, делаемые в таком тоне.
Лицо Пьера, и прежде бледное, исказилось бешенством. Он схватил своей большой рукой Анатоля за воротник мундира и стал трясти из стороны в сторону до тех пор, пока лицо Анатоля не приняло достаточное выражение испуга.
– Когда я говорю, что мне надо говорить с вами… – повторял Пьер.
– Ну что, это глупо. А? – сказал Анатоль, ощупывая оторванную с сукном пуговицу воротника.
– Вы негодяй и мерзавец, и не знаю, что меня воздерживает от удовольствия разможжить вам голову вот этим, – говорил Пьер, – выражаясь так искусственно потому, что он говорил по французски. Он взял в руку тяжелое пресспапье и угрожающе поднял и тотчас же торопливо положил его на место.
– Обещали вы ей жениться?
– Я, я, я не думал; впрочем я никогда не обещался, потому что…
Пьер перебил его. – Есть у вас письма ее? Есть у вас письма? – повторял Пьер, подвигаясь к Анатолю.
Анатоль взглянул на него и тотчас же, засунув руку в карман, достал бумажник.
Пьер взял подаваемое ему письмо и оттолкнув стоявший на дороге стол повалился на диван.
– Je ne serai pas violent, ne craignez rien, [Не бойтесь, я насилия не употреблю,] – сказал Пьер, отвечая на испуганный жест Анатоля. – Письма – раз, – сказал Пьер, как будто повторяя урок для самого себя. – Второе, – после минутного молчания продолжал он, опять вставая и начиная ходить, – вы завтра должны уехать из Москвы.
– Но как же я могу…
– Третье, – не слушая его, продолжал Пьер, – вы никогда ни слова не должны говорить о том, что было между вами и графиней. Этого, я знаю, я не могу запретить вам, но ежели в вас есть искра совести… – Пьер несколько раз молча прошел по комнате. Анатоль сидел у стола и нахмурившись кусал себе губы.
– Вы не можете не понять наконец, что кроме вашего удовольствия есть счастье, спокойствие других людей, что вы губите целую жизнь из того, что вам хочется веселиться. Забавляйтесь с женщинами подобными моей супруге – с этими вы в своем праве, они знают, чего вы хотите от них. Они вооружены против вас тем же опытом разврата; но обещать девушке жениться на ней… обмануть, украсть… Как вы не понимаете, что это так же подло, как прибить старика или ребенка!…
Пьер замолчал и взглянул на Анатоля уже не гневным, но вопросительным взглядом.
– Этого я не знаю. А? – сказал Анатоль, ободряясь по мере того, как Пьер преодолевал свой гнев. – Этого я не знаю и знать не хочу, – сказал он, не глядя на Пьера и с легким дрожанием нижней челюсти, – но вы сказали мне такие слова: подло и тому подобное, которые я comme un homme d'honneur [как честный человек] никому не позволю.
Пьер с удивлением посмотрел на него, не в силах понять, чего ему было нужно.
– Хотя это и было с глазу на глаз, – продолжал Анатоль, – но я не могу…
– Что ж, вам нужно удовлетворение? – насмешливо сказал Пьер.
– По крайней мере вы можете взять назад свои слова. А? Ежели вы хотите, чтоб я исполнил ваши желанья. А?
– Беру, беру назад, – проговорил Пьер и прошу вас извинить меня. Пьер взглянул невольно на оторванную пуговицу. – И денег, ежели вам нужно на дорогу. – Анатоль улыбнулся.
Это выражение робкой и подлой улыбки, знакомой ему по жене, взорвало Пьера.
– О, подлая, бессердечная порода! – проговорил он и вышел из комнаты.
На другой день Анатоль уехал в Петербург.
Пьер поехал к Марье Дмитриевне, чтобы сообщить об исполнении ее желанья – об изгнании Курагина из Москвы. Весь дом был в страхе и волнении. Наташа была очень больна, и, как Марья Дмитриевна под секретом сказала ему, она в ту же ночь, как ей было объявлено, что Анатоль женат, отравилась мышьяком, который она тихонько достала. Проглотив его немного, она так испугалась, что разбудила Соню и объявила ей то, что она сделала. Во время были приняты нужные меры против яда, и теперь она была вне опасности; но всё таки слаба так, что нельзя было думать везти ее в деревню и послано было за графиней. Пьер видел растерянного графа и заплаканную Соню, но не мог видеть Наташи.
Пьер в этот день обедал в клубе и со всех сторон слышал разговоры о попытке похищения Ростовой и с упорством опровергал эти разговоры, уверяя всех, что больше ничего не было, как только то, что его шурин сделал предложение Ростовой и получил отказ. Пьеру казалось, что на его обязанности лежит скрыть всё дело и восстановить репутацию Ростовой.
Он со страхом ожидал возвращения князя Андрея и каждый день заезжал наведываться о нем к старому князю.
Князь Николай Андреич знал через m lle Bourienne все слухи, ходившие по городу, и прочел ту записку к княжне Марье, в которой Наташа отказывала своему жениху. Он казался веселее обыкновенного и с большим нетерпением ожидал сына.
Чрез несколько дней после отъезда Анатоля, Пьер получил записку от князя Андрея, извещавшего его о своем приезде и просившего Пьера заехать к нему.
Князь Андрей, приехав в Москву, в первую же минуту своего приезда получил от отца записку Наташи к княжне Марье, в которой она отказывала жениху (записку эту похитила у княжны Марьи и передала князю m lle Вourienne) и услышал от отца с прибавлениями рассказы о похищении Наташи.
Князь Андрей приехал вечером накануне. Пьер приехал к нему на другое утро. Пьер ожидал найти князя Андрея почти в том же положении, в котором была и Наташа, и потому он был удивлен, когда, войдя в гостиную, услыхал из кабинета громкий голос князя Андрея, оживленно говорившего что то о какой то петербургской интриге. Старый князь и другой чей то голос изредка перебивали его. Княжна Марья вышла навстречу к Пьеру. Она вздохнула, указывая глазами на дверь, где был князь Андрей, видимо желая выразить свое сочувствие к его горю; но Пьер видел по лицу княжны Марьи, что она была рада и тому, что случилось, и тому, как ее брат принял известие об измене невесты.
– Он сказал, что ожидал этого, – сказала она. – Я знаю, что гордость его не позволит ему выразить своего чувства, но всё таки лучше, гораздо лучше он перенес это, чем я ожидала. Видно, так должно было быть…
– Но неужели совершенно всё кончено? – сказал Пьер.
Княжна Марья с удивлением посмотрела на него. Она не понимала даже, как можно было об этом спрашивать. Пьер вошел в кабинет. Князь Андрей, весьма изменившийся, очевидно поздоровевший, но с новой, поперечной морщиной между бровей, в штатском платье, стоял против отца и князя Мещерского и горячо спорил, делая энергические жесты. Речь шла о Сперанском, известие о внезапной ссылке и мнимой измене которого только что дошло до Москвы.
– Теперь судят и обвиняют его (Сперанского) все те, которые месяц тому назад восхищались им, – говорил князь Андрей, – и те, которые не в состоянии были понимать его целей. Судить человека в немилости очень легко и взваливать на него все ошибки другого; а я скажу, что ежели что нибудь сделано хорошего в нынешнее царствованье, то всё хорошее сделано им – им одним. – Он остановился, увидав Пьера. Лицо его дрогнуло и тотчас же приняло злое выражение. – И потомство отдаст ему справедливость, – договорил он, и тотчас же обратился к Пьеру.
– Ну ты как? Все толстеешь, – говорил он оживленно, но вновь появившаяся морщина еще глубже вырезалась на его лбу. – Да, я здоров, – отвечал он на вопрос Пьера и усмехнулся. Пьеру ясно было, что усмешка его говорила: «здоров, но здоровье мое никому не нужно». Сказав несколько слов с Пьером об ужасной дороге от границ Польши, о том, как он встретил в Швейцарии людей, знавших Пьера, и о господине Десале, которого он воспитателем для сына привез из за границы, князь Андрей опять с горячностью вмешался в разговор о Сперанском, продолжавшийся между двумя стариками.
– Ежели бы была измена и были бы доказательства его тайных сношений с Наполеоном, то их всенародно объявили бы – с горячностью и поспешностью говорил он. – Я лично не люблю и не любил Сперанского, но я люблю справедливость. – Пьер узнавал теперь в своем друге слишком знакомую ему потребность волноваться и спорить о деле для себя чуждом только для того, чтобы заглушить слишком тяжелые задушевные мысли.
Когда князь Мещерский уехал, князь Андрей взял под руку Пьера и пригласил его в комнату, которая была отведена для него. В комнате была разбита кровать, лежали раскрытые чемоданы и сундуки. Князь Андрей подошел к одному из них и достал шкатулку. Из шкатулки он достал связку в бумаге. Он всё делал молча и очень быстро. Он приподнялся, прокашлялся. Лицо его было нахмурено и губы поджаты.
– Прости меня, ежели я тебя утруждаю… – Пьер понял, что князь Андрей хотел говорить о Наташе, и широкое лицо его выразило сожаление и сочувствие. Это выражение лица Пьера рассердило князя Андрея; он решительно, звонко и неприятно продолжал: – Я получил отказ от графини Ростовой, и до меня дошли слухи об искании ее руки твоим шурином, или тому подобное. Правда ли это?
– И правда и не правда, – начал Пьер; но князь Андрей перебил его.
– Вот ее письма и портрет, – сказал он. Он взял связку со стола и передал Пьеру.
– Отдай это графине… ежели ты увидишь ее.
– Она очень больна, – сказал Пьер.
– Так она здесь еще? – сказал князь Андрей. – А князь Курагин? – спросил он быстро.
– Он давно уехал. Она была при смерти…
– Очень сожалею об ее болезни, – сказал князь Андрей. – Он холодно, зло, неприятно, как его отец, усмехнулся.
– Но господин Курагин, стало быть, не удостоил своей руки графиню Ростову? – сказал князь Андрей. Он фыркнул носом несколько раз.
– Он не мог жениться, потому что он был женат, – сказал Пьер.
Князь Андрей неприятно засмеялся, опять напоминая своего отца.
– А где же он теперь находится, ваш шурин, могу ли я узнать? – сказал он.
– Он уехал в Петер…. впрочем я не знаю, – сказал Пьер.
– Ну да это всё равно, – сказал князь Андрей. – Передай графине Ростовой, что она была и есть совершенно свободна, и что я желаю ей всего лучшего.
Пьер взял в руки связку бумаг. Князь Андрей, как будто вспоминая, не нужно ли ему сказать еще что нибудь или ожидая, не скажет ли чего нибудь Пьер, остановившимся взглядом смотрел на него.
– Послушайте, помните вы наш спор в Петербурге, – сказал Пьер, помните о…
– Помню, – поспешно отвечал князь Андрей, – я говорил, что падшую женщину надо простить, но я не говорил, что я могу простить. Я не могу.
– Разве можно это сравнивать?… – сказал Пьер. Князь Андрей перебил его. Он резко закричал:
– Да, опять просить ее руки, быть великодушным, и тому подобное?… Да, это очень благородно, но я не способен итти sur les brisees de monsieur [итти по стопам этого господина]. – Ежели ты хочешь быть моим другом, не говори со мною никогда про эту… про всё это. Ну, прощай. Так ты передашь…
Пьер вышел и пошел к старому князю и княжне Марье.
Старик казался оживленнее обыкновенного. Княжна Марья была такая же, как и всегда, но из за сочувствия к брату, Пьер видел в ней радость к тому, что свадьба ее брата расстроилась. Глядя на них, Пьер понял, какое презрение и злобу они имели все против Ростовых, понял, что нельзя было при них даже и упоминать имя той, которая могла на кого бы то ни было променять князя Андрея.
За обедом речь зашла о войне, приближение которой уже становилось очевидно. Князь Андрей не умолкая говорил и спорил то с отцом, то с Десалем, швейцарцем воспитателем, и казался оживленнее обыкновенного, тем оживлением, которого нравственную причину так хорошо знал Пьер.
В этот же вечер, Пьер поехал к Ростовым, чтобы исполнить свое поручение. Наташа была в постели, граф был в клубе, и Пьер, передав письма Соне, пошел к Марье Дмитриевне, интересовавшейся узнать о том, как князь Андрей принял известие. Через десять минут Соня вошла к Марье Дмитриевне.
– Наташа непременно хочет видеть графа Петра Кирилловича, – сказала она.
– Да как же, к ней что ль его свести? Там у вас не прибрано, – сказала Марья Дмитриевна.
– Нет, она оделась и вышла в гостиную, – сказала Соня.
Марья Дмитриевна только пожала плечами.
– Когда это графиня приедет, измучила меня совсем. Ты смотри ж, не говори ей всего, – обратилась она к Пьеру. – И бранить то ее духу не хватает, так жалка, так жалка!
Наташа, исхудавшая, с бледным и строгим лицом (совсем не пристыженная, какою ее ожидал Пьер) стояла по середине гостиной. Когда Пьер показался в двери, она заторопилась, очевидно в нерешительности, подойти ли к нему или подождать его.
Пьер поспешно подошел к ней. Он думал, что она ему, как всегда, подаст руку; но она, близко подойдя к нему, остановилась, тяжело дыша и безжизненно опустив руки, совершенно в той же позе, в которой она выходила на середину залы, чтоб петь, но совсем с другим выражением.
– Петр Кирилыч, – начала она быстро говорить – князь Болконский был вам друг, он и есть вам друг, – поправилась она (ей казалось, что всё только было, и что теперь всё другое). – Он говорил мне тогда, чтобы обратиться к вам…
Пьер молча сопел носом, глядя на нее. Он до сих пор в душе своей упрекал и старался презирать ее; но теперь ему сделалось так жалко ее, что в душе его не было места упреку.
– Он теперь здесь, скажите ему… чтобы он прост… простил меня. – Она остановилась и еще чаще стала дышать, но не плакала.
– Да… я скажу ему, – говорил Пьер, но… – Он не знал, что сказать.
Наташа видимо испугалась той мысли, которая могла притти Пьеру.
– Нет, я знаю, что всё кончено, – сказала она поспешно. – Нет, это не может быть никогда. Меня мучает только зло, которое я ему сделала. Скажите только ему, что я прошу его простить, простить, простить меня за всё… – Она затряслась всем телом и села на стул.
Еще никогда не испытанное чувство жалости переполнило душу Пьера.
– Я скажу ему, я всё еще раз скажу ему, – сказал Пьер; – но… я бы желал знать одно…
«Что знать?» спросил взгляд Наташи.
– Я бы желал знать, любили ли вы… – Пьер не знал как назвать Анатоля и покраснел при мысли о нем, – любили ли вы этого дурного человека?
– Не называйте его дурным, – сказала Наташа. – Но я ничего – ничего не знаю… – Она опять заплакала.
И еще больше чувство жалости, нежности и любви охватило Пьера. Он слышал как под очками его текли слезы и надеялся, что их не заметят.
– Не будем больше говорить, мой друг, – сказал Пьер.
Так странно вдруг для Наташи показался этот его кроткий, нежный, задушевный голос.
– Не будем говорить, мой друг, я всё скажу ему; но об одном прошу вас – считайте меня своим другом, и ежели вам нужна помощь, совет, просто нужно будет излить свою душу кому нибудь – не теперь, а когда у вас ясно будет в душе – вспомните обо мне. – Он взял и поцеловал ее руку. – Я счастлив буду, ежели в состоянии буду… – Пьер смутился.
– Не говорите со мной так: я не стою этого! – вскрикнула Наташа и хотела уйти из комнаты, но Пьер удержал ее за руку. Он знал, что ему нужно что то еще сказать ей. Но когда он сказал это, он удивился сам своим словам.
– Перестаньте, перестаньте, вся жизнь впереди для вас, – сказал он ей.
– Для меня? Нет! Для меня всё пропало, – сказала она со стыдом и самоунижением.
– Все пропало? – повторил он. – Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире, и был бы свободен, я бы сию минуту на коленях просил руки и любви вашей.
Наташа в первый раз после многих дней заплакала слезами благодарности и умиления и взглянув на Пьера вышла из комнаты.
Пьер тоже вслед за нею почти выбежал в переднюю, удерживая слезы умиления и счастья, давившие его горло, не попадая в рукава надел шубу и сел в сани.
– Теперь куда прикажете? – спросил кучер.
«Куда? спросил себя Пьер. Куда же можно ехать теперь? Неужели в клуб или гости?» Все люди казались так жалки, так бедны в сравнении с тем чувством умиления и любви, которое он испытывал; в сравнении с тем размягченным, благодарным взглядом, которым она последний раз из за слез взглянула на него.
– Домой, – сказал Пьер, несмотря на десять градусов мороза распахивая медвежью шубу на своей широкой, радостно дышавшей груди.
Было морозно и ясно. Над грязными, полутемными улицами, над черными крышами стояло темное, звездное небо. Пьер, только глядя на небо, не чувствовал оскорбительной низости всего земного в сравнении с высотою, на которой находилась его душа. При въезде на Арбатскую площадь, огромное пространство звездного темного неба открылось глазам Пьера. Почти в середине этого неба над Пречистенским бульваром, окруженная, обсыпанная со всех сторон звездами, но отличаясь от всех близостью к земле, белым светом, и длинным, поднятым кверху хвостом, стояла огромная яркая комета 1812 го года, та самая комета, которая предвещала, как говорили, всякие ужасы и конец света. Но в Пьере светлая звезда эта с длинным лучистым хвостом не возбуждала никакого страшного чувства. Напротив Пьер радостно, мокрыми от слез глазами, смотрел на эту светлую звезду, которая, как будто, с невыразимой быстротой пролетев неизмеримые пространства по параболической линии, вдруг, как вонзившаяся стрела в землю, влепилась тут в одно избранное ею место, на черном небе, и остановилась, энергично подняв кверху хвост, светясь и играя своим белым светом между бесчисленными другими, мерцающими звездами. Пьеру казалось, что эта звезда вполне отвечала тому, что было в его расцветшей к новой жизни, размягченной и ободренной душе.
С конца 1811 го года началось усиленное вооружение и сосредоточение сил Западной Европы, и в 1812 году силы эти – миллионы людей (считая тех, которые перевозили и кормили армию) двинулись с Запада на Восток, к границам России, к которым точно так же с 1811 го года стягивались силы России. 12 июня силы Западной Европы перешли границы России, и началась война, то есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие. Миллионы людей совершали друг, против друга такое бесчисленное количество злодеяний, обманов, измен, воровства, подделок и выпуска фальшивых ассигнаций, грабежей, поджогов и убийств, которого в целые века не соберет летопись всех судов мира и на которые, в этот период времени, люди, совершавшие их, не смотрели как на преступления.
Что произвело это необычайное событие? Какие были причины его? Историки с наивной уверенностью говорят, что причинами этого события были обида, нанесенная герцогу Ольденбургскому, несоблюдение континентальной системы, властолюбие Наполеона, твердость Александра, ошибки дипломатов и т. п.
Следовательно, стоило только Меттерниху, Румянцеву или Талейрану, между выходом и раутом, хорошенько постараться и написать поискуснее бумажку или Наполеону написать к Александру: Monsieur mon frere, je consens a rendre le duche au duc d'Oldenbourg, [Государь брат мой, я соглашаюсь возвратить герцогство Ольденбургскому герцогу.] – и войны бы не было.
Понятно, что таким представлялось дело современникам. Понятно, что Наполеону казалось, что причиной войны были интриги Англии (как он и говорил это на острове Св. Елены); понятно, что членам английской палаты казалось, что причиной войны было властолюбие Наполеона; что принцу Ольденбургскому казалось, что причиной войны было совершенное против него насилие; что купцам казалось, что причиной войны была континентальная система, разорявшая Европу, что старым солдатам и генералам казалось, что главной причиной была необходимость употребить их в дело; легитимистам того времени то, что необходимо было восстановить les bons principes [хорошие принципы], а дипломатам того времени то, что все произошло оттого, что союз России с Австрией в 1809 году не был достаточно искусно скрыт от Наполеона и что неловко был написан memorandum за № 178. Понятно, что эти и еще бесчисленное, бесконечное количество причин, количество которых зависит от бесчисленного различия точек зрения, представлялось современникам; но для нас – потомков, созерцающих во всем его объеме громадность совершившегося события и вникающих в его простой и страшный смысл, причины эти представляются недостаточными. Для нас непонятно, чтобы миллионы людей христиан убивали и мучили друг друга, потому что Наполеон был властолюбив, Александр тверд, политика Англии хитра и герцог Ольденбургский обижен. Нельзя понять, какую связь имеют эти обстоятельства с самым фактом убийства и насилия; почему вследствие того, что герцог обижен, тысячи людей с другого края Европы убивали и разоряли людей Смоленской и Московской губерний и были убиваемы ими.
Для нас, потомков, – не историков, не увлеченных процессом изыскания и потому с незатемненным здравым смыслом созерцающих событие, причины его представляются в неисчислимом количестве. Чем больше мы углубляемся в изыскание причин, тем больше нам их открывается, и всякая отдельно взятая причина или целый ряд причин представляются нам одинаково справедливыми сами по себе, и одинаково ложными по своей ничтожности в сравнении с громадностью события, и одинаково ложными по недействительности своей (без участия всех других совпавших причин) произвести совершившееся событие. Такой же причиной, как отказ Наполеона отвести свои войска за Вислу и отдать назад герцогство Ольденбургское, представляется нам и желание или нежелание первого французского капрала поступить на вторичную службу: ибо, ежели бы он не захотел идти на службу и не захотел бы другой, и третий, и тысячный капрал и солдат, настолько менее людей было бы в войске Наполеона, и войны не могло бы быть.
Ежели бы Наполеон не оскорбился требованием отступить за Вислу и не велел наступать войскам, не было бы войны; но ежели бы все сержанты не пожелали поступить на вторичную службу, тоже войны не могло бы быть. Тоже не могло бы быть войны, ежели бы не было интриг Англии, и не было бы принца Ольденбургского и чувства оскорбления в Александре, и не было бы самодержавной власти в России, и не было бы французской революции и последовавших диктаторства и империи, и всего того, что произвело французскую революцию, и так далее. Без одной из этих причин ничего не могло бы быть. Стало быть, причины эти все – миллиарды причин – совпали для того, чтобы произвести то, что было. И, следовательно, ничто не было исключительной причиной события, а событие должно было совершиться только потому, что оно должно было совершиться. Должны были миллионы людей, отрекшись от своих человеческих чувств и своего разума, идти на Восток с Запада и убивать себе подобных, точно так же, как несколько веков тому назад с Востока на Запад шли толпы людей, убивая себе подобных.
Действия Наполеона и Александра, от слова которых зависело, казалось, чтобы событие совершилось или не совершилось, – были так же мало произвольны, как и действие каждого солдата, шедшего в поход по жребию или по набору. Это не могло быть иначе потому, что для того, чтобы воля Наполеона и Александра (тех людей, от которых, казалось, зависело событие) была исполнена, необходимо было совпадение бесчисленных обстоятельств, без одного из которых событие не могло бы совершиться. Необходимо было, чтобы миллионы людей, в руках которых была действительная сила, солдаты, которые стреляли, везли провиант и пушки, надо было, чтобы они согласились исполнить эту волю единичных и слабых людей и были приведены к этому бесчисленным количеством сложных, разнообразных причин.
Фатализм в истории неизбежен для объяснения неразумных явлений (то есть тех, разумность которых мы не понимаем). Чем более мы стараемся разумно объяснить эти явления в истории, тем они становятся для нас неразумнее и непонятнее.
Каждый человек живет для себя, пользуется свободой для достижения своих личных целей и чувствует всем существом своим, что он может сейчас сделать или не сделать такое то действие; но как скоро он сделает его, так действие это, совершенное в известный момент времени, становится невозвратимым и делается достоянием истории, в которой оно имеет не свободное, а предопределенное значение.
Есть две стороны жизни в каждом человеке: жизнь личная, которая тем более свободна, чем отвлеченнее ее интересы, и жизнь стихийная, роевая, где человек неизбежно исполняет предписанные ему законы.
Человек сознательно живет для себя, но служит бессознательным орудием для достижения исторических, общечеловеческих целей. Совершенный поступок невозвратим, и действие его, совпадая во времени с миллионами действий других людей, получает историческое значение. Чем выше стоит человек на общественной лестнице, чем с большими людьми он связан, тем больше власти он имеет на других людей, тем очевиднее предопределенность и неизбежность каждого его поступка.
«Сердце царево в руце божьей».
Царь – есть раб истории.
История, то есть бессознательная, общая, роевая жизнь человечества, всякой минутой жизни царей пользуется для себя как орудием для своих целей.
Наполеон, несмотря на то, что ему более чем когда нибудь, теперь, в 1812 году, казалось, что от него зависело verser или не verser le sang de ses peuples [проливать или не проливать кровь своих народов] (как в последнем письме писал ему Александр), никогда более как теперь не подлежал тем неизбежным законам, которые заставляли его (действуя в отношении себя, как ему казалось, по своему произволу) делать для общего дела, для истории то, что должно было совершиться.
Люди Запада двигались на Восток для того, чтобы убивать друг друга. И по закону совпадения причин подделались сами собою и совпали с этим событием тысячи мелких причин для этого движения и для войны: укоры за несоблюдение континентальной системы, и герцог Ольденбургский, и движение войск в Пруссию, предпринятое (как казалось Наполеону) для того только, чтобы достигнуть вооруженного мира, и любовь и привычка французского императора к войне, совпавшая с расположением его народа, увлечение грандиозностью приготовлений, и расходы по приготовлению, и потребность приобретения таких выгод, которые бы окупили эти расходы, и одурманившие почести в Дрездене, и дипломатические переговоры, которые, по взгляду современников, были ведены с искренним желанием достижения мира и которые только уязвляли самолюбие той и другой стороны, и миллионы миллионов других причин, подделавшихся под имеющее совершиться событие, совпавших с ним.
Когда созрело яблоко и падает, – отчего оно падает? Оттого ли, что тяготеет к земле, оттого ли, что засыхает стержень, оттого ли, что сушится солнцем, что тяжелеет, что ветер трясет его, оттого ли, что стоящему внизу мальчику хочется съесть его?
Ничто не причина. Все это только совпадение тех условий, при которых совершается всякое жизненное, органическое, стихийное событие. И тот ботаник, который найдет, что яблоко падает оттого, что клетчатка разлагается и тому подобное, будет так же прав, и так же не прав, как и тот ребенок, стоящий внизу, который скажет, что яблоко упало оттого, что ему хотелось съесть его и что он молился об этом. Так же прав и не прав будет тот, кто скажет, что Наполеон пошел в Москву потому, что он захотел этого, и оттого погиб, что Александр захотел его погибели: как прав и не прав будет тот, кто скажет, что завалившаяся в миллион пудов подкопанная гора упала оттого, что последний работник ударил под нее последний раз киркою. В исторических событиях так называемые великие люди суть ярлыки, дающие наименований событию, которые, так же как ярлыки, менее всего имеют связи с самым событием.
Каждое действие их, кажущееся им произвольным для самих себя, в историческом смысле непроизвольно, а находится в связи со всем ходом истории и определено предвечно.
29 го мая Наполеон выехал из Дрездена, где он пробыл три недели, окруженный двором, составленным из принцев, герцогов, королей и даже одного императора. Наполеон перед отъездом обласкал принцев, королей и императора, которые того заслуживали, побранил королей и принцев, которыми он был не вполне доволен, одарил своими собственными, то есть взятыми у других королей, жемчугами и бриллиантами императрицу австрийскую и, нежно обняв императрицу Марию Луизу, как говорит его историк, оставил ее огорченною разлукой, которую она – эта Мария Луиза, считавшаяся его супругой, несмотря на то, что в Париже оставалась другая супруга, – казалось, не в силах была перенести. Несмотря на то, что дипломаты еще твердо верили в возможность мира и усердно работали с этой целью, несмотря на то, что император Наполеон сам писал письмо императору Александру, называя его Monsieur mon frere [Государь брат мой] и искренно уверяя, что он не желает войны и что всегда будет любить и уважать его, – он ехал к армии и отдавал на каждой станции новые приказания, имевшие целью торопить движение армии от запада к востоку. Он ехал в дорожной карете, запряженной шестериком, окруженный пажами, адъютантами и конвоем, по тракту на Позен, Торн, Данциг и Кенигсберг. В каждом из этих городов тысячи людей с трепетом и восторгом встречали его.
Армия подвигалась с запада на восток, и переменные шестерни несли его туда же. 10 го июня он догнал армию и ночевал в Вильковисском лесу, в приготовленной для него квартире, в имении польского графа.
На другой день Наполеон, обогнав армию, в коляске подъехал к Неману и, с тем чтобы осмотреть местность переправы, переоделся в польский мундир и выехал на берег.
Увидав на той стороне казаков (les Cosaques) и расстилавшиеся степи (les Steppes), в середине которых была Moscou la ville sainte, [Москва, священный город,] столица того, подобного Скифскому, государства, куда ходил Александр Македонский, – Наполеон, неожиданно для всех и противно как стратегическим, так и дипломатическим соображениям, приказал наступление, и на другой день войска его стали переходить Неман.
12 го числа рано утром он вышел из палатки, раскинутой в этот день на крутом левом берегу Немана, и смотрел в зрительную трубу на выплывающие из Вильковисского леса потоки своих войск, разливающихся по трем мостам, наведенным на Немане. Войска знали о присутствии императора, искали его глазами, и, когда находили на горе перед палаткой отделившуюся от свиты фигуру в сюртуке и шляпе, они кидали вверх шапки, кричали: «Vive l'Empereur! [Да здравствует император!] – и одни за другими, не истощаясь, вытекали, всё вытекали из огромного, скрывавшего их доселе леса и, расстрояясь, по трем мостам переходили на ту сторону.
– On fera du chemin cette fois ci. Oh! quand il s'en mele lui meme ca chauffe… Nom de Dieu… Le voila!.. Vive l'Empereur! Les voila donc les Steppes de l'Asie! Vilain pays tout de meme. Au revoir, Beauche; je te reserve le plus beau palais de Moscou. Au revoir! Bonne chance… L'as tu vu, l'Empereur? Vive l'Empereur!.. preur! Si on me fait gouverneur aux Indes, Gerard, je te fais ministre du Cachemire, c'est arrete. Vive l'Empereur! Vive! vive! vive! Les gredins de Cosaques, comme ils filent. Vive l'Empereur! Le voila! Le vois tu? Je l'ai vu deux fois comme jete vois. Le petit caporal… Je l'ai vu donner la croix a l'un des vieux… Vive l'Empereur!.. [Теперь походим! О! как он сам возьмется, дело закипит. Ей богу… Вот он… Ура, император! Так вот они, азиатские степи… Однако скверная страна. До свиданья, Боше. Я тебе оставлю лучший дворец в Москве. До свиданья, желаю успеха. Видел императора? Ура! Ежели меня сделают губернатором в Индии, я тебя сделаю министром Кашмира… Ура! Император вот он! Видишь его? Я его два раза как тебя видел. Маленький капрал… Я видел, как он навесил крест одному из стариков… Ура, император!] – говорили голоса старых и молодых людей, самых разнообразных характеров и положений в обществе. На всех лицах этих людей было одно общее выражение радости о начале давно ожидаемого похода и восторга и преданности к человеку в сером сюртуке, стоявшему на горе.
13 го июня Наполеону подали небольшую чистокровную арабскую лошадь, и он сел и поехал галопом к одному из мостов через Неман, непрестанно оглушаемый восторженными криками, которые он, очевидно, переносил только потому, что нельзя было запретить им криками этими выражать свою любовь к нему; но крики эти, сопутствующие ему везде, тяготили его и отвлекали его от военной заботы, охватившей его с того времени, как он присоединился к войску. Он проехал по одному из качавшихся на лодках мостов на ту сторону, круто повернул влево и галопом поехал по направлению к Ковно, предшествуемый замиравшими от счастия, восторженными гвардейскими конными егерями, расчищая дорогу по войскам, скакавшим впереди его. Подъехав к широкой реке Вилии, он остановился подле польского уланского полка, стоявшего на берегу.
– Виват! – также восторженно кричали поляки, расстроивая фронт и давя друг друга, для того чтобы увидать его. Наполеон осмотрел реку, слез с лошади и сел на бревно, лежавшее на берегу. По бессловесному знаку ему подали трубу, он положил ее на спину подбежавшего счастливого пажа и стал смотреть на ту сторону. Потом он углубился в рассматриванье листа карты, разложенного между бревнами. Не поднимая головы, он сказал что то, и двое его адъютантов поскакали к польским уланам.
– Что? Что он сказал? – слышалось в рядах польских улан, когда один адъютант подскакал к ним.
Было приказано, отыскав брод, перейти на ту сторону. Польский уланский полковник, красивый старый человек, раскрасневшись и путаясь в словах от волнения, спросил у адъютанта, позволено ли ему будет переплыть с своими уланами реку, не отыскивая брода. Он с очевидным страхом за отказ, как мальчик, который просит позволения сесть на лошадь, просил, чтобы ему позволили переплыть реку в глазах императора. Адъютант сказал, что, вероятно, император не будет недоволен этим излишним усердием.
Как только адъютант сказал это, старый усатый офицер с счастливым лицом и блестящими глазами, подняв кверху саблю, прокричал: «Виват! – и, скомандовав уланам следовать за собой, дал шпоры лошади и подскакал к реке. Он злобно толкнул замявшуюся под собой лошадь и бухнулся в воду, направляясь вглубь к быстрине течения. Сотни уланов поскакали за ним. Было холодно и жутко на середине и на быстрине теченья. Уланы цеплялись друг за друга, сваливались с лошадей, лошади некоторые тонули, тонули и люди, остальные старались плыть кто на седле, кто держась за гриву. Они старались плыть вперед на ту сторону и, несмотря на то, что за полверсты была переправа, гордились тем, что они плывут и тонут в этой реке под взглядами человека, сидевшего на бревне и даже не смотревшего на то, что они делали. Когда вернувшийся адъютант, выбрав удобную минуту, позволил себе обратить внимание императора на преданность поляков к его особе, маленький человек в сером сюртуке встал и, подозвав к себе Бертье, стал ходить с ним взад и вперед по берегу, отдавая ему приказания и изредка недовольно взглядывая на тонувших улан, развлекавших его внимание.
Для него было не ново убеждение в том, что присутствие его на всех концах мира, от Африки до степей Московии, одинаково поражает и повергает людей в безумие самозабвения. Он велел подать себе лошадь и поехал в свою стоянку.
Человек сорок улан потонуло в реке, несмотря на высланные на помощь лодки. Большинство прибилось назад к этому берегу. Полковник и несколько человек переплыли реку и с трудом вылезли на тот берег. Но как только они вылезли в обшлепнувшемся на них, стекающем ручьями мокром платье, они закричали: «Виват!», восторженно глядя на то место, где стоял Наполеон, но где его уже не было, и в ту минуту считали себя счастливыми.
Ввечеру Наполеон между двумя распоряжениями – одно о том, чтобы как можно скорее доставить заготовленные фальшивые русские ассигнации для ввоза в Россию, и другое о том, чтобы расстрелять саксонца, в перехваченном письме которого найдены сведения о распоряжениях по французской армии, – сделал третье распоряжение – о причислении бросившегося без нужды в реку польского полковника к когорте чести (Legion d'honneur), которой Наполеон был главою.
Qnos vult perdere – dementat. [Кого хочет погубить – лишит разума (лат.) ]
Русский император между тем более месяца уже жил в Вильне, делая смотры и маневры. Ничто не было готово для войны, которой все ожидали и для приготовления к которой император приехал из Петербурга. Общего плана действий не было. Колебания о том, какой план из всех тех, которые предлагались, должен быть принят, только еще более усилились после месячного пребывания императора в главной квартире. В трех армиях был в каждой отдельный главнокомандующий, но общего начальника над всеми армиями не было, и император не принимал на себя этого звания.
Чем дольше жил император в Вильне, тем менее и менее готовились к войне, уставши ожидать ее. Все стремления людей, окружавших государя, казалось, были направлены только на то, чтобы заставлять государя, приятно проводя время, забыть о предстоящей войне.
После многих балов и праздников у польских магнатов, у придворных и у самого государя, в июне месяце одному из польских генерал адъютантов государя пришла мысль дать обед и бал государю от лица его генерал адъютантов. Мысль эта радостно была принята всеми. Государь изъявил согласие. Генерал адъютанты собрали по подписке деньги. Особа, которая наиболее могла быть приятна государю, была приглашена быть хозяйкой бала. Граф Бенигсен, помещик Виленской губернии, предложил свой загородный дом для этого праздника, и 13 июня был назначен обед, бал, катанье на лодках и фейерверк в Закрете, загородном доме графа Бенигсена.
В тот самый день, в который Наполеоном был отдан приказ о переходе через Неман и передовые войска его, оттеснив казаков, перешли через русскую границу, Александр проводил вечер на даче Бенигсена – на бале, даваемом генерал адъютантами.
Был веселый, блестящий праздник; знатоки дела говорили, что редко собиралось в одном месте столько красавиц. Графиня Безухова в числе других русских дам, приехавших за государем из Петербурга в Вильну, была на этом бале, затемняя своей тяжелой, так называемой русской красотой утонченных польских дам. Она была замечена, и государь удостоил ее танца.
Борис Друбецкой, en garcon (холостяком), как он говорил, оставив свою жену в Москве, был также на этом бале и, хотя не генерал адъютант, был участником на большую сумму в подписке для бала. Борис теперь был богатый человек, далеко ушедший в почестях, уже не искавший покровительства, а на ровной ноге стоявший с высшими из своих сверстников.
В двенадцать часов ночи еще танцевали. Элен, не имевшая достойного кавалера, сама предложила мазурку Борису. Они сидели в третьей паре. Борис, хладнокровно поглядывая на блестящие обнаженные плечи Элен, выступавшие из темного газового с золотом платья, рассказывал про старых знакомых и вместе с тем, незаметно для самого себя и для других, ни на секунду не переставал наблюдать государя, находившегося в той же зале. Государь не танцевал; он стоял в дверях и останавливал то тех, то других теми ласковыми словами, которые он один только умел говорить.
При начале мазурки Борис видел, что генерал адъютант Балашев, одно из ближайших лиц к государю, подошел к нему и непридворно остановился близко от государя, говорившего с польской дамой. Поговорив с дамой, государь взглянул вопросительно и, видно, поняв, что Балашев поступил так только потому, что на то были важные причины, слегка кивнул даме и обратился к Балашеву. Только что Балашев начал говорить, как удивление выразилось на лице государя. Он взял под руку Балашева и пошел с ним через залу, бессознательно для себя расчищая с обеих сторон сажени на три широкую дорогу сторонившихся перед ним. Борис заметил взволнованное лицо Аракчеева, в то время как государь пошел с Балашевым. Аракчеев, исподлобья глядя на государя и посапывая красным носом, выдвинулся из толпы, как бы ожидая, что государь обратится к нему. (Борис понял, что Аракчеев завидует Балашеву и недоволен тем, что какая то, очевидно, важная, новость не через него передана государю.)
Но государь с Балашевым прошли, не замечая Аракчеева, через выходную дверь в освещенный сад. Аракчеев, придерживая шпагу и злобно оглядываясь вокруг себя, прошел шагах в двадцати за ними.
Пока Борис продолжал делать фигуры мазурки, его не переставала мучить мысль о том, какую новость привез Балашев и каким бы образом узнать ее прежде других.
В фигуре, где ему надо было выбирать дам, шепнув Элен, что он хочет взять графиню Потоцкую, которая, кажется, вышла на балкон, он, скользя ногами по паркету, выбежал в выходную дверь в сад и, заметив входящего с Балашевым на террасу государя, приостановился. Государь с Балашевым направлялись к двери. Борис, заторопившись, как будто не успев отодвинуться, почтительно прижался к притолоке и нагнул голову.
Государь с волнением лично оскорбленного человека договаривал следующие слова:
– Без объявления войны вступить в Россию. Я помирюсь только тогда, когда ни одного вооруженного неприятеля не останется на моей земле, – сказал он. Как показалось Борису, государю приятно было высказать эти слова: он был доволен формой выражения своей мысли, но был недоволен тем, что Борис услыхал их.
– Чтоб никто ничего не знал! – прибавил государь, нахмурившись. Борис понял, что это относилось к нему, и, закрыв глаза, слегка наклонил голову. Государь опять вошел в залу и еще около получаса пробыл на бале.
Борис первый узнал известие о переходе французскими войсками Немана и благодаря этому имел случай показать некоторым важным лицам, что многое, скрытое от других, бывает ему известно, и через то имел случай подняться выше во мнении этих особ.
Неожиданное известие о переходе французами Немана было особенно неожиданно после месяца несбывавшегося ожидания, и на бале! Государь, в первую минуту получения известия, под влиянием возмущения и оскорбления, нашел то, сделавшееся потом знаменитым, изречение, которое самому понравилось ему и выражало вполне его чувства. Возвратившись домой с бала, государь в два часа ночи послал за секретарем Шишковым и велел написать приказ войскам и рескрипт к фельдмаршалу князю Салтыкову, в котором он непременно требовал, чтобы были помещены слова о том, что он не помирится до тех пор, пока хотя один вооруженный француз останется на русской земле.
На другой день было написано следующее письмо к Наполеону.
«Monsieur mon frere. J'ai appris hier que malgre la loyaute avec laquelle j'ai maintenu mes engagements envers Votre Majeste, ses troupes ont franchis les frontieres de la Russie, et je recois a l'instant de Petersbourg une note par laquelle le comte Lauriston, pour cause de cette agression, annonce que Votre Majeste s'est consideree comme en etat de guerre avec moi des le moment ou le prince Kourakine a fait la demande de ses passeports. Les motifs sur lesquels le duc de Bassano fondait son refus de les lui delivrer, n'auraient jamais pu me faire supposer que cette demarche servirait jamais de pretexte a l'agression. En effet cet ambassadeur n'y a jamais ete autorise comme il l'a declare lui meme, et aussitot que j'en fus informe, je lui ai fait connaitre combien je le desapprouvais en lui donnant l'ordre de rester a son poste. Si Votre Majeste n'est pas intentionnee de verser le sang de nos peuples pour un malentendu de ce genre et qu'elle consente a retirer ses troupes du territoire russe, je regarderai ce qui s'est passe comme non avenu, et un accommodement entre nous sera possible. Dans le cas contraire, Votre Majeste, je me verrai force de repousser une attaque que rien n'a provoquee de ma part. Il depend encore de Votre Majeste d'eviter a l'humanite les calamites d'une nouvelle guerre.
Je suis, etc.
(signe) Alexandre».
[«Государь брат мой! Вчера дошло до меня, что, несмотря на прямодушие, с которым соблюдал я мои обязательства в отношении к Вашему Императорскому Величеству, войска Ваши перешли русские границы, и только лишь теперь получил из Петербурга ноту, которою граф Лористон извещает меня, по поводу сего вторжения, что Ваше Величество считаете себя в неприязненных отношениях со мною, с того времени как князь Куракин потребовал свои паспорта. Причины, на которых герцог Бассано основывал свой отказ выдать сии паспорты, никогда не могли бы заставить меня предполагать, чтобы поступок моего посла послужил поводом к нападению. И в действительности он не имел на то от меня повеления, как было объявлено им самим; и как только я узнал о сем, то немедленно выразил мое неудовольствие князю Куракину, повелев ему исполнять по прежнему порученные ему обязанности. Ежели Ваше Величество не расположены проливать кровь наших подданных из за подобного недоразумения и ежели Вы согласны вывести свои войска из русских владений, то я оставлю без внимания все происшедшее, и соглашение между нами будет возможно. В противном случае я буду принужден отражать нападение, которое ничем не было возбуждено с моей стороны. Ваше Величество, еще имеете возможность избавить человечество от бедствий новой войны.
(подписал) Александр». ]
13 го июня, в два часа ночи, государь, призвав к себе Балашева и прочтя ему свое письмо к Наполеону, приказал ему отвезти это письмо и лично передать французскому императору. Отправляя Балашева, государь вновь повторил ему слова о том, что он не помирится до тех пор, пока останется хотя один вооруженный неприятель на русской земле, и приказал непременно передать эти слова Наполеону. Государь не написал этих слов в письме, потому что он чувствовал с своим тактом, что слова эти неудобны для передачи в ту минуту, когда делается последняя попытка примирения; но он непременно приказал Балашеву передать их лично Наполеону.
Выехав в ночь с 13 го на 14 е июня, Балашев, сопутствуемый трубачом и двумя казаками, к рассвету приехал в деревню Рыконты, на французские аванпосты по сю сторону Немана. Он был остановлен французскими кавалерийскими часовыми.
Французский гусарский унтер офицер, в малиновом мундире и мохнатой шапке, крикнул на подъезжавшего Балашева, приказывая ему остановиться. Балашев не тотчас остановился, а продолжал шагом подвигаться по дороге.
Унтер офицер, нахмурившись и проворчав какое то ругательство, надвинулся грудью лошади на Балашева, взялся за саблю и грубо крикнул на русского генерала, спрашивая его: глух ли он, что не слышит того, что ему говорят. Балашев назвал себя. Унтер офицер послал солдата к офицеру.
Не обращая на Балашева внимания, унтер офицер стал говорить с товарищами о своем полковом деле и не глядел на русского генерала.
Необычайно странно было Балашеву, после близости к высшей власти и могуществу, после разговора три часа тому назад с государем и вообще привыкшему по своей службе к почестям, видеть тут, на русской земле, это враждебное и главное – непочтительное отношение к себе грубой силы.
Солнце только начинало подниматься из за туч; в воздухе было свежо и росисто. По дороге из деревни выгоняли стадо. В полях один за одним, как пузырьки в воде, вспырскивали с чувыканьем жаворонки.
Балашев оглядывался вокруг себя, ожидая приезда офицера из деревни. Русские казаки, и трубач, и французские гусары молча изредка глядели друг на друга.
Французский гусарский полковник, видимо, только что с постели, выехал из деревни на красивой сытой серой лошади, сопутствуемый двумя гусарами. На офицере, на солдатах и на их лошадях был вид довольства и щегольства.
Это было то первое время кампании, когда войска еще находились в исправности, почти равной смотровой, мирной деятельности, только с оттенком нарядной воинственности в одежде и с нравственным оттенком того веселья и предприимчивости, которые всегда сопутствуют началам кампаний.
Французский полковник с трудом удерживал зевоту, но был учтив и, видимо, понимал все значение Балашева. Он провел его мимо своих солдат за цепь и сообщил, что желание его быть представленну императору будет, вероятно, тотчас же исполнено, так как императорская квартира, сколько он знает, находится недалеко.
Они проехали деревню Рыконты, мимо французских гусарских коновязей, часовых и солдат, отдававших честь своему полковнику и с любопытством осматривавших русский мундир, и выехали на другую сторону села. По словам полковника, в двух километрах был начальник дивизии, который примет Балашева и проводит его по назначению.
Солнце уже поднялось и весело блестело на яркой зелени.
Только что они выехали за корчму на гору, как навстречу им из под горы показалась кучка всадников, впереди которой на вороной лошади с блестящею на солнце сбруей ехал высокий ростом человек в шляпе с перьями и черными, завитыми по плечи волосами, в красной мантии и с длинными ногами, выпяченными вперед, как ездят французы. Человек этот поехал галопом навстречу Балашеву, блестя и развеваясь на ярком июньском солнце своими перьями, каменьями и золотыми галунами.
Балашев уже был на расстоянии двух лошадей от скачущего ему навстречу с торжественно театральным лицом всадника в браслетах, перьях, ожерельях и золоте, когда Юльнер, французский полковник, почтительно прошептал: «Le roi de Naples». [Король Неаполитанский.] Действительно, это был Мюрат, называемый теперь неаполитанским королем. Хотя и было совершенно непонятно, почему он был неаполитанский король, но его называли так, и он сам был убежден в этом и потому имел более торжественный и важный вид, чем прежде. Он так был уверен в том, что он действительно неаполитанский король, что, когда накануне отъезда из Неаполя, во время его прогулки с женою по улицам Неаполя, несколько итальянцев прокричали ему: «Viva il re!», [Да здравствует король! (итал.) ] он с грустной улыбкой повернулся к супруге и сказал: «Les malheureux, ils ne savent pas que je les quitte demain! [Несчастные, они не знают, что я их завтра покидаю!]
Но несмотря на то, что он твердо верил в то, что он был неаполитанский король, и что он сожалел о горести своих покидаемых им подданных, в последнее время, после того как ему ведено было опять поступить на службу, и особенно после свидания с Наполеоном в Данциге, когда августейший шурин сказал ему: «Je vous ai fait Roi pour regner a maniere, mais pas a la votre», [Я вас сделал королем для того, чтобы царствовать не по своему, а по моему.] – он весело принялся за знакомое ему дело и, как разъевшийся, но не зажиревший, годный на службу конь, почуяв себя в упряжке, заиграл в оглоблях и, разрядившись как можно пестрее и дороже, веселый и довольный, скакал, сам не зная куда и зачем, по дорогам Польши.
Увидав русского генерала, он по королевски, торжественно, откинул назад голову с завитыми по плечи волосами и вопросительно поглядел на французского полковника. Полковник почтительно передал его величеству значение Балашева, фамилию которого он не мог выговорить.
– De Bal macheve! – сказал король (своей решительностью превозмогая трудность, представлявшуюся полковнику), – charme de faire votre connaissance, general, [очень приятно познакомиться с вами, генерал] – прибавил он с королевски милостивым жестом. Как только король начал говорить громко и быстро, все королевское достоинство мгновенно оставило его, и он, сам не замечая, перешел в свойственный ему тон добродушной фамильярности. Он положил свою руку на холку лошади Балашева.
– Eh, bien, general, tout est a la guerre, a ce qu'il parait, [Ну что ж, генерал, дело, кажется, идет к войне,] – сказал он, как будто сожалея об обстоятельстве, о котором он не мог судить.
– Sire, – отвечал Балашев. – l'Empereur mon maitre ne desire point la guerre, et comme Votre Majeste le voit, – говорил Балашев, во всех падежах употребляя Votre Majeste, [Государь император русский не желает ее, как ваше величество изволите видеть… ваше величество.] с неизбежной аффектацией учащения титула, обращаясь к лицу, для которого титул этот еще новость.
Лицо Мюрата сияло глупым довольством в то время, как он слушал monsieur de Balachoff. Но royaute oblige: [королевское звание имеет свои обязанности:] он чувствовал необходимость переговорить с посланником Александра о государственных делах, как король и союзник. Он слез с лошади и, взяв под руку Балашева и отойдя на несколько шагов от почтительно дожидавшейся свиты, стал ходить с ним взад и вперед, стараясь говорить значительно. Он упомянул о том, что император Наполеон оскорблен требованиями вывода войск из Пруссии, в особенности теперь, когда это требование сделалось всем известно и когда этим оскорблено достоинство Франции. Балашев сказал, что в требовании этом нет ничего оскорбительного, потому что… Мюрат перебил его:
– Так вы считаете зачинщиком не императора Александра? – сказал он неожиданно с добродушно глупой улыбкой.
Балашев сказал, почему он действительно полагал, что начинателем войны был Наполеон.
– Eh, mon cher general, – опять перебил его Мюрат, – je desire de tout mon c?ur que les Empereurs s'arrangent entre eux, et que la guerre commencee malgre moi se termine le plutot possible, [Ах, любезный генерал, я желаю от всей души, чтобы императоры покончили дело между собою и чтобы война, начатая против моей воли, окончилась как можно скорее.] – сказал он тоном разговора слуг, которые желают остаться добрыми приятелями, несмотря на ссору между господами. И он перешел к расспросам о великом князе, о его здоровье и о воспоминаниях весело и забавно проведенного с ним времени в Неаполе. Потом, как будто вдруг вспомнив о своем королевском достоинстве, Мюрат торжественно выпрямился, стал в ту же позу, в которой он стоял на коронации, и, помахивая правой рукой, сказал: – Je ne vous retiens plus, general; je souhaite le succes de vorte mission, [Я вас не задерживаю более, генерал; желаю успеха вашему посольству,] – и, развеваясь красной шитой мантией и перьями и блестя драгоценностями, он пошел к свите, почтительно ожидавшей его.
Балашев поехал дальше, по словам Мюрата предполагая весьма скоро быть представленным самому Наполеону. Но вместо скорой встречи с Наполеоном, часовые пехотного корпуса Даву опять так же задержали его у следующего селения, как и в передовой цепи, и вызванный адъютант командира корпуса проводил его в деревню к маршалу Даву.
Даву был Аракчеев императора Наполеона – Аракчеев не трус, но столь же исправный, жестокий и не умеющий выражать свою преданность иначе как жестокостью.
В механизме государственного организма нужны эти люди, как нужны волки в организме природы, и они всегда есть, всегда являются и держатся, как ни несообразно кажется их присутствие и близость к главе правительства. Только этой необходимостью можно объяснить то, как мог жестокий, лично выдиравший усы гренадерам и не могший по слабости нерв переносить опасность, необразованный, непридворный Аракчеев держаться в такой силе при рыцарски благородном и нежном характере Александра.
Балашев застал маршала Даву в сарае крестьянскои избы, сидящего на бочонке и занятого письменными работами (он поверял счеты). Адъютант стоял подле него. Возможно было найти лучшее помещение, но маршал Даву был один из тех людей, которые нарочно ставят себя в самые мрачные условия жизни, для того чтобы иметь право быть мрачными. Они для того же всегда поспешно и упорно заняты. «Где тут думать о счастливой стороне человеческой жизни, когда, вы видите, я на бочке сижу в грязном сарае и работаю», – говорило выражение его лица. Главное удовольствие и потребность этих людей состоит в том, чтобы, встретив оживление жизни, бросить этому оживлению в глаза спою мрачную, упорную деятельность. Это удовольствие доставил себе Даву, когда к нему ввели Балашева. Он еще более углубился в свою работу, когда вошел русский генерал, и, взглянув через очки на оживленное, под впечатлением прекрасного утра и беседы с Мюратом, лицо Балашева, не встал, не пошевелился даже, а еще больше нахмурился и злобно усмехнулся.
Заметив на лице Балашева произведенное этим приемом неприятное впечатление, Даву поднял голову и холодно спросил, что ему нужно.
Предполагая, что такой прием мог быть сделан ему только потому, что Даву не знает, что он генерал адъютант императора Александра и даже представитель его перед Наполеоном, Балашев поспешил сообщить свое звание и назначение. В противность ожидания его, Даву, выслушав Балашева, стал еще суровее и грубее.
– Где же ваш пакет? – сказал он. – Donnez le moi, ije l'enverrai a l'Empereur. [Дайте мне его, я пошлю императору.]
Балашев сказал, что он имеет приказание лично передать пакет самому императору.
– Приказания вашего императора исполняются в вашей армии, а здесь, – сказал Даву, – вы должны делать то, что вам говорят.
И как будто для того чтобы еще больше дать почувствовать русскому генералу его зависимость от грубой силы, Даву послал адъютанта за дежурным.
Балашев вынул пакет, заключавший письмо государя, и положил его на стол (стол, состоявший из двери, на которой торчали оторванные петли, положенной на два бочонка). Даву взял конверт и прочел надпись.
– Вы совершенно вправе оказывать или не оказывать мне уважение, – сказал Балашев. – Но позвольте вам заметить, что я имею честь носить звание генерал адъютанта его величества…
Даву взглянул на него молча, и некоторое волнение и смущение, выразившиеся на лице Балашева, видимо, доставили ему удовольствие.
– Вам будет оказано должное, – сказал он и, положив конверт в карман, вышел из сарая.
Через минуту вошел адъютант маршала господин де Кастре и провел Балашева в приготовленное для него помещение.
Балашев обедал в этот день с маршалом в том же сарае, на той же доске на бочках.
На другой день Даву выехал рано утром и, пригласив к себе Балашева, внушительно сказал ему, что он просит его оставаться здесь, подвигаться вместе с багажами, ежели они будут иметь на то приказания, и не разговаривать ни с кем, кроме как с господином де Кастро.
После четырехдневного уединения, скуки, сознания подвластности и ничтожества, особенно ощутительного после той среды могущества, в которой он так недавно находился, после нескольких переходов вместе с багажами маршала, с французскими войсками, занимавшими всю местность, Балашев привезен был в Вильну, занятую теперь французами, в ту же заставу, на которой он выехал четыре дня тому назад.
На другой день императорский камергер, monsieur de Turenne, приехал к Балашеву и передал ему желание императора Наполеона удостоить его аудиенции.
Четыре дня тому назад у того дома, к которому подвезли Балашева, стояли Преображенского полка часовые, теперь же стояли два французских гренадера в раскрытых на груди синих мундирах и в мохнатых шапках, конвой гусаров и улан и блестящая свита адъютантов, пажей и генералов, ожидавших выхода Наполеона вокруг стоявшей у крыльца верховой лошади и его мамелюка Рустава. Наполеон принимал Балашева в том самом доме в Вильве, из которого отправлял его Александр.
Несмотря на привычку Балашева к придворной торжественности, роскошь и пышность двора императора Наполеона поразили его.
Граф Тюрен ввел его в большую приемную, где дожидалось много генералов, камергеров и польских магнатов, из которых многих Балашев видал при дворе русского императора. Дюрок сказал, что император Наполеон примет русского генерала перед своей прогулкой.
После нескольких минут ожидания дежурный камергер вышел в большую приемную и, учтиво поклонившись Балашеву, пригласил его идти за собой.
Балашев вошел в маленькую приемную, из которой была одна дверь в кабинет, в тот самый кабинет, из которого отправлял его русский император. Балашев простоял один минуты две, ожидая. За дверью послышались поспешные шаги. Быстро отворились обе половинки двери, камергер, отворивший, почтительно остановился, ожидая, все затихло, и из кабинета зазвучали другие, твердые, решительные шаги: это был Наполеон. Он только что окончил свой туалет для верховой езды. Он был в синем мундире, раскрытом над белым жилетом, спускавшимся на круглый живот, в белых лосинах, обтягивающих жирные ляжки коротких ног, и в ботфортах. Короткие волоса его, очевидно, только что были причесаны, но одна прядь волос спускалась книзу над серединой широкого лба. Белая пухлая шея его резко выступала из за черного воротника мундира; от него пахло одеколоном. На моложавом полном лице его с выступающим подбородком было выражение милостивого и величественного императорского приветствия.
Он вышел, быстро подрагивая на каждом шагу и откинув несколько назад голову. Вся его потолстевшая, короткая фигура с широкими толстыми плечами и невольно выставленным вперед животом и грудью имела тот представительный, осанистый вид, который имеют в холе живущие сорокалетние люди. Кроме того, видно было, что он в этот день находился в самом хорошем расположении духа.
Он кивнул головою, отвечая на низкий и почтительный поклон Балашева, и, подойдя к нему, тотчас же стал говорить как человек, дорожащий всякой минутой своего времени и не снисходящий до того, чтобы приготавливать свои речи, а уверенный в том, что он всегда скажет хорошо и что нужно сказать.
– Здравствуйте, генерал! – сказал он. – Я получил письмо императора Александра, которое вы доставили, и очень рад вас видеть. – Он взглянул в лицо Балашева своими большими глазами и тотчас же стал смотреть вперед мимо него.
Очевидно было, что его не интересовала нисколько личность Балашева. Видно было, что только то, что происходило в его душе, имело интерес для него. Все, что было вне его, не имело для него значения, потому что все в мире, как ему казалось, зависело только от его воли.
– Я не желаю и не желал войны, – сказал он, – но меня вынудили к ней. Я и теперь (он сказал это слово с ударением) готов принять все объяснения, которые вы можете дать мне. – И он ясно и коротко стал излагать причины своего неудовольствия против русского правительства.
Судя по умеренно спокойному и дружелюбному тону, с которым говорил французский император, Балашев был твердо убежден, что он желает мира и намерен вступить в переговоры.
– Sire! L'Empereur, mon maitre, [Ваше величество! Император, государь мой,] – начал Балашев давно приготовленную речь, когда Наполеон, окончив свою речь, вопросительно взглянул на русского посла; но взгляд устремленных на него глаз императора смутил его. «Вы смущены – оправьтесь», – как будто сказал Наполеон, с чуть заметной улыбкой оглядывая мундир и шпагу Балашева. Балашев оправился и начал говорить. Он сказал, что император Александр не считает достаточной причиной для войны требование паспортов Куракиным, что Куракин поступил так по своему произволу и без согласия на то государя, что император Александр не желает войны и что с Англией нет никаких сношений.
– Еще нет, – вставил Наполеон и, как будто боясь отдаться своему чувству, нахмурился и слегка кивнул головой, давая этим чувствовать Балашеву, что он может продолжать.
Высказав все, что ему было приказано, Балашев сказал, что император Александр желает мира, но не приступит к переговорам иначе, как с тем условием, чтобы… Тут Балашев замялся: он вспомнил те слова, которые император Александр не написал в письме, но которые непременно приказал вставить в рескрипт Салтыкову и которые приказал Балашеву передать Наполеону. Балашев помнил про эти слова: «пока ни один вооруженный неприятель не останется на земле русской», но какое то сложное чувство удержало его. Он не мог сказать этих слов, хотя и хотел это сделать. Он замялся и сказал: с условием, чтобы французские войска отступили за Неман.
Наполеон заметил смущение Балашева при высказывании последних слов; лицо его дрогнуло, левая икра ноги начала мерно дрожать. Не сходя с места, он голосом, более высоким и поспешным, чем прежде, начал говорить. Во время последующей речи Балашев, не раз опуская глаза, невольно наблюдал дрожанье икры в левой ноге Наполеона, которое тем более усиливалось, чем более он возвышал голос.
– Я желаю мира не менее императора Александра, – начал он. – Не я ли осьмнадцать месяцев делаю все, чтобы получить его? Я осьмнадцать месяцев жду объяснений. Но для того, чтобы начать переговоры, чего же требуют от меня? – сказал он, нахмурившись и делая энергически вопросительный жест своей маленькой белой и пухлой рукой.
– Отступления войск за Неман, государь, – сказал Балашев.
– За Неман? – повторил Наполеон. – Так теперь вы хотите, чтобы отступили за Неман – только за Неман? – повторил Наполеон, прямо взглянув на Балашева.
Балашев почтительно наклонил голову.
Вместо требования четыре месяца тому назад отступить из Номерании, теперь требовали отступить только за Неман. Наполеон быстро повернулся и стал ходить по комнате.
– Вы говорите, что от меня требуют отступления за Неман для начатия переговоров; но от меня требовали точно так же два месяца тому назад отступления за Одер и Вислу, и, несмотря на то, вы согласны вести переговоры.
Он молча прошел от одного угла комнаты до другого и опять остановился против Балашева. Лицо его как будто окаменело в своем строгом выражении, и левая нога дрожала еще быстрее, чем прежде. Это дрожанье левой икры Наполеон знал за собой. La vibration de mon mollet gauche est un grand signe chez moi, [Дрожание моей левой икры есть великий признак,] – говорил он впоследствии.
– Такие предложения, как то, чтобы очистить Одер и Вислу, можно делать принцу Баденскому, а не мне, – совершенно неожиданно для себя почти вскрикнул Наполеон. – Ежели бы вы мне дали Петербуг и Москву, я бы не принял этих условий. Вы говорите, я начал войну? А кто прежде приехал к армии? – император Александр, а не я. И вы предлагаете мне переговоры тогда, как я издержал миллионы, тогда как вы в союзе с Англией и когда ваше положение дурно – вы предлагаете мне переговоры! А какая цель вашего союза с Англией? Что она дала вам? – говорил он поспешно, очевидно, уже направляя свою речь не для того, чтобы высказать выгоды заключения мира и обсудить его возможность, а только для того, чтобы доказать и свою правоту, и свою силу, и чтобы доказать неправоту и ошибки Александра.
Вступление его речи было сделано, очевидно, с целью выказать выгоду своего положения и показать, что, несмотря на то, он принимает открытие переговоров. Но он уже начал говорить, и чем больше он говорил, тем менее он был в состоянии управлять своей речью.
Вся цель его речи теперь уже, очевидно, была в том, чтобы только возвысить себя и оскорбить Александра, то есть именно сделать то самое, чего он менее всего хотел при начале свидания.
– Говорят, вы заключили мир с турками?
Балашев утвердительно наклонил голову.
– Мир заключен… – начал он. Но Наполеон не дал ему говорить. Ему, видно, нужно было говорить самому, одному, и он продолжал говорить с тем красноречием и невоздержанием раздраженности, к которому так склонны балованные люди.
– Да, я знаю, вы заключили мир с турками, не получив Молдавии и Валахии. А я бы дал вашему государю эти провинции так же, как я дал ему Финляндию. Да, – продолжал он, – я обещал и дал бы императору Александру Молдавию и Валахию, а теперь он не будет иметь этих прекрасных провинций. Он бы мог, однако, присоединить их к своей империи, и в одно царствование он бы расширил Россию от Ботнического залива до устьев Дуная. Катерина Великая не могла бы сделать более, – говорил Наполеон, все более и более разгораясь, ходя по комнате и повторяя Балашеву почти те же слова, которые ои говорил самому Александру в Тильзите. – Tout cela il l'aurait du a mon amitie… Ah! quel beau regne, quel beau regne! – повторил он несколько раз, остановился, достал золотую табакерку из кармана и жадно потянул из нее носом.
– Quel beau regne aurait pu etre celui de l'Empereur Alexandre! [Всем этим он был бы обязан моей дружбе… О, какое прекрасное царствование, какое прекрасное царствование! О, какое прекрасное царствование могло бы быть царствование императора Александра!]
Он с сожалением взглянул на Балашева, и только что Балашев хотел заметить что то, как он опять поспешно перебил его.
– Чего он мог желать и искать такого, чего бы он не нашел в моей дружбе?.. – сказал Наполеон, с недоумением пожимая плечами. – Нет, он нашел лучшим окружить себя моими врагами, и кем же? – продолжал он. – Он призвал к себе Штейнов, Армфельдов, Винцингероде, Бенигсенов, Штейн – прогнанный из своего отечества изменник, Армфельд – развратник и интриган, Винцингероде – беглый подданный Франции, Бенигсен несколько более военный, чем другие, но все таки неспособный, который ничего не умел сделать в 1807 году и который бы должен возбуждать в императоре Александре ужасные воспоминания… Положим, ежели бы они были способны, можно бы их употреблять, – продолжал Наполеон, едва успевая словом поспевать за беспрестанно возникающими соображениями, показывающими ему его правоту или силу (что в его понятии было одно и то же), – но и того нет: они не годятся ни для войны, ни для мира. Барклай, говорят, дельнее их всех; но я этого не скажу, судя по его первым движениям. А они что делают? Что делают все эти придворные! Пфуль предлагает, Армфельд спорит, Бенигсен рассматривает, а Барклай, призванный действовать, не знает, на что решиться, и время проходит. Один Багратион – военный человек. Он глуп, но у него есть опытность, глазомер и решительность… И что за роль играет ваш молодой государь в этой безобразной толпе. Они его компрометируют и на него сваливают ответственность всего совершающегося. Un souverain ne doit etre a l'armee que quand il est general, [Государь должен находиться при армии только тогда, когда он полководец,] – сказал он, очевидно, посылая эти слова прямо как вызов в лицо государя. Наполеон знал, как желал император Александр быть полководцем.
– Уже неделя, как началась кампания, и вы не сумели защитить Вильну. Вы разрезаны надвое и прогнаны из польских провинций. Ваша армия ропщет…
– Напротив, ваше величество, – сказал Балашев, едва успевавший запоминать то, что говорилось ему, и с трудом следивший за этим фейерверком слов, – войска горят желанием…
– Я все знаю, – перебил его Наполеон, – я все знаю, и знаю число ваших батальонов так же верно, как и моих. У вас нет двухсот тысяч войска, а у меня втрое столько. Даю вам честное слово, – сказал Наполеон, забывая, что это его честное слово никак не могло иметь значения, – даю вам ma parole d'honneur que j'ai cinq cent trente mille hommes de ce cote de la Vistule. [честное слово, что у меня пятьсот тридцать тысяч человек по сю сторону Вислы.] Турки вам не помощь: они никуда не годятся и доказали это, замирившись с вами. Шведы – их предопределение быть управляемыми сумасшедшими королями. Их король был безумный; они переменили его и взяли другого – Бернадота, который тотчас сошел с ума, потому что сумасшедший только, будучи шведом, может заключать союзы с Россией. – Наполеон злобно усмехнулся и опять поднес к носу табакерку.
На каждую из фраз Наполеона Балашев хотел и имел что возразить; беспрестанно он делал движение человека, желавшего сказать что то, но Наполеон перебивал его. Например, о безумии шведов Балашев хотел сказать, что Швеция есть остров, когда Россия за нее; но Наполеон сердито вскрикнул, чтобы заглушить его голос. Наполеон находился в том состоянии раздражения, в котором нужно говорить, говорить и говорить, только для того, чтобы самому себе доказать свою справедливость. Балашеву становилось тяжело: он, как посол, боялся уронить достоинство свое и чувствовал необходимость возражать; но, как человек, он сжимался нравственно перед забытьем беспричинного гнева, в котором, очевидно, находился Наполеон. Он знал, что все слова, сказанные теперь Наполеоном, не имеют значения, что он сам, когда опомнится, устыдится их. Балашев стоял, опустив глаза, глядя на движущиеся толстые ноги Наполеона, и старался избегать его взгляда.
– Да что мне эти ваши союзники? – говорил Наполеон. – У меня союзники – это поляки: их восемьдесят тысяч, они дерутся, как львы. И их будет двести тысяч.
И, вероятно, еще более возмутившись тем, что, сказав это, он сказал очевидную неправду и что Балашев в той же покорной своей судьбе позе молча стоял перед ним, он круто повернулся назад, подошел к самому лицу Балашева и, делая энергические и быстрые жесты своими белыми руками, закричал почти:
– Знайте, что ежели вы поколеблете Пруссию против меня, знайте, что я сотру ее с карты Европы, – сказал он с бледным, искаженным злобой лицом, энергическим жестом одной маленькой руки ударяя по другой. – Да, я заброшу вас за Двину, за Днепр и восстановлю против вас ту преграду, которую Европа была преступна и слепа, что позволила разрушить. Да, вот что с вами будет, вот что вы выиграли, удалившись от меня, – сказал он и молча прошел несколько раз по комнате, вздрагивая своими толстыми плечами. Он положил в жилетный карман табакерку, опять вынул ее, несколько раз приставлял ее к носу и остановился против Балашева. Он помолчал, поглядел насмешливо прямо в глаза Балашеву и сказал тихим голосом: – Et cependant quel beau regne aurait pu avoir votre maitre! [A между тем какое прекрасное царствование мог бы иметь ваш государь!]
Балашев, чувствуя необходимость возражать, сказал, что со стороны России дела не представляются в таком мрачном виде. Наполеон молчал, продолжая насмешливо глядеть на него и, очевидно, его не слушая. Балашев сказал, что в России ожидают от войны всего хорошего. Наполеон снисходительно кивнул головой, как бы говоря: «Знаю, так говорить ваша обязанность, но вы сами в это не верите, вы убеждены мною».
В конце речи Балашева Наполеон вынул опять табакерку, понюхал из нее и, как сигнал, стукнул два раза ногой по полу. Дверь отворилась; почтительно изгибающийся камергер подал императору шляпу и перчатки, другой подал носовои платок. Наполеон, ne глядя на них, обратился к Балашеву.
– Уверьте от моего имени императора Александра, – сказал оц, взяв шляпу, – что я ему предан по прежнему: я анаю его совершенно и весьма высоко ценю высокие его качества. Je ne vous retiens plus, general, vous recevrez ma lettre a l'Empereur. [Не удерживаю вас более, генерал, вы получите мое письмо к государю.] – И Наполеон пошел быстро к двери. Из приемной все бросилось вперед и вниз по лестнице.
После всего того, что сказал ему Наполеон, после этих взрывов гнева и после последних сухо сказанных слов:
«Je ne vous retiens plus, general, vous recevrez ma lettre», Балашев был уверен, что Наполеон уже не только не пожелает его видеть, но постарается не видать его – оскорбленного посла и, главное, свидетеля его непристойной горячности. Но, к удивлению своему, Балашев через Дюрока получил в этот день приглашение к столу императора.
На обеде были Бессьер, Коленкур и Бертье. Наполеон встретил Балашева с веселым и ласковым видом. Не только не было в нем выражения застенчивости или упрека себе за утреннюю вспышку, но он, напротив, старался ободрить Балашева. Видно было, что уже давно для Наполеона в его убеждении не существовало возможности ошибок и что в его понятии все то, что он делал, было хорошо не потому, что оно сходилось с представлением того, что хорошо и дурно, но потому, что он делал это.
Император был очень весел после своей верховой прогулки по Вильне, в которой толпы народа с восторгом встречали и провожали его. Во всех окнах улиц, по которым он проезжал, были выставлены ковры, знамена, вензеля его, и польские дамы, приветствуя его, махали ему платками.
За обедом, посадив подле себя Балашева, он обращался с ним не только ласково, но обращался так, как будто он и Балашева считал в числе своих придворных, в числе тех людей, которые сочувствовали его планам и должны были радоваться его успехам. Между прочим разговором он заговорил о Москве и стал спрашивать Балашева о русской столице, не только как спрашивает любознательный путешественник о новом месте, которое он намеревается посетить, но как бы с убеждением, что Балашев, как русский, должен быть польщен этой любознательностью.
– Сколько жителей в Москве, сколько домов? Правда ли, что Moscou называют Moscou la sainte? [святая?] Сколько церквей в Moscou? – спрашивал он.
И на ответ, что церквей более двухсот, он сказал:
– К чему такая бездна церквей?
– Русские очень набожны, – отвечал Балашев.
– Впрочем, большое количество монастырей и церквей есть всегда признак отсталости народа, – сказал Наполеон, оглядываясь на Коленкура за оценкой этого суждения.
Балашев почтительно позволил себе не согласиться с мнением французского императора.
– У каждой страны свои нравы, – сказал он.
– Но уже нигде в Европе нет ничего подобного, – сказал Наполеон.
– Прошу извинения у вашего величества, – сказал Балашев, – кроме России, есть еще Испания, где также много церквей и монастырей.
Этот ответ Балашева, намекавший на недавнее поражение французов в Испании, был высоко оценен впоследствии, по рассказам Балашева, при дворе императора Александра и очень мало был оценен теперь, за обедом Наполеона, и прошел незаметно.
По равнодушным и недоумевающим лицам господ маршалов видно было, что они недоумевали, в чем тут состояла острота, на которую намекала интонация Балашева. «Ежели и была она, то мы не поняли ее или она вовсе не остроумна», – говорили выражения лиц маршалов. Так мало был оценен этот ответ, что Наполеон даже решительно не заметил его и наивно спросил Балашева о том, на какие города идет отсюда прямая дорога к Москве. Балашев, бывший все время обеда настороже, отвечал, что comme tout chemin mene a Rome, tout chemin mene a Moscou, [как всякая дорога, по пословице, ведет в Рим, так и все дороги ведут в Москву,] что есть много дорог, и что в числе этих разных путей есть дорога на Полтаву, которую избрал Карл XII, сказал Балашев, невольно вспыхнув от удовольствия в удаче этого ответа. Не успел Балашев досказать последних слов: «Poltawa», как уже Коленкур заговорил о неудобствах дороги из Петербурга в Москву и о своих петербургских воспоминаниях.
После обеда перешли пить кофе в кабинет Наполеона, четыре дня тому назад бывший кабинетом императора Александра. Наполеон сел, потрогивая кофе в севрской чашке, и указал на стул подло себя Балашеву.
Есть в человеке известное послеобеденное расположение духа, которое сильнее всяких разумных причин заставляет человека быть довольным собой и считать всех своими друзьями. Наполеон находился в этом расположении. Ему казалось, что он окружен людьми, обожающими его. Он был убежден, что и Балашев после его обеда был его другом и обожателем. Наполеон обратился к нему с приятной и слегка насмешливой улыбкой.
– Это та же комната, как мне говорили, в которой жил император Александр. Странно, не правда ли, генерал? – сказал он, очевидно, не сомневаясь в том, что это обращение не могло не быть приятно его собеседнику, так как оно доказывало превосходство его, Наполеона, над Александром.
Балашев ничего не мог отвечать на это и молча наклонил голову.
– Да, в этой комнате, четыре дня тому назад, совещались Винцингероде и Штейн, – с той же насмешливой, уверенной улыбкой продолжал Наполеон. – Чего я не могу понять, – сказал он, – это того, что император Александр приблизил к себе всех личных моих неприятелей. Я этого не… понимаю. Он не подумал о том, что я могу сделать то же? – с вопросом обратился он к Балашеву, и, очевидно, это воспоминание втолкнуло его опять в тот след утреннего гнева, который еще был свеж в нем.
– И пусть он знает, что я это сделаю, – сказал Наполеон, вставая и отталкивая рукой свою чашку. – Я выгоню из Германии всех его родных, Виртембергских, Баденских, Веймарских… да, я выгоню их. Пусть он готовит для них убежище в России!
Балашев наклонил голову, видом своим показывая, что он желал бы откланяться и слушает только потому, что он не может не слушать того, что ему говорят. Наполеон не замечал этого выражения; он обращался к Балашеву не как к послу своего врага, а как к человеку, который теперь вполне предан ему и должен радоваться унижению своего бывшего господина.
– И зачем император Александр принял начальство над войсками? К чему это? Война мое ремесло, а его дело царствовать, а не командовать войсками. Зачем он взял на себя такую ответственность?
Наполеон опять взял табакерку, молча прошелся несколько раз по комнате и вдруг неожиданно подошел к Балашеву и с легкой улыбкой так уверенно, быстро, просто, как будто он делал какое нибудь не только важное, но и приятное для Балашева дело, поднял руку к лицу сорокалетнего русского генерала и, взяв его за ухо, слегка дернул, улыбнувшись одними губами.
– Avoir l'oreille tiree par l'Empereur [Быть выдранным за ухо императором] считалось величайшей честью и милостью при французском дворе.
– Eh bien, vous ne dites rien, admirateur et courtisan de l'Empereur Alexandre? [Ну у, что ж вы ничего не говорите, обожатель и придворный императора Александра?] – сказал он, как будто смешно было быть в его присутствии чьим нибудь courtisan и admirateur [придворным и обожателем], кроме его, Наполеона.
– Готовы ли лошади для генерала? – прибавил он, слегка наклоняя голову в ответ на поклон Балашева.
– Дайте ему моих, ему далеко ехать…
Письмо, привезенное Балашевым, было последнее письмо Наполеона к Александру. Все подробности разговора были переданы русскому императору, и война началась.
После своего свидания в Москве с Пьером князь Андреи уехал в Петербург по делам, как он сказал своим родным, но, в сущности, для того, чтобы встретить там князя Анатоля Курагина, которого он считал необходимым встретить. Курагина, о котором он осведомился, приехав в Петербург, уже там не было. Пьер дал знать своему шурину, что князь Андрей едет за ним. Анатоль Курагин тотчас получил назначение от военного министра и уехал в Молдавскую армию. В это же время в Петербурге князь Андрей встретил Кутузова, своего прежнего, всегда расположенного к нему, генерала, и Кутузов предложил ему ехать с ним вместе в Молдавскую армию, куда старый генерал назначался главнокомандующим. Князь Андрей, получив назначение состоять при штабе главной квартиры, уехал в Турцию.
Князь Андрей считал неудобным писать к Курагину и вызывать его. Не подав нового повода к дуэли, князь Андрей считал вызов с своей стороны компрометирующим графиню Ростову, и потому он искал личной встречи с Курагиным, в которой он намерен был найти новый повод к дуэли. Но в Турецкой армии ему также не удалось встретить Курагина, который вскоре после приезда князя Андрея в Турецкую армию вернулся в Россию. В новой стране и в новых условиях жизни князю Андрею стало жить легче. После измены своей невесты, которая тем сильнее поразила его, чем старательнее он скрывал ото всех произведенное на него действие, для него были тяжелы те условия жизни, в которых он был счастлив, и еще тяжелее были свобода и независимость, которыми он так дорожил прежде. Он не только не думал тех прежних мыслей, которые в первый раз пришли ему, глядя на небо на Аустерлицком поле, которые он любил развивать с Пьером и которые наполняли его уединение в Богучарове, а потом в Швейцарии и Риме; но он даже боялся вспоминать об этих мыслях, раскрывавших бесконечные и светлые горизонты. Его интересовали теперь только самые ближайшие, не связанные с прежними, практические интересы, за которые он ухватывался с тем большей жадностью, чем закрытое были от него прежние. Как будто тот бесконечный удаляющийся свод неба, стоявший прежде над ним, вдруг превратился в низкий, определенный, давивший его свод, в котором все было ясно, но ничего не было вечного и таинственного.
Из представлявшихся ему деятельностей военная служба была самая простая и знакомая ему. Состоя в должности дежурного генерала при штабе Кутузова, он упорно и усердно занимался делами, удивляя Кутузова своей охотой к работе и аккуратностью. Не найдя Курагина в Турции, князь Андрей не считал необходимым скакать за ним опять в Россию; но при всем том он знал, что, сколько бы ни прошло времени, он не мог, встретив Курагина, несмотря на все презрение, которое он имел к нему, несмотря на все доказательства, которые он делал себе, что ему не стоит унижаться до столкновения с ним, он знал, что, встретив его, он не мог не вызвать его, как не мог голодный человек не броситься на пищу. И это сознание того, что оскорбление еще не вымещено, что злоба не излита, а лежит на сердце, отравляло то искусственное спокойствие, которое в виде озабоченно хлопотливой и несколько честолюбивой и тщеславной деятельности устроил себе князь Андрей в Турции.
В 12 м году, когда до Букарешта (где два месяца жил Кутузов, проводя дни и ночи у своей валашки) дошла весть о войне с Наполеоном, князь Андрей попросил у Кутузова перевода в Западную армию. Кутузов, которому уже надоел Болконский своей деятельностью, служившей ему упреком в праздности, Кутузов весьма охотно отпустил его и дал ему поручение к Барклаю де Толли.
Прежде чем ехать в армию, находившуюся в мае в Дрисском лагере, князь Андрей заехал в Лысые Горы, которые были на самой его дороге, находясь в трех верстах от Смоленского большака. Последние три года и жизни князя Андрея было так много переворотов, так много он передумал, перечувствовал, перевидел (он объехал и запад и восток), что его странно и неожиданно поразило при въезде в Лысые Горы все точно то же, до малейших подробностей, – точно то же течение жизни. Он, как в заколдованный, заснувший замок, въехал в аллею и в каменные ворота лысогорского дома. Та же степенность, та же чистота, та же тишина были в этом доме, те же мебели, те же стены, те же звуки, тот же запах и те же робкие лица, только несколько постаревшие. Княжна Марья была все та же робкая, некрасивая, стареющаяся девушка, в страхе и вечных нравственных страданиях, без пользы и радости проживающая лучшие годы своей жизни. Bourienne была та же радостно пользующаяся каждой минутой своей жизни и исполненная самых для себя радостных надежд, довольная собой, кокетливая девушка. Она только стала увереннее, как показалось князю Андрею. Привезенный им из Швейцарии воспитатель Десаль был одет в сюртук русского покроя, коверкая язык, говорил по русски со слугами, но был все тот же ограниченно умный, образованный, добродетельный и педантический воспитатель. Старый князь переменился физически только тем, что с боку рта у него стал заметен недостаток одного зуба; нравственно он был все такой же, как и прежде, только с еще большим озлоблением и недоверием к действительности того, что происходило в мире. Один только Николушка вырос, переменился, разрумянился, оброс курчавыми темными волосами и, сам не зная того, смеясь и веселясь, поднимал верхнюю губку хорошенького ротика точно так же, как ее поднимала покойница маленькая княгиня. Он один не слушался закона неизменности в этом заколдованном, спящем замке. Но хотя по внешности все оставалось по старому, внутренние отношения всех этих лиц изменились, с тех пор как князь Андрей не видал их. Члены семейства были разделены на два лагеря, чуждые и враждебные между собой, которые сходились теперь только при нем, – для него изменяя свой обычный образ жизни. К одному принадлежали старый князь, m lle Bourienne и архитектор, к другому – княжна Марья, Десаль, Николушка и все няньки и мамки.
Во время его пребывания в Лысых Горах все домашние обедали вместе, но всем было неловко, и князь Андрей чувствовал, что он гость, для которого делают исключение, что он стесняет всех своим присутствием. Во время обеда первого дня князь Андрей, невольно чувствуя это, был молчалив, и старый князь, заметив неестественность его состояния, тоже угрюмо замолчал и сейчас после обеда ушел к себе. Когда ввечеру князь Андрей пришел к нему и, стараясь расшевелить его, стал рассказывать ему о кампании молодого графа Каменского, старый князь неожиданно начал с ним разговор о княжне Марье, осуждая ее за ее суеверие, за ее нелюбовь к m lle Bourienne, которая, по его словам, была одна истинно предана ему.
Старый князь говорил, что ежели он болен, то только от княжны Марьи; что она нарочно мучает и раздражает его; что она баловством и глупыми речами портит маленького князя Николая. Старый князь знал очень хорошо, что он мучает свою дочь, что жизнь ее очень тяжела, но знал тоже, что он не может не мучить ее и что она заслуживает этого. «Почему же князь Андрей, который видит это, мне ничего не говорит про сестру? – думал старый князь. – Что же он думает, что я злодей или старый дурак, без причины отдалился от дочери и приблизил к себе француженку? Он не понимает, и потому надо объяснить ему, надо, чтоб он выслушал», – думал старый князь. И он стал объяснять причины, по которым он не мог переносить бестолкового характера дочери.
– Ежели вы спрашиваете меня, – сказал князь Андрей, не глядя на отца (он в первый раз в жизни осуждал своего отца), – я не хотел говорить; но ежели вы меня спрашиваете, то я скажу вам откровенно свое мнение насчет всего этого. Ежели есть недоразумения и разлад между вами и Машей, то я никак не могу винить ее – я знаю, как она вас любит и уважает. Ежели уж вы спрашиваете меня, – продолжал князь Андрей, раздражаясь, потому что он всегда был готов на раздражение в последнее время, – то я одно могу сказать: ежели есть недоразумения, то причиной их ничтожная женщина, которая бы не должна была быть подругой сестры.
Старик сначала остановившимися глазами смотрел на сына и ненатурально открыл улыбкой новый недостаток зуба, к которому князь Андрей не мог привыкнуть.
– Какая же подруга, голубчик? А? Уж переговорил! А?
– Батюшка, я не хотел быть судьей, – сказал князь Андрей желчным и жестким тоном, – но вы вызвали меня, и я сказал и всегда скажу, что княжна Марья ни виновата, а виноваты… виновата эта француженка…
– А присудил!.. присудил!.. – сказал старик тихим голосом и, как показалось князю Андрею, с смущением, но потом вдруг он вскочил и закричал: – Вон, вон! Чтоб духу твоего тут не было!..
Князь Андрей хотел тотчас же уехать, но княжна Марья упросила остаться еще день. В этот день князь Андрей не виделся с отцом, который не выходил и никого не пускал к себе, кроме m lle Bourienne и Тихона, и спрашивал несколько раз о том, уехал ли его сын. На другой день, перед отъездом, князь Андрей пошел на половину сына. Здоровый, по матери кудрявый мальчик сел ему на колени. Князь Андрей начал сказывать ему сказку о Синей Бороде, но, не досказав, задумался. Он думал не об этом хорошеньком мальчике сыне в то время, как он его держал на коленях, а думал о себе. Он с ужасом искал и не находил в себе ни раскаяния в том, что он раздражил отца, ни сожаления о том, что он (в ссоре в первый раз в жизни) уезжает от него. Главнее всего ему было то, что он искал и не находил той прежней нежности к сыну, которую он надеялся возбудить в себе, приласкав мальчика и посадив его к себе на колени.
– Ну, рассказывай же, – говорил сын. Князь Андрей, не отвечая ему, снял его с колон и пошел из комнаты.
Как только князь Андрей оставил свои ежедневные занятия, в особенности как только он вступил в прежние условия жизни, в которых он был еще тогда, когда он был счастлив, тоска жизни охватила его с прежней силой, и он спешил поскорее уйти от этих воспоминаний и найти поскорее какое нибудь дело.
– Ты решительно едешь, Andre? – сказала ему сестра.
– Слава богу, что могу ехать, – сказал князь Андрей, – очень жалею, что ты не можешь.
– Зачем ты это говоришь! – сказала княжна Марья. – Зачем ты это говоришь теперь, когда ты едешь на эту страшную войну и он так стар! M lle Bourienne говорила, что он спрашивал про тебя… – Как только она начала говорить об этом, губы ее задрожали и слезы закапали. Князь Андрей отвернулся от нее и стал ходить по комнате.
– Ах, боже мой! Боже мой! – сказал он. – И как подумаешь, что и кто – какое ничтожество может быть причиной несчастья людей! – сказал он со злобою, испугавшею княжну Марью.
Она поняла, что, говоря про людей, которых он называл ничтожеством, он разумел не только m lle Bourienne, делавшую его несчастие, но и того человека, который погубил его счастие.
– Andre, об одном я прошу, я умоляю тебя, – сказала она, дотрогиваясь до его локтя и сияющими сквозь слезы глазами глядя на него. – Я понимаю тебя (княжна Марья опустила глаза). Не думай, что горе сделали люди. Люди – орудие его. – Она взглянула немного повыше головы князя Андрея тем уверенным, привычным взглядом, с которым смотрят на знакомое место портрета. – Горе послано им, а не людьми. Люди – его орудия, они не виноваты. Ежели тебе кажется, что кто нибудь виноват перед тобой, забудь это и прости. Мы не имеем права наказывать. И ты поймешь счастье прощать.
– Ежели бы я был женщина, я бы это делал, Marie. Это добродетель женщины. Но мужчина не должен и не может забывать и прощать, – сказал он, и, хотя он до этой минуты не думал о Курагине, вся невымещенная злоба вдруг поднялась в его сердце. «Ежели княжна Марья уже уговаривает меня простить, то, значит, давно мне надо было наказать», – подумал он. И, не отвечая более княжне Марье, он стал думать теперь о той радостной, злобной минуте, когда он встретит Курагина, который (он знал) находится в армии.
Княжна Марья умоляла брата подождать еще день, говорила о том, что она знает, как будет несчастлив отец, ежели Андрей уедет, не помирившись с ним; но князь Андрей отвечал, что он, вероятно, скоро приедет опять из армии, что непременно напишет отцу и что теперь чем дольше оставаться, тем больше растравится этот раздор.
– Adieu, Andre! Rappelez vous que les malheurs viennent de Dieu, et que les hommes ne sont jamais coupables, [Прощай, Андрей! Помни, что несчастия происходят от бога и что люди никогда не бывают виноваты.] – были последние слова, которые он слышал от сестры, когда прощался с нею.
«Так это должно быть! – думал князь Андрей, выезжая из аллеи лысогорского дома. – Она, жалкое невинное существо, остается на съедение выжившему из ума старику. Старик чувствует, что виноват, но не может изменить себя. Мальчик мой растет и радуется жизни, в которой он будет таким же, как и все, обманутым или обманывающим. Я еду в армию, зачем? – сам не знаю, и желаю встретить того человека, которого презираю, для того чтобы дать ему случай убить меня и посмеяться надо мной!И прежде были все те же условия жизни, но прежде они все вязались между собой, а теперь все рассыпалось. Одни бессмысленные явления, без всякой связи, одно за другим представлялись князю Андрею.
Князь Андрей приехал в главную квартиру армии в конце июня. Войска первой армии, той, при которой находился государь, были расположены в укрепленном лагере у Дриссы; войска второй армии отступали, стремясь соединиться с первой армией, от которой – как говорили – они были отрезаны большими силами французов. Все были недовольны общим ходом военных дел в русской армии; но об опасности нашествия в русские губернии никто и не думал, никто и не предполагал, чтобы война могла быть перенесена далее западных польских губерний.
Князь Андрей нашел Барклая де Толли, к которому он был назначен, на берегу Дриссы. Так как не было ни одного большого села или местечка в окрестностях лагеря, то все огромное количество генералов и придворных, бывших при армии, располагалось в окружности десяти верст по лучшим домам деревень, по сю и по ту сторону реки. Барклай де Толли стоял в четырех верстах от государя. Он сухо и холодно принял Болконского и сказал своим немецким выговором, что он доложит о нем государю для определения ему назначения, а покамест просит его состоять при его штабе. Анатоля Курагина, которого князь Андрей надеялся найти в армии, не было здесь: он был в Петербурге, и это известие было приятно Болконскому. Интерес центра производящейся огромной войны занял князя Андрея, и он рад был на некоторое время освободиться от раздражения, которое производила в нем мысль о Курагине. В продолжение первых четырех дней, во время которых он не был никуда требуем, князь Андрей объездил весь укрепленный лагерь и с помощью своих знаний и разговоров с сведущими людьми старался составить себе о нем определенное понятие. Но вопрос о том, выгоден или невыгоден этот лагерь, остался нерешенным для князя Андрея. Он уже успел вывести из своего военного опыта то убеждение, что в военном деле ничего не значат самые глубокомысленно обдуманные планы (как он видел это в Аустерлицком походе), что все зависит от того, как отвечают на неожиданные и не могущие быть предвиденными действия неприятеля, что все зависит от того, как и кем ведется все дело. Для того чтобы уяснить себе этот последний вопрос, князь Андрей, пользуясь своим положением и знакомствами, старался вникнуть в характер управления армией, лиц и партий, участвовавших в оном, и вывел для себя следующее понятие о положении дел.
Когда еще государь был в Вильне, армия была разделена натрое: 1 я армия находилась под начальством Барклая де Толли, 2 я под начальством Багратиона, 3 я под начальством Тормасова. Государь находился при первой армии, но не в качестве главнокомандующего. В приказе не было сказано, что государь будет командовать, сказано только, что государь будет при армии. Кроме того, при государе лично не было штаба главнокомандующего, а был штаб императорской главной квартиры. При нем был начальник императорского штаба генерал квартирмейстер князь Волконский, генералы, флигель адъютанты, дипломатические чиновники и большое количество иностранцев, но не было штаба армии. Кроме того, без должности при государе находились: Аракчеев – бывший военный министр, граф Бенигсен – по чину старший из генералов, великий князь цесаревич Константин Павлович, граф Румянцев – канцлер, Штейн – бывший прусский министр, Армфельд – шведский генерал, Пфуль – главный составитель плана кампании, генерал адъютант Паулучи – сардинский выходец, Вольцоген и многие другие. Хотя эти лица и находились без военных должностей при армии, но по своему положению имели влияние, и часто корпусный начальник и даже главнокомандующий не знал, в качестве чего спрашивает или советует то или другое Бенигсен, или великий князь, или Аракчеев, или князь Волконский, и не знал, от его ли лица или от государя истекает такое то приказание в форме совета и нужно или не нужно исполнять его. Но это была внешняя обстановка, существенный же смысл присутствия государя и всех этих лиц, с придворной точки (а в присутствии государя все делаются придворными), всем был ясен. Он был следующий: государь не принимал на себя звания главнокомандующего, но распоряжался всеми армиями; люди, окружавшие его, были его помощники. Аракчеев был верный исполнитель блюститель порядка и телохранитель государя; Бенигсен был помещик Виленской губернии, который как будто делал les honneurs [был занят делом приема государя] края, а в сущности был хороший генерал, полезный для совета и для того, чтобы иметь его всегда наготове на смену Барклая. Великий князь был тут потому, что это было ему угодно. Бывший министр Штейн был тут потому, что он был полезен для совета, и потому, что император Александр высоко ценил его личные качества. Армфельд был злой ненавистник Наполеона и генерал, уверенный в себе, что имело всегда влияние на Александра. Паулучи был тут потому, что он был смел и решителен в речах, Генерал адъютанты были тут потому, что они везде были, где государь, и, наконец, – главное – Пфуль был тут потому, что он, составив план войны против Наполеона и заставив Александра поверить в целесообразность этого плана, руководил всем делом войны. При Пфуле был Вольцоген, передававший мысли Пфуля в более доступной форме, чем сам Пфуль, резкий, самоуверенный до презрения ко всему, кабинетный теоретик.
Кроме этих поименованных лиц, русских и иностранных (в особенности иностранцев, которые с смелостью, свойственной людям в деятельности среди чужой среды, каждый день предлагали новые неожиданные мысли), было еще много лиц второстепенных, находившихся при армии потому, что тут были их принципалы.
В числе всех мыслей и голосов в этом огромном, беспокойном, блестящем и гордом мире князь Андрей видел следующие, более резкие, подразделения направлений и партий.
Первая партия была: Пфуль и его последователи, теоретики войны, верящие в то, что есть наука войны и что в этой науке есть свои неизменные законы, законы облического движения, обхода и т. п. Пфуль и последователи его требовали отступления в глубь страны, отступления по точным законам, предписанным мнимой теорией войны, и во всяком отступлении от этой теории видели только варварство, необразованность или злонамеренность. К этой партии принадлежали немецкие принцы, Вольцоген, Винцингероде и другие, преимущественно немцы.
Вторая партия была противуположная первой. Как и всегда бывает, при одной крайности были представители другой крайности. Люди этой партии были те, которые еще с Вильны требовали наступления в Польшу и свободы от всяких вперед составленных планов. Кроме того, что представители этой партии были представители смелых действий, они вместе с тем и были представителями национальности, вследствие чего становились еще одностороннее в споре. Эти были русские: Багратион, начинавший возвышаться Ермолов и другие. В это время была распространена известная шутка Ермолова, будто бы просившего государя об одной милости – производства его в немцы. Люди этой партии говорили, вспоминая Суворова, что надо не думать, не накалывать иголками карту, а драться, бить неприятеля, не впускать его в Россию и не давать унывать войску.
К третьей партии, к которой более всего имел доверия государь, принадлежали придворные делатели сделок между обоими направлениями. Люди этой партии, большей частью не военные и к которой принадлежал Аракчеев, думали и говорили, что говорят обыкновенно люди, не имеющие убеждений, но желающие казаться за таковых. Они говорили, что, без сомнения, война, особенно с таким гением, как Бонапарте (его опять называли Бонапарте), требует глубокомысленнейших соображений, глубокого знания науки, и в этом деле Пфуль гениален; но вместе с тем нельзя не признать того, что теоретики часто односторонни, и потому не надо вполне доверять им, надо прислушиваться и к тому, что говорят противники Пфуля, и к тому, что говорят люди практические, опытные в военном деле, и изо всего взять среднее. Люди этой партии настояли на том, чтобы, удержав Дрисский лагерь по плану Пфуля, изменить движения других армий. Хотя этим образом действий не достигалась ни та, ни другая цель, но людям этой партии казалось так лучше.
Четвертое направление было направление, которого самым видным представителем был великий князь, наследник цесаревич, не могший забыть своего аустерлицкого разочарования, где он, как на смотр, выехал перед гвардиею в каске и колете, рассчитывая молодецки раздавить французов, и, попав неожиданно в первую линию, насилу ушел в общем смятении. Люди этой партии имели в своих суждениях и качество и недостаток искренности. Они боялись Наполеона, видели в нем силу, в себе слабость и прямо высказывали это. Они говорили: «Ничего, кроме горя, срама и погибели, из всего этого не выйдет! Вот мы оставили Вильну, оставили Витебск, оставим и Дриссу. Одно, что нам остается умного сделать, это заключить мир, и как можно скорее, пока не выгнали нас из Петербурга!»
Воззрение это, сильно распространенное в высших сферах армии, находило себе поддержку и в Петербурге, и в канцлере Румянцеве, по другим государственным причинам стоявшем тоже за мир.
Пятые были приверженцы Барклая де Толли, не столько как человека, сколько как военного министра и главнокомандующего. Они говорили: «Какой он ни есть (всегда так начинали), но он честный, дельный человек, и лучше его нет. Дайте ему настоящую власть, потому что война не может идти успешно без единства начальствования, и он покажет то, что он может сделать, как он показал себя в Финляндии. Ежели армия наша устроена и сильна и отступила до Дриссы, не понесши никаких поражений, то мы обязаны этим только Барклаю. Ежели теперь заменят Барклая Бенигсеном, то все погибнет, потому что Бенигсен уже показал свою неспособность в 1807 году», – говорили люди этой партии.
Шестые, бенигсенисты, говорили, напротив, что все таки не было никого дельнее и опытнее Бенигсена, и, как ни вертись, все таки придешь к нему. И люди этой партии доказывали, что все наше отступление до Дриссы было постыднейшее поражение и беспрерывный ряд ошибок. «Чем больше наделают ошибок, – говорили они, – тем лучше: по крайней мере, скорее поймут, что так не может идти. А нужен не какой нибудь Барклай, а человек, как Бенигсен, который показал уже себя в 1807 м году, которому отдал справедливость сам Наполеон, и такой человек, за которым бы охотно признавали власть, – и таковой есть только один Бенигсен».
Седьмые – были лица, которые всегда есть, в особенности при молодых государях, и которых особенно много было при императоре Александре, – лица генералов и флигель адъютантов, страстно преданные государю не как императору, но как человека обожающие его искренно и бескорыстно, как его обожал Ростов в 1805 м году, и видящие в нем не только все добродетели, но и все качества человеческие. Эти лица хотя и восхищались скромностью государя, отказывавшегося от командования войсками, но осуждали эту излишнюю скромность и желали только одного и настаивали на том, чтобы обожаемый государь, оставив излишнее недоверие к себе, объявил открыто, что он становится во главе войска, составил бы при себе штаб квартиру главнокомандующего и, советуясь, где нужно, с опытными теоретиками и практиками, сам бы вел свои войска, которых одно это довело бы до высшего состояния воодушевления.






