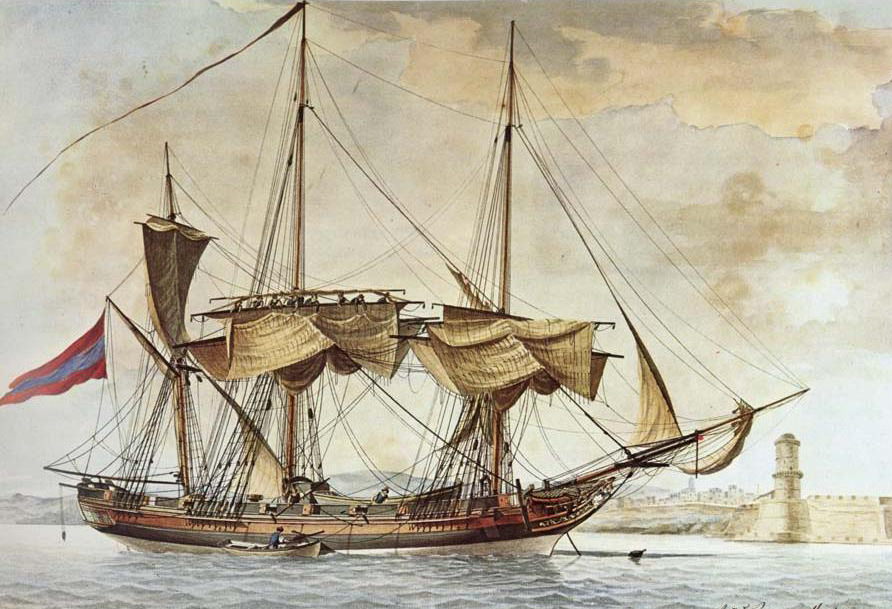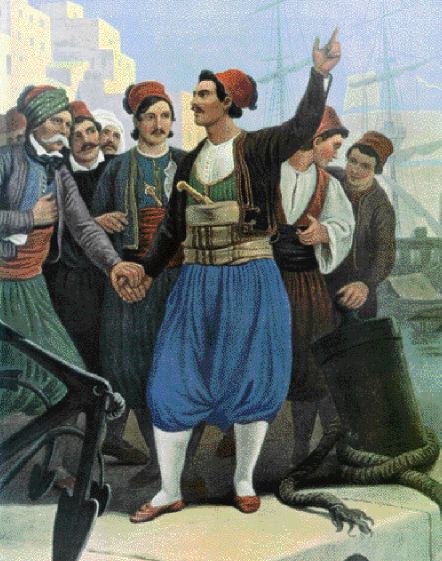Греческие военно-морские силы в Освободительной войне
Греческие военно-морские силы периода Освободительной войны Греции 1821—1829 годов являются историческим предшественником современного Военно-морского флота Греции (греч. Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό). Флот был одним из главных, а для некоторых историков — самым главным, факторов успеха греческих повстанцев. Французский адмирал и историк флота Жюрьен де ла Гравьер писал: «Греческие моряки сделали больше для освобождения своего Отечества, нежели фаланги клефтов и арматолов»[1]:A-135[2]. Он же писал, что, будучи моряком, «в этом кровавом конфликте, я не сдержал возглас восхищения Грецией. Состав и подвиги флота, который современная Греция выставила против османского флота в течение 7 лет, освещает морскую стратегию не только прошлого, но и будущего». Димитрис Фотиадис, греческий писатель и историк 20-го века, сформулировал свою оценку предельно просто: «без флота не видать нам Свободы»[3]:20.
Содержание
- 1 Предыстория
- 2 Факторы становления нового греческого флота
- 3 Греческие морские центры на османской территории
- 4 Предшественники революционного флота
- 5 Накануне революции
- 6 Освободительная война
- 6.1 Начало восстания
- 6.2 Новый греческий огонь
- 6.3 1821 год
- 6.4 1822 год
- 6.5 1823 год
- 6.6 Египет на помощь турецкому султану
- 6.7 Начало 1824 года
- 6.8 Разрушение Касоса
- 6.9 Холокост Псара[27][28][29]
- 6.10 Вторая половина 1824 года
- 6.11 1825 год
- 6.12 Месолонгион
- 6.13 1826 год
- 6.14 Фрэнк Гастингс и «Картериа»
- 6.15 Фрегат «Эллада»
- 6.16 Первые успехи «Картерии» и «Эллады»
- 6.17 Томас Кокрейн
- 6.18 Вторая половина 1827 года
- 6.19 1828 год
- 6.20 1829 год — конец войны
- 7 «Великое преступление»
- 8 Последующие десятилетия
- 9 Ссылки
Предыстория
Взятие Константинополя крестоносцами в 1204 году ознаменовало также переход контроля судоходства в греческих водах в руки венецианцев и генуэзцев. Осколки Византии, просуществовавшие ещё два-три века, практически не располагали значительными как военным, так и торговым, флотами. В ходе османской экспансии, кульминацией которой стало падение Константинополя в 1453 году, почти все морские центры бывшей империи перешли в руки осман. Наблюдался исход в контролируемые венецианцами регионы и на Запад, как греческой интеллигенции[1]:A-144[4]:40, так и коммерсантов и моряков.
Борьба между итальянскими республиками и османами за острова Архипелага, Кипр, Крит, Пелопоннес продолжилась ещё 3 столетия и сопровождалась массовой эмиграцией греческих коммерсантов и моряков. Одними из первых, морские греческие общины возникли в Венеции, Триесте и в Ливорно в начале XVI века. Расцвет последней пришёлся на XVIII—XIX века[5].
В некоторой степени, в процессе ассимиляции, часть моряков и судовладельцев были потеряны, как для греческого православия, так и для греческого судоходства. Но большинство сохранило свои связи с родиной. С другой стороны, на оккупированных османами землях, греки не желающие уживаться с мусульманами, искали места ориентируясь на транспортную инфраструктуру — только от обратного: чем дальше от дорог, тем лучше. Так стали заселятся горные местности, которые никогда до того, ни в античную, ни в византийскую эпоху не населялись. Равнина в основном стала местом жизни мусульман, а в дальнейшем и евреев, а горы — местом жизни греков, таким образом, по выражению современного историка А. Е. Вакалопулоса, «горы спасли и сохранили греческую нацию»[4]:25. Аналогично и из подобных соображений, были заселены многие пустынные и не известные ни в античную, ни в византийскую эпоху острова и уединённые скалистые полуострова.
С другой стороны, развитие коммерции и флота на некоторых островах были связаны с экономической автономией, предоставленной греческому населению самими османами. Такими были Хиос[6] и обезлюдевшие в XV—XVI веках Самос и Кидониес (Айвалык), которым османы предоставили как экономическую, так и административную автономию.[7]
Факторы становления нового греческого флота
С. Максимос именовал период перед Греческой революцией «Зарёй греческого капитализма» и писал в своей одноименной книге:
[1]:А-134.Греки держали под своим контролем австрийскую торговлю с Востоком, посредством своей сильной колонии в Триесте. Они располагали сильными позициями в Ливорно, который был крупнейшим транзитным пунктом английских в основном товаров для восточного Средиземноморья. Греки нарушили французскую торговую монополию и создали торговые дома в Марселе, заняли заметную позицию в голландской торговле с Востоком и в 1784 году, из 500 судов зашедших в порт Александрии, 150 были греческими, против 190 французских английских венецианских голландских и русских вместе взятых
Кроме глубинных процессов происходящих в греческих землях и в диаспоре, греческие историки отмечают также несколько факторов, оказавших влияние на становление и развитие греческого флота и прямым или косвенным образом способствовавших его подготовке к морским сражениям Освободительной войны 1821—1829 годов.
Кючук-Кайнарджийский мирный договор
Пелопоннесское восстание 1770 года было вызвано первой архипелагской экспедиции русского флота, в ходе русско-турецкой войны (1768—1774). Греческие историки считают, что восстание было отвлекающими военными действиями в русско-турецкой войне, оплаченными греческой кровью, подчёркивают, что у восстания не было объективных предпосылок для успеха, что русско-греческие силы были малыми, без плана и организации[1]:А-118, но несмотря на это считают восстание рубежом для последующих событий, вплоть до Греческой революции 1821 года.
Английский историк Дуглас Дакин пишет, что до французской революции надежды греков на помощь в освобождении были обращены к единоверной России. Это способствовало деятельности российских агентов, которые вели пропаганду среди греков о возрождении Византии. Один них, Папазолис, Георгиос, русский офицер, родом из Западной Македонии, вместе с братьями Орловыми, разработал оптимистический план восстания, для содействия военных операций России против осман[8]:39.
Согласно Дакину, Папазолис был скорее греческим патриотом, нежели русским агентом. Для ускорения событий он заверил императрицу Екатерину о готовности маниатов поддержать Россию и подделал подписи их вождей, хотя они заявили ему, что они не в состоянии вести военные действия за пределами своих гор. Таким образом с появлением немногих российских кораблей у берегов Пелопоннеса в феврале 1770 года, удалось сформировать только 2 легиона с ограниченным числом, в 200 и 1200 бойцов соответственно. Силы русских, против ожиданий греков, были незначительны, а силы повстанцев не соответствовали обещаниям Папазолиса. Последние дни восстания Дакин описывает так:[8]:40. Последующие события А. Вакалопулос описывает следующим образом:«Хотя русские сделали Наварин своей базой, тысячи греческих беженцев прибывших сюда, чтобы избежать резни нашли ворота его крепостей закрытыми»
[4]:133.«неудачи повстанцев и их постоянные трения с русскими, вынудили последних сесть на корабли и оставить греков на произвол их разъяренных врагов»
Война завершилась подписанием Кючук-Кайнарджийского договора, который Вакалопулос называет «настоящим подвигом российской дипломатии», поскольку он давал право России вмешиваться во внутренние дела Османской империи[4]:134. Д. Фотиадис пишет, что неправильно считать, что в результате этого восстания Греция расплатилась кровью, ничего не выиграв. Он упоминает договор, полученное Россией право вмешиваться в защиту православного населения и подчёркивает, что право полученное кораблями греческих судовладельцев нести российский флаг, стало одним из основных факторов становления греческого флота, сыгравшего важную роль в Освободительной войне 1821—1829 годов.[1]:А-119. Немецкий историк Карл Мендельсон-Бартольди (Carl Wolfgang Paul Mendelssohn Bartholdy, 1838—1897) в своей «Истории Греции с 1453 по 1874 год» писал: «экспорт российского зерна перешёл вскоре и почти абсолютно в греческие руки и греческие торговые колонии стали расцветать, как и в древности, на берегах Чёрного моря. Торговый расцвет Одессы был основан на греческой деятельности. Греки стали опасными конкурентами англичан».
Он же пишет, что в 1803 году под русским флагом ходило от 300 до 400 греческих судов, многие из которых выходили в Атлантику. Пуквиль, Франсуа писал, что из десяти судов островов Идра, Спеце и Псара восемь ходили под русским флагом[3]:38. Эта тенденция сохранялась вплоть до начала Греческой революции в 1821 году несмотря на меры ограничения этого явления с российской стороны и ужесточение предпосылок с османской стороны[9].
Наполеоновские войны
Блокада, установленная британским флотом против революционной, а затем наполеоновской, Франции, стала значительным фактором для развития греческого флота. Корабли греческих судовладельцев, за большое вознаграждение, гружённые зерном и другими товарами, прорывали блокаду и выгружали грузы в портах Франции и Испании. У греческих судов, с их маленькими, для самообороны от пиратов, пушечками, не было возможности противостоять линейным британским кораблям. Греческие моряки пытались разрешить задачу соперничества с британскими кораблями за счёт скорости и манёвра, наращивая мачты и увеличивая парусное вооружение, рискуя одновременно остойчивостью судов. Когда в 1805 году британский флот отвёл несколько арестованных греческих судов на Мальту и передал их британским морякам, те отказались ходить на них, пока не будут укорочены мачты и облегчены паруса[3]:21.
Французский адмирал и историк флота Жюрьен де ла Гравьер позже писал: «что касается меня, то я всегда восхищался греческими моряками»[3]:21[10].
В годы наполеоновских войн греческие судовладельцы разбогатели, что сказалось на росте и обновлении их флотов. Когда капитан и судовладелец Андреас Миаулис, будущий адмирал революционного греческого флота, был арестован со своим кораблём и предстал перед адмиралом Нельсоном, ему был задан вопрос, зачем он это делал. Ответ Миаулиса был лаконичен: «Для прибыли».
Примечателен случай с судовладельцем и капитаном Христофилосом, который на деньги заработанные рейсами на Монтевидео построил своё лучшее судно, «Самалтана». Христофилос со своим судном был арестован англичанами 21 октября 1805 года, при нарушении блокады, и был доставлен на борт флагмана Нельсона, HMS Victory (1765). Но англичане не успели допросить его — Христофилос оказался невольным свидетелем Трафальгарского сражения.
Пиратство как положительный фактор
Греческие торговые моряки XVI—XIX веков по необходимости становились и военными моряками. Вся акватория Средиземного моря была ареной деятельности пиратов, в основном берберийских. Д. Фотиадис пишет, что кроме навыков навигации и управления парусами, навыки рукопашного боя и стрельбы из стрелкового оружия и пушек стали столь же необходимыми, чтобы не потерять судно и груз и не оказаться рабом на берберийском берегу[3]:19.
Он пишет что[3]:20.«пираты, ставшие проклятием и анафемой, оказали огромную услугу нашему Отечеству. Без них наши корабли были бы невооружёнными и наши моряки были бы без боевого опыта, а без флота не видать нам Свободы»
К началу греческой революции около 500 судов греческих судовладельцев имели на борту около 6000 маленьких, но пушек. Экипажи насчитывали около 18 000 моряков имевших опыт войны на море.[1]:А-136. Подозрения и опасения османских властей, возросшие после Пелопоннесского восстания, привели к запрету строительства и владения греками судов, чья длина киля превышала 40 «пихес» (греч. Πήχες), что примерно соответствует 40 аршинам (30 метрам). Однако взятки в империи были обычным делом и греческие судовладельцы довольно часто превышали это ограничение[1]:А-136. Но и самые большие греческие суда не шли ни в какое сравнение с османскими линейными кораблями и фрегатами, с 60-80 орудиями на борту, лишь морские достоинства греческих моряков сделали их достойными соперниками османского флота. Фотиадис пишет, что без этих судов греки ни в коем случае не смогли бы выстоять в своей восьмилетней войне против Османской империи[1]:А-136.
Служба на османском флоте
Согласно Д. Фотиадису, турки были неплохими артиллеристами, но никудышными моряками. В силу этого, для работы с парусами и для навигации в целом, османский флот использовал в основном греков. Одна лишь Идра была обязана предоставлять османскому флоту каждый год 250 моряков. Французский адмирал и историк флота Жюрьен де ла Гравьер утверждал, что: «без греков не было бы османского флота»[1]:А-135[11]. С другой стороны, служба на османском флоте дала возможность греческим морякам изучить османские линейные корабли их тактику.
Греческие морские центры на османской территории
Большинство морских центров, давших корабли и моряков греческому флоту в период Освободительной войны 1821—1829 годов не были известны ни в античный, ни в византийский период истории Греции. 4 неизвестных или малоизвестных в предыдущие века островов — Идра, Спеце, Псара и Касос располагали к концу века 400 судами, чьё водоизмещение варьировало от 150 тонн до 700 и выше[1]:А-134
Идра
В XV веке на этом скалистом острове нашло убежище бежавшее от турецкого нашествия греческое население соседнего Пелопоннеса, среди которого были многочисленные православные арнауты. Последние оставили заметный след в местном говоре островитян, который сохранялся до конца XIX века. Скудная земля не могла прокормить население, которое обратилось к морю. Со временем идриоты стали отличными моряками и кораблестроителями. Этапом подъёма Идры стал Кючук-Кайнарджийский мирный договор, позволивший судовладельцам острова нести русский флаг.
Английский географ и писатель William Martin Leake (1777—1860), посетивший Спеце и Идру в 1805 году, писал, что большинство судов этих островов ходили под русским флагом[3]:38.
Другим фактором расцвета флота Идры стали Наполеоновские войны[1]:А-134. Одновременно, корабли Идры начали, с 1803 года, пересекать Атлантику, доходя до Монтевидео. Некоторые жители Идры эмигрировали в Южную Америку. Несмотря на малочисленность эмигрантов, несколько идриотов оставили своё имя в истории Аргентины и аргентинского флота. В частности: братья Петрос и Михаил Спиру, а также Николаос Колманиатис Георгиу.
На Идре не было турецких властей, однако остров был обязан поставлять ежегодно 250 моряков на турецкий флот. В 1794 году остров имел население в 11 000 человек а уже в 1813 году 22 000 жителей[1]:А-134. К началу Освободительной войны в 1821 году, остров населяли 28 000 душ из которых 10 000, практически всё мужское население, были моряками.
Спеце
Около 1470 года, через 10 лет после первой османской оккупации Пелопоннеса, несколько тысяч человек греческого населения перебрались на близлежащий Спеце. Среди них было также много и православных арнаутов[1]:А-133
В силу необходимости, бывшие горцы стали моряками. Первые плавсредства, построенные на островке, были водоизмещением в 10-15 тонн. Со временем стали строиться суда водоизмещением в 40-50 тонн и, осмелев, островитяне стали совершать рейсы в Смирну и Константинополь и, позже, до Гибралтара и в Чёрное море. Судовладельцы острова использовали 3 флага — греческий османский, русский и мальтийский. Было развито кооперативное владение судами. Моряки не получали зарплату, а долю от доходов[1]:А-134
Псара
Упоминаемый ещё Гомером в Одиссее[12],этот скалистый островок, в силу своих малых размеров и скудности земли именовался Псира или Псири, от греческого слова вошь (Ψύρα)[3]:26.
Малонаселённый Псара был разрушен султаном Сулейманом II в 1522 году и через 30 лет, в 1553 году, по свидетельству венецианцев на острове не было ни единой души[3]:26.
С 1643 года островок стал заселяться греками, не желавшими уживаться с мусульманами, в основном выходцами из нома Магнисия, Фессалия и острова Эвбея. Скудная природа выпестовала из жителей острова отважных моряков, чей морской промысел был на грани пиратства. Островом правил избранный Совет старейшин, в силу чего идриоты и специоты подрунивали над псариотами, что последние мнили из себя (древних) афинян и именовали своё правление Булевтерий Псар[3]:31.
Первая архипелагская экспедиция вызвала массовое участие псариотов в военных действиях на стороне российского флота, включая их участие в Чесменском бое. После Чесмы, псариоты вооружили 25 из 36 своих саколев (каиков), а затем, построили 45 парусно-гребных галиот, на которых совершали рейды вплоть до побережья Сирии[3]:36.
Одним из участников этих событий был Иоаннис Варвакис, ставший впоследствии русским дворянином. Многие псариоты, включая будущего адмирала революционного флота острова, Николиса Апостолиса, были участниками военных действий флотилии Ламроса Кацониса в период 1879—1790 годов. Факторами становления флота Псара также стали Наполеоновские войны, Кючук-Кайнарджийский мирный договор, давший судовладельцам Псара право нести российский флаг на своих кораблях и борьба с берберийскими пиратами. К началу революции 1821 года этот островок, размерами 8х9 км, имел третий по размеру флот среди греческих островов, сразу после островов Идра и Спеце. Населяло его 6 тыс. человек, все моряки, и их семьи. Ни одного турка.
Касос
Касос — крохотный скалистый островок архипелага Додеканес, северо-восточнее Крита. Касос практически ничего не производил. Море кормило остров, а большинство его жителей были моряками. Десятилетиями воюя на море с алжирскими пиратами, касиоты приобрели тем самым и боевой морской опыт. Остров населялся только греками и к началу Греческой революции (1821 год) его население достигало 3500 человек. Флот этого крошечного острова был четвёртым по размеру и значению после флотов островов Идра, Спеце и Псара, насчитывая 15 вооруженных бригов с 1 тысячей моряков.
Галаксиди
В 1655 году жители этого прибрежного городка Средней Греции в Коринфском заливе разбили флот мусульманских пиратов, но в том же году, после налёта пиратов, ушли в горы. Жители вернулись в город только через 14 лет, в 1669 году.
Рост флота Галаксиди начался в период 1720—1730 годов. Толчком послужил Пожаревацкий мир (1718)[13], согласно которому турки обязались допустить свободу мореплавания в Ионическом море и Коринфском заливе.
В 1790 году он стал одним из самых посещаемых греческих портов, ставший морскими воротами Средней Греции в её торговых сношениях с Пелопоннесом[14].
Кючук-Кайнарджийский мирный договор здесь также содействовал развитию флота и многие корабли подняли русский флаг, избегая произвола турецких властей. Большую роль в развитии флота города сыграл И. Пападиамантопулос (старший), который сконцентрировал в своих руках перевозки Пелопоннеса и Западной Греции. Чтобы не зависеть от судостроителей в Месолонгионе, он начал строительство кораблей в Галаксиди. Город был известен своим флотом, богатством и морскими навыками жителей. Парусники построенные в Галаксиди выполняли торговые перевозки по всему Средиземноморью. Как писал Пуквиль, Франсуа[15] к 1813 году Галаксиди располагал флотом в 50 кораблей, с экипажами в 1100 моряков. Это делало Галаксиди первым морским центром континентальной Греции и ставило его в один ряд с островами Идра, Спеце, Псара и Касос.
Другие морские центры
Кроме перечисленных, в греческих землях были десятки других островов и городов располагавших флотом. Среди них следует отметить острова Самос, Хиос, Миконос, Скиатос, городки Энос на побережье Фракии, Иериссос на побережье Центральной Македонии, Триккери Пелиона на побережье Фессалии, Сфакия на Крите и полуостров Мани. Корабли Месолонгиона османы сожгли после Пелопоннесского восстания.
Значительными флотами располагали также жители Ионических островов, которые в течение 30 лет перешли от венецианцского контроля под контроль Франции, затем России, снова Франции и, наконец, Британии. Соответственно суда этих островов ходили под венецианским, французским, русским и британским флагами.
Предшественники революционного флота
С первых же десятилетий османской оккупации, греки воевали под чужими флагами, против «общего врага», как на суше так и на море. Греческие моряки «тысячами приняли участие» в морском сражении при Лепанто в 1571 году[1]:А-113 и в морских боях русско-турецкой войны 1768—1774 годов. Многие из них стали российскими офицерами и дослужились до адмиральских чинов. Среди них, вице-адмирал Алексиано, Антон Павлович и его брат контр-адмирал Алексиано, Панагиоти, а также контр адмирал Кумани, Николай Петрович. Но это была служба чужому флоту и флагу. Качественная перемена связана с именем в Ламброса Кацониса. Кацонис также принял участие в русско-турецкой войне 1768—1774 годов, после которой переселился в Россию, где служил офицером в греческом пехотном полку.
Во время русско-турецкой войны 1787—1792 годов Россия не смогла послать эскадру в Средиземное море, так как назревала война со Швецией, начавшаяся в июле 1788 года. Отсутствие российского флота в Средиземном море было поручено восполнить Кацонису и греческим морякам[16].
В январе 1788 года Кацонис отправился в Триест, где, с помощью греческой общины, купил торговое судно, вооружил его 28 пушками и назвал «Минерва Северная», а также 2 греческих торговых корабля, с 16 пушками каждый, переименованными в «Князь Потёмкин-Таврический» и «Граф Александр Безбородко». Экипажи были набраны из греческих торговых моряков и волонтёров из греческой общины[1]:А-117
В Ионическом море были захвачены 2 турецких судна, которые были переименованы в честь внуков Екатерины в «Великий князь Константин» и «Великий князь Александр». Войдя в Эгейское море Кацонис захватил ещё 5 османских корабля, направился к Додеканесу и взял островок Кастелоризо. Флотилия, наводя страх на турок, дошла до Египта. Возвращаясь из Египта, флотилия встретила возле острова Карпатос эскадру, во главе которой был флагманский фрегат османского флота и гнала турок до входа в Дарданеллы. Французский консул на Родосе именовал Кацониса «новый Фемистокл, достойный потомок древних греческих героев».
Русского флота в Архипелаге не было, но как писал Кацонис «по всей Турции гремит, что Архипелаг наполнен русскими судами, но на самом деле в Архипелаге нет более корсаров чем я сам и 10 моих судов». Екатерина приказала впредь именовать флотилию Кацониса флотом Российской империи. В начале 1789 года Кацонис перехватил турецкие суда у входа в Дарданеллы. Екатерина II указом от 24 июля 1789 года, произвела его в подполковники. После Дарданелл флотилия, буксируя ещё 7 захваченных кораблей направилась к острову Кея, который Кацонис сделал своей базой. В начале 1790 года турки были вынуждены держать в Архипелаге 23 линейных корабля, ослабляя свой флот, противостоявший флоту Ушакова на Чёрном море. Новый султан Селим III дал приказ своим адмиралам согласовать действия с алжирским пиратом Сеит-али. 6 мая, у острова Андрос, Кацонис сразился с османской эскадрой (19 судов), и алжирской эскадрой, в составе 12 кораблей. Предвидя исход сражения, Кацонис выбросил за борт свой длинный пиратский нож со словами: «Мы теперь пропали. Ты мой меч лежи на дне, как обручальное кольцо будущего освобождения Родины.». Кацонис был побежден, но сумел с 4 судами уйти к острову Китира.
В начале 1791 года Кацонис встретился в Вене с генерал-майором Тамара[17] и получил деньги на новую флотилию. К августу 1791 года флотилия насчитывала 21 судно.
В декабре 1791 года Россия подписала с турками Ясский мир. Греция в этом договоре не упоминалась. Генерал Тамара приказал Кацонису отвести свои суда в Триест, и разоружить их. Но Кацонис, разгневанный тем, что русские, как и в Первую Архипелагскую экспедицию, решили свои задачи и бросили греков, отказался разоружить флотилию и продолжил войну. Война стала греческой. Пожалуй это был первый раз с падения Константинополя в 1453 году, когда греческие моряки вышли сражаться в Эгейское море не под чужим флагом и не на службе у чужого императора.
В мае 1792 года Кацонис издал манифест, выражающий возмущение Ясским миром, не учитывающим интересы греков, и объявил войну за свободу Греции, а также объявил о своем намерении не складывать оружие до достижения цели. С базой в Порто Кайо, Кацонис контролировал судоходство в Восточном Средиземноморье. Кроме турецких судов, Кацонис сжёг 2 французских торговых судна. Но поднять восстание на Пелопоннесе не удалась. Пелопоннес всего 20 лет тому назад был потоплен в крови и не был готов к новому кровопролитию.
5 июня 20 турецких судов и французский фрегат «Modeste» атаковали Порто Кайо. Маниоты дали возможность Кацонису покинуть бухту. Он добрался до острова Итака. Его соратник Андреас Андруцос, с горсткой своих земляков, с боями добрался до гор в Средней Греции. Судьба Андруцоса была трагической: пытаясь затем добраться до России, он был арестован венецианцами в Спалато и сдан туркам. После пыток, он был утоплен в Босфоре в 1797 году[4]:138.
Таким образом Пелопоннесское восстание 1770 года и военные действия греков в Архипелаге в 1789—1793 годах лишили греков иллюзий о иностранной помощи, предопределили их ориентацию на свои силы, результатом чего стала Греческая революция 1821 года[18].
Последующие десятилетия до Греческой революции отмечены на море каперской и пиратской деятельностью Янниса Статаса, Никоцараса и Евтимия Влахаваса. В 1806году на островах Северные Спорады, эти сухопутные греческие военачальники создали флотилию в 70 кораблей. Корпуса и паруса всех 70 кораблей были покрашены в чёрный цвет, в силу чего она получила имя «Чёрная эскадра»[1]:А-373.
Яннис Статас был назван адмиралом этого флота, Никоцарас стал его заместителем. Корабли флота несли флаг, который после революции 1821 года стал греческим национальным флагом. Поскольку в тот период не была объявлена никакая война и они не служили ни одному государству, действия флота Статаса были охарактеризованы не каперством, а пиратством. В 1807 году флот Статаса терроризировал коммерческие суда в северной части Эгейского моря, преследовал корабли османского флота, совершал налёты на побережье и блокировал крупные порты Фессалии, Македонии и Малой Азии[1]:Δ-306.
За 10 месяцев господства Статаса на море, македонская столица, город Фессалоники, понесла большие потери, поскольку «пираты» захватывали большинство судов входящих в порт или выходящих из порта. После 10 месяцев активной деятельности, тяжёлая зима и нехватка боеприпасов вынудили Статаса распустить свой флот.
Накануне революции
Ещё в 1803 году Адамантиос Кораис, в своей «пророческой речи» о роли флота в будущей, когда бы она ни состоялась, Освободительной войне, повторил слова услышанные им от капитанов Идры, в свою очередь приписываемые Фемистоклу[1]:А-137:
«Будет у нас земля и Отечество пока мы имеем 200 вооружённых судов.»
Созданная через десять лет, в 1814 году, в Одессе, тайная революционная организация Филики Этерия, подготавливая всегреческое восстание против осман, одной из своих основных задач считала подготовку войны на море. Этерия отдавала себе отчёт в трудностях, ожидавших восставших на море, и искала пути для нейтрализации османского флота, без чего успех восстания в греческих землях, с их полуостровной и островной географией, был сомнителен. «Генеральный план» гетеристов, как и более старый план Ригаса Ферреоса в конце XVIII века, предусматривал сожжение османского флота на его базе, в Константинополе. При этом, гетеристы отдавали себе отчёт в последствиях этого шага для греческого населения Константинополя, но считали, что «для спасения целого, пусть пострадает часть»[1]:Α-352.
План восстания в Константинополе не был осуществлён, что однако не спасло греческое население города от резни. Греческое население города, согласно статистики 1818 года, насчитывало 27 тысяч человек, включая женщин, стариков и детей, против 700 тысяч мусульманского населения и гарнизонов. Историки отмечают, что этот пункт «Генерального плана» был беспочвенным и неосуществимым[1]:Α-353.
Одновременно гетеристы пытались вовлечь в восстание греческих судовладельцев. Александр Ипсиланти, в своём письме от 8 октября 1820 года, предупреждал судовладельцев островов Идра, Спеце и Псара, что им следует немедленно присоединиться к восстанию, поскольку им не удастся остаться в стороне и их суда и состояния будут подвергнуты угрозе не только со стороны осман, но и со стороны англичан, желающих устранить конкурентов, «так как они поступили в мирное время с флотами Дании, Голландии и Испании»[1]:Α-360.
К. Пападопулос и Каламатианос получили приказ подготовить флотилию на Дунае. На острова Архипелага был послан Темелис. На острова Идра и Спеце Папафлессас[1]:Α-359.
Начало военных действий в Дунайских княжествах отмечено участием в них греческих моряков. Первая кровь войны была пролита Галаце и среди 150 революционеров, атаковавших турок, большинство было торговыми моряками, в основном с острова Кефалиния[1]:Α-384.
Освободительная война
Начало восстания
Военные действия гетеристов в Дунайских княжествах начались в феврале 1821 года. Восстание на Пелопоннесе началось в конце марта. Галаксиди был первым городом Средней Греции поднявшим знамя восстания. 26 марта отряд в 300 повстанцев из Галаксиди пошёл на Амфиссу. Судовладельцы и коммерсанты предложили революции свои корабли, многие галаксидиоты принял участие в сухопутных сражениях, таких как Битва при Гравии.
Первым среди островов, под руководством гетеристов П. Ботасиса и Г. Паноса, 3 апреля восстал Спеце. Последовали острова Порос, Саламин, Эгина и, 10 апреля, Псара.
Корабли Спеце блокировали крепости Нафплион, Монемвасия и Ньокастро (Наварин). Одновременно флотилия в 7 кораблей специотов, под командованием капитанов Г. Цупаса и Н. Рафтиса, 11 апреля атаковала и захватила в гавани Милоса 2 османских корабля и транспорт с войсками. Специоты послали делегацию на Идру, но судовладельцы острова медлили.
Но как только была получена новость, что повстанцы осадили крепость Акрокоринф, гетерист капитан Иконому возглавил группу моряков, которая заняла канцелярию острова и захватила корабли. Иконому возглавил «Правление» острова[19]:124 и судовладельцы были вынуждены предоставить ему абсолютную власть. Когда специот капитан Г.Цупас прошёл перед Идрой, буксируя за собой 13 (!) захваченных им в заливе Адрамитион (Эдремит) турецких кораблей, моряков Идры уже нельзя было удержать. Давление восставшего народа вынудило судовладельцев принять участие в Освободительной войне[19]:107.
20 апреля псариоты захватили у малоазийских берегов 4 транспорта с 200 войсками и потопили 1 транспорт. В тот же день выступил флот вооружённых кораблей Идры и соединился с флотом Спеце. Зайдя на остров Тинос, флоты Идры и Спеце 24 апреля прибыли на Псара. На переходе было получено сообщение о мученической смерти патриарха Григория. 26 апреля восстал остров Самос. Объединённый флот 3-х островов прибыл 27 апреля на остров Хиос, требуя от хиосцев участия в Революции и финансовой контрибуции. Но хиосцы слёзно просили флот уйти, дабы не провоцировать разрушения Хиоса, что однако не спасло остров от последовавшей, через год, Хиосской резни.
28 апреля, исходя из численного соотношения флота, идриот Томбазис, Яковос был провозглашён командующим объединённого флота, а его «Фемистоклис» стал флагманом флота[1]:B-101.
В тот же день, корабли Сахтуриса и Пиноциса захватили возле островка Инуссес турецкий корабль с паломниками, направлявшихся в Мекку на хадж. Среди паломников были Мисир-моласи (религиозный глава Египта) и несколько женщин. Всех турок, экипаж и паломников, включая Мисир-моллу и женщин, греческие моряки вырезали, как они заявили, «дабы отмстить за смерть и поругание тела патриарха Григория». У судовладельцев Идры уже не было пути к отступлению[1]:B-102.
Новый греческий огонь
24 мая 1821 года объединённая эскадра 40 греческих судов загнала в залив Эрессос, остров Лесбос отставший от турецкой армады одинокий линейный корабль. Это был двупалубный фрегат с 74 орудиями 40-фунтового калибра. Все попытки греческих судов подойти и потопить фрегат своими пушками 16-ти фунтового калибра заканчивались безрезультатно. Командование эскадры пришло в уныние. Если объединённый флот не может потопить одинокий османский линейный корабль, то как одолеть османский флот. Военный совет капитании пришёл к выводу, что единственный путь к достижению цели это использование брандеров, однако реального опыта с брандерами ни у кого не было.
В начале революции, капитан Г. Калафатис с Псара предложил Отечеству своё старое судно и переоборудовал его в брандер. В этом ему помог Иван Афанаса (вероятно Афанасьев). Доподлинно известно что он был русским, но как его занесло на Псара — неизвестно. На совете капитании был выслушан Г. Пататукас, получивший относительный опыт вооружения брандеров во Франции. Ему, совместно с Афанасьевым, было предоставлено судно для оборудования его в брандер. Одновременно был запрошен брандер Калафатиса, с Псара.
Первая попытка использования брандера была неудачной. Пессимизм и уныние охватил греческие экипажи. Вторая попытка 27 мая была предпринята брандером под командованием молодого Димитриоса Папаниколиса. На этот раз турецкий корабль был сожжён. С этой минуты минуты у греческого флота появился новый греческий огонь. Брандеры стали основным оружием греческого флота в боях с намного более сильным противником. Пантеон греческого флота пополнили несколько десятков капитанов брандеров. Хотя греки не были пионерами в использовании брандеров в парусном флоте, но только в годы Освободительной войны Греции 1821—1829 годов брандеры были использованы в таких больших масштабах, в любое время суток и против судов у причала, на якоре и на ходу[1]:B-106.
1821 год
Сразу после успеха Папаниколиса, объединённая эскадра подошла к берегу Малой Азии, где происходила резня греческого населения в Кидониес. В рукопашных схватках, 2-3 июня морякам эскадры удалось спасти и вывезти значительную часть населения города[20]
4 июля османский флот подошёл к острову Самос, но жители острова отбили высадку турок[1]:Δ-332.
8 июля корабли греческого флота сожгли в проливе Цангли, у малоазийского побережья, 1 османский корабль и 8 транспортов[1]:Δ-332.
Основная эскадра османского флота вышла в Эгейское море и 23 августа соединилась у острова Родоса с 14 египетскими кораблями, которыми командовал Измаил Гибралтар[1]:Δ-334. Попытка турецко-египетской эскадры высадить 27 августа десант на юге Пелопоннеса была отражена после чего эскадра доставила продовольствие осаждённым турецким гарнизонам крепостей Метони и Корони[1]:Δ-334. 7 сентября турецко-египетская эскадра доставила подкрепления в осаждённую повстанцами крепость Патры[1]:Δ-334.
22 сентября египетско-алжирская эскадра, насчитывавшая 30 бригов и 2 фрегата, под командованием Измаил Гибралтара, и ведомая английским кораблём подошла к Галаксиди. Немногочисленные защитники города продержались сутки. 23 сентября турки вошли в город и разрушили его. В гавани находилось 90 парусников и плавсредств разного типа и размеров, из которых 13 были вооружёнными. Разрушение Галаксиди на раннем этапе войны стало серьёзным ударом по революции и не оправдало надежд на роль его флота в ходе войны. Это объясняет и факт демонстрации трофейных кораблей из Галаксиди в Константинополе, 12 ноября 1821 года, в ходе которой султан наградил командующих османских флотов.
До этого восставшие потеряли ещё 2 морских центра — Энос на фракийском побережье и Иериссос на македонском побережье. Моряки и судовладельцы Эноса, среди которых самыми известными были Антонис Висвизис и его жена Домна Висвизи, оставили свои дома и с мая оказывали поддержку восставшим в Македонии, которыми руководили Эммануил Паппас и Стаматиос Капсас. После того как турки заняли полуостров Халкидики и полуостров Кассандра 30 октября[1]:Δ-335, для моряков Эноса их корабли стали единственными их домами.
1822 год
27 января османский флот, под командованием капудан-паши Кара-али (Насух-заде Али-паша) вновь вышел из Дарданелл. 30 января османский флот попытался взять крепость Ньокастро (Наварин) но атака осман была отбита. 17 февраля османский флот принял бой с греческой эскадрой под командованием Андреаса Миаулиса в Патрасском заливе. Этот морской бой был примечателен тем, что греческая эскадра, не имевшая линейных кораблей и располагавшая только вооружёнными коммерческими судами, решилась вести бой в соответствии с линейной тактикой противника. Бой закончился безрезультатно и османский флот укрылся на «нейтральном», находившимся под британским контролем острове Закинф[1]:Δ-337.
10 марта повстанцы Самоса, под руководством Ликурга Логофета, высадились на острове Хиос, правящие классы которого не желали присоединиться к освободительной войне Греции, боясь потерять свою безопасность и благополучие[21]. аргументируя это небеспочвенными опасениями о близости острова к Малой Азии[21].
Как только весть о восстании на Хиосе дошла до Константинополя, султан дал команду всем воеводам малоазийского побережья собраться в Смирне и Чешме. Отряды османов стали стекаться напротив Хиоса, сопровождаемые ордами черни, готовой участвовать в резне и грабеже. 24 марта из Константинополя во главе с капуданом-пашой Кара-али вышел османский флот, в составе 16 фрегатов, 18 корветов и бригов с войсками на борту. 30 марта османский флот появился у Хиоса. Флотилия псариотов препятствовала высадке турок из Чешме, но противостоять флоту была не в состоянии и отошла. В городе началась паника. Часть жителей уходила в села, другие остались, считая что не провинилась. Кара-али начал обстрел города всеми располагаемыми орудиями. Одновременно из крепости выступили турки и атаковали повстанцев, но самиоты повернули их назад. Однако, это был временный успех. Вскоре началась высадка с кораблей, и самиоты стали отходить. В это же время отряды и иррегулярные орды из Чешме, на всевозможных судах, начали высаживаться на острове. В последовавшей резне, около 70 тысяч из 120 000 жителей острова были убиты или обращены в рабство[22].
Корабли Константина Канариса и Константиса Никодимоса и других псариотов один за другим вывезли на Псара и другие острова около 40 тысяч беженцев[3]:159. 27 апреля в Псара сошлись флоты трёх островов[1]:Δ-338.
Ночная атака греческого флота против османского, 18 мая, в проливе между Хиосом-Малой Азией, была безрезультатной[1]:Δ-339.
6 июня капитаны Канарис и Пипинос совершили акт возмездия, атаковав османский флот на рейде Хиоса, во время празднования рамазана. В результате атаки греческих брандеров, турецкий флагман взлетел на воздух. Ещё 6 турецких кораблей были повреждены, 2 тысячи турок, включая капудана-пашу, Кара Али, были убиты.
20 июля объединённая турецкая, египетская и алжирская эскадры попытались взять островок Василади, прикрывающий лиман Месолонгиона, но их атака была отбита[1]:Δ-343.
В начале сентября османский флот попытался разрушить два самых значительных оплота греческого флота, который отразил эту попытку в сражении при Спеце. Османская армада насчитывала 6 двухпалубных линейных кораблей, 15 фрегатов, большое число корветов, бригов. В общей сложности 87 единиц. Объединённый флот 3-х греческих островов Идра, Спеце, Псара насчитывал 53 вооружённых корабля и 10 брандеров. Всё гражданское население острова Спеце, с его пологими берегами, удобными для высадки, перебралось на скалистую Идру. Только 60 специотов, которых возглавляли Мексис, Иоаннис и Анастасиос Андруцос, остались на острове поклявшись «быть погребёнными на родной земле»[23].
Мексис организовал 3 пушечные батареи, самая сильная из которых была установлена в Старой гавани. Османская армада появилась перед греческим флотом 8 сентября. Греческие корабли находились между Спеце и Идра. Армада сразу направилась к проливу между Спеце и Идра, чего командующий греческим флотом Миаулис Андреас-Вокос, не ожидал. Миаулис поднял сигнал «флот следует за адмиралом» и направился к берегу Пелопоннеса. Согласно греческим историкам, его план мог привести к катастрофе[23]. Но капитаны Цупас, Ламбру, Криезис, Антониос, Лембесис, Теодорис отказались следовать за Миаулисом и пошли навстречу армаде открыв огонь «на удивление врагам и друзьям». После этого, Миаулис развернулся и также пошёл на армаду, которая к тому времени вошла уже глубоко в пролив. Капитан Пипинос бросился со своим брандером на алжирский фрегат. Около 50 алжирских моряков, с хорошими морскими навыками, бросились на абордаж уже горящего брандера. Многие из алжирцев сгорели, но им удалось отогнать брандер от фрегата. Брандер сел на мель и сгорел, но не без пользы, внеся замешательство в османской линии и дав грекам передышку. С Идры, как в древности с Саламины (Битва при Саламине), старики, женщины и дети наблюдали за ходом боя[1]:В-276.
Исход сражения был ещё не ясен, когда в атаку пошёл брандер капитана Барбациса, находившийся в составе 18 кораблей, вставших перед Спеце и принявших основной удар османского флота. Подбодряемый экипажами других кораблей, Барбацис «превзошёл себя в этот момент». Кёсе Мехмет не выдержал атаки Барбациса и развернул свой корабль к выходу из пролива. За ним последовала вся армада, под возгласы греческих моряков и населения. Острова были спасены от смерти и порабощения[24].
Следует отметить эпизод, который произошёл сразу после этого сражения. 9 сентября у входа в гавань Идры встал флагман французской эскадры Средиземного моря. Адмирал де Вьела потребовал компенсацию в 35 тысяч пиастров за груз пшеницы с французского торгового судна, конфискованного греческим гарнизоном крепости Монемвасия. Остров не располагал такими деньгами и де Виела, сделав несколько выстрелов по острову, получил взамен 6 знатных турецких заложников, предназначенных для обмена[3]:177.
В конце сентября, корабли острова Касос, продолжавшие действовать независимо от единого командования и сохраняя свои полупиратские традиции, совершили дерзкий налёт на египетский город Дамьета (Думьят), где захватили 13 египетских торговых судов[1]:Δ-347.
В октябре османская армада скрылась в Дарданеллах[1]:Δ-347. 28 октября Канарис успел сжечь линейный корабль заместителя капудана-паши[1]:Δ-348.
1823 год
В конце января представители Идры, Спеце и Псара образовали общий политический фронт во временном правительстве[1]:Δ-350.
12 апреля османский флот, под командованием Хосрева (Коджа Хюсрев Мехмед-паша) по кличке Топал (хромой), вышел из Константинополя в Эгейское море[1]:Δ-351 и 2 мая соединился у острова Тенедос с берберийским флотом. Объединённый османский флот направился к малоазийскому побережью, где погрузил на корабли войска. Одновременно на остров Родос прибыла египетская эскадра. 24 мая Хосрев подошёл к югу острова Эвбея и высадил 4 тысячи янычар. Последовала резня населения подобная Хиосской[1]:Δ-352. После захода на Крит, османский флот доставил снабжение в осаждённые повстанцами крепости Корони и Метони и прибыл 12 июня в Патры[1]:Δ-353.
В те же дни корабли Псара, под командованием Г. Скандалиса, совершили налёты на малоазийский берег и на Лесбос и вернулись на свой остров с трофеями. 7 июля маленькая греческая флотилия, под командованием Пиноциса, встала у Трикери, который осаждали турки.
Тем временем (11 июля) Хосрев обстреливал Коринф и попытался высадить десант, но высадка была отбита[1]:Δ-354.
В середине июля псариоты взяли крепость Цандарли на малоазийском берегу и вывезли его пушки на свой остров, для укрепления обороны.
В конце июля флот Хосрефа вернулся из Ионического моря в Эгейское. Греческие корабли оставались на своих стоянках, в силу того что судовладельцы не получали компенсации, а моряки не получали жалованье и их семьи голодали. В обстановке, когда османский флот находился в Эгейском море, а греческий бездействовал, многие греческие острова были готовы капитулировать.
10 августа флот Псара, под командованием Николиса Апостолиса, первым вышел в море навстречу флоту Хосрева. За ними последовали корабли Спеце (30 августа) и Идры (31 августа). В начале сентября все 3 флота соединились у Псара, после чего 15 сентября последовало безрезультатное сражение с флотом Хосрефа у Афона[1]:Δ-355. 9 сентября флот Хосрева обстрелял остров Скиатос и 10 октября прибыл в порт Волос.
Между тем, в греческом флоте произошёл разлад и эскадра Спеце вышла из состава флота. Эскадры Идры и Псара следовали за османским флотом и 11 октября, у мыса Артемисио, где в древности произошла Битва при Артемисии, произошло морское сражение. В этом сражении не было победителей и атаки брандеров Канариса и Никодимоса оказались безрезультатны[1]:В-336.
Однако Хосреф, видя что в тесных акваториях Пагасского и северного Эвбейского заливов его флот находится в опасности, оставил борьбу, и 17 октября основные силы османского флота ушли в Дарданеллы, оставив 11 кораблей под защитой крепости Халкис. 5 кораблей Идры, под командованием Миаулиса, и 5 — Псара, под командованием Апостолиса, а также 2 брандера, не обращая внимание на огонь с крепости, смело атаковали турецкую флотилию. Видя это, турки подняли паруса и попытались уйти. Миаулис, гнавшийся за пятёркой турецких кораблей, захватил один из них, пятый был сожжён экипажем. 4 турецких корабля укрылись в бухте Св. Марина, на берег которой, для защиты своих кораблей, подошли османские войска. Бухта была мелководной и неудобной для манёвров, даже для брандеров. 2 греческих брандера были подожжены у входа в бухту. 1 из них волны вынесли на турецкий корвет, который был сожжён. Так бесславно завершилась 5-месячная экспедиция Хосрефа в Эгейское и Ионическое моря[1]:В-336. Хосрев представил султану бумаги, подписанные старейшинами многих островов об их капитуляции, но после ухода османского флота все эти острова перешли под контроль повстанцев[1]:В-337.
Египет на помощь турецкому султану
После греческих побед 1821—1822 годов на суше (Осада Триполицы, Битва при Дервенакии) и на море, верхушка Османской империи пришла к мысли о необходимости вовлечения в войну против восставших греков правителя номинально вассального Египта Мухаммеда Али, который располагал армией и флотом организованными европейцами. Но султан ненавидел Мухаммеда, который только номинально признавал его власть, и никто из окружения султана не решался сделать ему подобное предложение. На это решился только Хосрев, также ненавидивший Мухаммеда, и пострадавший от него во время своей службы в Египте. Мендельсон-Бартольди пишет:
[1]:В-337.«Хосрев, будучи доверенным султана и смертельным врагом Мухаммеда, сумел внушить султану, что война против греков истощит финансовые и военные ресурсы Египта и разрушит его армию, организованную европейцами. Если же, напротив, его армия победит греков, это оправдает внедрение новой военной системы и в Турции и, посредством этого, ограничение заносчивости чнычар. Следовательно, или в борьбе против Греческой революции будет разбит сильный и опасный подданный, или революция будет завершена и, одновременно, будет завершён преторианский институт янычар. В обоих случаях позиция Турции будет улучшена»
В начале января 1824 года в Египет был послан Недиб-эфенди, который «слёзно просил» Мухаммеда оказать содействие в подавлении Греческой революции. Султан обещал Мухаммеду Крит, Морею и пост командующего султанской армией Мухаммед сразу принял предложение султана поскольку это соответствовало его далеко идущим планам Мухаммед объявил что с началом экспедиции он задействует в ней 20 тысяч своих солдат и весь свой флот[1]:В-338.
Начало 1824 года
В середине февраля, временное греческое правительство заключило в Лондоне первый займ, на сумму в 800 тысяч фунтов. Это стало первым шагом вхождения ещё не созданного государства в сферу влияния Британии и и посредством этого укрепления позиции судовладельца идриота Лазаря Кундуриотиса и фанариота Александра Маврокордатоса[1]:Δ-359. Однако Кундуриотис не оказал помощь своему земляку Эммануилу Томбазису, возглавившего повстанцев Крита, куда высадился Хусейн-бей с албанскими и египетскими войсками, после чего Томбазис оставил Крит 12 апреля[1]:Δ-362.
Одной из первых целей египетского флота было разрушение четвёртого по рангу среди греческих флотских (сразу после Псара) — острова Касос. Касиоты долгие годы досаждали Египту, включая их дерзкий рейд в сентябре 1822 года на Дамиетту (Думьят), где они захватили 13 египетских кораблей. В октябре того же года, касиоты захватили 6 турецких кораблей возле острова Кипр и 5 возле города Александрия.
Первый разведывательный обстрел Касоса флот египтянина Измаил Гибралтара произвёл 14 мая. Касиоты, осознав угрозу, обратились за помощью к временному правительству, которое как и в случае с Критом, было занято междуусобными распрями. Ответное письмо правительства от 27 мая гласило: «в казне нет денег для жалованья экипажам, как только будут получены деньги займа». Однако, как позже писал в своих мемуарах адмирал Никодимос, Измаил-Гибралтар не ждал, пока у греческого правительства появятся деньги, чтобы оказать помощь Касосу[25].
Разрушение Касоса
Флот Измаил-Гибралтара появился снова 27 мая, на этот раз на борту кораблей было 3000 солдат Хусейн-бея. Касиоты ждали их за наспех сооруженными бастионами на побережье Св Марины — самом удобном месте для высадки. Двое суток корабли Измаил-Гибралтара обстреливали касиотов, выпустив в общей сложности около 4000 ядер. К концу вторых суток 14 шлюпов с войсками предприняли высадку. Касиоты ринулись отражать высадку. Но с наступлением сумерек Хусейн-бей с 2000 солдат на 24 шлюпах высадился у скал Антиперато, которые защищали только 6 касиотов. Разделавшись с ними, турки, ведомые предателем-касиотом, на заре вышли в тыл защитникам Св. Марины. Никакой надежды у защитников не осталось. Часть из них разбежалась, пытаясь каждый в отдельности спасти свою семью, часть сдалась.[26]. Только 40 защитников под командованием Маркоса Маллиаракиса, он же Дьяк Марк, сразились до конца и пали до последнего. Резня населения продолжалась 24 часа и прекратилась только по приказу Измаила. Погрузив на свои и захваченные 15 касиотских кораблей 2000 жителей, Измаил отправил их на невольничьи рынки Египта. Кроме того, у Измаила не хватало моряков и 500 касиотам пришлось принять предложение служить на его кораблях в обмен на право выкупа своих семей. Остров стал практически необитаемым.
Холокост Псара[27][28][29]
Перед началом операций 1824 года султан велел принести ему карту империи. Султан молча ногтем соскоблил точку на карте под названием Псара, выразив свою волю покончить со скалой, которая препятствовала его господству в Архипелаге. Эта точка на карте мешала и левантийцам, поскольку создавала проблемы в торговле. 12 декабря 1823 года европейские консулы в Смирне, в своем письме старейшинам острова, требовали прекращения досмотров и конфискаций судов в заливе Смирны, иначе «это повлечет возмездие крупнейших европейских сил»[30]. Вскоре французский корвет произвел замеры глубин у Псара и передал их туркам[31].
Флот Хосрева вышел из Дарданелл в апреле 1824 года. Перед ним были поставлены две задачи: разрушение островов Псара и Самос. Его флот состоял из 2 двупалубных 74-пушечных линейных кораблей, 5 фрегатов, 45 корветов, бригов, шхун и 30 транспортов. В общей сложности 82 корабля, на борту которых также было 3 тысячи янычар и албанцев. Хосрев зашёл в Салоники, где принял на борт дополнительные войска, после чего направился к Малоазийскому берегу, где принял ещё 11 тысяч войск. После этого османский флот встал на якоря у в 40 милях от Псара. Хотя цели Хосрефа были очевидны, по только ему известным соображениям, Г. Кунтуриотис, получив известия о разрушении острова Касос, направил флотилии к Касосу, чтобы убедится в его разрушении. 16 июня, 18 кораблей из Спеце и 17 из Идры направились к Касосу. Если бы флотилии были направлены к Псара, то они бы успели к атаке Хосрефа 20 июня. «Правительство Г. Кунтуриотиса совершило непоправимую и непростительную ошибку»[32].
Псариотам было очевидно, что предстоит противостоять всему султанскому флоту. 8 июня было созвано собрание в храме Св. Николая. Было 3 предложения: 1 — оставить остров; 2 — если подойдут флоты Идры и Спеце, сразиться на море; 3 — если идриоты и специоты не подоспеют. Псариоты считали, что следует искать победу на море, даже в одиночку. Беженцы и горцы боялись, что в критический момент псариоты бросят их на острове. Преобладало мнение вторых. Остров будет оборонятся на побережье. Корабли были разоружены. Для спокойствия были сняты кормила всех судов, за исключением 9 брандеров и 4 бригов сопровождения. Пушки, общим числом 173, были распределены по батареям побережья.
16 июня 17 турецких кораблей прошли прошли между Псара и островком Антипсара. 18 июня прибыл французский голет «Amaranthe» с предложением от Хосрефа: «во избежание лишнего кровопролития, псариотам погрузится на корабли и покинуть остров» А. Монархидис, представляя парламент Псара, ответил французскому капитану, что «верные своей клятве, мы останемся здесь сражаться».
В разрушении Псара приняли участие 253 кораблей, больших и малых[33]. Многие из транспортов были без флагов, так соблюдался нейтралитет европейских стран. На борту флота было 15 тысяч солдат (Никодимос пишет, что их было 28 тысяч). Большинство из лоцманов были европейцами. Основные силы флота направились к заливу Каналос, туда, где раннее французский корвет провел замеры глубин. После боя, продлившегося день, высадка была отбита.
Высадка повторилась на следующий день, 21 июня. Французский голет Amaranthe наблюдал за боем с дистанции и, как писал Клод Раффенель: «французские офицеры признавались, что они никогда до сих пор не видели столь страшной атаки и столь мужественной обороны». Турецкая атака захлебнулась. Amaranthe вошёл в гавань. Капитан предложил парламенту Псара перебраться на его голет, под защиту французского флага. Но цель этой филантропии была очевидна: сломить дух псариотов и была отклонена — «скажите капитану, что конец сражения, каков бы ни был его исход, встретит нас здесь на том же месте»[34].
Хосреф и его европейские советники, видя безрезультативность атак, дали команду транспортам выйти из линии и направиться к обрывистому северному побережью. 3 тысячи турко-албанцев вышли в тыл греческих бастионов. Защитники бастионов держались 3 часа, подвергаясь атаке с 2 сторон. Турецкую колонну уже в 10 тысяч человек, попыталась остановить в часе ходьбы от городка, наспех собранная группа псариотов, но малая числом и при отсутствии организованных позиций не смогла надолго задержать турок. В городке началась паника, особенно среди беженцев из Хиоса, Кидонии и других мест, вновь становившихся жертвами резни в течение двух лет.
Немногочисленные моряки, установив вместо рулей всевозможные конструкции, пытались вывести в море груженные беженцами по ватерлинию суда. Османский флот с запада подходил к гавани, но увидев что выходят брандеры, турки испугались и стали маневрировать. Это дало возможность многим кораблям псариотов ускользнуть. Многие греческие суда с беженцами были взорваны экипажами чтобы не попасть в руки турок. 16 бригов и 7 брандеров смогли пробиться между турецкими кораблями, но маленьким гребным судам это не удалось. Женщины с детьми и младенцами бросались в море, чтобы не попасть в руки туркам и тонули. Капитан французского корвета Isis насчитал «на расстоянии всего лишь 120 м 30 трупов женщин и детей».
Оборона Псара завершилась взрывом погреба защитников скалы Палеокастро 22 июня. Защитники островков Св. Николая и Даскалио продержались до 26 июня. Из 6500 жителей Псара выжили 3614. Около 400 мужчин и 1500 женщин и детей были убиты, 1500 попали в рабство. Из 24 тысяч беженцев из других островов выжила только половина. Считанное число мужчин псариотов попало туркам в плен Турки понесли серьёзные потери. Цифры в 12 тысяч убитыми выглядят нереальными. Сам Хосреф признал, что он потерял 3500 человек убитыми. Реальные цифры вероятно чуть выше цифр Хосрефа. Хосреф был вынужден отложить высадку на Самос и ушёл на Лесбос.
В отличие от Хиосской резни, события на Псара в греческой литературе и историографии именуются «Холокост Псара», в соответствии с первоначальным греческим значением слова (полное сожжение/жертва за идеалы[35] и под этим именем, каждый год, на острове отмечается юбилей Холокоста[36][37]
Оплакав погибших и поселив выживших женщин и детей в крепости Монемвасия, псариоты стали готовить свои уцелевшие корабли к выходу. Потеряв свой остров и тысячи близких и соотечественников, флот псариотов, под командованием адмирала Николиса Апостолиса, насчитывая 10 вооруженных судов и 5 брандеров под командованием Канариса, Папаниколиса, Никодимоса, Врацаноса, Врулоса, продолжил своё участие в войне.
Вторая половина 1824 года
После разрушения Псара, турецкий флот стал готовиться к высадке на остров Самос.
Флот псариотов, вышедший к Самосу, под командованием адмирала Николиса Апостолиса, насчитывал 10 вооружённых торговых судов и 5 брандеров под командованием капитанов Константина Канариса, Папаниколиса, Константиса Никодимоса, Врацаноса, Врулоса.
Флот Идры был разделён на две эскадры:
- Первая, 29 вооруженных судов, пошла на юг, на перехват египетского флота.
- Вторая пошла к Самосу под командованием Георгия Сахтуриса, имея в составе 21 вооруженных судов и 4 брандера, под командованием капитанов Цапелиса, Рафалиаса, Роботиса и Ватикиотиса.[38]
Третьим к Самосу направился флот Спеце под командованием адмирала Георгия Коландруцоса. Флот специотов насчитывал 15 вооруженных судов и 2 брандера, под командованием капитанов Мусоса и Матрозоса[1]:Γ-22.
30 июля эскадра Сахтуриса обнаружила турецкую флотилию западнее Самоса, между островками Фурни и островом Икария. В то время как высадка ожидалась с востока, флотилия шла с запада к Карловаси. Турецкая флотилия насчитывала 20 судов и 30 каиков с солдатами. Сахтурис пошёл на перехват и, как в древности, на таран. Турецкие суда были потоплены или захвачены. Погибло около 2 тысяч турок. Уцелевшие с одного каика, в знак сдачи в плен целовали форштевень судна капитана Лазароса. После этого успеха, флот идриотов прошёл вдоль северного берега острова, вошёл в пролив Микале, где на азиатской стороне 5 тысяч турок готовились к посадке на лёгкие суда. Увидев приближение греческого флота, турецкие суда спешно ушли за мыс Св. Марина, под прикрытие турецкого флота.
Первое и второе сражение в проливе Микали были безрезультатными. В третьем, под угрозой брандера Канариса, турки бежали из пролива. В четвёртом сражении в проливе, 5 августа, в течение трёх часов, греческие брандеры уничтожили 3 линейных корабля, на которых помимо экипажей погибло и 2 тысячи солдат. Турецкий флот бежал из пролива на юг.
20 августа 1824 года, между островами Патмос и Калимнос, встретились 1-я и 2-я эскадры Идры, 1-я и 2-я эскадры Спеце и флот Псара. Это было самое большое соединение флота с начала революции: 70 вооруженных судов, 5 тысяч моряков и 800 пушек.
Османский флот соединился на Додеканесе с флотами Египта, Алжира, Туниса и Триполи и насчитывал более 100 боевых кораблей: флагманский линейный корабль Хосрефа, 25 фрегатов, 50 корветов и бригов. Согласно французскому адмиралу Жюрьену де ла Гравьеру, сюда следует добавить и 400 транспортов. На борту мусульманского флота было 8 тысяч моряков, 2 тысячи пушкарей. Европейцы составляли значительную часть офицеров египетского флота. На борту транспортов находилось 16 тысяч солдат. Хосреф уяснил Ибрагиму, приемному сыну правителя Египта, возглавлявшего египетскую армию и флот, что целью экспедиции по прежнему остается Самос — последний греческий оплот в восточной части Эгейского моря.
В последовавшем самом большом морском сражении войны Сражении при Геронтас, 29 августа османский и египетский флоты насчитывали 86 кораблей и флоты противников вели огонь из 3 тысяч пушек. Греческие брандеры потопили в этом сражении бриг и тунисский флагман, 44 пушечный фрегат, построенный в Марселе. На борту последнего, кроме 500 моряков, было 800 солдат и европейских офицеров. После этого турки потеряли дух и флагманские корабли Хосрефа, Ибрагима, Измаил-Гибралтара и Алжира спешно покинули сражение.
Но опасность для Самоса ещё не миновала. 6 сентября 200 турецких кораблей, из которых 90 больших, попытались вновь высадиться на Самосе. При минимальных запасах боеприпасов и без брандеров, Миаулис дал приказ отойти и встать перед Самосом. Было поднято для обороны и все население острова. К вечеру разразилась гроза. Турецкий флот оказался в открытом море и стал искать убежище. Турецкие корабли разбежались, многие вернулись в Бодрум. Самос был спасен в очередной раз.
Флот Хосрефа сильно отличался от того, что вышел в Эгейское море 6 месяцев тому назад. Он потерял при осаде Псара, в Самосском сражении, в Сражении при Геронтас десятки кораблей, тысячи моряков и пушкарей. Оставшиеся корабли были потрепаны. Оставив Ибрагиму 15 лучших кораблей, Хосреф торопился скрыться в Дарданеллах, убегая от посланных Миаулисом вдогонку нескольких греческих кораблей. 25 сентября Миаулис настиг турко-египетский флот. В ночном бою греческие брандеры сожгли турецкий бриг. Флот Ибрагима был в панике, в результате которой многие корветы и бриги были выброшены или разбились на побережье Лесбоса[39].
После этого сражения греческий флот вернулся, на всякий случай, к Самосу и Ибрагим был вынужден вернутся в Кос. Когда на Кос прибыли транспорты из Александрии с ещё 5 тысячами солдат, Ибрагим принял решение прекратить затею с Самосом и идти на Крит, а оттуда высаживаться на Пелопоннес, который с самого начала был основной целью его экспедиции. Преследуя Ибрагима до Крита, греческий флот дал ещё один бой у этого острова, 28 октября. Κапитан Стипас и капитан Матрозос пристали один за другим к египетскому бригу и хотя бриг не сгорел, картина горящих брандеров вынудила Ибрагима поднять сигнал «salva chi salva» (спасайся кто может).[40].
С этого момента флот Ибрагима обуяла паника. Корабли Ибрагима разбежались кто куда: на островок Спиналога, на острова Касос, Карпатос, Родос, а некоторые дошли до Александрии. Возле острова Касос, «Афина» Сахтуриса, «Арес» Миаулиса и «Фемистокл» Томбазиса нагнали и захватили 4 из 5 транспортов под европейскими флагами. Горькая ирония была в том, что из захваченных транспортов английский назывался Одиссей, а австрийский Сократ.
В сентябре вернулся из России уже седой ветеран Орловских событий, псариот Иоаннис Варвакис. Варвакис взял на себя попечительство над оставшимися без родины земляками и флотом Псара[1]:Δ-367. Однако суммы предложенные Варвакисом правительству, вместо готовившегося нового займа в Англии, нарушали ориентацию страны, согласно планам Маврокордатоса. Маврокордатос объявил Варвакиса агентом России. Отчаявшись от подобной встречи его дара, Варвакис решил покинуть Грецию. На обратном пути, старик Варвакис умер в транзитном карантинном посту, находящегося под британским контролем острова Закинф[1]:Δ-369. 26 января 1825 года в Лондоне был подписан второй займ на сумму в 2 млн фунтов[1]:Δ-369.
1825 год
Воспользовавшись греческой междуусобицей Ибрагим в феврале и марте высадил свои войска на юге Пелопоннеса[1]:Г-370.
2 эскадры греческого флота выступили только 18 марта. Эскадра Миаулиса вышла встречать врага у Крита и в Ионическом море. Эскадра Сахтуриса в Эгейском море[1]:Г-371.
30 марта Миаулис арестовал у Превезы австрийские суда перевозящие грузы для османской армии. 17 апреля Миаулис сразился у острова Гавдос с эскадрой, шедшей из Египта, под командованием Халил бея. Сражение не имело победителей.
26 апреля две эскадры турецко-египетского флота, насчитывающие 97 кораблей, блокировали входы в Наваринскую бухту. Адмирал Цамадос и около 100 моряков и офицеров высадились на острове Сфактерии, с целью усилить батарею в ведении ею и крепостью Ньокастро перекрёстного огня. Османские суда начали обстрел своими 700 пушками и 50 фелюг с десантом, под командованием Сулейман Бея (французского полковника де Шеф) направились к острову. Под давлением турецкого флота и десанта, разношёрстные защитники острова начали отступать. Адмирал Цамадос, капитан Ставрос Сахинис и граф Сантароза держали оборону в течение часа, а затем попытались прорваться к греческим судам. Все трое погибли при прорыве.
Видя исход сражения на Сфактерии, греческие корабли (6) стали выходить из бухты. Всем удалось уйти. Последним прорвался с боем, через строй всего турко-египетского флота, бриг «Арес», написав одну из самых славных страниц в истории греческого флота[1]:Г-81. Эскадра Миаулиса, избегала боя с линейными египетскими кораблями и наблюдала за событиями на расстоянии, довольствуясь только перехватом транспортов и выискивая случай для атаки брандерами.[41] На тот момент Миаулис располагал только двумя брандерами. На следующий день прибыло ещё 4 брандера.
30 апреля Миаулис совершил Рейд на Метони При приближении греческих кораблей, капитаны турецких кораблей и австрийских судов дали команду рубить якорные канаты. Нескольким судам удалось снятся и уйти, но основная часть турецких кораблей оказалась запертой в Метони. Все 6 брандеров пошли в атаку одновременно. Пламя пожаров в течение пяти часов освещало ночью Метони. В какой-то момент показалось что взрывы охватили и саму крепость, но это взлетела на воздух двух-палубная «Азия» с её 60-ю орудиями. В своем рапорте Миаулис доложил, что было сожжено 2 фрегата, 3 корвета и все находившиеся в Метони бриги и транспорты. Никогда раннее флоту повстанцев не удалось в один вечер нанести такой урон турецкому флоту, но, будучи реалистом, Миаулис дописал в своем рапорте: «будем считать, что нам ничего не удалось, что опасность для Греции остаётся опасностью, если мы не продолжим наносить многократные удары по нашему сильному врагу».
С другой стороны этот рейд, как и «Леонидово сражение», которое дал Папафлессас при Маниаки через 20 дней, лишили Ибрагима и его европейских советников их иллюзий, что им удастся легко и быстро добиться того, что не удалось туркам и албанцам в течение четырёх лет — усмирить восставшую Грецию[1]:Г-81.
13 мая из Константинополя выступила эскадра Хосрефа со снабжением для армии Кютахья Решид-Мехмед-паша, осаждавшем Месолонгион[1]:Δ-372. Флот насчитывал 4 фрегата, 10 корветов, 38 бригов и 8 транспортов, под австрийским и сардинским флагами[42]. Хосреф помнил свои поражения в 1824 году и пытался избежать встречи с греческим флотом.
18 мая 2-я эскадра греческого флота (10 кораблей Идры, под командованием Георгиоса Сахтуриса, 10 Спеце, под командованием Коландруцоса и 9 Псара, под командованием Николиса Апостолиса) находилась у острова Скирос. Командовал эскадрой, согласно рангу островов, Сахтурис. Сахтурис поднял сигнал к «бою». Османские бриги, многие из которых были захвачены турками на острове Псара выстроились в линию. Сахтурис пошел на турецкие корабли, направившиеся к Эвбейскому заливу и городу Каристос. Специоты, ведомые своим флагманом «Панкратион», последовали за ним. Псариоты направились к двупалубному линейному кораблю Хосрефа.
20 мая состоялось Сражение при Андросе. Οдин из турецких фрегатов, получив серьёзные повреждения, остался практически без движения. Это был «Хазине гемиши», двухпалубный фрегат, 64 пушки, экипаж 650 человек. На борту фрегата также находились 150 артиллеристов, посланных на осаду Месолонгиона, большое количество боеприпасов и плоты, для войны в лагуне Месолонгиона. На борту фрегата находилась и казна флота. Хотя «Хазине гемиши» нес вымпел флагманского корабля, сам Хосреф находился на другом фрегате, опасаясь греческих брандеров. Сахтурис не упустил момент и атаковал фрегат, имея рядом брандер капитана Матрозоса со зловещим именем Харон и брандер капитана Лазароса Мусью. На помощь «Хазине гемиши» бросились османский фрегат и корвет. Брандеры, под огнём, пристали к фрегату с двух бортов и фрегат, полный боеприпасов, взлетел на воздух. Хосреф продолжал бой, когда брандер Цербер капитана М. Бутиса взорвал корвет (26 пушек ,300 человек экипажа). После этого Хосреф потерял хладнокровие и отступил. Османская армада вышла из пролива и разбежалась. Специоты захватили 5 австрийских транспортов с боеприпасами. За одним османским корветом была устроена погоня до острова Сирос. Экипаж выбросил корвет на песчаный берег. Жители Сироса взяли в плен 200 человек экипажа. Обнаружив среди них 25 европейцев, сиросцы «обласкали» их, но не убили[1]:Г-157.
Эта греческая победа задержала морскую блокаду Месолонгиона и доставку подкреплений и боеприпасов турецкой армии. Армада потерпела поражение, но не была разгромлена. Армада Хосрефа собралась в заливе Суда, на Крите, где соединилась с подошедшей из Египта новой эскадрой, под командованием Джеджи Хусейна[1]:Δ-373, дошла до Патраского залива, доставила подкрепления, боеприпасы и продовольствие и приступила к своей основной задаче, блокаде Месолонгиона с моря. 30 мая, маленькая греческая флотилия, под командованием капитана Негаса, пробилась через кольцо блокады Месолонгиона. Эскадра Миаулиса дала бои с турко-египетстким флотом 31 мая и 2 и 3 июня, на выходе из Суды, в ходе которых греческий брандер сжёг египетский корвет.
16 июня состоялось сражение двух флотов у мыса Малеас, на юге Πелопоннеса. Бой закончился без победителей[1]:Δ-374.
Турецко-египетский флот высадил 23 июня подкрепление и снабжение в Наварине а 26 июня дошёл до Патраского залива, доставил подкрепления, боеприпасы и продовольствие и приступил к своей основной задаче, блокаде Месолонгиона с моря[1]:Δ-375.
Месолонгион
8 июля 1825 года Хосреф послал шлюпки, вооруженные пушками, в лагуну и захватил островок Прокопанисто. 9 июля осаждённые, также вооружили пушками шлюпки, чтобы противостоять флотилии Хосрефа. Флотилии сошлись в бою на следующий день, но без победителей[1]:Δ-375.
23 июля греческий флот, под командованием Миаулиса, Коландруцоса и Сахтуриса прорвал морскую блокаду, установленную Хосрефом, потопил один и захватил второй турецкий корабль и, главное, снабдил осаждённых продовольствием и боеприпасами[1]:Δ-378.
25 июля вооружённые шлюпки греческого флота уничтожили шлюпки-канонерки Хосрефа в лагуне. 29 июля Κанарис, командуя брандером, предпринял попытку сжечь египетсткий флот на его базе в Александрии. Только зоркость офицера французского корабля стоявшего в Александрии спасла египтян от катастрофы[1]:Δ-379. 25 сентября бриг «Паламидас» капитана Лалехоса прорвал блокаду и снабдил осаждённых.
В середине октября, после того как стало очевидно, что султанские войска Кютахьи не могут взять Месолонгион, султан был вынужден вновь обратиться за помощью к Мухаммеду-Али, с тем чтобы Ибрагим направился к Месолонгиону. 24 октября в Наваринский залив прибыл мощный турецко-египетский флот из 135 кораблей, из которых 79 боевых, один из них паровой. Это был первый пароход, появившийся в греческих водах. На борту кораблей прибыли египетские подкрепления: 8 тысяч регулярных солдат, 800 иррегулярных и 1200 кавалеристов. 2 ноября объединённый турецко-египетский флот (113 кораблей) под командованием Хосрефа вышел из Наварина и направился к Месолонгиону куда прибыл 6 ноября[1]:Δ-381.
13 ноября греческий флот подошёл к Месолонгиону. Произошло несколько морских сражений без победителей между островом Закинф и мысом Папа. 23 ноября греческий флот снабдил Мессолонгион небольшим количеством продовольствия и 30 ноября ушёл, а турецко-египетский флот остался блокировать Мессолонгион с моря.
1 января 1826 года маленькая эскадра под командованием Миаулиса вышла из Идры на Месолонгон. 7 — 9 января эскадре Миаулиса (19 кораблей и брандеров) удалось прорвать морскую блокаду и снабдить город в последний раз. Миаулис предложил забрать женщин и детей, чтобы облегчить продовольственную ситуацию, но гарнизон не захотел расстаться с семьями, тем более, что никто не брал на себя заботу о семьях.
15 января брандер капитана Политиса сжёг на рейде Мессолонгиона турецкий корвет. В тот же день капитан английского корвета «Rose» передал осаждённым предложение Хосрефа о сдаче, но гарнизон отклонил предложение. 16 января греческий флот сразился с турецко-египетским в Коринфском заливе. Турки впервые использовали брандеры, но управляли ими с такой опаской и нерешительностью, что грекам удалось захватить один из них. Выгрузив все остатки и собственные запасы продовольствия, 25 января греческий флот ушёл. 12 февраля 12 турецких кораблей вошли в лиман и встали у островка Василади[1]:Δ-382.
14 февраля в лимане встали ещё 20 турецких кораблей. 16 февраля 32 вооружённые шлюпки ещё теснее блокировали Мессолонги. 25 февраля турки запустили в лиман новую флотилию шлюпок и плоскодонок, вооружённых пушками. Пароход буксировал целый конвой плотов с пушками. В лимане образовалась турецкая флотилия, насчитывающая 75 вооружённых плавсредств. 26 февраля турки трижды атаковали и наконец взяли островок Василади — основной бастион, прикрывавший Мессолонги с моря[1]:Δ-383.
28 февраля пришёл черёд островка Долмас, прикрывавшего рыбацкое село Этолико. После падения Долмаса, рыбаки Этолико заключили сепаратный мир и сдались 1 марта[1]:Δ-384. В Месолонгионе наступил голод.
1 апреля у острова Кефалиния сошлись 22 греческих брига, 2 голета и 5 брандеров. С этими силами, 2 апреля, Миаулис дал непродолжительное сражение у мыса Папа с турецко-египетским флотом (48 линейных кораблей), пытаясь прорвать блокаду. В ночь с 2 на 3 апреля Миаулис попытался доставить снабжение шлюпками через лагуну, но опять без успеха. 4 апреля Миаулис заявил комитету гарнизона, что нет никакой возможности снабдить город продовольствием[1]:Δ-385.
В ночь с 10 на 11 апреля, защитники Месолонгиона совершили прорыв. Из 3 тысяч участников прорыва, живыми вышли 1250 бойцов, 300 гражданских лиц и только 13 женщин.
1826 год
15 июня австрийский корвет обстрелял 2 греческих судна у острова Лесбос.
20 июля египетский флот начал обстрел побережья Мани. 22 июня новая турецкая эскадра вышла из Дарданелл и соединилась с египетским флотом в Наварине[1]:Δ-387.
30 июня ещё более мощная турецкая эскадра вышла из Дарданелл с задачей покорить наконец Самос. Одновременно в Эгейское море вошла австрийская эскадра под командованием адмирала Амилкара Павлучи, который не скрывал свои враждебные намерения по отношению к восставшей Греции.
В конце июня жители Спеце оставили свой остров и перебрались на Идру, для безопасности. Австрийский флот произвёл высадку на острове Миконос, сжег одно судно и вынудил жителей острова выплатить компенсацию за ущерб нанесённый австрийским судам. Богатые судовладельцы Идры были готовы бежать с острова, но бегство было пресечено народом. 9 июля австрийскиая эскадра захватила на острове Тинос 2 греческих вооружённых судна. Невзирая на эту обстановку и сконценрировавшись на своей основной задаче греческая эскадра под командованием Г. Сахтуриса отправилась к Самосу чтобы защитить остров от возможной османской высадки[1]:Δ-388.
Тем временем, 12 июля, австрийцы обстреляли бриг «Фемистокл» капитана С. Фокаса и нанесли ему серьёзные повреждения.
15 июля эскадра Г. Сахуриса дала бой османскому флоту у Самоса. Бой закончился без победителей и был повторен 16 июля, но опять без победителей.
Австрийская эскадра, продолжая терроризировать острова Αрхипелага 11 августа обстреляла остров Наксос высадила десант и вынудила островитян выплатить компенсацию за «ущерб, причинённый пиратами австрийским судам».
23 августа на помощь эскадре Сахтуриса подошла эскадра Миаулиса, с 13 кораблями Идры и 8 кораблями Спеце. В ночь с 27 на 28 августа состоялся бой греческих эскадр с османским флотом у острова Лесбос. Бой закончился без победителей. Аналогичным образом закончился бой в ночь с 29 на 39 августа[1]:Δ-390.
25 сентября у острова Лесбос состоялся бой немногих кораблей Идры под командованием Миаулиса и Псара под командованием Апостолиса против 64 кораблей Тахир-паши. Бой закончился без победителей[1]:Δ-391.
Фрэнк Гастингс и «Картериа»
Британский морской офицер Фрэнк Гастингс прибыл добровольцем в Грецию в 1822 году, служил артиллеристом на борту корвета капитана Яковоса Томбазиса. Гастингс видел, что флоту греческих повстанцев, состоящему из лёгких вооружённых торговых судов, тяжело противостоять османскому флоту, состоящему из больших линейных кораблей и в 1823 году показал лорду Байрону меморандум, который был представлен греческому правительству в 1824 году. Меморандум содержал революционные предложения в вопросах артиллерии и тактики. Суть предложений Гастингса заключалась в использовании появившихся недавно паровых кораблей, вместо парусных, и использовании артиллерийского огня и калёных ядер вместо проблематичных брандеров.
В 1824 году Гастингс поехал в Англию и заказал маленькое парусно-паровое судно «Картериа» (греч. Καρτερια — Выдержка, Настойчивость) — первое паровое судно греческого флота. «Картериа» стала первым паровым судном во всемирной военно-морской истории, принявшее участие в военных действиях[43]. Его водоизмещение было всего 233 тонн, мощность паровой машины 80 л. с., и без помощи паруса скорость «Картерии» в лучшем случае достигала 6 узлов. Но 4 его орудия 68-фунтового, самого мощного, калибра были новейшего образца. По заказу Гастингса судно было оборудовано установкой, позволяющей накаливать ядра и использовать их как зажигательные ракеты. Строительство корабля шло под надзором Гастингса и, чтобы не задерживать строительство Гастингс потратил своих £7000, пока не пришли деньги из займа полученного греческим правительством. В конце 1825 года строительство было завершено, и Гастингс перегнал судно в Грецию. Картериа осталась единственным кораблём серии заказанных 6 подобных судов принявшим участие в войне[44][45]. «Картериа» прибыла в Нафплион 3 сентября 1826 года.
Фрегат «Эллада»
В то время как Франк Хэстингс предложил строительство парового военного флота, Миаулис Андреас-Вокос настойчиво просил усиления парусного флота[46]. Было принято решение потратить на строительство флота второй лондонский займ[8]:91.
24 августа 1824 года филэллинский комитет, Лондона, дождавшийся решения греческого правительства, начал переговоры о приобретении ряда боевых кораблей. Среди прочих связались и с W. Bayard — председателем филэллинского комитета Нью-Йорка и управляющего судостроительным концерном Leroy, Bayard and Co. Для заключения контракта в Нью-Йорк был послан французский филэллин Lallemand, офицером кавалерии, и которому было назначено месячное вознаграждение в 120 золотых фунтов[1]:Γ-278.
Было принято решение построить два 60-пушечных фрегата и 6 кораблей поменьше, в течение 6 месяцев, на общую сумму 155 000 фунтов. Lallemand обналичил чек в 120 000 фунтов, но поддался на уговоры судостроителей строить корабли не по согласованной конечной цене, а по отчётной стоимости[1]:Γ-279. 15 июня лондонский комитет, который управлял частью займа, ратифицировал заказ на строительство двух фрегатов, дав им имена «Элпис» (греч. Ελπίς — «Надежда») и «Сотир» (греч. Σωτήρ — «Спаситель»). Сразу же, концерн незаконно передал строительство подрядчикам, и информировал греческое правительство, что корабли не будут сданы ранее ноября 1825 года, перенеся затем и эту дату на март 1826 года[47]. Позднее концерн потребовал для продолжения строительства ещё 50 000 фунтов.[47]
Греческое правительство, исчерпавшее фонды, послало в Нью-Йорк коммерсанта А. Контоставлоса. На встрече с представителями Bayard, Контоставлос получил требования, согласно которым Греция должна была выплатить для окончания строительства одного фрегата 396 090 долларов. Более того, американцы шантажировали Контоставлоса, ссылаясь на параграф закона, принятого 20 апреля 1818 года, согласно которому если кто-либо заказывал в США судно, которое в могло быть использовано против государства, с которым США находится в мире, то он (заказчик) подвергался штрафу и ему угрожало тюремное заключение сроком до 3 лет. Строители потребовали дополнительно 50 000 фунтов, угрожая в противном случае конфискацией кораблей. Контоставлос обратился к юристам, но не нашёл поддержки, после чего, имея на руках рекомендательное письмо Адамантиоса Кораиса, вышел на конгрессмена Эверета. Эверет проявил интерес к делу, и устроил встречу с президентом США Джоном Адамсом.[48].
После вмешательства Президента Конгресс решил купить один из фрегатов, чтобы судостроители разрешили отбытие другого. Однако судостроители снова стали создавать проблемы. Контоставлос был вынужден обратится в арбитражный суд. Последовавшее судебное решение было не в пользу греческого правительства, фактически оправдав действия судостроителей, однако сумма требований была снижена с 396 090 до 156 859 долларов. Необъективность суда и его председателя J. Pratt была настолько очевидна, что местные газеты, в частности, «Нью-Йорк Таймс», протестуя против решения, иронично называли его «американским Соломоном». Один из двух фрегатов — «Элпис», в дальнейшем «Эллада», ушёл в Грецию, второй был куплен американским правительством. Фрегат «Эллада» прибыл в Навплион 24 ноября 1826 года[1]:Δ-395.
Первые успехи «Картерии» и «Эллады»
Командуя «Картерией», Гастингс 24 — 25 января 1827 года принял участие в боях у Пирея (высадка десанта на полуостров Кастелла и обстрел турок в бухте Пирея)[1]:Δ-396.
3 марта Миаулис, командуя фрегатом «Эллада» и при помощи «Картерии», под командованием Гастигса, захватили в Οропос в южном Эвбейском заливе 2 османских транспорта[1]:Δ-397.
В апреле 1827 года «Картериа», под командованием Гастингса, в составе малой флотилии приняла участие в обстреле города Волос, потопил 3 транспорта и захватил 5. При выходе из залива Пагаситикос обнаружил в Трикери 4 турецких корабля, под прикрытием береговых батарей. Гастингс, используя впервые в мировой военно-морской истории калённые ядра, сжёг их[1]:Δ-398.
По этому поводу английский историк Финлей писал:
Гастингс совершил революцию в морской войне. Он также доказал, что греческие экипажи могут применять эти опасные снаряды с полной безопасностью.
Томас Кокрейн
С начала Освободительной войны Александр Маврокордатос и судовладельцы Идры и Спеце предприняли шаги для ориентации, ещё не воссозданного, государства на Британию. В августе 1825 года англофилы Орландос и Луриотис, посланные в Англию для получения займа, вышли на английского авантюриста адмирала Томаса Кокрейна. Чтобы «спасти Грецию», Кохрейн потребовал и получил командование флотом и 57 тысяч фунтов, из них 37 тысяч авансом. Лишь через два года после получения требуемого, Кохрейн добрался до Греции (греческие источники отмечают, что хватило бы и 2 месяцев[1]:Г-330). Через несколько месяцев пребывания в Лондоне он запросил яхту, чтобы добраться до Греции. Ему было выделено 10 тысяч фунтов, на которые он приобрел шхуну «Unicorn»[49]. Кокрейн дошёл на ней до Средиземного моря, где его следы затерялись, пока Орландос не обнаружил его в Марселе. Но здесь Кокрейн вспомнил, что ему нужен военный корабль. Орландос, на деньги Парижского комитета помощи Греции, купил находившийся в Марселе бриг, которому дали имя «Спаситель». Кокрейн приступил немедленно к действиям и, как пишет его племянник, «заказал себе полностью вышитый золотом мундир, чтобы впечатлить живое воображение греков»[50]. Вторым важным шагом Кокрейна стал найм бывшего повара Наполеона. Наконец Кокрейн прибыл на греческий остров Порос 5 марта 1827 года (20 месяцев, почти через 2 года, после получения аванса)[1]:Δ-397.
27 марта 1827 года Маврокордатос вручил ему диплом командующего флотом, согласно которому Кокрейн не был обязан информировать о своих военных планах, кроме как после их исполнения. Почти сразу после этого, 2 апреля, англичанин Чёрч, Ричард был назначен командующим сухопутных сил[1]:Δ-398. 29 марта Кокрейн отказался присягнуть на Евангелии и вместо этого дал присягу: «Клянусь служить Греции и пролить за неё кровь, если она сама будет верна себе». Первый кого Кокрейн поразил своими морскими знаниями, был капитан брандера Константинос Никодимос. Кокрейн заявил ему что построит брандер-новинку, который будет взрывать не только турецкие корабли но и крепости[51]. При строительстве Кокрейн использовал вместо плотников каменщиков для постройки 2-х переборок, в результате чего новинка утонула.
Французский адмирал Гравьер, Жюрьен де ла писал:[52]У Греции были Миаулис, Сахтурис, Канарис, были моряки каких дали немногие века, были патриоты, которым позавидовали бы и древние республики, и в эти славные и яркие дни и при таких ожиданиях от них (у нас есть право усмехнуться) Греция переложила свои надежды на прибытие Кохрана. <…> С момента когда появился Кохран, Греция потеряла свой национальный флот.
Получив команду над греческим флотом в марте 1827 года, Кокрейн связал своё имя с заговором и убийством греческого военачальника Караискакиса[1]:Г-330 и самым большим поражением повстанцев за все годы Освободительной войны 1821—1829 годов (Битва при Фалероне). И Д. Фотиадис и Т. Герозисис считают, что Караискакис был убит британскими агентами, поскольку согласно согласно доктрине неприкосновенности Османской империи, в качестве волнолома против России, возрождаемое греческое государство должно было быть ограниченно одним лишь Пелопоннесом[53]:42. Попытка Кокрейна реабилитироваться на море, организовав в мае 1828 года рейд на Александрию, не имела никакого успеха[1]:Γ-388.
В декабре 1827 года Κокрейн этот «осеребрянный дезертир», по выражению Драгумиса, тайком покинул Грецию на паруснике Unicorn и вернулся через 8 месяцев на парусно-паровом «Гермесе»[1]:Γ-389.
Когда Кокрейн вернулся в Грецию, Иоанн Каподистрия, возглавивший Грецию к этому времени, отказался принять его и передал Кокрейну, чтобы он снял со своего мундира все греческие знаки различия и покинул страну, как можно быстрее[54].
В отличие от капитана Гастингса, почитаемого в Греции по сегодняшний день, отношение греческих историков к Кокрейну варьирует от негативного до враждебного.
Примечательна оценка современного английского историка William St Clair (род. 1937), который счёл нужным упомянуть этого, в общем то наёмного, авантюриста в свою книгу о филэллинах, и мягко обходит этот скандальный случай:(Lord Cochrane remained in Greek waters until the end of 1828, but the spectacular cuccess for which he craved never came, and in the long success story of his life, Greece features as an embarrassing interlude[55].«Лорд Кокрэйн оставался в греческих водах до конца 1828 года, но впечатляющий успех, которого он жаждал, не пришёл, и в длинной истории успехов его жизни, Греция выглядит смущающей интерлюдией»
Вторая половина 1827 года
В июле османская эскадра, под командованием Тихи-паши, вышла из Дарданелл в Эгейское море. Одновременно, 17 июля, австрийский флот подверг обстрелу Спеце. Были убиты многие жители и нанесён ущерб судам и городу. 20 июля Кокрэйн достиг небольшого успеха, захватив у Гларендзы 1 османский корвет и 1 шхуну. 26 июля турецко-египетский флот, выйдя из Наварина, обстрелял побережье Мани[1]:Δ-401.
Одновременно, мощная турецко-египетская эскадра, насчитывавшая 51 боевых кораблей и 41 транспорта, вышла из Александрии курсом на Πелопоннес и прибыла в Наварин 27 августа[1]:Δ-402.
28 августа греческий флот, под командованием Кокрейна, направился в Ионическое море и 5 сентября встал перед Месолонгионом. Попытка взять островок Василади прикрывавший лиман была неуспешной. Маленькая эскадра греческого флота, под командованием англичанина Томаса, была послана Кокрейном в бухту Итеа и сразилась с маленькой турецкой эскадрой в бою без победителей. 11 сентября «Картериа», под командованием Гастингса, уничтожил прямым попаданием турецкий боевой корабль и захватил 3 австрийских торговых судна, с военной контрабандой. Затем, на рейде города Патры потопил австрийский галет. 22 сентября французский адмирал де Риньи, представляя флоты трёх держав и осуществляя миссию Принуждение к миру, потребовал от Ибрагима прекращения военных действий и замирения.
29 сентября с флотилией малых парусных судов «Картериа» под командованием Гастинса потопил в бухте Итеа недалеко от города Салона, (Амфисса) 9 из 11 участвующих в сражении турецких кораблей[56].
После сражения в бухте Итеа, Ибрагим счёл себя несвязанным никакими обязательствами и дал команду всему своему флоту идти в Коринфский залив. 5 октября, перед турецко-египетским флотом встала британская эскадра адмирала Кодрингтона и османский флот вернулся в Наварин. Адмиралы союзных эскадр Британии, Франции и России пришли к заключению о невозможности длительного пребывания вне гавани и приняли решение войти в Наваринскую бухту и встать рядом с турецко-египетской эскадрой. 8 (20) октября 1827 годаf, после первоначально незначительного эпизода, состоялось несанкционированное Наваринское сражение, в котором союзные эскадры потопили около 60 османских кораблей. Английская дипломатия была застигнута врасплох событием. Английский король высказался по поводу адмирала Κодригтона «я посылаю ему ленту, хотя он достоин верёвки». Британский посол в Κонстантинополе Стратфорд-Каннинг высказал своё сожаление «о этом печальном событии»[1]:Γ-422.
Сражающаяся Греция также была застигнута врасплох этим событием, но её радость и облегчение были велики[1]:Γ-421.
Πродолжая политику Принуждение к миру, адмиралы трёх держав вручили 25 октября Πарламенту эллинов протест в связи с предпринятой армией и флотом повстанцев экспедиции по освобождению Хиоса. 29 октября на Хиос прибыл французский корабль с приказом от адмирала де Риньи командующему экспедиционного корпуса полковнику Шарлю Фавье оставить Хиос. 25 октября эскадра Миаулиса высадила десант на островок Грамвуса, с целью вновь зажечь пламя восстания на Крите[1]:Δ-405.
9 ноября маленькая греческая флотилия совершила рейд в Πагасский залив, где захватила османский корабль и множество каиков.
1828 год
6 января Иоанн Каподистрия, бывший министр иностранных дел России, избранный правителем Греции, прибыл в Нафплион[1]:Δ-409.
Приняв правление государством, Каподистрия ещё до прибытия в Грецию встретился с вице-адмиралом Кодрингтоном, на его флагмане, на Мальте. Вопрос пиратства был представлен как первоочередной важности для британского правительства. Каподистрия был весьма опытным дипломатом, чтобы недооценить этот демарш. В большинстве своём торговые и банковские круги Европы, как и монархи Священного союза, не питали особых симпатий к Греческой революции. Пиратство давало им возможность представить греческую нацию как нацию пиратов. Хотя война ещё продолжалась, турецко-египетские войска все ещё оставались на Пелопоннесе и перед страной стояли более серьёзные задачи, Каподистрия осознавал политическую важность решения проблемы пиратства и принял решение действовать незамедлительно. Всего лишь через неделю очаги пиратства были ликвидированы. На уничтожение северного очага пиратства была послана греческая эскадра, под командованием адмирала Миаулиса. Хотя у его земляков с Идры были возражения, адмирал подчинился приказу Каподистрии и вышел на флагманском фрегате «Эллас». Миаулис не стал вести с пиратами никаких переговоров. Из 80 пиратских судов всевозможных категорий, половина была потоплена. Из другой, захваченной, половины часть судов была послана на Хиос, где Фавье пытался отвоевать остров у турок. Суда с малой осадкой были посланы в Артский залив, для поддержки армии в попытке продвинуться в Эпире. Пиратский очаг на острове Грамвуса был ликвидирован англо-французской эскадрой под командованием англичанина Томаса Штайна.
14 апреля Россия объявила войну Османской империи, русские войска перешли Прут.
11 мая 1828 года «Картериа», под командованием Гастинса, принял участие в попытке отвоевать Месолонгион. Во время высадки на шлюпах на мелководье у Этолико Гастингс был ранен. Ранение было несерьёзным, но последовало заражение. Гастингс был увезён на остров Закинф, где и умер 20 мая 1828 года[1]:Δ-412.
30—31 мая 1828 года состоялся один из последних морских боёв Освободительной войны — бой у мыса Баба. Андреас Миаулис, командуя фрегатом «Эллада», в сотрудничестве с Константином Канарисом, который командовал брандером, потопил турецкий корвет находившийся под защитой турецкой крепости у малоазийского мыса Баба.
11 сентября греческая эскадра, возглавляемая «Картерией», не смогла войти под огнём в Артский залив. Это удалось 4 шхунам 23 сентября и залив перешёл под греческий контроль[1]:Δ-415.
В начале октября британское правительство отняло командование британской эскадрой Средиземного моря у адмирала Кодрингтона, считая его ответственным за Наваринское сражение.
Тем временем, Каподистрия, игнорируя британские намерения ограничить границы нового государства, пытался поставить европейские державы перед свершившимися фактами и продолжил военные действия в Средней Греции и на море. 15 ноября ещё 4 греческие шхуны вошли в Артский залив залив и взяли на абордаж 2 турецкие парусные канонерки[1]:Δ-416.
23 декабря «Картерия» пленил в северном Эвбейском заливе турецкий голет[1]:Δ-417.
1829 год — конец войны
Русско-турецкая война заставила английскую дипломатию не только вновь взвесить политику ограничения греческой территории, но в какой-то момент Веллингтон, как и французская дипломатия, стал склоняться к созданию Греческой империи, вместо Османской империи, как барьера на пути российской экспансии[8]:100.
7 (19) августа Дибич взял без боя Адрианополь. 2 (14) сентября турки подписали Адрианопольский мир. В пункте 10 этого мира (из 16) султан, не поддававшийся дипломатическим давлениям даже после Наваринского сражения, подписался под Лондонскими протоколами 10 (22) марта 1829 года, чем официально признавал воссозданное греческое государство[1]:Δ-156.
Греция узнала о подписанном мире с опозданием. Битва при Петре 12 (24) сентября стала последним и победным для греческого оружия сражением в этой войне[1]:Δ-421.
Иоанн Каподистрия предпринял реформу армии и флота, нарушив их региональную струтуру и местничество. Самым естественным образом, с началом Греческой революции 1821 года, когда жители островов Идра, Спеце и Псара обратили свои торговые корабли в боевые, термин наварх употреблялся для командующих соответствующих островов. После того как Иоанн Каподистрия принял правление Грецией, в ходе реформы флота, термин наварх(ос) был приведен к аналогии с устоявшимся в других европейских флотах термином адмирал. Для этого пришлось, используя префиксы греческого языка, создать и новые слова. Соответственно командование и звания на флоте были распределены следующим образом[1]:Δ-226:
- Миаулис Андреас-Вокос — наварх(ос) (адмирал).
- Сахтурис, Георгиос — анти-наварх(ос) (греч. αντιναύαρχος ,вице-адмирал).
- Константин Канарис — ипо-наварх(ос) (греч. υποναύαρχος, контр-адмирал).
Флот потерял свою предыдущую сложную и часто вне контроля правительства структуру и был уменьшен в числах.
Состав флота в 1829 году[57]:
- 1 фрегат
- 2 парусные канонерки
- 2 парусных корвета
- 3 паровых корвета
- 12 парусников класса «беллу»
- 1 парусник класса «перама»
- 1 парусник класса «богос»
- 5 бригов
- 1 парусник класса «гавара»
- 3 барка
- 4 шхуны
«Великое преступление»
После освобождения, остров Порос был выбран базой флота. В ходе политического противостояния Каподистрии с судовладельцами Идры, Миаулис, как идриот, ушёл в отставку и командование флотом принял Канарис, Константин. В ночь с 14 на 15 июня 1831 года идриот Криезис, Антониос захватил на Поросе флагман и ещё 3 корабля флота и передал их Миаулису[1]:Γ-227:
Мятежники были блокированы правительственными войсками и кораблями, при поддежке российской эскадры, которой командовал вице-адмирал Рикорд, Пётр Иванович. Мятежники отказались сдаться и 27 июля, в ходе 3-х часового боя, Миаулис попытался прорвать кольцо блокады. Самые тяжёлые разрушения и потери понесли российский бриг «Телемах», а со стороны мятежников «Остров Спеце»[1]:Γ-234.
Миаулис, осознав невозможность прорыва, принял решение взорвать свои корабли. 1 августа 1831 года Миаулис взорвал фрегат «Элладу». Парусно-паровой «Картериа» был спасён Г. Галацидисом, рядовым моряком с острова Миконос, а корвет «Эммануэла» безымянным солдатом, которые вплавь добрались до кораблей и перерезали шнуры до того как огонь добрался до погребов.
Греция разделилась на 2 лагеря — одни говорили о «великом преступлении», другие о акте сопротивления деспотизму Каподистрии. Сам Миаулис к старости горько сожалел о содеянном, говоря что «интриган Маврокордато сумел сделать так, что я сам поджёг свой собственный дом»[1]:Γ-238. Аналогичное противостояние с местничеством и амбицией клана Мавромихалисов привело к убийству Каподистрии 27 сентября 1831 года Константином Мавромихалисом.
Последующие десятилетия
После смерти Каподистрии и с приходом к власти короля Оттона, флоту была отведена второстепенная роль. Действительный период реорганизации и расширения ВМФ начался через полвека, при премьер-министре Харилаосе Трикуписе. Проделанная в этот период работа стала предпосылкой греческих морских побед в Балканских война.
Напишите отзыв о статье "Греческие военно-морские силы в Освободительной войне"
Ссылки
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Δημήτρης Φωτιάδης, Η Επανάσταση του 1821, εκδ. Μέλισσα 1971
- ↑ La Station du Levant. Guerre de l’indépendance hellénique, 1821—1829, Paris, Plon, 1876 μετάφραση К Ράδου, σελ.49.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Δημήτρης Φωτιάδης, Κανάρης, εκδ. Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις, 1960
- ↑ 1 2 3 4 5 Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνικη Ιστορία 1204—1985, Βάνιας Θεσσαλονίκη 2001
- ↑ [archive.is/20120716213510/www.accessmylibrary.com/article-1G1-19713132/commerce-and-identity-greek.html Vlami Despina (1997) «Commerce and identity in the Greek communities: Livorno in the 18th and 19th centuries. (Identities, Cultures, and Creativity)»], Diogenes, 22 March 1997
- ↑ William St. Clair. That Greece Might Still Be Free, The Philhellenes in the War of Independence. London: Oxford University Press, 1972, ISBN 0-19-215194-0, p. 79.
- ↑ [asiaminor.ehw.gr/forms/fLemmaBodyExtended.aspx?LemmaID=5626#chapter_0 Μεγάλη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια της Μικράς Ασίας]
- ↑ 1 2 3 4 Douglas Dakin,The Unification of Greece 1770—1923 , ISBN 960-250-150-2
- ↑ www.hecucenter.ru/…/Arsh%20Skvortsova
- ↑ Les Missions Extérieures de la Marine: La Station du Levant. L’Anarchie et la Piraterie, in La Revue des deux mondes, Paris, 15 juin 1873, μετάφραση Ράδου, σελ.7
- ↑ La Station du Levant. Guerre de l’indépendance hellénique, 1821—1829, Paris, Plon, 1876 μετάφραση К Ράδου, σελ.49
- ↑ Οδύσσεια, ΄Γ 170—171
- ↑ [Συνθήκη του Πασάροβιτς- Εγκυκλοπαίδεια ΔΟΜΗ, Τόμος 23ος. σσ 288—289
- ↑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, Τόμος ΙΑ΄σ.205
- ↑ [Φρανσουά Πουκεβίλ, Ιστορία της Αναγέννησης της Ελλάδος.
- ↑ Αποστολος Ε. Βακαλοπουλος, Νεα Ελληνικη Ιστορια, 1204—1985, σε.137
- ↑ dic.academic.ru/dic.nsf/dic_diplomatic/1202/ТАМАРА В. С. Тамара
- ↑ Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος Νέα Ελληνική Ιστορία 1204—1985,Εκδόσεις Βάνιας Θεσσαλονίκη,σελ135 137
- ↑ 1 2 Στέφανος Π. Παπαγεωργίου, Από το Γένος στο Έθνος 1821—1862, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2005, ISBN 960-02-1769-6
- ↑ [asiaminor.ehw.gr/forms/fLemmaBodyExtended.aspx?LemmaID=8747#chapter_0 Μεγάλη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια της Μικράς Ασίας]
- ↑ 1 2 William St. Clair. That Greece Might Still Be Free, The Philhellenes in the War of Independence. — London: Oxford University Press, 1972. — С. 79. — ISBN 0-19-215194-0.
- ↑ David Brewer. The Greek War of Independence. The Struggle for Freedom from Ottoman Oppression and the Birth of the Modern Greek Nation.. — New York: The Overlook Press, 2001. — С. 165.
- ↑ 1 2 [Ορλάνδος, Ναυτικά, τ. Α, σ. 308].
- ↑ [Αρχείον Ύδρας, τ. Η, σ. 487—488].
- ↑ [Νικόδημος, Υπόμνημα της νήσου Ψαρών, τ.Α, σ.419]
- ↑ Φραντζής Αμβρόσιος, Επιτομή της Ιστορίας της Αναγεννηθείσης Ελλάδος, τομ. Γ', κεφ. 2.
- ↑ [www.politischios.gr/politismos/xekinoyn-oi-ekdiloseis-gia-olokaytoma-ton-psaron Ξεκινούν οι εκδηλώσεις για το Ολοκαύτωμα των Ψαρών | News of Chios | Politischios.gr | «Πολίτης» Χίος]
- ↑ [www.hellenicnavy.gr/el/enimerwsi-koinou/teleftaia-nea/item/3146-symmetoxi-tou-polemikoy-naftikoy-stin-190i-epeteio-apo-to-olokaytoma-ton-psaron Συμμετοχή του Πολεμικού Ναυτικού στην 190η Επέτειο από το Ολοκαύτωμα των Ψαρών — Πολεμικό Ναυτικό — Επίσημη Ιστοσελίδα]
- ↑ [www.kounoupi.gr/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/ekdiloseis-gia-ta-190-hronia-apo-olokaytoma-psaron Εκδηλώσεις για τα 190 χρόνια από το Ολοκαύτωμα Ψαρών | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΧΙΟΣ]
- ↑ [Νικοδημος,,ε.α.,τομ.Α,σελ.315-318]
- ↑ Raffenel, Histoire complète des événements de la Grèce depuis les premiers troubles jusqu'à ce jour, p.188-189
- ↑ [Κοκκινος, ε.α.,τομ.4,σελ.246]
- ↑ [Νικοδημος,ε.α.,τομ.Α.σελ.446]
- ↑ [Νικοδημος, ε.α., τομ.Α. σελ.244]
- ↑ Τεγόπουλος-Φυτράκης, Ελληνικο Λεξικό, Ερμηνευτικό, Ετυμολογικό, εκδ. Αρμονία, ISBN 960-7598-00-8, σελ. 533
- ↑ [www.gtp.gr/LocInfo.asp?infoid=16&code=EGRNHI30PSAPSA&PrimeCode=EGRNHI30PSAPSA&Level=8&PrimeLevel=8&IncludeWide=0&LocId=8070 Festivals and fairs PSARA (Port) NORTH AEGEAN — GTP]
- ↑ [www.hellastourism.gr/psaraen.html Psara , Ψαρά , Aegean Islands , Aegean , Αιγαίο , Νησιά του Βόρειου Αιγαίου , hotels, restaurants, bars, cafe, taverns, rent a car, rent a bike, rent a rooms , ταβερνες…]
- ↑ [www.elia.org.gr/EntryImages/1/ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ,%20ΓΕΩΡΓΙΟΣ.rtf] Αρχείο Γεωργίου Σαχτούρη], επιμέλεια Χριστίνα Βάρδα, Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα 2000
- ↑ [Νικόδημος,Απομνημονεύματα,σ.66]
- ↑ [Ημερολόγιο Σαχτούρη,σ.79]
- ↑ [www.sansimera.gr/archive/biographies/show.php?id=168&name=Andreas_Miaoulis βιογραφία Ανδρέα Μιαούλη]
- ↑ [Νικόδημος,ε.α.,τ.Α.,σ.620]
- ↑ C. M. Woodhouse The Battle of Navarino (1965) 29
- ↑ Rankin Stuart. [www.southwark.gov.uk/download/1835/granaries_shipyards_and_wharves_information_booklet Shipyards, Granaries and Wharves, Maritime Rotherhithe, History Walk B]. — London: Southwark Council. — ISBN 090584937X.
- ↑ Encyclopedia Britannica Online; article on F. A. Hastings
- ↑ Λάζος Χρήστος, Η Αμερική και ο ρόλος της στην επανάσταση του 1821, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1984, τόμος Β΄, σελ. 413
- ↑ 1 2 Λάζος Χρήστος, Η Αμερική και ο ρόλος της στην επανάσταση του 1821, ο.π., σελ. 419
- ↑ Λάζος Χρήστος, Η Αμερική και ο ρόλος της στην επανάσταση του 1821, ο.π., σελ. 423
- ↑ Howe, An Historical sketch of the Greek Revolution, New York 1828 ,p. 409
- ↑ George Cochrane, Wanderings in Greece,London 1837 I-21
- ↑ Νικοδημος,Υπόμνημα περί κατασκευής πυρπολικών, σ.11-113
- ↑ Jurien de la Graviere,La Station du Levant, Paris 1876, έ.ά,σ. 214, 225
- ↑ Τριαντάφυλος Α. Γεροζήσης, Το Σώμα των αξιωματικών και η θέση του στη σύγχρονη Ελληνική κοινωνία (1821—1975), εκδ. Δωδώνη, ISBN 960-248-794-1
- ↑ [Δραγούμης,έ.ά.,σ.62]
- ↑ books.google.gr/books?id=NphFnF2RRKUC&q=Cochrain#v=onepage&q=Cochrain&f=false, p.349
- ↑ Ιστορία Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, τ. ΙΒ', σ. 466
- ↑ [www.hellasarmy.gr/frame.php?id=hn Ιστορια Των Ελληνικων Ενοπλων Δυναμεων]
Отрывок, характеризующий Греческие военно-морские силы в Освободительной войне
Редут этот состоял из кургана, на котором с трех сторон были выкопаны канавы. В окопанном канавами место стояли десять стрелявших пушек, высунутых в отверстие валов.В линию с курганом стояли с обеих сторон пушки, тоже беспрестанно стрелявшие. Немного позади пушек стояли пехотные войска. Входя на этот курган, Пьер никак не думал, что это окопанное небольшими канавами место, на котором стояло и стреляло несколько пушек, было самое важное место в сражении.
Пьеру, напротив, казалось, что это место (именно потому, что он находился на нем) было одно из самых незначительных мест сражения.
Войдя на курган, Пьер сел в конце канавы, окружающей батарею, и с бессознательно радостной улыбкой смотрел на то, что делалось вокруг него. Изредка Пьер все с той же улыбкой вставал и, стараясь не помешать солдатам, заряжавшим и накатывавшим орудия, беспрестанно пробегавшим мимо него с сумками и зарядами, прохаживался по батарее. Пушки с этой батареи беспрестанно одна за другой стреляли, оглушая своими звуками и застилая всю окрестность пороховым дымом.
В противность той жуткости, которая чувствовалась между пехотными солдатами прикрытия, здесь, на батарее, где небольшое количество людей, занятых делом, бело ограничено, отделено от других канавой, – здесь чувствовалось одинаковое и общее всем, как бы семейное оживление.
Появление невоенной фигуры Пьера в белой шляпе сначала неприятно поразило этих людей. Солдаты, проходя мимо его, удивленно и даже испуганно косились на его фигуру. Старший артиллерийский офицер, высокий, с длинными ногами, рябой человек, как будто для того, чтобы посмотреть на действие крайнего орудия, подошел к Пьеру и любопытно посмотрел на него.
Молоденький круглолицый офицерик, еще совершенный ребенок, очевидно, только что выпущенный из корпуса, распоряжаясь весьма старательно порученными ему двумя пушками, строго обратился к Пьеру.
– Господин, позвольте вас попросить с дороги, – сказал он ему, – здесь нельзя.
Солдаты неодобрительно покачивали головами, глядя на Пьера. Но когда все убедились, что этот человек в белой шляпе не только не делал ничего дурного, но или смирно сидел на откосе вала, или с робкой улыбкой, учтиво сторонясь перед солдатами, прохаживался по батарее под выстрелами так же спокойно, как по бульвару, тогда понемногу чувство недоброжелательного недоуменья к нему стало переходить в ласковое и шутливое участие, подобное тому, которое солдаты имеют к своим животным: собакам, петухам, козлам и вообще животным, живущим при воинских командах. Солдаты эти сейчас же мысленно приняли Пьера в свою семью, присвоили себе и дали ему прозвище. «Наш барин» прозвали его и про него ласково смеялись между собой.
Одно ядро взрыло землю в двух шагах от Пьера. Он, обчищая взбрызнутую ядром землю с платья, с улыбкой оглянулся вокруг себя.
– И как это вы не боитесь, барин, право! – обратился к Пьеру краснорожий широкий солдат, оскаливая крепкие белые зубы.
– А ты разве боишься? – спросил Пьер.
– А то как же? – отвечал солдат. – Ведь она не помилует. Она шмякнет, так кишки вон. Нельзя не бояться, – сказал он, смеясь.
Несколько солдат с веселыми и ласковыми лицами остановились подле Пьера. Они как будто не ожидали того, чтобы он говорил, как все, и это открытие обрадовало их.
– Наше дело солдатское. А вот барин, так удивительно. Вот так барин!
– По местам! – крикнул молоденький офицер на собравшихся вокруг Пьера солдат. Молоденький офицер этот, видимо, исполнял свою должность в первый или во второй раз и потому с особенной отчетливостью и форменностью обращался и с солдатами и с начальником.
Перекатная пальба пушек и ружей усиливалась по всему полю, в особенности влево, там, где были флеши Багратиона, но из за дыма выстрелов с того места, где был Пьер, нельзя было почти ничего видеть. Притом, наблюдения за тем, как бы семейным (отделенным от всех других) кружком людей, находившихся на батарее, поглощали все внимание Пьера. Первое его бессознательно радостное возбуждение, произведенное видом и звуками поля сражения, заменилось теперь, в особенности после вида этого одиноко лежащего солдата на лугу, другим чувством. Сидя теперь на откосе канавы, он наблюдал окружавшие его лица.
К десяти часам уже человек двадцать унесли с батареи; два орудия были разбиты, чаще и чаще на батарею попадали снаряды и залетали, жужжа и свистя, дальние пули. Но люди, бывшие на батарее, как будто не замечали этого; со всех сторон слышался веселый говор и шутки.
– Чиненка! – кричал солдат на приближающуюся, летевшую со свистом гранату. – Не сюда! К пехотным! – с хохотом прибавлял другой, заметив, что граната перелетела и попала в ряды прикрытия.
– Что, знакомая? – смеялся другой солдат на присевшего мужика под пролетевшим ядром.
Несколько солдат собрались у вала, разглядывая то, что делалось впереди.
– И цепь сняли, видишь, назад прошли, – говорили они, указывая через вал.
– Свое дело гляди, – крикнул на них старый унтер офицер. – Назад прошли, значит, назади дело есть. – И унтер офицер, взяв за плечо одного из солдат, толкнул его коленкой. Послышался хохот.
– К пятому орудию накатывай! – кричали с одной стороны.
– Разом, дружнее, по бурлацки, – слышались веселые крики переменявших пушку.
– Ай, нашему барину чуть шляпку не сбила, – показывая зубы, смеялся на Пьера краснорожий шутник. – Эх, нескладная, – укоризненно прибавил он на ядро, попавшее в колесо и ногу человека.
– Ну вы, лисицы! – смеялся другой на изгибающихся ополченцев, входивших на батарею за раненым.
– Аль не вкусна каша? Ах, вороны, заколянились! – кричали на ополченцев, замявшихся перед солдатом с оторванной ногой.
– Тое кое, малый, – передразнивали мужиков. – Страсть не любят.
Пьер замечал, как после каждого попавшего ядра, после каждой потери все более и более разгоралось общее оживление.
Как из придвигающейся грозовой тучи, чаще и чаще, светлее и светлее вспыхивали на лицах всех этих людей (как бы в отпор совершающегося) молнии скрытого, разгорающегося огня.
Пьер не смотрел вперед на поле сражения и не интересовался знать о том, что там делалось: он весь был поглощен в созерцание этого, все более и более разгорающегося огня, который точно так же (он чувствовал) разгорался и в его душе.
В десять часов пехотные солдаты, бывшие впереди батареи в кустах и по речке Каменке, отступили. С батареи видно было, как они пробегали назад мимо нее, неся на ружьях раненых. Какой то генерал со свитой вошел на курган и, поговорив с полковником, сердито посмотрев на Пьера, сошел опять вниз, приказав прикрытию пехоты, стоявшему позади батареи, лечь, чтобы менее подвергаться выстрелам. Вслед за этим в рядах пехоты, правее батареи, послышался барабан, командные крики, и с батареи видно было, как ряды пехоты двинулись вперед.
Пьер смотрел через вал. Одно лицо особенно бросилось ему в глаза. Это был офицер, который с бледным молодым лицом шел задом, неся опущенную шпагу, и беспокойно оглядывался.
Ряды пехотных солдат скрылись в дыму, послышался их протяжный крик и частая стрельба ружей. Через несколько минут толпы раненых и носилок прошли оттуда. На батарею еще чаще стали попадать снаряды. Несколько человек лежали неубранные. Около пушек хлопотливее и оживленнее двигались солдаты. Никто уже не обращал внимания на Пьера. Раза два на него сердито крикнули за то, что он был на дороге. Старший офицер, с нахмуренным лицом, большими, быстрыми шагами переходил от одного орудия к другому. Молоденький офицерик, еще больше разрумянившись, еще старательнее командовал солдатами. Солдаты подавали заряды, поворачивались, заряжали и делали свое дело с напряженным щегольством. Они на ходу подпрыгивали, как на пружинах.
Грозовая туча надвинулась, и ярко во всех лицах горел тот огонь, за разгоранием которого следил Пьер. Он стоял подле старшего офицера. Молоденький офицерик подбежал, с рукой к киверу, к старшему.
– Имею честь доложить, господин полковник, зарядов имеется только восемь, прикажете ли продолжать огонь? – спросил он.
– Картечь! – не отвечая, крикнул старший офицер, смотревший через вал.
Вдруг что то случилось; офицерик ахнул и, свернувшись, сел на землю, как на лету подстреленная птица. Все сделалось странно, неясно и пасмурно в глазах Пьера.
Одно за другим свистели ядра и бились в бруствер, в солдат, в пушки. Пьер, прежде не слыхавший этих звуков, теперь только слышал одни эти звуки. Сбоку батареи, справа, с криком «ура» бежали солдаты не вперед, а назад, как показалось Пьеру.
Ядро ударило в самый край вала, перед которым стоял Пьер, ссыпало землю, и в глазах его мелькнул черный мячик, и в то же мгновенье шлепнуло во что то. Ополченцы, вошедшие было на батарею, побежали назад.
– Все картечью! – кричал офицер.
Унтер офицер подбежал к старшему офицеру и испуганным шепотом (как за обедом докладывает дворецкий хозяину, что нет больше требуемого вина) сказал, что зарядов больше не было.
– Разбойники, что делают! – закричал офицер, оборачиваясь к Пьеру. Лицо старшего офицера было красно и потно, нахмуренные глаза блестели. – Беги к резервам, приводи ящики! – крикнул он, сердито обходя взглядом Пьера и обращаясь к своему солдату.
– Я пойду, – сказал Пьер. Офицер, не отвечая ему, большими шагами пошел в другую сторону.
– Не стрелять… Выжидай! – кричал он.
Солдат, которому приказано было идти за зарядами, столкнулся с Пьером.
– Эх, барин, не место тебе тут, – сказал он и побежал вниз. Пьер побежал за солдатом, обходя то место, на котором сидел молоденький офицерик.
Одно, другое, третье ядро пролетало над ним, ударялось впереди, с боков, сзади. Пьер сбежал вниз. «Куда я?» – вдруг вспомнил он, уже подбегая к зеленым ящикам. Он остановился в нерешительности, идти ему назад или вперед. Вдруг страшный толчок откинул его назад, на землю. В то же мгновенье блеск большого огня осветил его, и в то же мгновенье раздался оглушающий, зазвеневший в ушах гром, треск и свист.
Пьер, очнувшись, сидел на заду, опираясь руками о землю; ящика, около которого он был, не было; только валялись зеленые обожженные доски и тряпки на выжженной траве, и лошадь, трепля обломками оглобель, проскакала от него, а другая, так же как и сам Пьер, лежала на земле и пронзительно, протяжно визжала.
Пьер, не помня себя от страха, вскочил и побежал назад на батарею, как на единственное убежище от всех ужасов, окружавших его.
В то время как Пьер входил в окоп, он заметил, что на батарее выстрелов не слышно было, но какие то люди что то делали там. Пьер не успел понять того, какие это были люди. Он увидел старшего полковника, задом к нему лежащего на валу, как будто рассматривающего что то внизу, и видел одного, замеченного им, солдата, который, прорываясь вперед от людей, державших его за руку, кричал: «Братцы!» – и видел еще что то странное.
Но он не успел еще сообразить того, что полковник был убит, что кричавший «братцы!» был пленный, что в глазах его был заколон штыком в спину другой солдат. Едва он вбежал в окоп, как худощавый, желтый, с потным лицом человек в синем мундире, со шпагой в руке, набежал на него, крича что то. Пьер, инстинктивно обороняясь от толчка, так как они, не видав, разбежались друг против друга, выставил руки и схватил этого человека (это был французский офицер) одной рукой за плечо, другой за гордо. Офицер, выпустив шпагу, схватил Пьера за шиворот.
Несколько секунд они оба испуганными глазами смотрели на чуждые друг другу лица, и оба были в недоумении о том, что они сделали и что им делать. «Я ли взят в плен или он взят в плен мною? – думал каждый из них. Но, очевидно, французский офицер более склонялся к мысли, что в плен взят он, потому что сильная рука Пьера, движимая невольным страхом, все крепче и крепче сжимала его горло. Француз что то хотел сказать, как вдруг над самой головой их низко и страшно просвистело ядро, и Пьеру показалось, что голова французского офицера оторвана: так быстро он согнул ее.
Пьер тоже нагнул голову и отпустил руки. Не думая более о том, кто кого взял в плен, француз побежал назад на батарею, а Пьер под гору, спотыкаясь на убитых и раненых, которые, казалось ему, ловят его за ноги. Но не успел он сойти вниз, как навстречу ему показались плотные толпы бегущих русских солдат, которые, падая, спотыкаясь и крича, весело и бурно бежали на батарею. (Это была та атака, которую себе приписывал Ермолов, говоря, что только его храбрости и счастью возможно было сделать этот подвиг, и та атака, в которой он будто бы кидал на курган Георгиевские кресты, бывшие у него в кармане.)
Французы, занявшие батарею, побежали. Наши войска с криками «ура» так далеко за батарею прогнали французов, что трудно было остановить их.
С батареи свезли пленных, в том числе раненого французского генерала, которого окружили офицеры. Толпы раненых, знакомых и незнакомых Пьеру, русских и французов, с изуродованными страданием лицами, шли, ползли и на носилках неслись с батареи. Пьер вошел на курган, где он провел более часа времени, и из того семейного кружка, который принял его к себе, он не нашел никого. Много было тут мертвых, незнакомых ему. Но некоторых он узнал. Молоденький офицерик сидел, все так же свернувшись, у края вала, в луже крови. Краснорожий солдат еще дергался, но его не убирали.
Пьер побежал вниз.
«Нет, теперь они оставят это, теперь они ужаснутся того, что они сделали!» – думал Пьер, бесцельно направляясь за толпами носилок, двигавшихся с поля сражения.
Но солнце, застилаемое дымом, стояло еще высоко, и впереди, и в особенности налево у Семеновского, кипело что то в дыму, и гул выстрелов, стрельба и канонада не только не ослабевали, но усиливались до отчаянности, как человек, который, надрываясь, кричит из последних сил.
Главное действие Бородинского сражения произошло на пространстве тысячи сажен между Бородиным и флешами Багратиона. (Вне этого пространства с одной стороны была сделана русскими в половине дня демонстрация кавалерией Уварова, с другой стороны, за Утицей, было столкновение Понятовского с Тучковым; но это были два отдельные и слабые действия в сравнении с тем, что происходило в середине поля сражения.) На поле между Бородиным и флешами, у леса, на открытом и видном с обеих сторон протяжении, произошло главное действие сражения, самым простым, бесхитростным образом.
Сражение началось канонадой с обеих сторон из нескольких сотен орудий.
Потом, когда дым застлал все поле, в этом дыму двинулись (со стороны французов) справа две дивизии, Дессе и Компана, на флеши, и слева полки вице короля на Бородино.
От Шевардинского редута, на котором стоял Наполеон, флеши находились на расстоянии версты, а Бородино более чем в двух верстах расстояния по прямой линии, и поэтому Наполеон не мог видеть того, что происходило там, тем более что дым, сливаясь с туманом, скрывал всю местность. Солдаты дивизии Дессе, направленные на флеши, были видны только до тех пор, пока они не спустились под овраг, отделявший их от флеш. Как скоро они спустились в овраг, дым выстрелов орудийных и ружейных на флешах стал так густ, что застлал весь подъем той стороны оврага. Сквозь дым мелькало там что то черное – вероятно, люди, и иногда блеск штыков. Но двигались ли они или стояли, были ли это французы или русские, нельзя было видеть с Шевардинского редута.
Солнце взошло светло и било косыми лучами прямо в лицо Наполеона, смотревшего из под руки на флеши. Дым стлался перед флешами, и то казалось, что дым двигался, то казалось, что войска двигались. Слышны были иногда из за выстрелов крики людей, но нельзя было знать, что они там делали.
Наполеон, стоя на кургане, смотрел в трубу, и в маленький круг трубы он видел дым и людей, иногда своих, иногда русских; но где было то, что он видел, он не знал, когда смотрел опять простым глазом.
Он сошел с кургана и стал взад и вперед ходить перед ним.
Изредка он останавливался, прислушивался к выстрелам и вглядывался в поле сражения.
Не только с того места внизу, где он стоял, не только с кургана, на котором стояли теперь некоторые его генералы, но и с самых флешей, на которых находились теперь вместе и попеременно то русские, то французские, мертвые, раненые и живые, испуганные или обезумевшие солдаты, нельзя было понять того, что делалось на этом месте. В продолжение нескольких часов на этом месте, среди неумолкаемой стрельбы, ружейной и пушечной, то появлялись одни русские, то одни французские, то пехотные, то кавалерийские солдаты; появлялись, падали, стреляли, сталкивались, не зная, что делать друг с другом, кричали и бежали назад.
С поля сражения беспрестанно прискакивали к Наполеону его посланные адъютанты и ординарцы его маршалов с докладами о ходе дела; но все эти доклады были ложны: и потому, что в жару сражения невозможно сказать, что происходит в данную минуту, и потому, что многие адъютапты не доезжали до настоящего места сражения, а передавали то, что они слышали от других; и еще потому, что пока проезжал адъютант те две три версты, которые отделяли его от Наполеона, обстоятельства изменялись и известие, которое он вез, уже становилось неверно. Так от вице короля прискакал адъютант с известием, что Бородино занято и мост на Колоче в руках французов. Адъютант спрашивал у Наполеона, прикажет ли он пореходить войскам? Наполеон приказал выстроиться на той стороне и ждать; но не только в то время как Наполеон отдавал это приказание, но даже когда адъютант только что отъехал от Бородина, мост уже был отбит и сожжен русскими, в той самой схватке, в которой участвовал Пьер в самом начале сраженья.
Прискакавший с флеш с бледным испуганным лицом адъютант донес Наполеону, что атака отбита и что Компан ранен и Даву убит, а между тем флеши были заняты другой частью войск, в то время как адъютанту говорили, что французы были отбиты, и Даву был жив и только слегка контужен. Соображаясь с таковыми необходимо ложными донесениями, Наполеон делал свои распоряжения, которые или уже были исполнены прежде, чем он делал их, или же не могли быть и не были исполняемы.
Маршалы и генералы, находившиеся в более близком расстоянии от поля сражения, но так же, как и Наполеон, не участвовавшие в самом сражении и только изредка заезжавшие под огонь пуль, не спрашиваясь Наполеона, делали свои распоряжения и отдавали свои приказания о том, куда и откуда стрелять, и куда скакать конным, и куда бежать пешим солдатам. Но даже и их распоряжения, точно так же как распоряжения Наполеона, точно так же в самой малой степени и редко приводились в исполнение. Большей частью выходило противное тому, что они приказывали. Солдаты, которым велено было идти вперед, подпав под картечный выстрел, бежали назад; солдаты, которым велено было стоять на месте, вдруг, видя против себя неожиданно показавшихся русских, иногда бежали назад, иногда бросались вперед, и конница скакала без приказания догонять бегущих русских. Так, два полка кавалерии поскакали через Семеновский овраг и только что въехали на гору, повернулись и во весь дух поскакали назад. Так же двигались и пехотные солдаты, иногда забегая совсем не туда, куда им велено было. Все распоряжение о том, куда и когда подвинуть пушки, когда послать пеших солдат – стрелять, когда конных – топтать русских пеших, – все эти распоряжения делали сами ближайшие начальники частей, бывшие в рядах, не спрашиваясь даже Нея, Даву и Мюрата, не только Наполеона. Они не боялись взыскания за неисполнение приказания или за самовольное распоряжение, потому что в сражении дело касается самого дорогого для человека – собственной жизни, и иногда кажется, что спасение заключается в бегстве назад, иногда в бегстве вперед, и сообразно с настроением минуты поступали эти люди, находившиеся в самом пылу сражения. В сущности же, все эти движения вперед и назад не облегчали и не изменяли положения войск. Все их набегания и наскакивания друг на друга почти не производили им вреда, а вред, смерть и увечья наносили ядра и пули, летавшие везде по тому пространству, по которому метались эти люди. Как только эти люди выходили из того пространства, по которому летали ядра и пули, так их тотчас же стоявшие сзади начальники формировали, подчиняли дисциплине и под влиянием этой дисциплины вводили опять в область огня, в которой они опять (под влиянием страха смерти) теряли дисциплину и метались по случайному настроению толпы.
Генералы Наполеона – Даву, Ней и Мюрат, находившиеся в близости этой области огня и даже иногда заезжавшие в нее, несколько раз вводили в эту область огня стройные и огромные массы войск. Но противно тому, что неизменно совершалось во всех прежних сражениях, вместо ожидаемого известия о бегстве неприятеля, стройные массы войск возвращались оттуда расстроенными, испуганными толпами. Они вновь устроивали их, но людей все становилось меньше. В половине дня Мюрат послал к Наполеону своего адъютанта с требованием подкрепления.
Наполеон сидел под курганом и пил пунш, когда к нему прискакал адъютант Мюрата с уверениями, что русские будут разбиты, ежели его величество даст еще дивизию.
– Подкрепления? – сказал Наполеон с строгим удивлением, как бы не понимая его слов и глядя на красивого мальчика адъютанта с длинными завитыми черными волосами (так же, как носил волоса Мюрат). «Подкрепления! – подумал Наполеон. – Какого они просят подкрепления, когда у них в руках половина армии, направленной на слабое, неукрепленное крыло русских!»
– Dites au roi de Naples, – строго сказал Наполеон, – qu'il n'est pas midi et que je ne vois pas encore clair sur mon echiquier. Allez… [Скажите неаполитанскому королю, что теперь еще не полдень и что я еще не ясно вижу на своей шахматной доске. Ступайте…]
Красивый мальчик адъютанта с длинными волосами, не отпуская руки от шляпы, тяжело вздохнув, поскакал опять туда, где убивали людей.
Наполеон встал и, подозвав Коленкура и Бертье, стал разговаривать с ними о делах, не касающихся сражения.
В середине разговора, который начинал занимать Наполеона, глаза Бертье обратились на генерала с свитой, который на потной лошади скакал к кургану. Это был Бельяр. Он, слезши с лошади, быстрыми шагами подошел к императору и смело, громким голосом стал доказывать необходимость подкреплений. Он клялся честью, что русские погибли, ежели император даст еще дивизию.
Наполеон вздернул плечами и, ничего не ответив, продолжал свою прогулку. Бельяр громко и оживленно стал говорить с генералами свиты, окружившими его.
– Вы очень пылки, Бельяр, – сказал Наполеон, опять подходя к подъехавшему генералу. – Легко ошибиться в пылу огня. Поезжайте и посмотрите, и тогда приезжайте ко мне.
Не успел еще Бельяр скрыться из вида, как с другой стороны прискакал новый посланный с поля сражения.
– Eh bien, qu'est ce qu'il y a? [Ну, что еще?] – сказал Наполеон тоном человека, раздраженного беспрестанными помехами.
– Sire, le prince… [Государь, герцог…] – начал адъютант.
– Просит подкрепления? – с гневным жестом проговорил Наполеон. Адъютант утвердительно наклонил голову и стал докладывать; но император отвернулся от него, сделав два шага, остановился, вернулся назад и подозвал Бертье. – Надо дать резервы, – сказал он, слегка разводя руками. – Кого послать туда, как вы думаете? – обратился он к Бертье, к этому oison que j'ai fait aigle [гусенку, которого я сделал орлом], как он впоследствии называл его.
– Государь, послать дивизию Клапареда? – сказал Бертье, помнивший наизусть все дивизии, полки и батальоны.
Наполеон утвердительно кивнул головой.
Адъютант поскакал к дивизии Клапареда. И чрез несколько минут молодая гвардия, стоявшая позади кургана, тронулась с своего места. Наполеон молча смотрел по этому направлению.
– Нет, – обратился он вдруг к Бертье, – я не могу послать Клапареда. Пошлите дивизию Фриана, – сказал он.
Хотя не было никакого преимущества в том, чтобы вместо Клапареда посылать дивизию Фриана, и даже было очевидное неудобство и замедление в том, чтобы остановить теперь Клапареда и посылать Фриана, но приказание было с точностью исполнено. Наполеон не видел того, что он в отношении своих войск играл роль доктора, который мешает своими лекарствами, – роль, которую он так верно понимал и осуждал.
Дивизия Фриана, так же как и другие, скрылась в дыму поля сражения. С разных сторон продолжали прискакивать адъютанты, и все, как бы сговорившись, говорили одно и то же. Все просили подкреплений, все говорили, что русские держатся на своих местах и производят un feu d'enfer [адский огонь], от которого тает французское войско.
Наполеон сидел в задумчивости на складном стуле.
Проголодавшийся с утра m r de Beausset, любивший путешествовать, подошел к императору и осмелился почтительно предложить его величеству позавтракать.
– Я надеюсь, что теперь уже я могу поздравить ваше величество с победой, – сказал он.
Наполеон молча отрицательно покачал головой. Полагая, что отрицание относится к победе, а не к завтраку, m r de Beausset позволил себе игриво почтительно заметить, что нет в мире причин, которые могли бы помешать завтракать, когда можно это сделать.
– Allez vous… [Убирайтесь к…] – вдруг мрачно сказал Наполеон и отвернулся. Блаженная улыбка сожаления, раскаяния и восторга просияла на лице господина Боссе, и он плывущим шагом отошел к другим генералам.
Наполеон испытывал тяжелое чувство, подобное тому, которое испытывает всегда счастливый игрок, безумно кидавший свои деньги, всегда выигрывавший и вдруг, именно тогда, когда он рассчитал все случайности игры, чувствующий, что чем более обдуман его ход, тем вернее он проигрывает.
Войска были те же, генералы те же, те же были приготовления, та же диспозиция, та же proclamation courte et energique [прокламация короткая и энергическая], он сам был тот же, он это знал, он знал, что он был даже гораздо опытнее и искуснее теперь, чем он был прежде, даже враг был тот же, как под Аустерлицем и Фридландом; но страшный размах руки падал волшебно бессильно.
Все те прежние приемы, бывало, неизменно увенчиваемые успехом: и сосредоточение батарей на один пункт, и атака резервов для прорвания линии, и атака кавалерии des hommes de fer [железных людей], – все эти приемы уже были употреблены, и не только не было победы, но со всех сторон приходили одни и те же известия об убитых и раненых генералах, о необходимости подкреплений, о невозможности сбить русских и о расстройстве войск.
Прежде после двух трех распоряжений, двух трех фраз скакали с поздравлениями и веселыми лицами маршалы и адъютанты, объявляя трофеями корпуса пленных, des faisceaux de drapeaux et d'aigles ennemis, [пуки неприятельских орлов и знамен,] и пушки, и обозы, и Мюрат просил только позволения пускать кавалерию для забрания обозов. Так было под Лоди, Маренго, Арколем, Иеной, Аустерлицем, Ваграмом и так далее, и так далее. Теперь же что то странное происходило с его войсками.
Несмотря на известие о взятии флешей, Наполеон видел, что это было не то, совсем не то, что было во всех его прежних сражениях. Он видел, что то же чувство, которое испытывал он, испытывали и все его окружающие люди, опытные в деле сражений. Все лица были печальны, все глаза избегали друг друга. Только один Боссе не мог понимать значения того, что совершалось. Наполеон же после своего долгого опыта войны знал хорошо, что значило в продолжение восьми часов, после всех употрсбленных усилий, невыигранное атакующим сражение. Он знал, что это было почти проигранное сражение и что малейшая случайность могла теперь – на той натянутой точке колебания, на которой стояло сражение, – погубить его и его войска.
Когда он перебирал в воображении всю эту странную русскую кампанию, в которой не было выиграно ни одного сраженья, в которой в два месяца не взято ни знамен, ни пушек, ни корпусов войск, когда глядел на скрытно печальные лица окружающих и слушал донесения о том, что русские всё стоят, – страшное чувство, подобное чувству, испытываемому в сновидениях, охватывало его, и ему приходили в голову все несчастные случайности, могущие погубить его. Русские могли напасть на его левое крыло, могли разорвать его середину, шальное ядро могло убить его самого. Все это было возможно. В прежних сражениях своих он обдумывал только случайности успеха, теперь же бесчисленное количество несчастных случайностей представлялось ему, и он ожидал их всех. Да, это было как во сне, когда человеку представляется наступающий на него злодей, и человек во сне размахнулся и ударил своего злодея с тем страшным усилием, которое, он знает, должно уничтожить его, и чувствует, что рука его, бессильная и мягкая, падает, как тряпка, и ужас неотразимой погибели обхватывает беспомощного человека.
Известие о том, что русские атакуют левый фланг французской армии, возбудило в Наполеоне этот ужас. Он молча сидел под курганом на складном стуле, опустив голову и положив локти на колена. Бертье подошел к нему и предложил проехаться по линии, чтобы убедиться, в каком положении находилось дело.
– Что? Что вы говорите? – сказал Наполеон. – Да, велите подать мне лошадь.
Он сел верхом и поехал к Семеновскому.
В медленно расходившемся пороховом дыме по всему тому пространству, по которому ехал Наполеон, – в лужах крови лежали лошади и люди, поодиночке и кучами. Подобного ужаса, такого количества убитых на таком малом пространстве никогда не видал еще и Наполеон, и никто из его генералов. Гул орудий, не перестававший десять часов сряду и измучивший ухо, придавал особенную значительность зрелищу (как музыка при живых картинах). Наполеон выехал на высоту Семеновского и сквозь дым увидал ряды людей в мундирах цветов, непривычных для его глаз. Это были русские.
Русские плотными рядами стояли позади Семеновского и кургана, и их орудия не переставая гудели и дымили по их линии. Сражения уже не было. Было продолжавшееся убийство, которое ни к чему не могло повести ни русских, ни французов. Наполеон остановил лошадь и впал опять в ту задумчивость, из которой вывел его Бертье; он не мог остановить того дела, которое делалось перед ним и вокруг него и которое считалось руководимым им и зависящим от него, и дело это ему в первый раз, вследствие неуспеха, представлялось ненужным и ужасным.
Один из генералов, подъехавших к Наполеону, позволил себе предложить ему ввести в дело старую гвардию. Ней и Бертье, стоявшие подле Наполеона, переглянулись между собой и презрительно улыбнулись на бессмысленное предложение этого генерала.
Наполеон опустил голову и долго молчал.
– A huit cent lieux de France je ne ferai pas demolir ma garde, [За три тысячи двести верст от Франции я не могу дать разгромить свою гвардию.] – сказал он и, повернув лошадь, поехал назад, к Шевардину.
Кутузов сидел, понурив седую голову и опустившись тяжелым телом, на покрытой ковром лавке, на том самом месте, на котором утром его видел Пьер. Он не делал никаких распоряжении, а только соглашался или не соглашался на то, что предлагали ему.
«Да, да, сделайте это, – отвечал он на различные предложения. – Да, да, съезди, голубчик, посмотри, – обращался он то к тому, то к другому из приближенных; или: – Нет, не надо, лучше подождем», – говорил он. Он выслушивал привозимые ему донесения, отдавал приказания, когда это требовалось подчиненным; но, выслушивая донесения, он, казалось, не интересовался смыслом слов того, что ему говорили, а что то другое в выражении лиц, в тоне речи доносивших интересовало его. Долголетним военным опытом он знал и старческим умом понимал, что руководить сотнями тысяч человек, борющихся с смертью, нельзя одному человеку, и знал, что решают участь сраженья не распоряжения главнокомандующего, не место, на котором стоят войска, не количество пушек и убитых людей, а та неуловимая сила, называемая духом войска, и он следил за этой силой и руководил ею, насколько это было в его власти.
Общее выражение лица Кутузова было сосредоточенное, спокойное внимание и напряжение, едва превозмогавшее усталость слабого и старого тела.
В одиннадцать часов утра ему привезли известие о том, что занятые французами флеши были опять отбиты, но что князь Багратион ранен. Кутузов ахнул и покачал головой.
– Поезжай к князю Петру Ивановичу и подробно узнай, что и как, – сказал он одному из адъютантов и вслед за тем обратился к принцу Виртембергскому, стоявшему позади него:
– Не угодно ли будет вашему высочеству принять командование первой армией.
Вскоре после отъезда принца, так скоро, что он еще не мог доехать до Семеновского, адъютант принца вернулся от него и доложил светлейшему, что принц просит войск.
Кутузов поморщился и послал Дохтурову приказание принять командование первой армией, а принца, без которого, как он сказал, он не может обойтись в эти важные минуты, просил вернуться к себе. Когда привезено было известие о взятии в плен Мюрата и штабные поздравляли Кутузова, он улыбнулся.
– Подождите, господа, – сказал он. – Сражение выиграно, и в пленении Мюрата нет ничего необыкновенного. Но лучше подождать радоваться. – Однако он послал адъютанта проехать по войскам с этим известием.
Когда с левого фланга прискакал Щербинин с донесением о занятии французами флешей и Семеновского, Кутузов, по звукам поля сражения и по лицу Щербинина угадав, что известия были нехорошие, встал, как бы разминая ноги, и, взяв под руку Щербинина, отвел его в сторону.
– Съезди, голубчик, – сказал он Ермолову, – посмотри, нельзя ли что сделать.
Кутузов был в Горках, в центре позиции русского войска. Направленная Наполеоном атака на наш левый фланг была несколько раз отбиваема. В центре французы не подвинулись далее Бородина. С левого фланга кавалерия Уварова заставила бежать французов.
В третьем часу атаки французов прекратились. На всех лицах, приезжавших с поля сражения, и на тех, которые стояли вокруг него, Кутузов читал выражение напряженности, дошедшей до высшей степени. Кутузов был доволен успехом дня сверх ожидания. Но физические силы оставляли старика. Несколько раз голова его низко опускалась, как бы падая, и он задремывал. Ему подали обедать.
Флигель адъютант Вольцоген, тот самый, который, проезжая мимо князя Андрея, говорил, что войну надо im Raum verlegon [перенести в пространство (нем.) ], и которого так ненавидел Багратион, во время обеда подъехал к Кутузову. Вольцоген приехал от Барклая с донесением о ходе дел на левом фланге. Благоразумный Барклай де Толли, видя толпы отбегающих раненых и расстроенные зады армии, взвесив все обстоятельства дела, решил, что сражение было проиграно, и с этим известием прислал к главнокомандующему своего любимца.
Кутузов с трудом жевал жареную курицу и сузившимися, повеселевшими глазами взглянул на Вольцогена.
Вольцоген, небрежно разминая ноги, с полупрезрительной улыбкой на губах, подошел к Кутузову, слегка дотронувшись до козырька рукою.
Вольцоген обращался с светлейшим с некоторой аффектированной небрежностью, имеющей целью показать, что он, как высокообразованный военный, предоставляет русским делать кумира из этого старого, бесполезного человека, а сам знает, с кем он имеет дело. «Der alte Herr (как называли Кутузова в своем кругу немцы) macht sich ganz bequem, [Старый господин покойно устроился (нем.) ] – подумал Вольцоген и, строго взглянув на тарелки, стоявшие перед Кутузовым, начал докладывать старому господину положение дел на левом фланге так, как приказал ему Барклай и как он сам его видел и понял.
– Все пункты нашей позиции в руках неприятеля и отбить нечем, потому что войск нет; они бегут, и нет возможности остановить их, – докладывал он.
Кутузов, остановившись жевать, удивленно, как будто не понимая того, что ему говорили, уставился на Вольцогена. Вольцоген, заметив волнение des alten Herrn, [старого господина (нем.) ] с улыбкой сказал:
– Я не считал себя вправе скрыть от вашей светлости того, что я видел… Войска в полном расстройстве…
– Вы видели? Вы видели?.. – нахмурившись, закричал Кутузов, быстро вставая и наступая на Вольцогена. – Как вы… как вы смеете!.. – делая угрожающие жесты трясущимися руками и захлебываясь, закричал он. – Как смоете вы, милостивый государь, говорить это мне. Вы ничего не знаете. Передайте от меня генералу Барклаю, что его сведения неверны и что настоящий ход сражения известен мне, главнокомандующему, лучше, чем ему.
Вольцоген хотел возразить что то, но Кутузов перебил его.
– Неприятель отбит на левом и поражен на правом фланге. Ежели вы плохо видели, милостивый государь, то не позволяйте себе говорить того, чего вы не знаете. Извольте ехать к генералу Барклаю и передать ему назавтра мое непременное намерение атаковать неприятеля, – строго сказал Кутузов. Все молчали, и слышно было одно тяжелое дыхание запыхавшегося старого генерала. – Отбиты везде, за что я благодарю бога и наше храброе войско. Неприятель побежден, и завтра погоним его из священной земли русской, – сказал Кутузов, крестясь; и вдруг всхлипнул от наступивших слез. Вольцоген, пожав плечами и скривив губы, молча отошел к стороне, удивляясь uber diese Eingenommenheit des alten Herrn. [на это самодурство старого господина. (нем.) ]
– Да, вот он, мой герой, – сказал Кутузов к полному красивому черноволосому генералу, который в это время входил на курган. Это был Раевский, проведший весь день на главном пункте Бородинского поля.
Раевский доносил, что войска твердо стоят на своих местах и что французы не смеют атаковать более. Выслушав его, Кутузов по французски сказал:
– Vous ne pensez donc pas comme lesautres que nous sommes obliges de nous retirer? [Вы, стало быть, не думаете, как другие, что мы должны отступить?]
– Au contraire, votre altesse, dans les affaires indecises c'est loujours le plus opiniatre qui reste victorieux, – отвечал Раевский, – et mon opinion… [Напротив, ваша светлость, в нерешительных делах остается победителем тот, кто упрямее, и мое мнение…]
– Кайсаров! – крикнул Кутузов своего адъютанта. – Садись пиши приказ на завтрашний день. А ты, – обратился он к другому, – поезжай по линии и объяви, что завтра мы атакуем.
Пока шел разговор с Раевским и диктовался приказ, Вольцоген вернулся от Барклая и доложил, что генерал Барклай де Толли желал бы иметь письменное подтверждение того приказа, который отдавал фельдмаршал.
Кутузов, не глядя на Вольцогена, приказал написать этот приказ, который, весьма основательно, для избежания личной ответственности, желал иметь бывший главнокомандующий.
И по неопределимой, таинственной связи, поддерживающей во всей армии одно и то же настроение, называемое духом армии и составляющее главный нерв войны, слова Кутузова, его приказ к сражению на завтрашний день, передались одновременно во все концы войска.
Далеко не самые слова, не самый приказ передавались в последней цепи этой связи. Даже ничего не было похожего в тех рассказах, которые передавали друг другу на разных концах армии, на то, что сказал Кутузов; но смысл его слов сообщился повсюду, потому что то, что сказал Кутузов, вытекало не из хитрых соображений, а из чувства, которое лежало в душе главнокомандующего, так же как и в душе каждого русского человека.
И узнав то, что назавтра мы атакуем неприятеля, из высших сфер армии услыхав подтверждение того, чему они хотели верить, измученные, колеблющиеся люди утешались и ободрялись.
Полк князя Андрея был в резервах, которые до второго часа стояли позади Семеновского в бездействии, под сильным огнем артиллерии. Во втором часу полк, потерявший уже более двухсот человек, был двинут вперед на стоптанное овсяное поле, на тот промежуток между Семеновским и курганной батареей, на котором в этот день были побиты тысячи людей и на который во втором часу дня был направлен усиленно сосредоточенный огонь из нескольких сот неприятельских орудий.
Не сходя с этого места и не выпустив ни одного заряда, полк потерял здесь еще третью часть своих людей. Спереди и в особенности с правой стороны, в нерасходившемся дыму, бубухали пушки и из таинственной области дыма, застилавшей всю местность впереди, не переставая, с шипящим быстрым свистом, вылетали ядра и медлительно свистевшие гранаты. Иногда, как бы давая отдых, проходило четверть часа, во время которых все ядра и гранаты перелетали, но иногда в продолжение минуты несколько человек вырывало из полка, и беспрестанно оттаскивали убитых и уносили раненых.
С каждым новым ударом все меньше и меньше случайностей жизни оставалось для тех, которые еще не были убиты. Полк стоял в батальонных колоннах на расстоянии трехсот шагов, но, несмотря на то, все люди полка находились под влиянием одного и того же настроения. Все люди полка одинаково были молчаливы и мрачны. Редко слышался между рядами говор, но говор этот замолкал всякий раз, как слышался попавший удар и крик: «Носилки!» Большую часть времени люди полка по приказанию начальства сидели на земле. Кто, сняв кивер, старательно распускал и опять собирал сборки; кто сухой глиной, распорошив ее в ладонях, начищал штык; кто разминал ремень и перетягивал пряжку перевязи; кто старательно расправлял и перегибал по новому подвертки и переобувался. Некоторые строили домики из калмыжек пашни или плели плетеночки из соломы жнивья. Все казались вполне погружены в эти занятия. Когда ранило и убивало людей, когда тянулись носилки, когда наши возвращались назад, когда виднелись сквозь дым большие массы неприятелей, никто не обращал никакого внимания на эти обстоятельства. Когда же вперед проезжала артиллерия, кавалерия, виднелись движения нашей пехоты, одобрительные замечания слышались со всех сторон. Но самое большое внимание заслуживали события совершенно посторонние, не имевшие никакого отношения к сражению. Как будто внимание этих нравственно измученных людей отдыхало на этих обычных, житейских событиях. Батарея артиллерии прошла пред фронтом полка. В одном из артиллерийских ящиков пристяжная заступила постромку. «Эй, пристяжную то!.. Выправь! Упадет… Эх, не видят!.. – по всему полку одинаково кричали из рядов. В другой раз общее внимание обратила небольшая коричневая собачонка с твердо поднятым хвостом, которая, бог знает откуда взявшись, озабоченной рысцой выбежала перед ряды и вдруг от близко ударившего ядра взвизгнула и, поджав хвост, бросилась в сторону. По всему полку раздалось гоготанье и взвизги. Но развлечения такого рода продолжались минуты, а люди уже более восьми часов стояли без еды и без дела под непроходящим ужасом смерти, и бледные и нахмуренные лица все более бледнели и хмурились.
Князь Андрей, точно так же как и все люди полка, нахмуренный и бледный, ходил взад и вперед по лугу подле овсяного поля от одной межи до другой, заложив назад руки и опустив голову. Делать и приказывать ему нечего было. Все делалось само собою. Убитых оттаскивали за фронт, раненых относили, ряды смыкались. Ежели отбегали солдаты, то они тотчас же поспешно возвращались. Сначала князь Андрей, считая своею обязанностью возбуждать мужество солдат и показывать им пример, прохаживался по рядам; но потом он убедился, что ему нечему и нечем учить их. Все силы его души, точно так же как и каждого солдата, были бессознательно направлены на то, чтобы удержаться только от созерцания ужаса того положения, в котором они были. Он ходил по лугу, волоча ноги, шаршавя траву и наблюдая пыль, которая покрывала его сапоги; то он шагал большими шагами, стараясь попадать в следы, оставленные косцами по лугу, то он, считая свои шаги, делал расчеты, сколько раз он должен пройти от межи до межи, чтобы сделать версту, то ошмурыгывал цветки полыни, растущие на меже, и растирал эти цветки в ладонях и принюхивался к душисто горькому, крепкому запаху. Изо всей вчерашней работы мысли не оставалось ничего. Он ни о чем не думал. Он прислушивался усталым слухом все к тем же звукам, различая свистенье полетов от гула выстрелов, посматривал на приглядевшиеся лица людей 1 го батальона и ждал. «Вот она… эта опять к нам! – думал он, прислушиваясь к приближавшемуся свисту чего то из закрытой области дыма. – Одна, другая! Еще! Попало… Он остановился и поглядел на ряды. „Нет, перенесло. А вот это попало“. И он опять принимался ходить, стараясь делать большие шаги, чтобы в шестнадцать шагов дойти до межи.
Свист и удар! В пяти шагах от него взрыло сухую землю и скрылось ядро. Невольный холод пробежал по его спине. Он опять поглядел на ряды. Вероятно, вырвало многих; большая толпа собралась у 2 го батальона.
– Господин адъютант, – прокричал он, – прикажите, чтобы не толпились. – Адъютант, исполнив приказание, подходил к князю Андрею. С другой стороны подъехал верхом командир батальона.
– Берегись! – послышался испуганный крик солдата, и, как свистящая на быстром полете, приседающая на землю птичка, в двух шагах от князя Андрея, подле лошади батальонного командира, негромко шлепнулась граната. Лошадь первая, не спрашивая того, хорошо или дурно было высказывать страх, фыркнула, взвилась, чуть не сронив майора, и отскакала в сторону. Ужас лошади сообщился людям.
– Ложись! – крикнул голос адъютанта, прилегшего к земле. Князь Андрей стоял в нерешительности. Граната, как волчок, дымясь, вертелась между ним и лежащим адъютантом, на краю пашни и луга, подле куста полыни.
«Неужели это смерть? – думал князь Андрей, совершенно новым, завистливым взглядом глядя на траву, на полынь и на струйку дыма, вьющуюся от вертящегося черного мячика. – Я не могу, я не хочу умереть, я люблю жизнь, люблю эту траву, землю, воздух… – Он думал это и вместе с тем помнил о том, что на него смотрят.
– Стыдно, господин офицер! – сказал он адъютанту. – Какой… – он не договорил. В одно и то же время послышался взрыв, свист осколков как бы разбитой рамы, душный запах пороха – и князь Андрей рванулся в сторону и, подняв кверху руку, упал на грудь.
Несколько офицеров подбежало к нему. С правой стороны живота расходилось по траве большое пятно крови.
Вызванные ополченцы с носилками остановились позади офицеров. Князь Андрей лежал на груди, опустившись лицом до травы, и, тяжело, всхрапывая, дышал.
– Ну что стали, подходи!
Мужики подошли и взяли его за плечи и ноги, но он жалобно застонал, и мужики, переглянувшись, опять отпустили его.
– Берись, клади, всё одно! – крикнул чей то голос. Его другой раз взяли за плечи и положили на носилки.
– Ах боже мой! Боже мой! Что ж это?.. Живот! Это конец! Ах боже мой! – слышались голоса между офицерами. – На волосок мимо уха прожужжала, – говорил адъютант. Мужики, приладивши носилки на плечах, поспешно тронулись по протоптанной ими дорожке к перевязочному пункту.
– В ногу идите… Э!.. мужичье! – крикнул офицер, за плечи останавливая неровно шедших и трясущих носилки мужиков.
– Подлаживай, что ль, Хведор, а Хведор, – говорил передний мужик.
– Вот так, важно, – радостно сказал задний, попав в ногу.
– Ваше сиятельство? А? Князь? – дрожащим голосом сказал подбежавший Тимохин, заглядывая в носилки.
Князь Андрей открыл глаза и посмотрел из за носилок, в которые глубоко ушла его голова, на того, кто говорил, и опять опустил веки.
Ополченцы принесли князя Андрея к лесу, где стояли фуры и где был перевязочный пункт. Перевязочный пункт состоял из трех раскинутых, с завороченными полами, палаток на краю березника. В березнике стояла фуры и лошади. Лошади в хребтугах ели овес, и воробьи слетали к ним и подбирали просыпанные зерна. Воронья, чуя кровь, нетерпеливо каркая, перелетали на березах. Вокруг палаток, больше чем на две десятины места, лежали, сидели, стояли окровавленные люди в различных одеждах. Вокруг раненых, с унылыми и внимательными лицами, стояли толпы солдат носильщиков, которых тщетно отгоняли от этого места распоряжавшиеся порядком офицеры. Не слушая офицеров, солдаты стояли, опираясь на носилки, и пристально, как будто пытаясь понять трудное значение зрелища, смотрели на то, что делалось перед ними. Из палаток слышались то громкие, злые вопли, то жалобные стенания. Изредка выбегали оттуда фельдшера за водой и указывали на тех, который надо было вносить. Раненые, ожидая у палатки своей очереди, хрипели, стонали, плакали, кричали, ругались, просили водки. Некоторые бредили. Князя Андрея, как полкового командира, шагая через неперевязанных раненых, пронесли ближе к одной из палаток и остановились, ожидая приказания. Князь Андрей открыл глаза и долго не мог понять того, что делалось вокруг него. Луг, полынь, пашня, черный крутящийся мячик и его страстный порыв любви к жизни вспомнились ему. В двух шагах от него, громко говоря и обращая на себя общее внимание, стоял, опершись на сук и с обвязанной головой, высокий, красивый, черноволосый унтер офицер. Он был ранен в голову и ногу пулями. Вокруг него, жадно слушая его речь, собралась толпа раненых и носильщиков.
– Мы его оттеда как долбанули, так все побросал, самого короля забрали! – блестя черными разгоряченными глазами и оглядываясь вокруг себя, кричал солдат. – Подойди только в тот самый раз лезервы, его б, братец ты мой, звания не осталось, потому верно тебе говорю…
Князь Андрей, так же как и все окружавшие рассказчика, блестящим взглядом смотрел на него и испытывал утешительное чувство. «Но разве не все равно теперь, – подумал он. – А что будет там и что такое было здесь? Отчего мне так жалко было расставаться с жизнью? Что то было в этой жизни, чего я не понимал и не понимаю».
Один из докторов, в окровавленном фартуке и с окровавленными небольшими руками, в одной из которых он между мизинцем и большим пальцем (чтобы не запачкать ее) держал сигару, вышел из палатки. Доктор этот поднял голову и стал смотреть по сторонам, но выше раненых. Он, очевидно, хотел отдохнуть немного. Поводив несколько времени головой вправо и влево, он вздохнул и опустил глаза.
– Ну, сейчас, – сказал он на слова фельдшера, указывавшего ему на князя Андрея, и велел нести его в палатку.
В толпе ожидавших раненых поднялся ропот.
– Видно, и на том свете господам одним жить, – проговорил один.
Князя Андрея внесли и положили на только что очистившийся стол, с которого фельдшер споласкивал что то. Князь Андрей не мог разобрать в отдельности того, что было в палатке. Жалобные стоны с разных сторон, мучительная боль бедра, живота и спины развлекали его. Все, что он видел вокруг себя, слилось для него в одно общее впечатление обнаженного, окровавленного человеческого тела, которое, казалось, наполняло всю низкую палатку, как несколько недель тому назад в этот жаркий, августовский день это же тело наполняло грязный пруд по Смоленской дороге. Да, это было то самое тело, та самая chair a canon [мясо для пушек], вид которой еще тогда, как бы предсказывая теперешнее, возбудил в нем ужас.
В палатке было три стола. Два были заняты, на третий положили князя Андрея. Несколько времени его оставили одного, и он невольно увидал то, что делалось на других двух столах. На ближнем столе сидел татарин, вероятно, казак – по мундиру, брошенному подле. Четверо солдат держали его. Доктор в очках что то резал в его коричневой, мускулистой спине.
– Ух, ух, ух!.. – как будто хрюкал татарин, и вдруг, подняв кверху свое скуластое черное курносое лицо, оскалив белые зубы, начинал рваться, дергаться и визжат ь пронзительно звенящим, протяжным визгом. На другом столе, около которого толпилось много народа, на спине лежал большой, полный человек с закинутой назад головой (вьющиеся волоса, их цвет и форма головы показались странно знакомы князю Андрею). Несколько человек фельдшеров навалились на грудь этому человеку и держали его. Белая большая полная нога быстро и часто, не переставая, дергалась лихорадочными трепетаниями. Человек этот судорожно рыдал и захлебывался. Два доктора молча – один был бледен и дрожал – что то делали над другой, красной ногой этого человека. Управившись с татарином, на которого накинули шинель, доктор в очках, обтирая руки, подошел к князю Андрею. Он взглянул в лицо князя Андрея и поспешно отвернулся.
– Раздеть! Что стоите? – крикнул он сердито на фельдшеров.
Самое первое далекое детство вспомнилось князю Андрею, когда фельдшер торопившимися засученными руками расстегивал ему пуговицы и снимал с него платье. Доктор низко нагнулся над раной, ощупал ее и тяжело вздохнул. Потом он сделал знак кому то. И мучительная боль внутри живота заставила князя Андрея потерять сознание. Когда он очнулся, разбитые кости бедра были вынуты, клоки мяса отрезаны, и рана перевязана. Ему прыскали в лицо водою. Как только князь Андрей открыл глаза, доктор нагнулся над ним, молча поцеловал его в губы и поспешно отошел.
После перенесенного страдания князь Андрей чувствовал блаженство, давно не испытанное им. Все лучшие, счастливейшие минуты в его жизни, в особенности самое дальнее детство, когда его раздевали и клали в кроватку, когда няня, убаюкивая, пела над ним, когда, зарывшись головой в подушки, он чувствовал себя счастливым одним сознанием жизни, – представлялись его воображению даже не как прошедшее, а как действительность.
Около того раненого, очертания головы которого казались знакомыми князю Андрею, суетились доктора; его поднимали и успокоивали.
– Покажите мне… Ооооо! о! ооооо! – слышался его прерываемый рыданиями, испуганный и покорившийся страданию стон. Слушая эти стоны, князь Андрей хотел плакать. Оттого ли, что он без славы умирал, оттого ли, что жалко ему было расставаться с жизнью, от этих ли невозвратимых детских воспоминаний, оттого ли, что он страдал, что другие страдали и так жалостно перед ним стонал этот человек, но ему хотелось плакать детскими, добрыми, почти радостными слезами.
Раненому показали в сапоге с запекшейся кровью отрезанную ногу.
– О! Ооооо! – зарыдал он, как женщина. Доктор, стоявший перед раненым, загораживая его лицо, отошел.
– Боже мой! Что это? Зачем он здесь? – сказал себе князь Андрей.
В несчастном, рыдающем, обессилевшем человеке, которому только что отняли ногу, он узнал Анатоля Курагина. Анатоля держали на руках и предлагали ему воду в стакане, края которого он не мог поймать дрожащими, распухшими губами. Анатоль тяжело всхлипывал. «Да, это он; да, этот человек чем то близко и тяжело связан со мною, – думал князь Андрей, не понимая еще ясно того, что было перед ним. – В чем состоит связь этого человека с моим детством, с моею жизнью? – спрашивал он себя, не находя ответа. И вдруг новое, неожиданное воспоминание из мира детского, чистого и любовного, представилось князю Андрею. Он вспомнил Наташу такою, какою он видел ее в первый раз на бале 1810 года, с тонкой шеей и тонкими рукамис готовым на восторг, испуганным, счастливым лицом, и любовь и нежность к ней, еще живее и сильнее, чем когда либо, проснулись в его душе. Он вспомнил теперь ту связь, которая существовала между им и этим человеком, сквозь слезы, наполнявшие распухшие глаза, мутно смотревшим на него. Князь Андрей вспомнил все, и восторженная жалость и любовь к этому человеку наполнили его счастливое сердце.
Князь Андрей не мог удерживаться более и заплакал нежными, любовными слезами над людьми, над собой и над их и своими заблуждениями.
«Сострадание, любовь к братьям, к любящим, любовь к ненавидящим нас, любовь к врагам – да, та любовь, которую проповедовал бог на земле, которой меня учила княжна Марья и которой я не понимал; вот отчего мне жалко было жизни, вот оно то, что еще оставалось мне, ежели бы я был жив. Но теперь уже поздно. Я знаю это!»
Страшный вид поля сражения, покрытого трупами и ранеными, в соединении с тяжестью головы и с известиями об убитых и раненых двадцати знакомых генералах и с сознанием бессильности своей прежде сильной руки произвели неожиданное впечатление на Наполеона, который обыкновенно любил рассматривать убитых и раненых, испытывая тем свою душевную силу (как он думал). В этот день ужасный вид поля сражения победил ту душевную силу, в которой он полагал свою заслугу и величие. Он поспешно уехал с поля сражения и возвратился к Шевардинскому кургану. Желтый, опухлый, тяжелый, с мутными глазами, красным носом и охриплым голосом, он сидел на складном стуле, невольно прислушиваясь к звукам пальбы и не поднимая глаз. Он с болезненной тоской ожидал конца того дела, которого он считал себя причиной, но которого он не мог остановить. Личное человеческое чувство на короткое мгновение взяло верх над тем искусственным призраком жизни, которому он служил так долго. Он на себя переносил те страдания и ту смерть, которые он видел на поле сражения. Тяжесть головы и груди напоминала ему о возможности и для себя страданий и смерти. Он в эту минуту не хотел для себя ни Москвы, ни победы, ни славы. (Какой нужно было ему еще славы?) Одно, чего он желал теперь, – отдыха, спокойствия и свободы. Но когда он был на Семеновской высоте, начальник артиллерии предложил ему выставить несколько батарей на эти высоты, для того чтобы усилить огонь по столпившимся перед Князьковым русским войскам. Наполеон согласился и приказал привезти ему известие о том, какое действие произведут эти батареи.
Адъютант приехал сказать, что по приказанию императора двести орудий направлены на русских, но что русские все так же стоят.
– Наш огонь рядами вырывает их, а они стоят, – сказал адъютант.
– Ils en veulent encore!.. [Им еще хочется!..] – сказал Наполеон охриплым голосом.
– Sire? [Государь?] – повторил не расслушавший адъютант.
– Ils en veulent encore, – нахмурившись, прохрипел Наполеон осиплым голосом, – donnez leur en. [Еще хочется, ну и задайте им.]
И без его приказания делалось то, чего он хотел, и он распорядился только потому, что думал, что от него ждали приказания. И он опять перенесся в свой прежний искусственный мир призраков какого то величия, и опять (как та лошадь, ходящая на покатом колесе привода, воображает себе, что она что то делает для себя) он покорно стал исполнять ту жестокую, печальную и тяжелую, нечеловеческую роль, которая ему была предназначена.
И не на один только этот час и день были помрачены ум и совесть этого человека, тяжеле всех других участников этого дела носившего на себе всю тяжесть совершавшегося; но и никогда, до конца жизни, не мог понимать он ни добра, ни красоты, ни истины, ни значения своих поступков, которые были слишком противоположны добру и правде, слишком далеки от всего человеческого, для того чтобы он мог понимать их значение. Он не мог отречься от своих поступков, восхваляемых половиной света, и потому должен был отречься от правды и добра и всего человеческого.
Не в один только этот день, объезжая поле сражения, уложенное мертвыми и изувеченными людьми (как он думал, по его воле), он, глядя на этих людей, считал, сколько приходится русских на одного француза, и, обманывая себя, находил причины радоваться, что на одного француза приходилось пять русских. Не в один только этот день он писал в письме в Париж, что le champ de bataille a ete superbe [поле сражения было великолепно], потому что на нем было пятьдесят тысяч трупов; но и на острове Св. Елены, в тиши уединения, где он говорил, что он намерен был посвятить свои досуги изложению великих дел, которые он сделал, он писал:
«La guerre de Russie eut du etre la plus populaire des temps modernes: c'etait celle du bon sens et des vrais interets, celle du repos et de la securite de tous; elle etait purement pacifique et conservatrice.
C'etait pour la grande cause, la fin des hasards elle commencement de la securite. Un nouvel horizon, de nouveaux travaux allaient se derouler, tout plein du bien etre et de la prosperite de tous. Le systeme europeen se trouvait fonde; il n'etait plus question que de l'organiser.
Satisfait sur ces grands points et tranquille partout, j'aurais eu aussi mon congres et ma sainte alliance. Ce sont des idees qu'on m'a volees. Dans cette reunion de grands souverains, nous eussions traites de nos interets en famille et compte de clerc a maitre avec les peuples.
L'Europe n'eut bientot fait de la sorte veritablement qu'un meme peuple, et chacun, en voyageant partout, se fut trouve toujours dans la patrie commune. Il eut demande toutes les rivieres navigables pour tous, la communaute des mers, et que les grandes armees permanentes fussent reduites desormais a la seule garde des souverains.
De retour en France, au sein de la patrie, grande, forte, magnifique, tranquille, glorieuse, j'eusse proclame ses limites immuables; toute guerre future, purement defensive; tout agrandissement nouveau antinational. J'eusse associe mon fils a l'Empire; ma dictature eut fini, et son regne constitutionnel eut commence…
Paris eut ete la capitale du monde, et les Francais l'envie des nations!..
Mes loisirs ensuite et mes vieux jours eussent ete consacres, en compagnie de l'imperatrice et durant l'apprentissage royal de mon fils, a visiter lentement et en vrai couple campagnard, avec nos propres chevaux, tous les recoins de l'Empire, recevant les plaintes, redressant les torts, semant de toutes parts et partout les monuments et les bienfaits.
Русская война должна бы была быть самая популярная в новейшие времена: это была война здравого смысла и настоящих выгод, война спокойствия и безопасности всех; она была чисто миролюбивая и консервативная.
Это было для великой цели, для конца случайностей и для начала спокойствия. Новый горизонт, новые труды открывались бы, полные благосостояния и благоденствия всех. Система европейская была бы основана, вопрос заключался бы уже только в ее учреждении.
Удовлетворенный в этих великих вопросах и везде спокойный, я бы тоже имел свой конгресс и свой священный союз. Это мысли, которые у меня украли. В этом собрании великих государей мы обсуживали бы наши интересы семейно и считались бы с народами, как писец с хозяином.
Европа действительно скоро составила бы таким образом один и тот же народ, и всякий, путешествуя где бы то ни было, находился бы всегда в общей родине.
Я бы выговорил, чтобы все реки были судоходны для всех, чтобы море было общее, чтобы постоянные, большие армии были уменьшены единственно до гвардии государей и т.д.
Возвратясь во Францию, на родину, великую, сильную, великолепную, спокойную, славную, я провозгласил бы границы ее неизменными; всякую будущую войну защитительной; всякое новое распространение – антинациональным; я присоединил бы своего сына к правлению империей; мое диктаторство кончилось бы, в началось бы его конституционное правление…
Париж был бы столицей мира и французы предметом зависти всех наций!..
Потом мои досуги и последние дни были бы посвящены, с помощью императрицы и во время царственного воспитывания моего сына, на то, чтобы мало помалу посещать, как настоящая деревенская чета, на собственных лошадях, все уголки государства, принимая жалобы, устраняя несправедливости, рассевая во все стороны и везде здания и благодеяния.]
Он, предназначенный провидением на печальную, несвободную роль палача народов, уверял себя, что цель его поступков была благо народов и что он мог руководить судьбами миллионов и путем власти делать благодеяния!
«Des 400000 hommes qui passerent la Vistule, – писал он дальше о русской войне, – la moitie etait Autrichiens, Prussiens, Saxons, Polonais, Bavarois, Wurtembergeois, Mecklembourgeois, Espagnols, Italiens, Napolitains. L'armee imperiale, proprement dite, etait pour un tiers composee de Hollandais, Belges, habitants des bords du Rhin, Piemontais, Suisses, Genevois, Toscans, Romains, habitants de la 32 e division militaire, Breme, Hambourg, etc.; elle comptait a peine 140000 hommes parlant francais. L'expedition do Russie couta moins de 50000 hommes a la France actuelle; l'armee russe dans la retraite de Wilna a Moscou, dans les differentes batailles, a perdu quatre fois plus que l'armee francaise; l'incendie de Moscou a coute la vie a 100000 Russes, morts de froid et de misere dans les bois; enfin dans sa marche de Moscou a l'Oder, l'armee russe fut aussi atteinte par, l'intemperie de la saison; elle ne comptait a son arrivee a Wilna que 50000 hommes, et a Kalisch moins de 18000».
[Из 400000 человек, которые перешли Вислу, половина была австрийцы, пруссаки, саксонцы, поляки, баварцы, виртембергцы, мекленбургцы, испанцы, итальянцы и неаполитанцы. Императорская армия, собственно сказать, была на треть составлена из голландцев, бельгийцев, жителей берегов Рейна, пьемонтцев, швейцарцев, женевцев, тосканцев, римлян, жителей 32 й военной дивизии, Бремена, Гамбурга и т.д.; в ней едва ли было 140000 человек, говорящих по французски. Русская экспедиция стоила собственно Франции менее 50000 человек; русская армия в отступлении из Вильны в Москву в различных сражениях потеряла в четыре раза более, чем французская армия; пожар Москвы стоил жизни 100000 русских, умерших от холода и нищеты в лесах; наконец во время своего перехода от Москвы к Одеру русская армия тоже пострадала от суровости времени года; по приходе в Вильну она состояла только из 50000 людей, а в Калише менее 18000.]
Он воображал себе, что по его воле произошла война с Россией, и ужас совершившегося не поражал его душу. Он смело принимал на себя всю ответственность события, и его помраченный ум видел оправдание в том, что в числе сотен тысяч погибших людей было меньше французов, чем гессенцев и баварцев.
Несколько десятков тысяч человек лежало мертвыми в разных положениях и мундирах на полях и лугах, принадлежавших господам Давыдовым и казенным крестьянам, на тех полях и лугах, на которых сотни лет одновременно сбирали урожаи и пасли скот крестьяне деревень Бородина, Горок, Шевардина и Семеновского. На перевязочных пунктах на десятину места трава и земля были пропитаны кровью. Толпы раненых и нераненых разных команд людей, с испуганными лицами, с одной стороны брели назад к Можайску, с другой стороны – назад к Валуеву. Другие толпы, измученные и голодные, ведомые начальниками, шли вперед. Третьи стояли на местах и продолжали стрелять.
Над всем полем, прежде столь весело красивым, с его блестками штыков и дымами в утреннем солнце, стояла теперь мгла сырости и дыма и пахло странной кислотой селитры и крови. Собрались тучки, и стал накрапывать дождик на убитых, на раненых, на испуганных, и на изнуренных, и на сомневающихся людей. Как будто он говорил: «Довольно, довольно, люди. Перестаньте… Опомнитесь. Что вы делаете?»
Измученным, без пищи и без отдыха, людям той и другой стороны начинало одинаково приходить сомнение о том, следует ли им еще истреблять друг друга, и на всех лицах было заметно колебанье, и в каждой душе одинаково поднимался вопрос: «Зачем, для кого мне убивать и быть убитому? Убивайте, кого хотите, делайте, что хотите, а я не хочу больше!» Мысль эта к вечеру одинаково созрела в душе каждого. Всякую минуту могли все эти люди ужаснуться того, что они делали, бросить всо и побежать куда попало.
Но хотя уже к концу сражения люди чувствовали весь ужас своего поступка, хотя они и рады бы были перестать, какая то непонятная, таинственная сила еще продолжала руководить ими, и, запотелые, в порохе и крови, оставшиеся по одному на три, артиллеристы, хотя и спотыкаясь и задыхаясь от усталости, приносили заряды, заряжали, наводили, прикладывали фитили; и ядра так же быстро и жестоко перелетали с обеих сторон и расплюскивали человеческое тело, и продолжало совершаться то страшное дело, которое совершается не по воле людей, а по воле того, кто руководит людьми и мирами.
Тот, кто посмотрел бы на расстроенные зады русской армии, сказал бы, что французам стоит сделать еще одно маленькое усилие, и русская армия исчезнет; и тот, кто посмотрел бы на зады французов, сказал бы, что русским стоит сделать еще одно маленькое усилие, и французы погибнут. Но ни французы, ни русские не делали этого усилия, и пламя сражения медленно догорало.
Русские не делали этого усилия, потому что не они атаковали французов. В начале сражения они только стояли по дороге в Москву, загораживая ее, и точно так же они продолжали стоять при конце сражения, как они стояли при начале его. Но ежели бы даже цель русских состояла бы в том, чтобы сбить французов, они не могли сделать это последнее усилие, потому что все войска русских были разбиты, не было ни одной части войск, не пострадавшей в сражении, и русские, оставаясь на своих местах, потеряли половину своего войска.
Французам, с воспоминанием всех прежних пятнадцатилетних побед, с уверенностью в непобедимости Наполеона, с сознанием того, что они завладели частью поля сраженья, что они потеряли только одну четверть людей и что у них еще есть двадцатитысячная нетронутая гвардия, легко было сделать это усилие. Французам, атаковавшим русскую армию с целью сбить ее с позиции, должно было сделать это усилие, потому что до тех пор, пока русские, точно так же как и до сражения, загораживали дорогу в Москву, цель французов не была достигнута и все их усилия и потери пропали даром. Но французы не сделали этого усилия. Некоторые историки говорят, что Наполеону стоило дать свою нетронутую старую гвардию для того, чтобы сражение было выиграно. Говорить о том, что бы было, если бы Наполеон дал свою гвардию, все равно что говорить о том, что бы было, если б осенью сделалась весна. Этого не могло быть. Не Наполеон не дал своей гвардии, потому что он не захотел этого, но этого нельзя было сделать. Все генералы, офицеры, солдаты французской армии знали, что этого нельзя было сделать, потому что упадший дух войска не позволял этого.
Не один Наполеон испытывал то похожее на сновиденье чувство, что страшный размах руки падает бессильно, но все генералы, все участвовавшие и не участвовавшие солдаты французской армии, после всех опытов прежних сражений (где после вдесятеро меньших усилий неприятель бежал), испытывали одинаковое чувство ужаса перед тем врагом, который, потеряв половину войска, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения. Нравственная сила французской, атакующей армии была истощена. Не та победа, которая определяется подхваченными кусками материи на палках, называемых знаменами, и тем пространством, на котором стояли и стоят войска, – а победа нравственная, та, которая убеждает противника в нравственном превосходстве своего врага и в своем бессилии, была одержана русскими под Бородиным. Французское нашествие, как разъяренный зверь, получивший в своем разбеге смертельную рану, чувствовало свою погибель; но оно не могло остановиться, так же как и не могло не отклониться вдвое слабейшее русское войско. После данного толчка французское войско еще могло докатиться до Москвы; но там, без новых усилий со стороны русского войска, оно должно было погибнуть, истекая кровью от смертельной, нанесенной при Бородине, раны. Прямым следствием Бородинского сражения было беспричинное бегство Наполеона из Москвы, возвращение по старой Смоленской дороге, погибель пятисоттысячного нашествия и погибель наполеоновской Франции, на которую в первый раз под Бородиным была наложена рука сильнейшего духом противника.
Для человеческого ума непонятна абсолютная непрерывность движения. Человеку становятся понятны законы какого бы то ни было движения только тогда, когда он рассматривает произвольно взятые единицы этого движения. Но вместе с тем из этого то произвольного деления непрерывного движения на прерывные единицы проистекает большая часть человеческих заблуждений.
Известен так называемый софизм древних, состоящий в том, что Ахиллес никогда не догонит впереди идущую черепаху, несмотря на то, что Ахиллес идет в десять раз скорее черепахи: как только Ахиллес пройдет пространство, отделяющее его от черепахи, черепаха пройдет впереди его одну десятую этого пространства; Ахиллес пройдет эту десятую, черепаха пройдет одну сотую и т. д. до бесконечности. Задача эта представлялась древним неразрешимою. Бессмысленность решения (что Ахиллес никогда не догонит черепаху) вытекала из того только, что произвольно были допущены прерывные единицы движения, тогда как движение и Ахиллеса и черепахи совершалось непрерывно.
Принимая все более и более мелкие единицы движения, мы только приближаемся к решению вопроса, но никогда не достигаем его. Только допустив бесконечно малую величину и восходящую от нее прогрессию до одной десятой и взяв сумму этой геометрической прогрессии, мы достигаем решения вопроса. Новая отрасль математики, достигнув искусства обращаться с бесконечно малыми величинами, и в других более сложных вопросах движения дает теперь ответы на вопросы, казавшиеся неразрешимыми.
Эта новая, неизвестная древним, отрасль математики, при рассмотрении вопросов движения, допуская бесконечно малые величины, то есть такие, при которых восстановляется главное условие движения (абсолютная непрерывность), тем самым исправляет ту неизбежную ошибку, которую ум человеческий не может не делать, рассматривая вместо непрерывного движения отдельные единицы движения.
В отыскании законов исторического движения происходит совершенно то же.
Движение человечества, вытекая из бесчисленного количества людских произволов, совершается непрерывно.
Постижение законов этого движения есть цель истории. Но для того, чтобы постигнуть законы непрерывного движения суммы всех произволов людей, ум человеческий допускает произвольные, прерывные единицы. Первый прием истории состоит в том, чтобы, взяв произвольный ряд непрерывных событий, рассматривать его отдельно от других, тогда как нет и не может быть начала никакого события, а всегда одно событие непрерывно вытекает из другого. Второй прием состоит в том, чтобы рассматривать действие одного человека, царя, полководца, как сумму произволов людей, тогда как сумма произволов людских никогда не выражается в деятельности одного исторического лица.
Историческая наука в движении своем постоянно принимает все меньшие и меньшие единицы для рассмотрения и этим путем стремится приблизиться к истине. Но как ни мелки единицы, которые принимает история, мы чувствуем, что допущение единицы, отделенной от другой, допущение начала какого нибудь явления и допущение того, что произволы всех людей выражаются в действиях одного исторического лица, ложны сами в себе.
Всякий вывод истории, без малейшего усилия со стороны критики, распадается, как прах, ничего не оставляя за собой, только вследствие того, что критика избирает за предмет наблюдения большую или меньшую прерывную единицу; на что она всегда имеет право, так как взятая историческая единица всегда произвольна.
Только допустив бесконечно малую единицу для наблюдения – дифференциал истории, то есть однородные влечения людей, и достигнув искусства интегрировать (брать суммы этих бесконечно малых), мы можем надеяться на постигновение законов истории.
Первые пятнадцать лет XIX столетия в Европе представляют необыкновенное движение миллионов людей. Люди оставляют свои обычные занятия, стремятся с одной стороны Европы в другую, грабят, убивают один другого, торжествуют и отчаиваются, и весь ход жизни на несколько лет изменяется и представляет усиленное движение, которое сначала идет возрастая, потом ослабевая. Какая причина этого движения или по каким законам происходило оно? – спрашивает ум человеческий.
Историки, отвечая на этот вопрос, излагают нам деяния и речи нескольких десятков людей в одном из зданий города Парижа, называя эти деяния и речи словом революция; потом дают подробную биографию Наполеона и некоторых сочувственных и враждебных ему лиц, рассказывают о влиянии одних из этих лиц на другие и говорят: вот отчего произошло это движение, и вот законы его.
Но ум человеческий не только отказывается верить в это объяснение, но прямо говорит, что прием объяснения не верен, потому что при этом объяснении слабейшее явление принимается за причину сильнейшего. Сумма людских произволов сделала и революцию и Наполеона, и только сумма этих произволов терпела их и уничтожила.
«Но всякий раз, когда были завоевания, были завоеватели; всякий раз, когда делались перевороты в государстве, были великие люди», – говорит история. Действительно, всякий раз, когда являлись завоеватели, были и войны, отвечает ум человеческий, но это не доказывает, чтобы завоеватели были причинами войн и чтобы возможно было найти законы войны в личной деятельности одного человека. Всякий раз, когда я, глядя на свои часы, вижу, что стрелка подошла к десяти, я слышу, что в соседней церкви начинается благовест, но из того, что всякий раз, что стрелка приходит на десять часов тогда, как начинается благовест, я не имею права заключить, что положение стрелки есть причина движения колоколов.
Всякий раз, как я вижу движение паровоза, я слышу звук свиста, вижу открытие клапана и движение колес; но из этого я не имею права заключить, что свист и движение колес суть причины движения паровоза.
Крестьяне говорят, что поздней весной дует холодный ветер, потому что почка дуба развертывается, и действительно, всякую весну дует холодный ветер, когда развертывается дуб. Но хотя причина дующего при развертыванье дуба холодного ветра мне неизвестна, я не могу согласиться с крестьянами в том, что причина холодного ветра есть раэвертыванье почки дуба, потому только, что сила ветра находится вне влияний почки. Я вижу только совпадение тех условий, которые бывают во всяком жизненном явлении, и вижу, что, сколько бы и как бы подробно я ни наблюдал стрелку часов, клапан и колеса паровоза и почку дуба, я не узнаю причину благовеста, движения паровоза и весеннего ветра. Для этого я должен изменить совершенно свою точку наблюдения и изучать законы движения пара, колокола и ветра. То же должна сделать история. И попытки этого уже были сделаны.
Для изучения законов истории мы должны изменить совершенно предмет наблюдения, оставить в покое царей, министров и генералов, а изучать однородные, бесконечно малые элементы, которые руководят массами. Никто не может сказать, насколько дано человеку достигнуть этим путем понимания законов истории; но очевидно, что на этом пути только лежит возможность уловления исторических законов и что на этом пути не положено еще умом человеческим одной миллионной доли тех усилий, которые положены историками на описание деяний различных царей, полководцев и министров и на изложение своих соображений по случаю этих деяний.
Силы двунадесяти языков Европы ворвались в Россию. Русское войско и население отступают, избегая столкновения, до Смоленска и от Смоленска до Бородина. Французское войско с постоянно увеличивающеюся силой стремительности несется к Москве, к цели своего движения. Сила стремительности его, приближаясь к цели, увеличивается подобно увеличению быстроты падающего тела по мере приближения его к земле. Назади тысяча верст голодной, враждебной страны; впереди десятки верст, отделяющие от цели. Это чувствует всякий солдат наполеоновской армии, и нашествие надвигается само собой, по одной силе стремительности.
В русском войске по мере отступления все более и более разгорается дух озлобления против врага: отступая назад, оно сосредоточивается и нарастает. Под Бородиным происходит столкновение. Ни то, ни другое войско не распадаются, но русское войско непосредственно после столкновения отступает так же необходимо, как необходимо откатывается шар, столкнувшись с другим, с большей стремительностью несущимся на него шаром; и так же необходимо (хотя и потерявший всю свою силу в столкновении) стремительно разбежавшийся шар нашествия прокатывается еще некоторое пространство.
Русские отступают за сто двадцать верст – за Москву, французы доходят до Москвы и там останавливаются. В продолжение пяти недель после этого нет ни одного сражения. Французы не двигаются. Подобно смертельно раненному зверю, который, истекая кровью, зализывает свои раны, они пять недель остаются в Москве, ничего не предпринимая, и вдруг, без всякой новой причины, бегут назад: бросаются на Калужскую дорогу (и после победы, так как опять поле сражения осталось за ними под Малоярославцем), не вступая ни в одно серьезное сражение, бегут еще быстрее назад в Смоленск, за Смоленск, за Вильну, за Березину и далее.
В вечер 26 го августа и Кутузов, и вся русская армия были уверены, что Бородинское сражение выиграно. Кутузов так и писал государю. Кутузов приказал готовиться на новый бой, чтобы добить неприятеля не потому, чтобы он хотел кого нибудь обманывать, но потому, что он знал, что враг побежден, так же как знал это каждый из участников сражения.
Но в тот же вечер и на другой день стали, одно за другим, приходить известия о потерях неслыханных, о потере половины армии, и новое сражение оказалось физически невозможным.
Нельзя было давать сражения, когда еще не собраны были сведения, не убраны раненые, не пополнены снаряды, не сочтены убитые, не назначены новые начальники на места убитых, не наелись и не выспались люди.
А вместе с тем сейчас же после сражения, на другое утро, французское войско (по той стремительной силе движения, увеличенного теперь как бы в обратном отношении квадратов расстояний) уже надвигалось само собой на русское войско. Кутузов хотел атаковать на другой день, и вся армия хотела этого. Но для того чтобы атаковать, недостаточно желания сделать это; нужно, чтоб была возможность это сделать, а возможности этой не было. Нельзя было не отступить на один переход, потом точно так же нельзя было не отступить на другой и на третий переход, и наконец 1 го сентября, – когда армия подошла к Москве, – несмотря на всю силу поднявшегося чувства в рядах войск, сила вещей требовала того, чтобы войска эти шли за Москву. И войска отступили ещо на один, на последний переход и отдали Москву неприятелю.
Для тех людей, которые привыкли думать, что планы войн и сражений составляются полководцами таким же образом, как каждый из нас, сидя в своем кабинете над картой, делает соображения о том, как и как бы он распорядился в таком то и таком то сражении, представляются вопросы, почему Кутузов при отступлении не поступил так то и так то, почему он не занял позиции прежде Филей, почему он не отступил сразу на Калужскую дорогу, оставил Москву, и т. д. Люди, привыкшие так думать, забывают или не знают тех неизбежных условий, в которых всегда происходит деятельность всякого главнокомандующего. Деятельность полководца не имеет ни малейшего подобия с тою деятельностью, которую мы воображаем себе, сидя свободно в кабинете, разбирая какую нибудь кампанию на карте с известным количеством войска, с той и с другой стороны, и в известной местности, и начиная наши соображения с какого нибудь известного момента. Главнокомандующий никогда не бывает в тех условиях начала какого нибудь события, в которых мы всегда рассматриваем событие. Главнокомандующий всегда находится в средине движущегося ряда событий, и так, что никогда, ни в какую минуту, он не бывает в состоянии обдумать все значение совершающегося события. Событие незаметно, мгновение за мгновением, вырезается в свое значение, и в каждый момент этого последовательного, непрерывного вырезывания события главнокомандующий находится в центре сложнейшей игры, интриг, забот, зависимости, власти, проектов, советов, угроз, обманов, находится постоянно в необходимости отвечать на бесчисленное количество предлагаемых ему, всегда противоречащих один другому, вопросов.
Нам пресерьезно говорят ученые военные, что Кутузов еще гораздо прежде Филей должен был двинуть войска на Калужскую дорогу, что даже кто то предлагал таковой проект. Но перед главнокомандующим, особенно в трудную минуту, бывает не один проект, а всегда десятки одновременно. И каждый из этих проектов, основанных на стратегии и тактике, противоречит один другому. Дело главнокомандующего, казалось бы, состоит только в том, чтобы выбрать один из этих проектов. Но и этого он не может сделать. События и время не ждут. Ему предлагают, положим, 28 го числа перейти на Калужскую дорогу, но в это время прискакивает адъютант от Милорадовича и спрашивает, завязывать ли сейчас дело с французами или отступить. Ему надо сейчас, сию минуту, отдать приказанье. А приказанье отступить сбивает нас с поворота на Калужскую дорогу. И вслед за адъютантом интендант спрашивает, куда везти провиант, а начальник госпиталей – куда везти раненых; а курьер из Петербурга привозит письмо государя, не допускающее возможности оставить Москву, а соперник главнокомандующего, тот, кто подкапывается под него (такие всегда есть, и не один, а несколько), предлагает новый проект, диаметрально противоположный плану выхода на Калужскую дорогу; а силы самого главнокомандующего требуют сна и подкрепления; а обойденный наградой почтенный генерал приходит жаловаться, а жители умоляют о защите; посланный офицер для осмотра местности приезжает и доносит совершенно противоположное тому, что говорил перед ним посланный офицер; а лазутчик, пленный и делавший рекогносцировку генерал – все описывают различно положение неприятельской армии. Люди, привыкшие не понимать или забывать эти необходимые условия деятельности всякого главнокомандующего, представляют нам, например, положение войск в Филях и при этом предполагают, что главнокомандующий мог 1 го сентября совершенно свободно разрешать вопрос об оставлении или защите Москвы, тогда как при положении русской армии в пяти верстах от Москвы вопроса этого не могло быть. Когда же решился этот вопрос? И под Дриссой, и под Смоленском, и ощутительнее всего 24 го под Шевардиным, и 26 го под Бородиным, и в каждый день, и час, и минуту отступления от Бородина до Филей.
Русские войска, отступив от Бородина, стояли у Филей. Ермолов, ездивший для осмотра позиции, подъехал к фельдмаршалу.
– Драться на этой позиции нет возможности, – сказал он. Кутузов удивленно посмотрел на него и заставил его повторить сказанные слова. Когда он проговорил, Кутузов протянул ему руку.
– Дай ка руку, – сказал он, и, повернув ее так, чтобы ощупать его пульс, он сказал: – Ты нездоров, голубчик. Подумай, что ты говоришь.
Кутузов на Поклонной горе, в шести верстах от Дорогомиловской заставы, вышел из экипажа и сел на лавку на краю дороги. Огромная толпа генералов собралась вокруг него. Граф Растопчин, приехав из Москвы, присоединился к ним. Все это блестящее общество, разбившись на несколько кружков, говорило между собой о выгодах и невыгодах позиции, о положении войск, о предполагаемых планах, о состоянии Москвы, вообще о вопросах военных. Все чувствовали, что хотя и не были призваны на то, что хотя это не было так названо, но что это был военный совет. Разговоры все держались в области общих вопросов. Ежели кто и сообщал или узнавал личные новости, то про это говорилось шепотом, и тотчас переходили опять к общим вопросам: ни шуток, ни смеха, ни улыбок даже не было заметно между всеми этими людьми. Все, очевидно, с усилием, старались держаться на высота положения. И все группы, разговаривая между собой, старались держаться в близости главнокомандующего (лавка которого составляла центр в этих кружках) и говорили так, чтобы он мог их слышать. Главнокомандующий слушал и иногда переспрашивал то, что говорили вокруг него, но сам не вступал в разговор и не выражал никакого мнения. Большей частью, послушав разговор какого нибудь кружка, он с видом разочарования, – как будто совсем не о том они говорили, что он желал знать, – отворачивался. Одни говорили о выбранной позиции, критикуя не столько самую позицию, сколько умственные способности тех, которые ее выбрали; другие доказывали, что ошибка была сделана прежде, что надо было принять сраженье еще третьего дня; третьи говорили о битве при Саламанке, про которую рассказывал только что приехавший француз Кросар в испанском мундире. (Француз этот вместе с одним из немецких принцев, служивших в русской армии, разбирал осаду Сарагоссы, предвидя возможность так же защищать Москву.) В четвертом кружке граф Растопчин говорил о том, что он с московской дружиной готов погибнуть под стенами столицы, но что все таки он не может не сожалеть о той неизвестности, в которой он был оставлен, и что, ежели бы он это знал прежде, было бы другое… Пятые, выказывая глубину своих стратегических соображений, говорили о том направлении, которое должны будут принять войска. Шестые говорили совершенную бессмыслицу. Лицо Кутузова становилось все озабоченнее и печальнее. Из всех разговоров этих Кутузов видел одно: защищать Москву не было никакой физической возможности в полном значении этих слов, то есть до такой степени не было возможности, что ежели бы какой нибудь безумный главнокомандующий отдал приказ о даче сражения, то произошла бы путаница и сражения все таки бы не было; не было бы потому, что все высшие начальники не только признавали эту позицию невозможной, но в разговорах своих обсуждали только то, что произойдет после несомненного оставления этой позиции. Как же могли начальники вести свои войска на поле сражения, которое они считали невозможным? Низшие начальники, даже солдаты (которые тоже рассуждают), также признавали позицию невозможной и потому не могли идти драться с уверенностью поражения. Ежели Бенигсен настаивал на защите этой позиции и другие еще обсуждали ее, то вопрос этот уже не имел значения сам по себе, а имел значение только как предлог для спора и интриги. Это понимал Кутузов.
Бенигсен, выбрав позицию, горячо выставляя свой русский патриотизм (которого не мог, не морщась, выслушивать Кутузов), настаивал на защите Москвы. Кутузов ясно как день видел цель Бенигсена: в случае неудачи защиты – свалить вину на Кутузова, доведшего войска без сражения до Воробьевых гор, а в случае успеха – себе приписать его; в случае же отказа – очистить себя в преступлении оставления Москвы. Но этот вопрос интриги не занимал теперь старого человека. Один страшный вопрос занимал его. И на вопрос этот он ни от кого не слышал ответа. Вопрос состоял для него теперь только в том: «Неужели это я допустил до Москвы Наполеона, и когда же я это сделал? Когда это решилось? Неужели вчера, когда я послал к Платову приказ отступить, или третьего дня вечером, когда я задремал и приказал Бенигсену распорядиться? Или еще прежде?.. но когда, когда же решилось это страшное дело? Москва должна быть оставлена. Войска должны отступить, и надо отдать это приказание». Отдать это страшное приказание казалось ему одно и то же, что отказаться от командования армией. А мало того, что он любил власть, привык к ней (почет, отдаваемый князю Прозоровскому, при котором он состоял в Турции, дразнил его), он был убежден, что ему было предназначено спасение России и что потому только, против воли государя и по воле народа, он был избрал главнокомандующим. Он был убежден, что он один и этих трудных условиях мог держаться во главе армии, что он один во всем мире был в состоянии без ужаса знать своим противником непобедимого Наполеона; и он ужасался мысли о том приказании, которое он должен был отдать. Но надо было решить что нибудь, надо было прекратить эти разговоры вокруг него, которые начинали принимать слишком свободный характер.
Он подозвал к себе старших генералов.
– Ma tete fut elle bonne ou mauvaise, n'a qu'a s'aider d'elle meme, [Хороша ли, плоха ли моя голова, а положиться больше не на кого,] – сказал он, вставая с лавки, и поехал в Фили, где стояли его экипажи.
В просторной, лучшей избе мужика Андрея Савостьянова в два часа собрался совет. Мужики, бабы и дети мужицкой большой семьи теснились в черной избе через сени. Одна только внучка Андрея, Малаша, шестилетняя девочка, которой светлейший, приласкав ее, дал за чаем кусок сахара, оставалась на печи в большой избе. Малаша робко и радостно смотрела с печи на лица, мундиры и кресты генералов, одного за другим входивших в избу и рассаживавшихся в красном углу, на широких лавках под образами. Сам дедушка, как внутренне называла Maлаша Кутузова, сидел от них особо, в темном углу за печкой. Он сидел, глубоко опустившись в складное кресло, и беспрестанно покряхтывал и расправлял воротник сюртука, который, хотя и расстегнутый, все как будто жал его шею. Входившие один за другим подходили к фельдмаршалу; некоторым он пожимал руку, некоторым кивал головой. Адъютант Кайсаров хотел было отдернуть занавеску в окне против Кутузова, но Кутузов сердито замахал ему рукой, и Кайсаров понял, что светлейший не хочет, чтобы видели его лицо.
Вокруг мужицкого елового стола, на котором лежали карты, планы, карандаши, бумаги, собралось так много народа, что денщики принесли еще лавку и поставили у стола. На лавку эту сели пришедшие: Ермолов, Кайсаров и Толь. Под самыми образами, на первом месте, сидел с Георгием на шее, с бледным болезненным лицом и с своим высоким лбом, сливающимся с голой головой, Барклай де Толли. Второй уже день он мучился лихорадкой, и в это самое время его знобило и ломало. Рядом с ним сидел Уваров и негромким голосом (как и все говорили) что то, быстро делая жесты, сообщал Барклаю. Маленький, кругленький Дохтуров, приподняв брови и сложив руки на животе, внимательно прислушивался. С другой стороны сидел, облокотивши на руку свою широкую, с смелыми чертами и блестящими глазами голову, граф Остерман Толстой и казался погруженным в свои мысли. Раевский с выражением нетерпения, привычным жестом наперед курчавя свои черные волосы на висках, поглядывал то на Кутузова, то на входную дверь. Твердое, красивое и доброе лицо Коновницына светилось нежной и хитрой улыбкой. Он встретил взгляд Малаши и глазами делал ей знаки, которые заставляли девочку улыбаться.
Все ждали Бенигсена, который доканчивал свой вкусный обед под предлогом нового осмотра позиции. Его ждали от четырех до шести часов, и во все это время не приступали к совещанию и тихими голосами вели посторонние разговоры.
Только когда в избу вошел Бенигсен, Кутузов выдвинулся из своего угла и подвинулся к столу, но настолько, что лицо его не было освещено поданными на стол свечами.
Бенигсен открыл совет вопросом: «Оставить ли без боя священную и древнюю столицу России или защищать ее?» Последовало долгое и общее молчание. Все лица нахмурились, и в тишине слышалось сердитое кряхтенье и покашливанье Кутузова. Все глаза смотрели на него. Малаша тоже смотрела на дедушку. Она ближе всех была к нему и видела, как лицо его сморщилось: он точно собрался плакать. Но это продолжалось недолго.
– Священную древнюю столицу России! – вдруг заговорил он, сердитым голосом повторяя слова Бенигсена и этим указывая на фальшивую ноту этих слов. – Позвольте вам сказать, ваше сиятельство, что вопрос этот не имеет смысла для русского человека. (Он перевалился вперед своим тяжелым телом.) Такой вопрос нельзя ставить, и такой вопрос не имеет смысла. Вопрос, для которого я просил собраться этих господ, это вопрос военный. Вопрос следующий: «Спасенье России в армии. Выгоднее ли рисковать потерею армии и Москвы, приняв сраженье, или отдать Москву без сражения? Вот на какой вопрос я желаю знать ваше мнение». (Он откачнулся назад на спинку кресла.)
Начались прения. Бенигсен не считал еще игру проигранною. Допуская мнение Барклая и других о невозможности принять оборонительное сражение под Филями, он, проникнувшись русским патриотизмом и любовью к Москве, предлагал перевести войска в ночи с правого на левый фланг и ударить на другой день на правое крыло французов. Мнения разделились, были споры в пользу и против этого мнения. Ермолов, Дохтуров и Раевский согласились с мнением Бенигсена. Руководимые ли чувством потребности жертвы пред оставлением столицы или другими личными соображениями, но эти генералы как бы не понимали того, что настоящий совет не мог изменить неизбежного хода дел и что Москва уже теперь оставлена. Остальные генералы понимали это и, оставляя в стороне вопрос о Москве, говорили о том направлении, которое в своем отступлении должно было принять войско. Малаша, которая, не спуская глаз, смотрела на то, что делалось перед ней, иначе понимала значение этого совета. Ей казалось, что дело было только в личной борьбе между «дедушкой» и «длиннополым», как она называла Бенигсена. Она видела, что они злились, когда говорили друг с другом, и в душе своей она держала сторону дедушки. В средине разговора она заметила быстрый лукавый взгляд, брошенный дедушкой на Бенигсена, и вслед за тем, к радости своей, заметила, что дедушка, сказав что то длиннополому, осадил его: Бенигсен вдруг покраснел и сердито прошелся по избе. Слова, так подействовавшие на Бенигсена, были спокойным и тихим голосом выраженное Кутузовым мнение о выгоде и невыгоде предложения Бенигсена: о переводе в ночи войск с правого на левый фланг для атаки правого крыла французов.
– Я, господа, – сказал Кутузов, – не могу одобрить плана графа. Передвижения войск в близком расстоянии от неприятеля всегда бывают опасны, и военная история подтверждает это соображение. Так, например… (Кутузов как будто задумался, приискивая пример и светлым, наивным взглядом глядя на Бенигсена.) Да вот хоть бы Фридландское сражение, которое, как я думаю, граф хорошо помнит, было… не вполне удачно только оттого, что войска наши перестроивались в слишком близком расстоянии от неприятеля… – Последовало, показавшееся всем очень продолжительным, минутное молчание.
Прения опять возобновились, но часто наступали перерывы, и чувствовалось, что говорить больше не о чем.
Во время одного из таких перерывов Кутузов тяжело вздохнул, как бы сбираясь говорить. Все оглянулись на него.
– Eh bien, messieurs! Je vois que c'est moi qui payerai les pots casses, [Итак, господа, стало быть, мне платить за перебитые горшки,] – сказал он. И, медленно приподнявшись, он подошел к столу. – Господа, я слышал ваши мнения. Некоторые будут несогласны со мной. Но я (он остановился) властью, врученной мне моим государем и отечеством, я – приказываю отступление.
Вслед за этим генералы стали расходиться с той же торжественной и молчаливой осторожностью, с которой расходятся после похорон.
Некоторые из генералов негромким голосом, совсем в другом диапазоне, чем когда они говорили на совете, передали кое что главнокомандующему.
Малаша, которую уже давно ждали ужинать, осторожно спустилась задом с полатей, цепляясь босыми ножонками за уступы печки, и, замешавшись между ног генералов, шмыгнула в дверь.
Отпустив генералов, Кутузов долго сидел, облокотившись на стол, и думал все о том же страшном вопросе: «Когда же, когда же наконец решилось то, что оставлена Москва? Когда было сделано то, что решило вопрос, и кто виноват в этом?»
– Этого, этого я не ждал, – сказал он вошедшему к нему, уже поздно ночью, адъютанту Шнейдеру, – этого я не ждал! Этого я не думал!
– Вам надо отдохнуть, ваша светлость, – сказал Шнейдер.
– Да нет же! Будут же они лошадиное мясо жрать, как турки, – не отвечая, прокричал Кутузов, ударяя пухлым кулаком по столу, – будут и они, только бы…
В противоположность Кутузову, в то же время, в событии еще более важнейшем, чем отступление армии без боя, в оставлении Москвы и сожжении ее, Растопчин, представляющийся нам руководителем этого события, действовал совершенно иначе.
Событие это – оставление Москвы и сожжение ее – было так же неизбежно, как и отступление войск без боя за Москву после Бородинского сражения.
Каждый русский человек, не на основании умозаключений, а на основании того чувства, которое лежит в нас и лежало в наших отцах, мог бы предсказать то, что совершилось.
Начиная от Смоленска, во всех городах и деревнях русской земли, без участия графа Растопчина и его афиш, происходило то же самое, что произошло в Москве. Народ с беспечностью ждал неприятеля, не бунтовал, не волновался, никого не раздирал на куски, а спокойно ждал своей судьбы, чувствуя в себе силы в самую трудную минуту найти то, что должно было сделать. И как только неприятель подходил, богатейшие элементы населения уходили, оставляя свое имущество; беднейшие оставались и зажигали и истребляли то, что осталось.
Сознание того, что это так будет, и всегда так будет, лежало и лежит в душе русского человека. И сознание это и, более того, предчувствие того, что Москва будет взята, лежало в русском московском обществе 12 го года. Те, которые стали выезжать из Москвы еще в июле и начале августа, показали, что они ждали этого. Те, которые выезжали с тем, что они могли захватить, оставляя дома и половину имущества, действовали так вследствие того скрытого (latent) патриотизма, который выражается не фразами, не убийством детей для спасения отечества и т. п. неестественными действиями, а который выражается незаметно, просто, органически и потому производит всегда самые сильные результаты.
«Стыдно бежать от опасности; только трусы бегут из Москвы», – говорили им. Растопчин в своих афишках внушал им, что уезжать из Москвы было позорно. Им совестно было получать наименование трусов, совестно было ехать, но они все таки ехали, зная, что так надо было. Зачем они ехали? Нельзя предположить, чтобы Растопчин напугал их ужасами, которые производил Наполеон в покоренных землях. Уезжали, и первые уехали богатые, образованные люди, знавшие очень хорошо, что Вена и Берлин остались целы и что там, во время занятия их Наполеоном, жители весело проводили время с обворожительными французами, которых так любили тогда русские мужчины и в особенности дамы.
Они ехали потому, что для русских людей не могло быть вопроса: хорошо ли или дурно будет под управлением французов в Москве. Под управлением французов нельзя было быть: это было хуже всего. Они уезжали и до Бородинского сражения, и еще быстрее после Бородинского сражения, невзирая на воззвания к защите, несмотря на заявления главнокомандующего Москвы о намерении его поднять Иверскую и идти драться, и на воздушные шары, которые должны были погубить французов, и несмотря на весь тот вздор, о котором нисал Растопчин в своих афишах. Они знали, что войско должно драться, и что ежели оно не может, то с барышнями и дворовыми людьми нельзя идти на Три Горы воевать с Наполеоном, а что надо уезжать, как ни жалко оставлять на погибель свое имущество. Они уезжали и не думали о величественном значении этой громадной, богатой столицы, оставленной жителями и, очевидно, сожженной (большой покинутый деревянный город необходимо должен был сгореть); они уезжали каждый для себя, а вместе с тем только вследствие того, что они уехали, и совершилось то величественное событие, которое навсегда останется лучшей славой русского народа. Та барыня, которая еще в июне месяце с своими арапами и шутихами поднималась из Москвы в саратовскую деревню, с смутным сознанием того, что она Бонапарту не слуга, и со страхом, чтобы ее не остановили по приказанию графа Растопчина, делала просто и истинно то великое дело, которое спасло Россию. Граф же Растопчин, который то стыдил тех, которые уезжали, то вывозил присутственные места, то выдавал никуда не годное оружие пьяному сброду, то поднимал образа, то запрещал Августину вывозить мощи и иконы, то захватывал все частные подводы, бывшие в Москве, то на ста тридцати шести подводах увозил делаемый Леппихом воздушный шар, то намекал на то, что он сожжет Москву, то рассказывал, как он сжег свой дом и написал прокламацию французам, где торжественно упрекал их, что они разорили его детский приют; то принимал славу сожжения Москвы, то отрекался от нее, то приказывал народу ловить всех шпионов и приводить к нему, то упрекал за это народ, то высылал всех французов из Москвы, то оставлял в городе г жу Обер Шальме, составлявшую центр всего французского московского населения, а без особой вины приказывал схватить и увезти в ссылку старого почтенного почт директора Ключарева; то сбирал народ на Три Горы, чтобы драться с французами, то, чтобы отделаться от этого народа, отдавал ему на убийство человека и сам уезжал в задние ворота; то говорил, что он не переживет несчастия Москвы, то писал в альбомы по французски стихи о своем участии в этом деле, – этот человек не понимал значения совершающегося события, а хотел только что то сделать сам, удивить кого то, что то совершить патриотически геройское и, как мальчик, резвился над величавым и неизбежным событием оставления и сожжения Москвы и старался своей маленькой рукой то поощрять, то задерживать течение громадного, уносившего его вместе с собой, народного потока.