Дигесты
| ||||
| Дигесты | ||||

| ||||
| Титульный лист издания 1553 года | ||||
| Другие названия | лат. Pandectae Пандекты | |||
| Автор(ы) | Комиссия Трибониана | |||
| Дата написания | 530—533 | |||
| Язык оригинала | латынь, греческий | |||
| Собрание | Corpus iuris civilis | |||
| Жанр | юридическая литература | |||
| Объём | 50 книг | |||
| Содержание | правовая доктрина | |||
| Первоисточники | сочинения римских юристов | |||
| Первое издание | Рим, 1475—1477 Перуджа, 1476 | |||
| Рукописи | Littera Florentina</span>ruen | |||
| Хранение | Библиотека Лауренциана | |||
| Оригинал | утрачен | |||
| [digestaiust.narod.ru (рус.) Электронный текст произведения] | ||||
Диге́сты (лат. Digesta — «собранное», «приведённое в систему») — обширный систематизированный сборник извлечений из трудов авторитетных римских юристов, являющийся важнейшей частью свода римского гражданского права Corpus iuris civilis. Полное название сборника — «Господина нашего священнейшего принцепса Юстиниана права очищенного и собранного из всей древней юриспруденции Дигесты, или Пандекты» (лат. Domini nostri sacratissimi principis Iustiniani iuris enucleati ex omni vetere iure collecti Digestorum seu Pandectarum), отсюда другое название — Пандекты (греч. πανδέκτης — «всеобъемлющий», «всеохватный»).
Дигесты были составлены по приказу византийского императора Юстиниана I в 530—533 годах. Они состоят из 50 книг, включающих в себя более 9000 извлечений из юридических сочинений. Тексту Дигест (то есть и каждому включенному в них мнению конкретного ученого-юриста) была придана сила закона. Большую часть Дигест составляют нормы частного права; кроме того, они регулируют некоторые публично-правовые вопросы, а также содержат изложение ряда общих принципов права.
Дигесты представляют собой выдающийся правовой памятник не столько VI века, сколько I—III веков — эпохи расцвета римской классической юриспруденции. Составив основной предмет рецепции римского права, Дигесты оказали значительное влияние на становление современного гражданского законодательства и науки гражданского права, а также на формирование общей теории права.
Содержание
- 1 Юриспруденция как источник римского права
- 2 Составление Дигест
- 3 Объем и структура Дигест
- 4 Система и содержание Дигест
- 5 Сочинения римских юристов, использованные в Дигестах
- 6 Интерполяции
- 7 Дальнейшая судьба Дигест
- 8 Рукописи и издания Дигест
- 9 Переводы на русский язык
- 10 Примечания
- 11 Литература
- 12 Ссылки
Юриспруденция как источник римского права
Основными источниками права в Римской империи являлись сочинения наиболее авторитетных римских юристов классической эпохи, именовавшиеся «правом» (лат. ius), и императорские конституции, именовавшиеся «законами» (лат. leges)[1][2][3][4].
Таким образом, особенность римского права заключалась в том, что одним из важнейших его источников была юриспруденция — профессиональная деятельность юристов, осуществлявшаяся в следующих формах: cavere («составлять иски и сделки»), agere («вести дела в суде») и respondere («дача ответов»). Состязательность римского судебного процесса, несовершенство писаного права и недостаточная квалификация должностных лиц вели к тому, что последняя форма юридической деятельности — мнения профессиональных юристов — стала пользоваться едва ли не большей авторитетностью, чем позитивное законодательство[5][6]. Этому способствовала и императорская власть: Октавиан Август постановил, что авторитетное разъяснение по вопросам права (лат. responsa) дается как бы от имени императора; Тиберий положил начало практике наделения некоторых наиболее авторитетных юристов «правом ответов» (лат. ius respondendi). Советы юристов (responsa prudentium), получивших данное право, были обязательными для должностных лиц империи[7].
Составление Дигест
Предпосылки кодификации
Начиная с эпохи Кризиса III века римская юриспруденция приходит в упадок. В эпоху абсолютной императорской власти монархи постепенно сосредотачивают в своих руках всю законодательную власть, перестав давать юристам «право ответов». В 426 году императоры Валентиниан III (Западная Римская империя) и Феодосий II (Византийская империя) существенно ограничили число юристов, чье мнение имело силу закона для суда, издав специальный закон — lex Allegatoria, получивший в литературе название «Закон о цитировании</span>ruen». Отныне суды могли руководствоваться мнением лишь пяти юристов: Папиниана, Юлия Павла, Ульпиана, Модестина и Гая. В случае противоречия между высказанными ими мнениями судьям предписывалось отдавать предпочтение мнению большинства, а при равенстве голосов — мнению Папиниана; в отсутствие данных условий выбор решения оставался за судьей[8][9][10].
Место главных источников права занимают императорские конституции, которые начали перерабатываться в виде первых, пока ещё частных кодификаций — Кодекса Грегориана и Кодекса Гермогениана. В 438 году комиссия чиновников и адвокатов, назначенная Феодосием II, составила Кодекс Феодосия — полную государственную кодификацию действующих императорских конституций[11][12][13][14][15].
Работа над Дигестами

 В 527 году Юстиниан I взошёл на трон Византийской империи. Отличавшийся исключительным честолюбием, новый император мечтал быть не только воином, возродившим славу военных побед Рима, но и законодателем, восстановившим славу римской юриспруденции. Необходимость в систематизации диктовалась и объективными причинами: многие мнения юристов, обязательные для применения, противоречили друг другу; ряд сочинений был недоступен для рядовых судей и чиновников. Систематизацию права император решил поручить крупному сановнику Трибониану, который носил звание квестора священного дворца[16][17][18][19][20].
В 527 году Юстиниан I взошёл на трон Византийской империи. Отличавшийся исключительным честолюбием, новый император мечтал быть не только воином, возродившим славу военных побед Рима, но и законодателем, восстановившим славу римской юриспруденции. Необходимость в систематизации диктовалась и объективными причинами: многие мнения юристов, обязательные для применения, противоречили друг другу; ряд сочинений был недоступен для рядовых судей и чиновников. Систематизацию права император решил поручить крупному сановнику Трибониану, который носил звание квестора священного дворца[16][17][18][19][20].
Особой конституцией Deo auctore от 15 декабря 530 года Юстиниан приказал Трибониану приступить к составлению Дигест[21][22][23][24][25][26]:
|
Для этого была образована особая комиссия, в состав которой вошли четыре профессора юриспруденции из Константинопольской (Феофил, Грациан) и Беритской (Дорофей, Анатолий) академий, государственный чиновник Константин и 11 адвокатов[27]. Позднее составители Дигест стали известны как компиляторы[28].
Перед составителями Дигест стояли две грандиозные задачи:
- собрать и систематизировать огромное правовое наследие римских юристов и законодательные акты начиная с законов Двенадцати таблиц и заканчивая сенатусконсультами и императорскими конституциями;
- устранить из собранного массива явно устаревшие нормы, то есть привести Дигесты в соответствие с требованиями современности. Дигесты должны были стать стройным, логичным сборником, предназначенным для потребностей практики — использования действующими судьями и должностными лицами, а также обучения студентов праву[29][30].
Для осуществления указанных задач комиссия Трибониана должна была разобрать и привести в систему около 2 тыс. книг, или 3 млн строк, что составляет более 3 тыс. современных печатных листов или более 100 увесистых томов[30].
Как считается в литературе[31][32], комиссия, по всей вероятности, была разделена на три подкомиссии, каждая из которых работала над определенной группой сочинений. Данный вывод основывается на том, что материалы, использованные в различных титулах Дигест, почти во всех случаях явно разделяются на три группы:
- В одну группу входят сочинения, являющиеся комментариями к цивильному праву. Сюда относятся прежде всего комментарий Ульпиана к сочинениям Сабина, а также иные сочинения по цивильному праву — Дигесты Юлиана и т. п. Эта часть фрагментов каждого титула в немецкой романистической литературе получила название «массы Сабина» (нем. Sabinusmasse).
- В другую группу входят сочинения, относящиеся к эдиктам преторов — Дигесты Цельса и Марцелла, труды Ульпиана, Павла, Модестина и Гая. Эта часть фрагментов получила название «массы эдикта» (нем. Ediktsmasse).
- В третью группу входят сочинения Папиниана, Павла, Сцеволы и иные сочинения практического характера (ответы на вопросы по проблемам гражданского права). Эта группа фрагментов получила название «массы Папиниана» (нем. Papiniansmasse).
Кроме того, в Дигесты были включены в качестве «добавления» (нем. Appendixmasse) извлечения из различных юридических трудов, не вошедшие в эти три группы[33].
Несмотря на очевидную спешку, работа компиляторов отличалась тщательностью. Комиссия старалась по возможности использовать оригинальные копии вместо вторичных списков, выверяла точность цитат классических юристов по имевшимся источникам. В то же время компиляторы сокращали некоторые фрагменты, а также вносили исправления (интерполяции), чтобы обеспечить соответствие текстов действующей правовой системе[34]. Ряд книг, использованных для компиляции, не был известен даже многим ученым VI века и был предоставлен комиссии самим Трибонианом, собравшим частную библиотеку редких сочинений. В случае возникновения спорных вопросов компиляторы обращались к Юстиниану, который давал на них окончательный ответ; решения императора по этим вопросам составили особый сборник — так называемые «50 решений» (лат. liber quinquaginta decisionum), включенный в Кодекс[35][36].
Новому своду было дано двойное название — «Дигесты, или Пандекты». Слово «Дигесты» происходит от латинского глагола digere («разделять», «истолковывать по порядку»). В I—III веках так именовались сочинения римских юристов, в которых давался двойной, объединённый комментарий — как к Законам Двенадцати таблиц, так и к преторскому эдикту; иными словами, «дигестами» называли наиболее полные юридические комментарии, носившие энциклопедический характер. Греческий термин «Пандекты» (букв. «содержащее в себе все») упоминался Авлом Геллием в числе различных названий, которые греческие и латинские писатели давали своим произведениям. Дигесты были составлены преимущественно на латыни — языке администрации, суда и армии Византийской империи; однако в тексте встречаются некоторые греческие термины и изречения, а иногда и целые фрагменты, изложенные по-гречески[37][38].
Утверждение
16 декабря 533 года Дигесты были утверждены Юстинианом и 30 декабря 533 года вступили в силу в качестве действующего законодательства Византийской империи вместе с Институциями. Дигесты сопровождались особым актом императора — конституцией Tanta</span>ruit, излагавшей в общих чертах состав и историю Дигест. Таким образом, на составление Дигест было затрачено сравнительно небольшой срок — три года. В конституции Tanta (§ 12) указано, что составители первоначально рассчитывали закончить кодификацию за десять лет[39].
Тексту Дигест была придана сила закона. Любые комментарии к Дигестам были запрещены под страхом наказания как подлог (лат. falsa): Юстиниан считал, что комментарии будут способствовать искажению мнений древних авторов. Кроме того, таким образом император приобретал монопольную прерогативу на толкование закона — в случае возникновения сомнений судьям следовало обращаться к нему за разъяснениями. Было разрешено лишь переводить Дигесты на греческий язык, а также составлять указатели (лат. indices) и изложения содержания отрывков (лат. paratitla). Однако этот запрет был нарушен уже при жизни Юстиниана: в частности, двое из компиляторов — Феофил и Дорофей — уже вскоре составили подробные указатели к Дигестам, а в конце правления Юстиниана профессором Стефаном был написан обширный комментарий к Дигестам на греческом языке. После смерти Юстиниана комментарии стали появляться все чаще и со временем даже стали популярнее самих Дигест[40].
Предигесты
Краткость срока подготовки Дигест натолкнула некоторых исследователей на мысль о том, что составители воспользовались уже готовым аналогичным сборником, и их работа свелась к редактированию уже готового материала. Предполагаемые готовые сборники получили в научной литературе название «Предигесты»[41]. В частности, австрийский ученый Франц Гофман полагал, что составить Дигесты за три года невозможно, поскольку такая работа превышает человеческие возможности: согласно конституции Tanta компиляторы обработали целых 3 млн строк (более 2700 печатных листов), что представляется неправдоподобным. По мнению Гофмана, столь оперативное составление Дигест объясняется использованием уже имевшихся материалов — сборников различных правил и мнений юристов, а также результатов работы комиссии Феодосия II по составлению Кодекса Феодосия[42]. Другой исследователь, Ганс Петерс, пришёл к выводу, что Дигесты составлены на основании какой-то не дошедшей до нас частной кодификации[43]. В настоящее время теория Предигест не поддерживается большинством специалистов, поскольку ни в одном историческом источнике нет упоминания о подобных сборниках[41].
Объем и структура Дигест
Дигесты представляют собой весьма обширный свод. Как указывает конституция Tanta, составители оставили из древних сочинений 150 тыс. строк, что по подсчету знаков современных печатных изданий составляет около 100 печатных листов[44] или более 160 авторских листов[45].
Структура Дигест предлагается самим императором Юстинианом в конституции Tanta (§§ 2—8). Как отмечается в литературе, в Византии VI века, несмотря на противодействие христианской церкви, многие увлекались астрологическими учениями, например, о параде планет и гармонии сфер. Следуя астрологической традиции, Юстиниан разделил Дигесты на семь разделов, вдохновляясь числом планет в астрологии. Кроме того, при описании одной из семи частей Дигест Юстиниан использует глагол «подниматься над небосклоном» (лат. exoriri). Император стремился представить свои Дигесты именно как гармонию сфер, то есть как само совершенство[46].
- Первую часть Дигест Юстиниан называет «Prota» (греч. «Начала»). Она включает книги 1—4 (общие положения о праве и судопроизводстве).
- Вторая часть «De iudiciis» (лат. «О судах») включает книги 5—11 (право собственности, вещные иски).
- Третья часть «De rebus» или «De rebus creditis» (лат. «О вещах») включает книги 12—19 (обязательственное право — заём, ссуда имущества, поклажа, товарищество, купля-продажа и т. д.).
- Четвёртая часть «Umbilicus» (лат. «Середина») включает книги 20—27 (залог, ростовщичество, доказательства, заключение брака, приданое, дарение в браке, развод, опека и попечительство).
- Пятая часть «De testamentis» (лат. «О завещаниях») включает книги 28—36 (завещания, завещательные отказы).
- Шестая и седьмая части не имеют специальных названий и включают книги 37—44 и 45—50 соответственно, регулировавшие самые разные институты.
Помимо аналогии с числом планет, данное деление имело также значение для преподавания права. Первая часть изучалась студентами первого года обучения наряду с Институциями Юстиниана, вторая и третья часть изучались студентами второго и третьего года обучения, четвёртая и пятая части изучались студентами четвёртого года обучения, шестая и седьмая части изучались студентами самостоятельно на пятом году обучения[46][47].
Современные исследователи структурируют Дигесты, основываясь на учении о системе права:
- Книга 1: общие вопросы права, в том числе краткий очерк истории права и публичное право.
- Книги 2—46: частное право.
- Книги 47, 48 и отчасти 49: уголовное право и уголовный процесс.
- Книга 49: отдельные институты публичного права (налоги, военное право).
- Книга 50: отдельные институты публичного права (административное право, международное право). Кроме того, эта книга содержит титул XVI «О значениях слов» — своего рода толковый словарь римских юридических терминов[30].
Книги
Текст Дигест делится на 50 книг, не имеющие особых наименований. Некоторые книги получили устойчивые названия. В частности, книги 47 и 48, посвященные вопросам уголовного права, часто называются «страшными книгами» (лат. libri terribiles). Книги 23, 25, 28, 30 носили название «отдельные книги» (лат. libri singulares): они начинали изложение четырёх институтов частного права — приданого, опеки, завещания, легатов[48].
Титулы
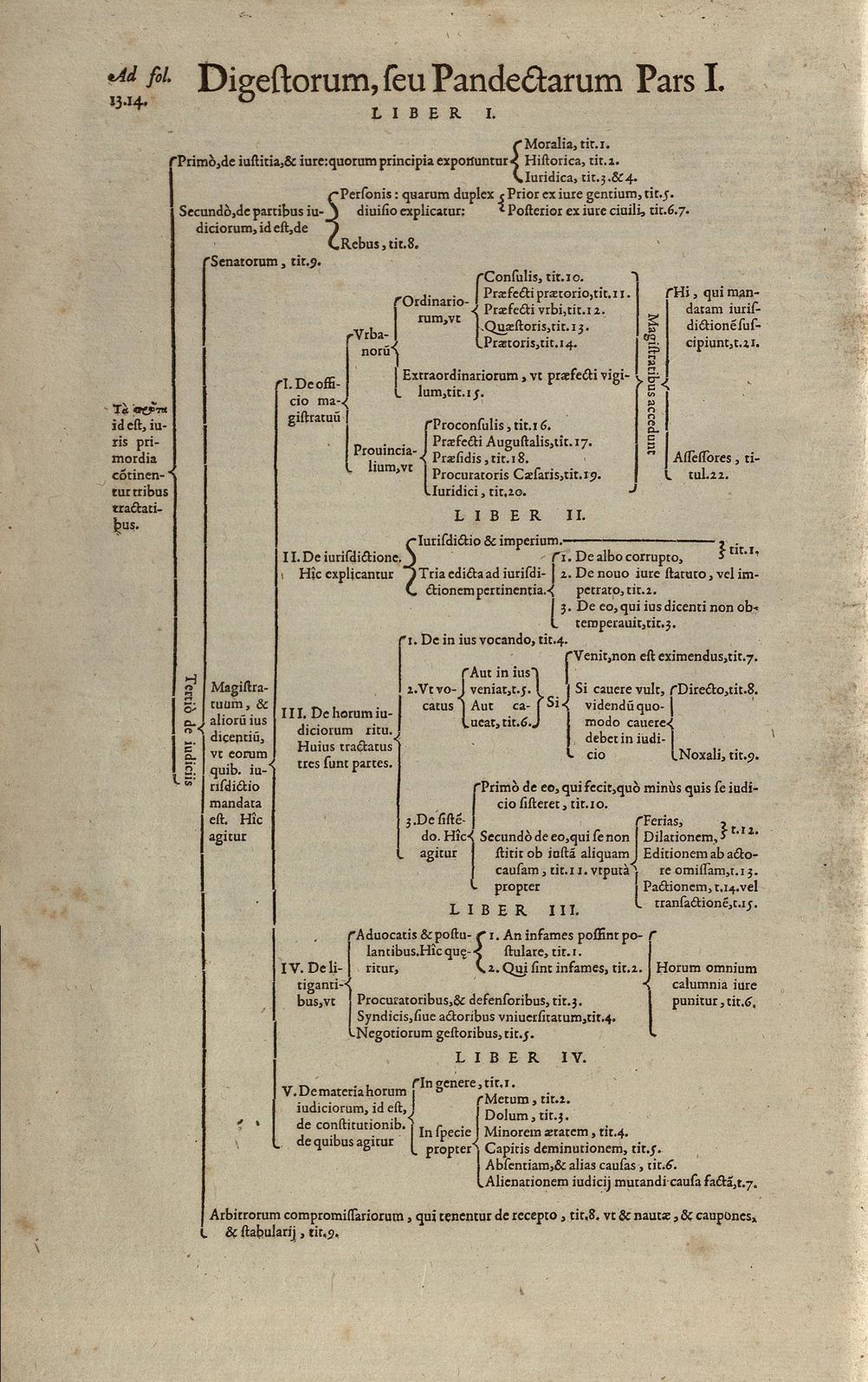 Каждая книга Дигест делится на титулы (за исключением книг 30—32, в совокупности составляющих один титул «О легатах и фидеикомиссах»). У каждого титула имеется своё название. Всего в Дигестах (в зависимости от различных рукописей) 429—432 титула. Название ряда титулов Дигест совпадает с названием некоторых титулов Кодекса Юстиниана[48].
Каждая книга Дигест делится на титулы (за исключением книг 30—32, в совокупности составляющих один титул «О легатах и фидеикомиссах»). У каждого титула имеется своё название. Всего в Дигестах (в зависимости от различных рукописей) 429—432 титула. Название ряда титулов Дигест совпадает с названием некоторых титулов Кодекса Юстиниана[48].
Фрагменты
Фрагменты, также носившие название «законы» (лат. leges), — сами извлечения из сочинений юристов. Всего в Дигестах от 9123 до 9200 фрагментов[49]. Каждый фрагмент включает цитату из сочинения одного юриста и, соответственно, начинается с обозначения автора и названия сочинения, послужившего источником для фрагмента. Внутри титулов фрагменты, как правило, не расположены по какой-либо определенной системе[50].
Внутри того или иного титула может быть разное число фрагментов, например: титул 31 книги 43 (один фрагмент), титул 28 книги 43 (один фрагмент), титул 16 книги 50 (246 фрагментов). Различен и объём фрагментов: от 17 тыс. букв (изложение Павлом степеней родства) до 6 букв (уточнение Гая «и в том месте» — лат. et loco)[51].
В Дигестах имеется ряд ошибок, вызванных недостаточной редакционной работой, что объясняется, вероятно, большой спешкой составителей. И. С. Перетерский приводит следующие примеры явных ошибок[52]:
- фрагменты, повторяющие друг друга (так называемые «удвоенные фрагменты» — лат. leges geminatae). Например, фрагмент 50.17.129.1 (Павел): «когда главное основание не установлено, то недействительны также и те, которые вытекают из него». Практически тот же самый текст имеется во фрагменте 178 (Павел) того же титула: «когда нет главного основания, обычно не имеют места и те, которые следуют из него»;
- фрагменты, противоречащие друг другу (так называемые «антиномии»). Например, в Д.12.1.18 (Ульпиан) указывается: «если я дал тебе деньги с намерением одарить тебя, а ты принял деньги как данные взаймы, то, как пишет Юлиан, дарения нет». А в Д.41.1.36 (Юлиан) сказано, что «если я передам тебе наличные деньги в качестве дара, а ты примешь их как данные в долг, установлено, что собственность переходит к тебе, и не является препятствием то, что мы расходимся относительно основания дачи и получения»;
- пропуск некоторых слов при обработке текста. Например, Д.37.6.1.8 начинается: «Там же Юлиан говорит», а перед этим не указано, где находится относящееся к вопросу изречение Юлиана. Д.28.5.23.4 (Гай) начинается со слов: «И потому он говорит…» (не уточняется, кто именно);
- в Средние века не все фрагменты были поняты. Соответствующие места получили название «крест юрисконсультов» (лат. cruces iurisconsultorum) или «проклятые законы» (лат. leges damnatae) — в частности, 12.6.38 pr., 12.1.40 pr., 28.2.29 pr,;
- случаи, когда составители Дигест не разобрали какой-либо ошибки в рукописи. Например, Д.11.5.1: "Претор не дает иска, если у лица, устроившего азартную игру, будет что-либо унесено «dolo» (то есть «умышленно»). По всей видимости, вместо «dolo» следует читать «e domo» (то есть «из его дома»).
Параграфы
В позднейшие века, во времена глоссаторов, длинные фрагменты были разделены на параграфы. Начало фрагмента знака параграфа (§) не имеет и обозначается сокращениями «pr.» (principium, лат. «начало») или «pro.» (proemium, лат. «введение»). При ссылках на конец фрагмента прибавляются буквы «i; f» (in fine, лат. «в заключение»). Число параграфов в отдельных фрагментах отличается: например, Д.38.2.2, посвященный Тертулианову сенатусконсульту, содержит 47 параграфов, некоторые из них довольно обширные. Изложение Помпонием истории римского права (Д.1.2.1) занимает 53 параграфа. Во многих небольших фрагментах деление на параграфы отсутствует[53].
Цитирование Дигест
В разные эпохи Дигесты цитировались различными способами.
В Средние века, когда Дигесты являлись действующим правом, указывали номер фрагмента, букву «Д» и сокращенное название титула. Потом стали прибавлять цифровые обозначения книги и титула, например, I. 1. § 2, Д. de excusat (27.1).
В XIX веке наиболее распространенным было следующее цитирование: буквы «fr» (то есть fragmentum) или буква «l» (lex), номер фрагмента и, при необходимости, номер параграфа, затем буква «Д», книга и титул. Например, правило о правах женщин на законное наследование цитируется так: fr. 2 § 1 Д.38.7, то есть 38-я книга, 7-й титул этой книги, 2-й фрагмент этого титула и § 1 этого фрагмента.
В настоящее время нормы Дигест цитируются следующим образом: после буквы «Д» указывается книга, титул, фрагмент, параграф (например, Д.38.7.2.1). Если на титул или фрагмент делалась ссылка в предшествующем изложении, то вместо номера титула или фрагмента пишется просто «eodem». Например, если после вышеуказанного правила нужно указать 38.7.4, то достаточно написать: Д.4 eod.[54].
Система и содержание Дигест
Изучение права распадается на два положения: публичное и частное (право). Публичное право, которое (относится) к положению Римского государства, частное, которое (относится) к пользе отдельных лиц; существует полезное в общественном отношении и полезное в частном отношении. Публичное право включает в себя священнодействия, служение жрецов, положение магистратов. Частное право делится на три части, ибо оно составляется или из естественных предписаний, или (из предписаний) народов, или (из предписаний) цивильных.
Система Дигест в общем следует наиболее раннему делению права — на публичное и частное. Римские юристы в основном занимались отдельными практическими вопросами, не стремясь к выработке общих правовых понятий. Тем не менее в книге 1 даются общие принципы по некоторым юридическим вопросам[55].
Общие определения и принципы
Общие определения имеются в книге 1. Среди прочего Дигесты дают дефиниции права (Д.1.1.1: «искусство доброго и справедливого»), закона (Д.1.3.1: «общее (для всех) предписание, решение опытных людей, обуздание преступлений, совершаемых умышленно или по неведению, общее (для всех граждан) обещание государства»), правосудия (Д.1.1.10: «неизменная и постоянная воля предоставлять каждому его право»), юриспруденции (Д.1.1.10.2: «познание божественных и человеческих дел, наука о справедливом и несправедливом»), свободы (Д.1.5.4: «естественная способность каждого делать то, что ему угодно, если это не запрещено силой или правом»).
Кроме того, в книге 1 излагаются основополагающие принципы права, в частности, положения о равенстве всех перед законом (Д.1.3.8: «права устанавливаются не для отдельных лиц, а общим образом»), недопустимости обхода закона (Д.1.3.29: «поступает в обход закона тот, кто, сохраняя слова закона, обходит его смысл»), праве на необходимую оборону (Д.1.1.3: «правом установлено, что если кто-либо сделает что-либо для защиты своего тела, то считается совершившим правомерный поступок»).
Публичное право
Дигесты затрагивают ряд публично-правовых вопросов[56][57]:
- Титулы об обязанностях высших должностных лиц — консула, префекта, квестора, претора, проконсула и др. (книга 1).
- Вопросы уголовного права и процесса (книги 47, 48 и отчасти 49). Эти правила изложены систематично, по отдельным видам преступлений и наказаний (в частности, это кража, разбой, грабеж, пиратство, вымогательство, угон скота, мошенничество, прелюбодеяние, убийство, подлог, взяточничество).
- Некоторые отдельные вопросы публичного права. Например, титулы Д.49.14 «О праве фиска», Д.49.17 «О воинском пекулии», Д.50.6 «О праве освобождения от повинностей».
- Некоторые отдельные высказывания по международно-правовым вопросам. Термина «международное право» в Риме не знали. Некоторые вопросы, отнесенные со временем к международному праву, регулировались так называемым «правом народов» (ius gentium): объявление войны и заключение мира, разделение народов и образование новых государств, статус послов и порядок отправления посольств, защита прав чужеземцев, положение лиц, захваченных в плен и возвратившихся из него.
Частное право
Основным содержанием Дигест являются фрагменты, относящиеся к частному праву. Частноправовые институты сгруппированы в основном следующим образом[58]:
- Суд, процесс, иски (книги 2—4).
- Наследство и имущественные отношения (книги 5—11).
- Купля-продажа (книги 12—19).
- Залоговое право (книги 20—22).
- Имущественные отношения супругов (книги 23—25).
- Опека и попечительство (книги 26—27).
- Завещания, наследование по закону (книги 28—38, пятая часть всего текста).
- О рабстве (книга 40).
- Вербальные контракты (кн. 45—46).
Сочинения римских юристов, использованные в Дигестах
Составители Дигест не ставили своей задачей собрать сочинения всех римских юристов, оставивших свои труды. В конституции Tanta (§ 1) указано, что было разобрано 2000 книг (общим объёмом в 3 млн строк), из которых надо было избрать то, что является наилучшим. Таким образом, компиляторы произвели определенную выборку из имевшегося юридического наследия.
Благодаря тому, что в начале каждого фрагмента имеется имя автора, было установлено, что в Дигесты включены извлечения из 275 сочинений 38 юристов (или 39, если считать, что имя Клавдия Сатурнина в одном из фрагментов не указано по ошибке вместо Венулея Сатурнина)[34]. Древнейшим из юристов является Квинт Муций Сцевола, из юристов республиканского периода цитируются также Публий Альфен Вар и Элий Галл. Большая часть цитируемых юристов относится к периоду принципата (II—III века). Незначительное количество юристов IV века и полное отсутствие юристов V—VI веков объясняется тем, что в то время правотворческая деятельность окончательно перешла к императорской власти. Авторы включенных в Дигесты фрагментов по времени своей деятельности распределяются следующим образом[59]:
| Век | Количество юристов | Имена юристов |
|---|---|---|
| I век до н. э. | 3 | Квинт Муций Сцевола, Элий Галл, Публий Альфен Вар |
| I век | 4 | Антистий Лабеон, Прокул</span>ruen, Яволен, Нераций Приск |
| II век | 15 | Цельс, Юлиан, Помпоний, Абурний Валенс</span>rubg, Маврициан, Теренций Клеменс, Африкан</span>ruen, Венулей</span>rufr, Гай, Волузий Мециан</span>ruen, Марцелл, Таррунтен Патерн, Флорентин</span>rufr, Папирий Юст, Цервидий Сцевола</span>ruen |
| III век | 14 | Папиниан, Каллистрат</span>ruen, Аррий Менандр, Тертуллиан, Трифонин, Павел, Ульпиан, Марциан</span>ruen, Макр, Модестин, Галл Аквил, Лициний Руф</span>rude, Фурий Антиан</span>ruca, Рутилий Максим |
| IV век | 2 | Гермогениан</span>ruen, Аркадий Харизий</span>ruhu |
Известен список юристов и их сочинений, использованных для составления Дигест — так называемый Флорентийский индекс (Index Florentinus). В данном списке имеется ряд существенных несоответствий самим Дигестам. В частности, во Флорентийском индексе указаны 17 работ, которые в Дигестах, тем не менее, отсутствуют; в то же время в Дигесты включены фрагменты из 29 книг, про которые индекс не упоминает. Название ряда работ приведено в индексе с ошибками. Как отмечают исследователи, вполне вероятно, что индекс был выработан до составления Дигест и являлся своего рода программой работ[60].

|
Модестин |
Юлиан |

|

|
Количество фрагментов Дигест, приходящихся на долю отдельных юристов, неравномерно. Наибольшее число цитат сделано из трудов Юлиана (457), Помпония (585), Гая (535), Папиниана (595), Ульпиана (2462), Павла (2083), Модестина (345)[61]. Всего этим семерым юристам принадлежит 7069 фрагментов (или 78 % от общего количества фрагментов), причем Ульпиану принадлежит 27 % фрагментов, а Павлу 22,8 %. Пятерым юристам, сочинениям которых была придана обязательная сила законом 426 года, принадлежит 66 % фрагментов[60].
Кроме того, во многих фрагментах цитируются несохранившиеся сочинения других римских правоведов, к числу которых относятся Аквилий Галл</span>rufr, Намуза</span>ruen, Туберон, Капитон, Мазурий Сабин и другие[62].
С. В. Пахман следующим образом классифицирует сочинения римских юристов, из которых сделаны извлечения[63]:
- Казуистические (responsa, epistolae, quaestiones).
- Собрания формул и сочинения процессуального характера (de actionibus и др.).
- Экзегетические, то есть комментарии не только к источникам права, но и к сочинениям древнейших юристов.
- Догматические (большего объёма — libri iuris civilis, libri digestorum; меньшего объёма — institutiones, regulae, receptae sententiae, definitiones, enchiridia).
- Инструкции по выполнению различных должностных обязанностей для лиц, не являющихся юристами (например, de officio proconsulis, aedilis).
- Исследования отдельных институтов (например, стипуляций, фидеикомиссов).
- Смешанные сочинения (variae lectiones, collectanea).
Интерполяции
В процессе составления Дигест комиссия Трибониана осуществляла многочисленные интерполяции. Применительно к Дигестам интерполяции (лат. emblemata Triboniani) осуществлялись в виде изменений, дополнений или пропусков, произведенных в текстах классических юристов. Внесение интерполяций являлось исторически необходимым: за прошедшие столетия появились новые институты, ряд прежних взглядов был забыт, многие институты являлись явными анахронизмами. Таким образом, кодификация стала на путь частичного подновления текстов[64][65].
Интерполяции производились по прямому указанию Юстиниана. Ещё в конституции Deo auctore (§ 7) было написано:
|
Выделяют следующие виды интерполяций:
- Изменение текста по существу: добавление, ограничение сферы применения нормы, замена ранее существовавшей нормы. Например, Д.38.17.1.6 (Ульпиан) указывает, что лицо, нанявшееся бороться с дикими зверями на арене цирка, не допускается к получению наследства после матери (такое ремесло считалось позорным). Компиляторы внесли факультативное дополнение: «Однако в силу снисходительного толкования было решено допустить его (к наследованию)».
- Замена или устранение наименований утративших значение институтов и терминов. В частности, в Д.7.1.12.3 описательное и нечеткое выражение «хозяин собственности» (лат. proprietatis dominus) заменено на более точный термин «собственник» (лат. proprietarius); различные формы брака заменялись единым понятием брака без прежней власти мужа над женой и т. п.
- Различные стилистические изменения, а также пояснения отдельных терминов. В частности, упоминания языческих богов римского пантеона компиляторы-христиане заменяли на выражение «бог». Также компиляторы неоднократно дают комментарии отдельных терминов, прибавляя «то есть» (лат. id est). Примеры пояснений: «то есть предоставление свободы» (после упоминания manu missio в Д.1.1.4), «это тот, кто выдает себя за кредитора» (в Д.47.2.43 pr., где говорится о ложном кредиторе)[66].
Кроме того, в тексте Дигест имеются и доюстиниановские интерполяции — глоссемы. Например, Д.41.2.6.10: «Если раб, которым я владел, станет вести себя как свободный, как это сделал Спартак, и изъявит готовность претерпеть судебный процесс относительно своей свободы, он не будет считаться находящимся во владении господина, которому он себя противопоставил в качестве противника в тяжбе». По мнению И. С. Перетерского, и автор фрагмента (Павел), и Трибониан были слишком лояльны к современной им власти, чтобы добавить в текст упоминание о ненавистном римлянам Спартаке; следовательно, данное упоминание является вставкой, сделанной неизвестным лицом в IV—V веках[67].
В Среднековье на интерполяции не обращали внимания. Исследовавшие Дигесты глоссаторы воспринимали их как непререкаемую истину и ограничивались лишь внешним изучением текста: изысканием параллельных мест, составлением комментариев (глосс) к непонятным выражениям, приведением текста в порядок, облегчавший изучение отдельных фрагментов (деление на параграфы) и т. п. Наличие интерполяций установили лишь гуманисты XVI века, стоявшие на позиции необходимости исторического изучения права, в частности, Антуан Фавр и Жак Кюжа. Затем изучение интерполяций вновь было забыто и возобновилось лишь в конце XIX—XX веках (Т. Моммзен, П. Крюгер, О. Ленель</span>ruen, П. Бонфанте</span>ruit, И. А. Покровский, Л. И. Петражицкий, М. Я. Пергамент, В. М. Хвостов)[68]. В ряде случаев для установления интерполяций использовался сложный исторический, филологический и логический анализ[69][70][71][72][73]
В 1909—1912 годах по инициативе немецкого ученого Людвига Миттейса</span>rude было принято решение составить свод всех имеющихся в литературе указаний на интерполяции в Дигестах. К работе было привлечено 15 ученых из Германии и Австрии. После смерти Миттейса работа продолжилась под руководством Эрнста Леви</span>rude и Эрнста Рабеля</span>rude. Свод был издан в 1929—1935 годах; в нём указаны все места Дигест, в которых найдены или заподозрены интерполяции, с обозначением авторов соответствующих мнений и места опубликования данных мнений[74].
Дальнейшая судьба Дигест

 Уже после издания Дигесты Юстиниана стали подвергаться комментированию и интерпретациям. По большей части весьма бережно включившие в себя древнее римское право, Дигесты скоро стали восприниматься как анахронизм, «искусственное бытие» (Г. Ф. Пухта). Многие институты и термины Дигест с изданием позднейших императорских актов отменялись и изменялись, а то и вовсе устаревали; латынь, на которой преимущественно составлены Дигесты, начала выходить из употребления в судопроизводстве. Гораздо большей популярностью стали пользоваться комментарии к этому своду (в частности, парафраз Феофила) которые постепенно вытесняли законодательство Юстиниана из сферы практического применения[75][76].
Уже после издания Дигесты Юстиниана стали подвергаться комментированию и интерпретациям. По большей части весьма бережно включившие в себя древнее римское право, Дигесты скоро стали восприниматься как анахронизм, «искусственное бытие» (Г. Ф. Пухта). Многие институты и термины Дигест с изданием позднейших императорских актов отменялись и изменялись, а то и вовсе устаревали; латынь, на которой преимущественно составлены Дигесты, начала выходить из употребления в судопроизводстве. Гораздо большей популярностью стали пользоваться комментарии к этому своду (в частности, парафраз Феофила) которые постепенно вытесняли законодательство Юстиниана из сферы практического применения[75][76].
В первой половине VIII века император Лев III Исавр издал сокращенную выборку из кодификации императора Юстиниана и последующих актов византийских императоров — Эклогу (предположительно 710—726 годы). В IX веке обновление законодательства продолжил Василий I Македонянин: были подготовлены и изданы сборники Прохирон (870—879 годы) и Эпанагога (884—886 годы). С изданием Базилик Льва Мудрого (892 год) Дигесты фактически перестали применяться в Византии[77][78].
Рецепция
Возрождение интереса к Дигестам относится к XI веку и связано главным образом с именем Ирнерия, родоначальника и основателем школы глоссаторов в Болонье. По свидетельству одного из документов «Ирнерий, по просьбе графини Матильды, восстановил книги законов, которые долгое время находились в полном пренебрежении и не изучались. И в соответствии с той манерой, в которой они были составлены божественной памяти императором Юстинианом, он привел их в порядок и разделил на части, даже вставив кое-где немногие собственные слова». Рост интереса к римскому праву вообще и Дигестам в частности был обусловлен объективными причинами: экономический рост, а также серьёзные перемены в содержании феодальных отношений (падение роли личных связей, выдвижение на ведущее место связей имущественного характера) подрывали силу господствовавших в средневековье традиций и моральных установок и создавали потребность в чисто правовом регулировании и как следствие — в формировании юридической науки. Римское право как наиболее разработанная правовая система, неизбежно попадало в сферу внимания юристов. Став преподавать в 1088 году римское право, Ирнерий с самого начала поставил изучение римского права на твердую базу главных его источников, в том числе и Дигест. С этого периода начинается рецепция Дигест, выражающаяся в их изучении, комментировании, распространении с помощью рукописей и впоследствии печатных изданий, а в целом — в их включении в духовное поле средневековой европейской культуры[79][80].
Законодательство Юстиниана, включая Дигесты, было положено в основу преподавания права глоссаторами в итальянских университетах. Преподавание заключалось в чтении текста Дигест и других частей Свода Юстиниана и в абстрактно-логическом толковании отдельных положений и слов (схоластический метод). Толкования и примечания, записываемые глоссаторами на полях манускриптов с текстом римских источников, получили название «глосса». Глоссаторы выполнили огромную работу по анализу и комментированию Дигест. Наиболее значительным произведением школы глоссаторов является собрание глосс профессора Болонского университета Франциска Аккурзия. В 1260 году Аккурзий осуществил компиляцию сочинений наиболее крупных глоссаторов, снабдил их примечаниями и составил полный комментарий к Своду Юстиниана. В литературе этот труд известен под несколькими названиями: «Стандартная Глосса» (лат. Glossa ordinaria), «Большая Глосса» (лат. Glossa magna) и «Глосса Аккурзия» (лат. Glossa accursiana). Комментарий Аккурзия содержал 96—97 тыс. глосс и обобщал результаты исследовательской деятельности глоссаторов на протяжении почти полутора веков. К концу XIII века Глосса Аккурзия стала важнейшим источником изучения Дигест и получила фактически силу закона, став настольной книгой многих судей[81][82].
Пришедшие на смену глоссаторам постглоссаторы работали преимущественно над глоссами прежних ученых. Стремясь к приведению римского права в соответствие потребностям практики, постглоссаторы фактически перерабатывали Дигесты применительно к современным им условиям. Виднейшим представителем школы постглоссаторов считается профессор университетов Пизы и Перуджи Бартоло да Сассоферрато, который написал пятитомный комментарий к Своду Юстиниана, впоследствии изданный под названием «Opera omnia». В XIV веке комментарии Бартоло стали пользоваться высоким авторитетом у судей, а в некоторых странах (Испания, Португалия) даже считались обязательными для применения[83][84]. Как отмечается в литературе, в Германии римское право было реципировано «в оболочке его комментариев»[85].
В целом рецепция римского права европейскими государствами осуществлялась не на основе самих Дигест, а на основе научных сочинений глоссаторов и постглоссаторов, имевших огромное влияние на позицию судов и формирование национального законодательства; римское право считалось «общим правом» (ius commune</span>ruen), дополняющим местное право. Труды глоссаторов наряду с решениями судов использовал английский юрист Генри де Брактон</span>ruen в своем знаменитом трактате «О законах и обычаях Англии» (лат. «De Legibus et Consuetudinibus Angliae», XIII век), способствовавшем заимствованию римских норм в Англии[86]. В Новое время научная доктрина, занимавшаяся исследованием и адаптацией римского права, продолжала пользоваться высоким авторитетом у правоприменителей, а впоследствии — и у законодателей. В частности, труды французского юриста Робера Потье</span>ruen, в том числе «Пандекты Юстиниана в новом порядке» (лат. «Pandectae lustinianeae in unum ordinem digestae», 1748—1752), оказали влияние на составителей Кодекса Наполеона. Работы немецких правоведов XVIII—XIX веков по систематизации и переработке римского права («пандектистов») предопределили структуру и во многих случаях содержание Германского гражданского уложения[87][88][89][90].

|

|

|

|

|

|
Рукописи и издания Дигест
Littera Florentina
Первоначальная рукопись Дигест не сохранилась. Среди имеющихся рукописей на первом месте стоит так называемая Флорентийская рукопись (Littera Florentina</span>ruen, codex Florentinus, Флорентина) VI — начала VII века, по всей видимости, написанная греками, жившими в Италии. Наиболее ранняя отсылка к этой рукописи датируется 1076 годом, она упоминается в судебном документе Ломбардии. Известно, что уже в середине XII века Флорентина хранилась в Пизе (отсюда другое её название — Littera Pisana), где она считалась бесценным общественным достоянием, возвышающим славу города: в хрониках упоминаются посольства, специально направляемые в Пизу с целью сравнить текст рукописи со своими манускриптами в случае спорных моментов и получавшие на это разрешение не всегда, а лишь в виде особой милости. После завоевания Пизанской республики Флоренцией в 1406 году рукопись была перевезена во Флоренцию и в настоящее время хранится в библиотеке Лауренциана[91][92][45]. Флорентийская рукопись считается наиболее аутентичным текстом Дигест, несмотря на то, что позднейшие переписчики, по всей видимости, внесли в неё некоторые изменения[93].
Littera Vulgata
Другую группу рукописей составляют так называемые Littera Vulgata или Littera Bononiensis. Большая часть этих манускриптов составлена в XI—XII веках глоссаторами, связанными с Болонской юридической школой. По мнению исследователей, рукописи Вульгаты в основном воспроизводят Флорентину, а также более древнюю рукопись, ныне утраченную (в рукописях Вульгаты имеется ряд мест, дополняющих Флорентину)[93].
Глоссаторы при составлении манускриптов обычно делили Дигесты на три части: «Старые Дигесты» (лат. Digestum vetus, книга 1 — титул 2 книги 24), Infortiatum (титул 3 книги 24 — книга 38), «Новые Дигесты» (лат. Digestum novum, книги 39—50) (происхождение этих названий юрист XII века Одофред</span>ruen объяснял тем, что когда у Ирнерия в начале его преподавательской деятельности имелась лишь первая часть (получившая название Digestum vetus), остальные части Дигест попали к нему позже)[94]. По общему правилу глоссаторов греческие тексты в этих рукописях опущены, отсутствуют также отсылки к названию сочинения того или иного юриста. Глоссаторы свели текст Дигест воедино, пользуясь рукописями Вульгаты и восполнив имеющиеся пробелы на основании позднейших византийских законодательных сборников (главным образом Базилик)[45][95].
Печатные издания
Наиболее раннее печатное издание Дигест (инкунабула) было осуществлено в 1475—1477 годах. «Старые Дигесты» были напечатаны Генрихом Кляйном в Перудже в 1476 году, Infortiatum и «Новые Дигесты» изданы Витом Пукером в Риме в 1475 и 1477 годах соответственно[45]. Первые издания Дигест воспроизводили глоссы Болонской школы[95].
В 1494 году Анджело Полициано осуществил исследования по сопоставлению первых изданий с Флорентиной. В 1529 году Грегор Галоандер издал в Нюрнберге трехтомное издание Дигест (впоследствии известное как Lectio Haloandrina или Lectio Norica), использовав исследования Полициано и ряд рукописей Littera Vulgata[96][97].
В 1553 году во Флоренции Лэлио Торелли</span>ruit впервые опубликовал Флорентийскую рукопись Дигест[98][99].
В 1583 году в Женеве Дени Годфруа</span>ruen издал Дигесты вместе со всеми частями кодификации Юстиниана — Институциями, Кодексом и Новеллами[100]. Это было первое печатное издание, получившее общее название Corpus iuris civilis[101][102].
Венцом латинских изданий Дигест является берлинское издание 1870 года, подготовленное выдающимся ученым, будущим лауреатом Нобелевской премии по литературе Теодором Моммзеном на основе Флорентины[103]. Изданию предшествовала кропотливая и тщательная работа ученого над очисткой текста от последующих искажений. В издании Моммзена приводятся разночтения с другими рукописями Дигест, отмечены важнейшие интерполяции, даны пояснения в отношении сомнительных мест[101][104].
Переводы на русский язык
Долгое время полный русский перевод Дигест отсутствовал. Лишь в 1984 году Институт государства и права АН СССР издал перевод избранных фрагментов (примерно треть всего текста), выполненный И. С. Перетерским почти за тридцать лет до публикации[105][106].
В 1997 году ряд научных организаций — Центр изучения римского права, юридический факультет МГУ, Институт всеобщей истории РАН, исторический факультет МГУ и кафедра классической филологии филологического факультета МГУ — заключили соглашение о создании группы ученых по переводу, комментированию и редактированию Дигест. В научную группу вошли юристы, историки и филологи-классики Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых других городов[107]. За основу перевода было взято латинское издание Моммзена 1908 года[108]. Фундаментальное русско-латинское издание Дигест было подготовлено и опубликовано в 2002—2005 годах; в 2006 году был издан отдельный том с научно-справочным аппаратом, в 2008 году вышло исправленное переиздание книг 1—19. В работе над изданием приняли участие такие ученые, как Е. А. Суханов, Л. Л. Кофанов, В. А. Савельев, В. А. Томсинов, А. А. Иванов и др.[109]:
- Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; Отв. ред. Л. Л. Кофанов. — М.: Статут, 2002 (1-е изд.), 2008 (2-е изд.). — Т. I (книги I—IV). — 584 с. — ISBN 978-5-8354-0445-2.
- Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; Отв. ред. Л. Л. Кофанов. — М.: Статут, 2002 (1-е изд.), 2008 (2-е изд.). — Т. II (книги V—XI). — 622 с. — ISBN 978-5-8354-0456-8.
- Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; Отв. ред. Л. Л. Кофанов. — М.: Статут, 2003 (1-е изд.), 2008 (2-е изд.). — Т. III (книги XII—XIX). — 780 с. — ISBN 978-5-8354-0485-8.
- Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; Отв. ред. Л. Л. Кофанов. — М.: Статут, 2004. — Т. IV (книги XX—XXVII). — 784 с. — ISBN 978-5-8354-0199-4.
- Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; Отв. ред. Л. Л. Кофанов. — М.: Статут, 2004. — Т. V, полутом 1 (книги XXVIII—XXXII). — 616 с. — ISBN 5-8354-0229-5.
- Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; Отв. ред. Л. Л. Кофанов. — М.: Статут, 2004. — Т. V, полутом 2 (книги XXXIII—XXXVI). — 608 с. — ISBN 5-8354-0230-9.
- Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; Отв. ред. Л. Л. Кофанов. — М.: Статут, 2005. — Т. VI, полутом 1 (книги ХХХVII—XL). — 736 с. — ISBN 5-8354-0267-8.
- Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; Отв. ред. Л. Л. Кофанов. — М.: Статут, 2005. — Т. VI, полутом 2 (книги XLI—XLIV). — 568 с. — ISBN 5-8354-0268-6.
- Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; Отв. ред. Л. Л. Кофанов. — М.: Статут, 2005. — Т. VII, полутом 1 (книги XLV—XLVII). — 552 с. — ISBN 5-8354-0295-3.
- Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; Отв. ред. Л. Л. Кофанов. — М.: Статут, 2005. — Т. VII, полутом 2 (книги XLVIII—L). — 568 с. — ISBN 5-8354-0296-1.
- Дигесты Юстиниана / Отв. ред. Л. Л. Кофанов. — М.: Статут, 2006. — Т. VIII: Статьи и указатели. — 677 с. — ISBN 5-8354-0352-6.
Напишите отзыв о статье "Дигесты"
Примечания
- ↑ Krüger P. Geschichte der Quellen und Literatur des Römischen Rechts. — München, 1912.
- ↑ Wenger L. Die Quellen des römischen Rechts. — Wien, 1953.
- ↑ Conrat M. Geschichte der Quellen und Literatur der römischen Rechts im frühen Mittelalter. Bd. I. — Leipzig, 1891.
- ↑ Пассек Е. В. Пособие к лекциям по истории римского права. Ч. I. Государственное право и источники права. — Юрьев, 1906.
- ↑ Дождев, 1996, с. 93.
- ↑ Покровский, 1998, с. 136.
- ↑ Скрипилев, 1984, с. 10.
- ↑ Скрипилев, 1984, с. 12.
- ↑ Покровский, 1998, с. 228.
- ↑ Iolowicz H. F. Historical Introduction to the Study of Roman Law. — Cambridge, 1939.
- ↑ Удальцова, 1965, с. 6.
- ↑ Bonfante P. Storia del diritto romano. — Roma, 1934.
- ↑ Kübler B. Geschichte des römischen Rechts. — Leipzig, 1925.
- ↑ Villey M. Le droit romain. — Paris, 1946.
- ↑ Arangio-Ruiz V. Storia del diritto romano. — Napoli, 1937.
- ↑ Kaden E. H. Justinien Législateur (527—565) // Mémoires publiés par la Faculté de Droit de Genève. — 1948. — № 6. — P. 41—66.
- ↑ D'Ors Pérez-Peix A. La actitud legslativa del Emperator Justiniano // Orientalia Christiana Periodica. — 1947. — Т. 13.
- ↑ Grupe E. Kaiser Justinian. — Leipzig, 1923.
- ↑ Rubin B. Das Zeitalter Justinians. — Berlin, 1960. — Bd. I. — S. 146—168.
- ↑ Pringsheim F. The character of Justinian's legislation // Law Quarterly Review. — 1949. — Т. 56. — P. 229—249.
- ↑ Collinet P. La genèse du Digeste, du Code et des Institutes de Justinien // Études historiques sur le droit de Justinien. — Paris, 1952. — Т. III.
- ↑ Vasiliev A. A. Justinian's Digest // Studi Bizantini e Neoellenici. — 1939. — № V.
- ↑ Berger A. The Emperor Justinian's ban upon Commentaries to the Digest // Quaterly Bulletin of the Polish Institute of Arts and Sciences in America. — 1945. — № 3.
- ↑ Baron J. Pandekten. — Leipzig, 1887.
- ↑ Дернбург Г. Пандекты. — СПб., 1905—1911. — Т. I—III.
- ↑ Sontis J. M. Die Digestensumme des Anonymos. I. Zum Dotalrecht (Ein Beitrag zur Frage der Entstehung des Basiliken textes) // Heidelberger rechtswissenschaftliche Abhandlungen, hrsg. von der Juristischen Fakultät. — Heidelberg, 1937. — Т. 23.
- ↑ Iolowicz H. F. Historical Introduction to the Study of Roman Law. — Cambridge, 1939. — P. 490.
- ↑ Сказкин, 1967, с. 250.
- ↑ Перетерский, 1956, с. 42—43.
- ↑ 1 2 3 Кофанов, 2002, с. 13.
- ↑ Blühme F. Die Ordnung der Fragmente in die Pandektentiteln. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Pandecten // Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft. — Berlin, 1820. — Bd. 4. — S. 257—472.
- ↑ Collinet P. La genèse du Digeste, du Code et des Institutes de Justinien // Études historiques sur le droit de Justinien. — Paris, 1952. — Т. III. — P. 65.
- ↑ Удальцова, 1965, с. 14.
- ↑ 1 2 Дождев, 1996, с. 70.
- ↑ Удальцова, 1965, с. 14—15.
- ↑ Хвостов, 1907, с. 384.
- ↑ Кофанов, 2002, с. 12.
- ↑ Перетерский, 1956, с. 43.
- ↑ Перетерский, 1956, с. 50.
- ↑ Iolowicz H. F. Historical Introduction to the Study of Roman Law. — Cambridge, 1939. — P. 491.
- ↑ 1 2 Перетерский, 1956, с. 51.
- ↑ Hofmann F. Die Kompilation der Digesten Justinians. Kritische Studien. — Wien, 1900.
- ↑ Peters H. Die oströmischen Digestenkommentare und die Entstehung der Digesten // Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. — 1913. — Bd. 65. — S. 3—313.
- ↑ Перетерский, 1956, с. 45.
- ↑ 1 2 3 4 Кофанов, 2002, с. 19.
- ↑ 1 2 Кофанов, 2002, с. 14.
- ↑ Скрипилев, 1984, с. 15—16.
- ↑ 1 2 Перетерский, 1956, с. 46.
- ↑ Iolowicz H. F. Historical Introduction to the Study of Roman Law. — Cambridge, 1939. — P. 493—494.
- ↑ Перетерский, 1956, с. 46—47.
- ↑ Перетерский, 1956, с. 47—48.
- ↑ Перетерский, 1956, с. 48—49.
- ↑ Перетерский, 1956, с. 49.
- ↑ Перетерский, 1956, с. 49—50.
- ↑ Перетерский, 1956, с. 55—57.
- ↑ Перетерский, 1956, с. 57.
- ↑ Удальцова, 1965, с. 16.
- ↑ Графский, 2007, с. 215.
- ↑ Перетерский, 1956, с. 63.
- ↑ 1 2 Перетерский, 1956, с. 64.
- ↑ Муромцев, 1883, с. 6.
- ↑ Удальцова, 1965, с. 15.
- ↑ Пахман, 1876, с. 18.
- ↑ Перетерский, 1956, с. 78—80.
- ↑ Покровский, 1998, с. 237.
- ↑ Перетерский, 1956, с. 86.
- ↑ Всеобщая история государства и права / Под ред. В. А. Томсинова. — М., 2011. — Т. 1. — С. 235.
- ↑ Перетерский, 1956, с. 81.
- ↑ Gradenwitz O. Interpolationen in den Pandekten. — Berlin, 1887.
- ↑ Appleton H. Des interpolations dans les Pandectes et des méthodes propres à les découvrir. — Lyon, 1895.
- ↑ Кипп, 1908, с. 129.
- ↑ Schulz F. Einführung in das Studium der Digesten. . — Tübingen, 1916.
- ↑ Kaser M. Zum heutigen Stand der Interpolationenforschung // Zeitschift der Savigny-Stiftung für Reschtsgeschichte. — 1952. — Bd. 69. — S. 60—101.
- ↑ Index interpolationum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur / Editionem a Ludovico Mitteis inchoatam, ab aliis viris doctis perfectam, curaverunt Ernestus Levy [et] Ernestus Rabel. — Weimar, 1929—1935. — Vol. 1—3.
- ↑ Пухта, 1864, с. 549—551.
- ↑ Азаревич, 1877, с. 5—6.
- ↑ Пухта, 1864, с. 552—553.
- ↑ Азаревич, 1877, с. 7—9.
- ↑ Томсинов, 1993, с. 152—161.
- ↑ Томсинов В. А. О сущности явления, называемого «рецепцией римского права» // Виноградов П. Г. Очерки по теории права. Римское право в средневековой Европе. — М.: Зерцало, 2010. — С. 277.
- ↑ Всеобщая история государства и права / Под ред. В. А. Томсинова. — М., 2011. — Т. 1. — С. 559.
- ↑ Гетьман-Павлова И. В. Истоки науки международного частного права: школа глоссаторов // Журнал международного публичного и частного права. — 2010. — № 2. — С. 17—23.
- ↑ Покровский, 1998, с. 258—262.
- ↑ Антология мировой правовой мысли / Отв. ред. Н. А. Крашенинникова. — М., 1999. — Т. II. — С. 319.
- ↑ Гетьман-Павлова И. В. Становление науки международного частного права: Бартоло де Сассоферрато (жизнь и творчество) // Журнал международного публичного и частного права. — 2008. — № 2. — С. 43—47.
- ↑ Томсинов В. А. Римское право в средневековой Англии // Античная древность и средние века. — Свердловск, 1985. — Вып. 22. — С. 122—134.
- ↑ Аннерс, 1994, с. 170—182.
- ↑ Пахман, 1876, с. 42.
- ↑ Всеобщая история государства и права / Под ред. В. А. Томсинова. — М., 2011. — Т. 1. — С. 576—577.
- ↑ Нечаев В. М. Современное римское право // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. — СПб., 1890—1907. — Т. XXXa. — С. 679—682.
- ↑ Пухта, 1864, с. 562.
- ↑ Schiller A. A. Roman Law: Mechanism of Development. The Hague. — Paris; New York, 1978. — P. 33.
- ↑ 1 2 Перетерский, 1956, с. 75.
- ↑ Покровский, 1998, с. 241.
- ↑ 1 2 Перетерский, 1956, с. 76.
- ↑ Пухта, 1864, с. 566.
- ↑ Digestorum seu Pandectarum libri quinquaginta / Editi per Gregorium Haloandrum. — Norembergae, 1529. — Vol. 1—3.
- ↑ Пухта, 1864, с. 564.
- ↑ Digestorum seu Pandectarum libri quinquaginta ex Florentinis Pandectis repraesentati / Per Laelium Taurellium, edente ejus filio Francisco. — Florentiae, 1553. — Vol. 1—2.
- ↑ Corpus iuris civilis Romani, in quo Institutiones, Digesta ad Codicem Florentinum emendata, Codex item et Novellae, nec non Justiniani Edicta, Leonis et aliorum imperatorum Novellae, Canones apostolorum, Feudorum libri, Leges XII. tabb., et alia ad jurisprudentiam ante-justinianeam pertinentia scripta, cum optimis quibusque editionibus collata, exhibentur / Cum notis integris Dionysii Gothofredi. — Geneva, 1583.
- ↑ 1 2 Покровский, 1998, с. 242.
- ↑ Перетерский, 1956, с. 77.
- ↑ Digesta Iustiniani Augusti recognouit adsumpto in operis societatem / Paulo Kruegero, Th. Mommsen. — Berolini, 1870. — Vol. I—II.
- ↑ Скрипилев, 1984, с. 17.
- ↑ Дигесты Юстиниана: избранные фрагменты в переводе и с примечаниями И. С. Перетерского / Отв. ред. Е. А. Скрипилев. — М.: Наука, 1984. — 456 с.
- ↑ Суханов Е. А., Кофанов Л. Л. О роли изучения и преподавания римского права в России // Древнее право. IVS ANTIQVVM. — 1996. — № 1. — С. 12.
- ↑ Суханов Е. А., Кофанов Л. Л. Информация о деятельности Центра изучения римского права // Древнее право. IVS ANTIQVVM. — 1999. — № 2 (5). — С. 210.
- ↑ Фролов Э. Д., Егоров А. Б., Вержбицкий К. В. Ratio Scripta et Lingva Rossica Translata (Рецензия на издание: Дигесты Юстиниана / пер. с лат. под общ. ред. Л. Л. Кофанова М.: Статут, 2002—2004. Т. I—IV // Древнее право. IVS ANTIQVVM. — 2004. — № 14. — С. 208—210.
- ↑ [www.consultant.ru/about/presscenter/pressa3/pr_6/ Компания «Консультант Плюс» и издательство «Статут» выпустили первый полный русский перевод Дигест Юстиниана]. КонсультантПлюс (28 сентября 2005). Проверено 15 февраля 2014.
Литература
- Азаревич Д. И. История византийского права. — Ярославль, 1877. — Т. 2. — 176 с.
- Азаревич Д. И. Система римского права. Университетский курс. — СПб., Варшава, 1887—1889. — Т. 1—2.
- Аннерс Э. История европейского права. — М.: Наука, 1994. — 397 с.
- Боголепов Н. П. Учебник истории римского права. — М., 1895. — 633 с.
- Брунс-Ленель Ф. К. Внешняя история римского права / Пер. с нем. под ред. В. А. Краснокутского. — М., 1904. — 181 с.
- Виноградов П. Г. Римское право в средневековой Европе. — М., 1910.
- Графский В. Г. Всеобщая история права и государства. — 2-е изд. — М.: Норма, 2007. — 752 с. — ISBN 5-89123-941-8.
- Дождев Д. В. Римское частное право. — М.: Норма, 1996. — 704 с. — ISBN 5-89123-035-6.
- Дормидонтов Г. Ф. Система римского права. Общая часть. — Казань, 1910.
- Ефимов В. В. Лекции по истории римского права. — СПб., 1898. — 494 с.
- История Византии / Отв. ред. С. Д. Сказкин. — М.: Наука, 1967. — Т. 1. — 523 с.
- Казанцев Л. Н. Курс истории римского права. — 3-е изд. — Киев, 1896. — 112 с.
- Капустин М. Н. Институции римского права. — М., 1880. — 392 с.
- Кипп Т. История источников римского права / Пер. с нем. А. М-ра. — СПб., 1908. — 152 с.
- Колотинский Н. Д. История римского права. — Казань, 1912. — 344 с.
- Кофанов Л. Л. Введение // Дигесты Юстиниана. — М.: Статут, 2002. — Т. 1. — С. 12—24. — ISBN 978-5-8354-0445-2.
- Липшиц Е. Э. Право и суд в Византии в IV—VIII вв. — Л.: Наука, 1976. — 232 с.
- Моддерман В. Рецепция римского права / Пер. с нем. А. И. Каминки под ред. Н. Л. Дювернуа. — СПб., 1888. — 116 с.
- Муромцев С. А. Гражданское право Древнего Рима. — М., 1883. — 697 с.
- Паделлетти Г. Учебник истории римского права / Пер. с итал. Д. И. Азаревича. — Одесса, 1883. — 163 с.
- Пассек Е. В. Пособие к лекциям по истории римского права. Ч. 1: Государственное право и источники права. — Юрьев, 1906. — 303 с.
- Пахман С. В. История кодификации гражданского права. — СПб., 1876. — Т. 1. — 472 с.
- Перетерский И. С. Дигесты Юстиниана: Очерки по истории составления и общая характеристика. — М.: Госюриздат, 1956. — 129 с.
- Покровский И. А. История римского права. — СПб., 1998. — 555 с. — ISBN 5-89740-014-8.
- Пухта Г. Ф. История римского права. — М., 1864. — 576 с.
- Санфилиппо Ч. Курс римского частного права / Пер. с итал. под ред. Д. В. Дождева. — М.: БЕК, 2002. — 400 с. — ISBN 5-85639-284-1.
- Синайский В. И. История источников римского права. — Варшава, 1911. — 215 с.
- Скрипилев Е. А. Дигесты Юстиниана — основной источник познания римского права // Дигесты Юстиниана. — М.: Наука, 1984. — С. 7—18.
- Томсинов В. А. Юриспруденция в духовной культуре древнего и средневекового общества. Диссертация на соискание ученой степени д-ра юрид. наук. — Гродно, 1993. — 352 с.
- Удальцова З. В. Законодательные реформы Юстиниана // Византийский временник. — М.: Наука, 1965. — Т. XXVI. — С. 3—45.
- Хвостов В. М. История римского права. — 3-е изд. — М., 1907. — 463 с.
- Чиларж К. Ф. Учебник институций римского права / Пер. с франц. под ред. В. А. Юшкевича. — 2-е изд. — М., 1906. — 498 с.
- Шулин Ф. Учебник истории римского права / Пер. с нем. И. И. Щукина под ред. В. М. Хвостова. — М., 1893. — 609 с.
Ссылки
- [www.thelatinlibrary.com/justinian.html Дигесты] (лат.). The Latin Libraryruen.</span>
- [droitromain.upmf-grenoble.fr/Corpus/digest.htm Дигесты] (лат.). Roman Law Libraryrufr.</span>
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эта статья входит в число хороших статей русскоязычного раздела Википедии. |
Отрывок, характеризующий Дигесты
– Готов, ваша светлость, – сказал генерал. Кутузов покачал головой, как бы говоря: «Как это все успеть одному человеку», и продолжал слушать Денисова.– Даю честное благородное слово гусского офицег'а, – говорил Денисов, – что я г'азог'ву сообщения Наполеона.
– Тебе Кирилл Андреевич Денисов, обер интендант, как приходится? – перебил его Кутузов.
– Дядя г'одной, ваша светлость.
– О! приятели были, – весело сказал Кутузов. – Хорошо, хорошо, голубчик, оставайся тут при штабе, завтра поговорим. – Кивнув головой Денисову, он отвернулся и протянул руку к бумагам, которые принес ему Коновницын.
– Не угодно ли вашей светлости пожаловать в комнаты, – недовольным голосом сказал дежурный генерал, – необходимо рассмотреть планы и подписать некоторые бумаги. – Вышедший из двери адъютант доложил, что в квартире все было готово. Но Кутузову, видимо, хотелось войти в комнаты уже свободным. Он поморщился…
– Нет, вели подать, голубчик, сюда столик, я тут посмотрю, – сказал он. – Ты не уходи, – прибавил он, обращаясь к князю Андрею. Князь Андрей остался на крыльце, слушая дежурного генерала.
Во время доклада за входной дверью князь Андрей слышал женское шептанье и хрустение женского шелкового платья. Несколько раз, взглянув по тому направлению, он замечал за дверью, в розовом платье и лиловом шелковом платке на голове, полную, румяную и красивую женщину с блюдом, которая, очевидно, ожидала входа влавввквмандующего. Адъютант Кутузова шепотом объяснил князю Андрею, что это была хозяйка дома, попадья, которая намеревалась подать хлеб соль его светлости. Муж ее встретил светлейшего с крестом в церкви, она дома… «Очень хорошенькая», – прибавил адъютант с улыбкой. Кутузов оглянулся на эти слова. Кутузов слушал доклад дежурного генерала (главным предметом которого была критика позиции при Цареве Займище) так же, как он слушал Денисова, так же, как он слушал семь лет тому назад прения Аустерлицкого военного совета. Он, очевидно, слушал только оттого, что у него были уши, которые, несмотря на то, что в одном из них был морской канат, не могли не слышать; но очевидно было, что ничто из того, что мог сказать ему дежурный генерал, не могло не только удивить или заинтересовать его, но что он знал вперед все, что ему скажут, и слушал все это только потому, что надо прослушать, как надо прослушать поющийся молебен. Все, что говорил Денисов, было дельно и умно. То, что говорил дежурный генерал, было еще дельнее и умнее, но очевидно было, что Кутузов презирал и знание и ум и знал что то другое, что должно было решить дело, – что то другое, независимое от ума и знания. Князь Андрей внимательно следил за выражением лица главнокомандующего, и единственное выражение, которое он мог заметить в нем, было выражение скуки, любопытства к тому, что такое означал женский шепот за дверью, и желание соблюсти приличие. Очевидно было, что Кутузов презирал ум, и знание, и даже патриотическое чувство, которое выказывал Денисов, но презирал не умом, не чувством, не знанием (потому что он и не старался выказывать их), а он презирал их чем то другим. Он презирал их своей старостью, своею опытностью жизни. Одно распоряжение, которое от себя в этот доклад сделал Кутузов, откосилось до мародерства русских войск. Дежурный редерал в конце доклада представил светлейшему к подписи бумагу о взысканий с армейских начальников по прошению помещика за скошенный зеленый овес.
Кутузов зачмокал губами и закачал головой, выслушав это дело.
– В печку… в огонь! И раз навсегда тебе говорю, голубчик, – сказал он, – все эти дела в огонь. Пуская косят хлеба и жгут дрова на здоровье. Я этого не приказываю и не позволяю, но и взыскивать не могу. Без этого нельзя. Дрова рубят – щепки летят. – Он взглянул еще раз на бумагу. – О, аккуратность немецкая! – проговорил он, качая головой.
– Ну, теперь все, – сказал Кутузов, подписывая последнюю бумагу, и, тяжело поднявшись и расправляя складки своей белой пухлой шеи, с повеселевшим лицом направился к двери.
Попадья, с бросившеюся кровью в лицо, схватилась за блюдо, которое, несмотря на то, что она так долго приготовлялась, она все таки не успела подать вовремя. И с низким поклоном она поднесла его Кутузову.
Глаза Кутузова прищурились; он улыбнулся, взял рукой ее за подбородок и сказал:
– И красавица какая! Спасибо, голубушка!
Он достал из кармана шаровар несколько золотых и положил ей на блюдо.
– Ну что, как живешь? – сказал Кутузов, направляясь к отведенной для него комнате. Попадья, улыбаясь ямочками на румяном лице, прошла за ним в горницу. Адъютант вышел к князю Андрею на крыльцо и приглашал его завтракать; через полчаса князя Андрея позвали опять к Кутузову. Кутузов лежал на кресле в том же расстегнутом сюртуке. Он держал в руке французскую книгу и при входе князя Андрея, заложив ее ножом, свернул. Это был «Les chevaliers du Cygne», сочинение madame de Genlis [«Рыцари Лебедя», мадам де Жанлис], как увидал князь Андрей по обертке.
– Ну садись, садись тут, поговорим, – сказал Кутузов. – Грустно, очень грустно. Но помни, дружок, что я тебе отец, другой отец… – Князь Андрей рассказал Кутузову все, что он знал о кончине своего отца, и о том, что он видел в Лысых Горах, проезжая через них.
– До чего… до чего довели! – проговорил вдруг Кутузов взволнованным голосом, очевидно, ясно представив себе, из рассказа князя Андрея, положение, в котором находилась Россия. – Дай срок, дай срок, – прибавил он с злобным выражением лица и, очевидно, не желая продолжать этого волновавшего его разговора, сказал: – Я тебя вызвал, чтоб оставить при себе.
– Благодарю вашу светлость, – отвечал князь Андрей, – но я боюсь, что не гожусь больше для штабов, – сказал он с улыбкой, которую Кутузов заметил. Кутузов вопросительно посмотрел на него. – А главное, – прибавил князь Андрей, – я привык к полку, полюбил офицеров, и люди меня, кажется, полюбили. Мне бы жалко было оставить полк. Ежели я отказываюсь от чести быть при вас, то поверьте…
Умное, доброе и вместе с тем тонко насмешливое выражение светилось на пухлом лице Кутузова. Он перебил Болконского:
– Жалею, ты бы мне нужен был; но ты прав, ты прав. Нам не сюда люди нужны. Советчиков всегда много, а людей нет. Не такие бы полки были, если бы все советчики служили там в полках, как ты. Я тебя с Аустерлица помню… Помню, помню, с знаменем помню, – сказал Кутузов, и радостная краска бросилась в лицо князя Андрея при этом воспоминании. Кутузов притянул его за руку, подставляя ему щеку, и опять князь Андрей на глазах старика увидал слезы. Хотя князь Андрей и знал, что Кутузов был слаб на слезы и что он теперь особенно ласкает его и жалеет вследствие желания выказать сочувствие к его потере, но князю Андрею и радостно и лестно было это воспоминание об Аустерлице.
– Иди с богом своей дорогой. Я знаю, твоя дорога – это дорога чести. – Он помолчал. – Я жалел о тебе в Букареште: мне послать надо было. – И, переменив разговор, Кутузов начал говорить о турецкой войне и заключенном мире. – Да, немало упрекали меня, – сказал Кутузов, – и за войну и за мир… а все пришло вовремя. Tout vient a point a celui qui sait attendre. [Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать.] A и там советчиков не меньше было, чем здесь… – продолжал он, возвращаясь к советчикам, которые, видимо, занимали его. – Ох, советчики, советчики! – сказал он. Если бы всех слушать, мы бы там, в Турции, и мира не заключили, да и войны бы не кончили. Всё поскорее, а скорое на долгое выходит. Если бы Каменский не умер, он бы пропал. Он с тридцатью тысячами штурмовал крепости. Взять крепость не трудно, трудно кампанию выиграть. А для этого не нужно штурмовать и атаковать, а нужно терпение и время. Каменский на Рущук солдат послал, а я их одних (терпение и время) посылал и взял больше крепостей, чем Каменский, и лошадиное мясо турок есть заставил. – Он покачал головой. – И французы тоже будут! Верь моему слову, – воодушевляясь, проговорил Кутузов, ударяя себя в грудь, – будут у меня лошадиное мясо есть! – И опять глаза его залоснились слезами.
– Однако до лжно же будет принять сражение? – сказал князь Андрей.
– До лжно будет, если все этого захотят, нечего делать… А ведь, голубчик: нет сильнее тех двух воинов, терпение и время; те всё сделают, да советчики n'entendent pas de cette oreille, voila le mal. [этим ухом не слышат, – вот что плохо.] Одни хотят, другие не хотят. Что ж делать? – спросил он, видимо, ожидая ответа. – Да, что ты велишь делать? – повторил он, и глаза его блестели глубоким, умным выражением. – Я тебе скажу, что делать, – проговорил он, так как князь Андрей все таки не отвечал. – Я тебе скажу, что делать и что я делаю. Dans le doute, mon cher, – он помолчал, – abstiens toi, [В сомнении, мой милый, воздерживайся.] – выговорил он с расстановкой.
– Ну, прощай, дружок; помни, что я всей душой несу с тобой твою потерю и что я тебе не светлейший, не князь и не главнокомандующий, а я тебе отец. Ежели что нужно, прямо ко мне. Прощай, голубчик. – Он опять обнял и поцеловал его. И еще князь Андрей не успел выйти в дверь, как Кутузов успокоительно вздохнул и взялся опять за неконченный роман мадам Жанлис «Les chevaliers du Cygne».
Как и отчего это случилось, князь Андрей не мог бы никак объяснить; но после этого свидания с Кутузовым он вернулся к своему полку успокоенный насчет общего хода дела и насчет того, кому оно вверено было. Чем больше он видел отсутствие всего личного в этом старике, в котором оставались как будто одни привычки страстей и вместо ума (группирующего события и делающего выводы) одна способность спокойного созерцания хода событий, тем более он был спокоен за то, что все будет так, как должно быть. «У него не будет ничего своего. Он ничего не придумает, ничего не предпримет, – думал князь Андрей, – но он все выслушает, все запомнит, все поставит на свое место, ничему полезному не помешает и ничего вредного не позволит. Он понимает, что есть что то сильнее и значительнее его воли, – это неизбежный ход событий, и он умеет видеть их, умеет понимать их значение и, ввиду этого значения, умеет отрекаться от участия в этих событиях, от своей личной волн, направленной на другое. А главное, – думал князь Андрей, – почему веришь ему, – это то, что он русский, несмотря на роман Жанлис и французские поговорки; это то, что голос его задрожал, когда он сказал: „До чего довели!“, и что он захлипал, говоря о том, что он „заставит их есть лошадиное мясо“. На этом же чувстве, которое более или менее смутно испытывали все, и основано было то единомыслие и общее одобрение, которое сопутствовало народному, противному придворным соображениям, избранию Кутузова в главнокомандующие.
После отъезда государя из Москвы московская жизнь потекла прежним, обычным порядком, и течение этой жизни было так обычно, что трудно было вспомнить о бывших днях патриотического восторга и увлечения, и трудно было верить, что действительно Россия в опасности и что члены Английского клуба суть вместе с тем и сыны отечества, готовые для него на всякую жертву. Одно, что напоминало о бывшем во время пребывания государя в Москве общем восторженно патриотическом настроении, было требование пожертвований людьми и деньгами, которые, как скоро они были сделаны, облеклись в законную, официальную форму и казались неизбежны.
С приближением неприятеля к Москве взгляд москвичей на свое положение не только не делался серьезнее, но, напротив, еще легкомысленнее, как это всегда бывает с людьми, которые видят приближающуюся большую опасность. При приближении опасности всегда два голоса одинаково сильно говорят в душе человека: один весьма разумно говорит о том, чтобы человек обдумал самое свойство опасности и средства для избавления от нее; другой еще разумнее говорит, что слишком тяжело и мучительно думать об опасности, тогда как предвидеть все и спастись от общего хода дела не во власти человека, и потому лучше отвернуться от тяжелого, до тех пор пока оно не наступило, и думать о приятном. В одиночестве человек большею частью отдается первому голосу, в обществе, напротив, – второму. Так было и теперь с жителями Москвы. Давно так не веселились в Москве, как этот год.
Растопчинские афишки с изображением вверху питейного дома, целовальника и московского мещанина Карпушки Чигирина, который, быв в ратниках и выпив лишний крючок на тычке, услыхал, будто Бонапарт хочет идти на Москву, рассердился, разругал скверными словами всех французов, вышел из питейного дома и заговорил под орлом собравшемуся народу, читались и обсуживались наравне с последним буриме Василия Львовича Пушкина.
В клубе, в угловой комнате, собирались читать эти афиши, и некоторым нравилось, как Карпушка подтрунивал над французами, говоря, что они от капусты раздуются, от каши перелопаются, от щей задохнутся, что они все карлики и что их троих одна баба вилами закинет. Некоторые не одобряли этого тона и говорила, что это пошло и глупо. Рассказывали о том, что французов и даже всех иностранцев Растопчин выслал из Москвы, что между ними шпионы и агенты Наполеона; но рассказывали это преимущественно для того, чтобы при этом случае передать остроумные слова, сказанные Растопчиным при их отправлении. Иностранцев отправляли на барке в Нижний, и Растопчин сказал им: «Rentrez en vous meme, entrez dans la barque et n'en faites pas une barque ne Charon». [войдите сами в себя и в эту лодку и постарайтесь, чтобы эта лодка не сделалась для вас лодкой Харона.] Рассказывали, что уже выслали из Москвы все присутственные места, и тут же прибавляли шутку Шиншина, что за это одно Москва должна быть благодарна Наполеону. Рассказывали, что Мамонову его полк будет стоить восемьсот тысяч, что Безухов еще больше затратил на своих ратников, но что лучше всего в поступке Безухова то, что он сам оденется в мундир и поедет верхом перед полком и ничего не будет брать за места с тех, которые будут смотреть на него.
– Вы никому не делаете милости, – сказала Жюли Друбецкая, собирая и прижимая кучку нащипанной корпии тонкими пальцами, покрытыми кольцами.
Жюли собиралась на другой день уезжать из Москвы и делала прощальный вечер.
– Безухов est ridicule [смешон], но он так добр, так мил. Что за удовольствие быть так caustique [злоязычным]?
– Штраф! – сказал молодой человек в ополченском мундире, которого Жюли называла «mon chevalier» [мой рыцарь] и который с нею вместе ехал в Нижний.
В обществе Жюли, как и во многих обществах Москвы, было положено говорить только по русски, и те, которые ошибались, говоря французские слова, платили штраф в пользу комитета пожертвований.
– Другой штраф за галлицизм, – сказал русский писатель, бывший в гостиной. – «Удовольствие быть не по русски.
– Вы никому не делаете милости, – продолжала Жюли к ополченцу, не обращая внимания на замечание сочинителя. – За caustique виновата, – сказала она, – и плачу, но за удовольствие сказать вам правду я готова еще заплатить; за галлицизмы не отвечаю, – обратилась она к сочинителю: – у меня нет ни денег, ни времени, как у князя Голицына, взять учителя и учиться по русски. А вот и он, – сказала Жюли. – Quand on… [Когда.] Нет, нет, – обратилась она к ополченцу, – не поймаете. Когда говорят про солнце – видят его лучи, – сказала хозяйка, любезно улыбаясь Пьеру. – Мы только говорили о вас, – с свойственной светским женщинам свободой лжи сказала Жюли. – Мы говорили, что ваш полк, верно, будет лучше мамоновского.
– Ах, не говорите мне про мой полк, – отвечал Пьер, целуя руку хозяйке и садясь подле нее. – Он мне так надоел!
– Вы ведь, верно, сами будете командовать им? – сказала Жюли, хитро и насмешливо переглянувшись с ополченцем.
Ополченец в присутствии Пьера был уже не так caustique, и в лице его выразилось недоуменье к тому, что означала улыбка Жюли. Несмотря на свою рассеянность и добродушие, личность Пьера прекращала тотчас же всякие попытки на насмешку в его присутствии.
– Нет, – смеясь, отвечал Пьер, оглядывая свое большое, толстое тело. – В меня слишком легко попасть французам, да и я боюсь, что не влезу на лошадь…
В числе перебираемых лиц для предмета разговора общество Жюли попало на Ростовых.
– Очень, говорят, плохи дела их, – сказала Жюли. – И он так бестолков – сам граф. Разумовские хотели купить его дом и подмосковную, и все это тянется. Он дорожится.
– Нет, кажется, на днях состоится продажа, – сказал кто то. – Хотя теперь и безумно покупать что нибудь в Москве.
– Отчего? – сказала Жюли. – Неужели вы думаете, что есть опасность для Москвы?
– Отчего же вы едете?
– Я? Вот странно. Я еду, потому… ну потому, что все едут, и потом я не Иоанна д'Арк и не амазонка.
– Ну, да, да, дайте мне еще тряпочек.
– Ежели он сумеет повести дела, он может заплатить все долги, – продолжал ополченец про Ростова.
– Добрый старик, но очень pauvre sire [плох]. И зачем они живут тут так долго? Они давно хотели ехать в деревню. Натали, кажется, здорова теперь? – хитро улыбаясь, спросила Жюли у Пьера.
– Они ждут меньшого сына, – сказал Пьер. – Он поступил в казаки Оболенского и поехал в Белую Церковь. Там формируется полк. А теперь они перевели его в мой полк и ждут каждый день. Граф давно хотел ехать, но графиня ни за что не согласна выехать из Москвы, пока не приедет сын.
– Я их третьего дня видела у Архаровых. Натали опять похорошела и повеселела. Она пела один романс. Как все легко проходит у некоторых людей!
– Что проходит? – недовольно спросил Пьер. Жюли улыбнулась.
– Вы знаете, граф, что такие рыцари, как вы, бывают только в романах madame Suza.
– Какой рыцарь? Отчего? – краснея, спросил Пьер.
– Ну, полноте, милый граф, c'est la fable de tout Moscou. Je vous admire, ma parole d'honneur. [это вся Москва знает. Право, я вам удивляюсь.]
– Штраф! Штраф! – сказал ополченец.
– Ну, хорошо. Нельзя говорить, как скучно!
– Qu'est ce qui est la fable de tout Moscou? [Что знает вся Москва?] – вставая, сказал сердито Пьер.
– Полноте, граф. Вы знаете!
– Ничего не знаю, – сказал Пьер.
– Я знаю, что вы дружны были с Натали, и потому… Нет, я всегда дружнее с Верой. Cette chere Vera! [Эта милая Вера!]
– Non, madame, [Нет, сударыня.] – продолжал Пьер недовольным тоном. – Я вовсе не взял на себя роль рыцаря Ростовой, и я уже почти месяц не был у них. Но я не понимаю жестокость…
– Qui s'excuse – s'accuse, [Кто извиняется, тот обвиняет себя.] – улыбаясь и махая корпией, говорила Жюли и, чтобы за ней осталось последнее слово, сейчас же переменила разговор. – Каково, я нынче узнала: бедная Мари Волконская приехала вчера в Москву. Вы слышали, она потеряла отца?
– Неужели! Где она? Я бы очень желал увидать ее, – сказал Пьер.
– Я вчера провела с ней вечер. Она нынче или завтра утром едет в подмосковную с племянником.
– Ну что она, как? – сказал Пьер.
– Ничего, грустна. Но знаете, кто ее спас? Это целый роман. Nicolas Ростов. Ее окружили, хотели убить, ранили ее людей. Он бросился и спас ее…
– Еще роман, – сказал ополченец. – Решительно это общее бегство сделано, чтобы все старые невесты шли замуж. Catiche – одна, княжна Болконская – другая.
– Вы знаете, что я в самом деле думаю, что она un petit peu amoureuse du jeune homme. [немножечко влюблена в молодого человека.]
– Штраф! Штраф! Штраф!
– Но как же это по русски сказать?..
Когда Пьер вернулся домой, ему подали две принесенные в этот день афиши Растопчина.
В первой говорилось о том, что слух, будто графом Растопчиным запрещен выезд из Москвы, – несправедлив и что, напротив, граф Растопчин рад, что из Москвы уезжают барыни и купеческие жены. «Меньше страху, меньше новостей, – говорилось в афише, – но я жизнью отвечаю, что злодей в Москве не будет». Эти слова в первый раз ясно ыоказали Пьеру, что французы будут в Москве. Во второй афише говорилось, что главная квартира наша в Вязьме, что граф Витгснштейн победил французов, но что так как многие жители желают вооружиться, то для них есть приготовленное в арсенале оружие: сабли, пистолеты, ружья, которые жители могут получать по дешевой цене. Тон афиш был уже не такой шутливый, как в прежних чигиринских разговорах. Пьер задумался над этими афишами. Очевидно, та страшная грозовая туча, которую он призывал всеми силами своей души и которая вместе с тем возбуждала в нем невольный ужас, – очевидно, туча эта приближалась.
«Поступить в военную службу и ехать в армию или дожидаться? – в сотый раз задавал себе Пьер этот вопрос. Он взял колоду карт, лежавших у него на столе, и стал делать пасьянс.
– Ежели выйдет этот пасьянс, – говорил он сам себе, смешав колоду, держа ее в руке и глядя вверх, – ежели выйдет, то значит… что значит?.. – Он не успел решить, что значит, как за дверью кабинета послышался голос старшей княжны, спрашивающей, можно ли войти.
– Тогда будет значить, что я должен ехать в армию, – договорил себе Пьер. – Войдите, войдите, – прибавил он, обращаясь к княжие.
(Одна старшая княжна, с длинной талией и окаменелым лидом, продолжала жить в доме Пьера; две меньшие вышли замуж.)
– Простите, mon cousin, что я пришла к вам, – сказала она укоризненно взволнованным голосом. – Ведь надо наконец на что нибудь решиться! Что ж это будет такое? Все выехали из Москвы, и народ бунтует. Что ж мы остаемся?
– Напротив, все, кажется, благополучно, ma cousine, – сказал Пьер с тою привычкой шутливости, которую Пьер, всегда конфузно переносивший свою роль благодетеля перед княжною, усвоил себе в отношении к ней.
– Да, это благополучно… хорошо благополучие! Мне нынче Варвара Ивановна порассказала, как войска наши отличаются. Уж точно можно чести приписать. Да и народ совсем взбунтовался, слушать перестают; девка моя и та грубить стала. Этак скоро и нас бить станут. По улицам ходить нельзя. А главное, нынче завтра французы будут, что ж нам ждать! Я об одном прошу, mon cousin, – сказала княжна, – прикажите свезти меня в Петербург: какая я ни есть, а я под бонапартовской властью жить не могу.
– Да полноте, ma cousine, откуда вы почерпаете ваши сведения? Напротив…
– Я вашему Наполеону не покорюсь. Другие как хотят… Ежели вы не хотите этого сделать…
– Да я сделаю, я сейчас прикажу.
Княжне, видимо, досадно было, что не на кого было сердиться. Она, что то шепча, присела на стул.
– Но вам это неправильно доносят, – сказал Пьер. – В городе все тихо, и опасности никакой нет. Вот я сейчас читал… – Пьер показал княжне афишки. – Граф пишет, что он жизнью отвечает, что неприятель не будет в Москве.
– Ах, этот ваш граф, – с злобой заговорила княжна, – это лицемер, злодей, который сам настроил народ бунтовать. Разве не он писал в этих дурацких афишах, что какой бы там ни был, тащи его за хохол на съезжую (и как глупо)! Кто возьмет, говорит, тому и честь и слава. Вот и долюбезничался. Варвара Ивановна говорила, что чуть не убил народ ее за то, что она по французски заговорила…
– Да ведь это так… Вы всё к сердцу очень принимаете, – сказал Пьер и стал раскладывать пасьянс.
Несмотря на то, что пасьянс сошелся, Пьер не поехал в армию, а остался в опустевшей Москве, все в той же тревоге, нерешимости, в страхе и вместе в радости ожидая чего то ужасного.
На другой день княжна к вечеру уехала, и к Пьеру приехал его главноуправляющий с известием, что требуемых им денег для обмундирования полка нельзя достать, ежели не продать одно имение. Главноуправляющий вообще представлял Пьеру, что все эти затеи полка должны были разорить его. Пьер с трудом скрывал улыбку, слушая слова управляющего.
– Ну, продайте, – говорил он. – Что ж делать, я не могу отказаться теперь!
Чем хуже было положение всяких дел, и в особенности его дел, тем Пьеру было приятнее, тем очевиднее было, что катастрофа, которой он ждал, приближается. Уже никого почти из знакомых Пьера не было в городе. Жюли уехала, княжна Марья уехала. Из близких знакомых одни Ростовы оставались; но к ним Пьер не ездил.
В этот день Пьер, для того чтобы развлечься, поехал в село Воронцово смотреть большой воздушный шар, который строился Леппихом для погибели врага, и пробный шар, который должен был быть пущен завтра. Шар этот был еще не готов; но, как узнал Пьер, он строился по желанию государя. Государь писал графу Растопчину об этом шаре следующее:
«Aussitot que Leppich sera pret, composez lui un equipage pour sa nacelle d'hommes surs et intelligents et depechez un courrier au general Koutousoff pour l'en prevenir. Je l'ai instruit de la chose.
Recommandez, je vous prie, a Leppich d'etre bien attentif sur l'endroit ou il descendra la premiere fois, pour ne pas se tromper et ne pas tomber dans les mains de l'ennemi. Il est indispensable qu'il combine ses mouvements avec le general en chef».
[Только что Леппих будет готов, составьте экипаж для его лодки из верных и умных людей и пошлите курьера к генералу Кутузову, чтобы предупредить его.
Я сообщил ему об этом. Внушите, пожалуйста, Леппиху, чтобы он обратил хорошенько внимание на то место, где он спустится в первый раз, чтобы не ошибиться и не попасть в руки врага. Необходимо, чтоб он соображал свои движения с движениями главнокомандующего.]
Возвращаясь домой из Воронцова и проезжая по Болотной площади, Пьер увидал толпу у Лобного места, остановился и слез с дрожек. Это была экзекуция французского повара, обвиненного в шпионстве. Экзекуция только что кончилась, и палач отвязывал от кобылы жалостно стонавшего толстого человека с рыжими бакенбардами, в синих чулках и зеленом камзоле. Другой преступник, худенький и бледный, стоял тут же. Оба, судя по лицам, были французы. С испуганно болезненным видом, подобным тому, который имел худой француз, Пьер протолкался сквозь толпу.
– Что это? Кто? За что? – спрашивал он. Но вниманье толпы – чиновников, мещан, купцов, мужиков, женщин в салопах и шубках – так было жадно сосредоточено на то, что происходило на Лобном месте, что никто не отвечал ему. Толстый человек поднялся, нахмурившись, пожал плечами и, очевидно, желая выразить твердость, стал, не глядя вокруг себя, надевать камзол; но вдруг губы его задрожали, и он заплакал, сам сердясь на себя, как плачут взрослые сангвинические люди. Толпа громко заговорила, как показалось Пьеру, – для того, чтобы заглушить в самой себе чувство жалости.
– Повар чей то княжеский…
– Что, мусью, видно, русский соус кисел французу пришелся… оскомину набил, – сказал сморщенный приказный, стоявший подле Пьера, в то время как француз заплакал. Приказный оглянулся вокруг себя, видимо, ожидая оценки своей шутки. Некоторые засмеялись, некоторые испуганно продолжали смотреть на палача, который раздевал другого.
Пьер засопел носом, сморщился и, быстро повернувшись, пошел назад к дрожкам, не переставая что то бормотать про себя в то время, как он шел и садился. В продолжение дороги он несколько раз вздрагивал и вскрикивал так громко, что кучер спрашивал его:
– Что прикажете?
– Куда ж ты едешь? – крикнул Пьер на кучера, выезжавшего на Лубянку.
– К главнокомандующему приказали, – отвечал кучер.
– Дурак! скотина! – закричал Пьер, что редко с ним случалось, ругая своего кучера. – Домой я велел; и скорее ступай, болван. Еще нынче надо выехать, – про себя проговорил Пьер.
Пьер при виде наказанного француза и толпы, окружавшей Лобное место, так окончательно решил, что не может долее оставаться в Москве и едет нынче же в армию, что ему казалось, что он или сказал об этом кучеру, или что кучер сам должен был знать это.
Приехав домой, Пьер отдал приказание своему все знающему, все умеющему, известному всей Москве кучеру Евстафьевичу о том, что он в ночь едет в Можайск к войску и чтобы туда были высланы его верховые лошади. Все это не могло быть сделано в тот же день, и потому, по представлению Евстафьевича, Пьер должен был отложить свой отъезд до другого дня, с тем чтобы дать время подставам выехать на дорогу.
24 го числа прояснело после дурной погоды, и в этот день после обеда Пьер выехал из Москвы. Ночью, переменя лошадей в Перхушкове, Пьер узнал, что в этот вечер было большое сражение. Рассказывали, что здесь, в Перхушкове, земля дрожала от выстрелов. На вопросы Пьера о том, кто победил, никто не мог дать ему ответа. (Это было сражение 24 го числа при Шевардине.) На рассвете Пьер подъезжал к Можайску.
Все дома Можайска были заняты постоем войск, и на постоялом дворе, на котором Пьера встретили его берейтор и кучер, в горницах не было места: все было полно офицерами.
В Можайске и за Можайском везде стояли и шли войска. Казаки, пешие, конные солдаты, фуры, ящики, пушки виднелись со всех сторон. Пьер торопился скорее ехать вперед, и чем дальше он отъезжал от Москвы и чем глубже погружался в это море войск, тем больше им овладевала тревога беспокойства и не испытанное еще им новое радостное чувство. Это было чувство, подобное тому, которое он испытывал и в Слободском дворце во время приезда государя, – чувство необходимости предпринять что то и пожертвовать чем то. Он испытывал теперь приятное чувство сознания того, что все то, что составляет счастье людей, удобства жизни, богатство, даже самая жизнь, есть вздор, который приятно откинуть в сравнении с чем то… С чем, Пьер не мог себе дать отчета, да и ее старался уяснить себе, для кого и для чего он находит особенную прелесть пожертвовать всем. Его не занимало то, для чего он хочет жертвовать, но самое жертвование составляло для него новое радостное чувство.
24 го было сражение при Шевардинском редуте, 25 го не было пущено ни одного выстрела ни с той, ни с другой стороны, 26 го произошло Бородинское сражение.
Для чего и как были даны и приняты сражения при Шевардине и при Бородине? Для чего было дано Бородинское сражение? Ни для французов, ни для русских оно не имело ни малейшего смысла. Результатом ближайшим было и должно было быть – для русских то, что мы приблизились к погибели Москвы (чего мы боялись больше всего в мире), а для французов то, что они приблизились к погибели всей армии (чего они тоже боялись больше всего в мире). Результат этот был тогда же совершении очевиден, а между тем Наполеон дал, а Кутузов принял это сражение.
Ежели бы полководцы руководились разумными причинами, казалось, как ясно должно было быть для Наполеона, что, зайдя за две тысячи верст и принимая сражение с вероятной случайностью потери четверти армии, он шел на верную погибель; и столь же ясно бы должно было казаться Кутузову, что, принимая сражение и тоже рискуя потерять четверть армии, он наверное теряет Москву. Для Кутузова это было математически ясно, как ясно то, что ежели в шашках у меня меньше одной шашкой и я буду меняться, я наверное проиграю и потому не должен меняться.
Когда у противника шестнадцать шашек, а у меня четырнадцать, то я только на одну восьмую слабее его; а когда я поменяюсь тринадцатью шашками, то он будет втрое сильнее меня.
До Бородинского сражения наши силы приблизительно относились к французским как пять к шести, а после сражения как один к двум, то есть до сражения сто тысяч; ста двадцати, а после сражения пятьдесят к ста. А вместе с тем умный и опытный Кутузов принял сражение. Наполеон же, гениальный полководец, как его называют, дал сражение, теряя четверть армии и еще более растягивая свою линию. Ежели скажут, что, заняв Москву, он думал, как занятием Вены, кончить кампанию, то против этого есть много доказательств. Сами историки Наполеона рассказывают, что еще от Смоленска он хотел остановиться, знал опасность своего растянутого положения знал, что занятие Москвы не будет концом кампании, потому что от Смоленска он видел, в каком положении оставлялись ему русские города, и не получал ни одного ответа на свои неоднократные заявления о желании вести переговоры.
Давая и принимая Бородинское сражение, Кутузов и Наполеон поступили непроизвольно и бессмысленно. А историки под совершившиеся факты уже потом подвели хитросплетенные доказательства предвидения и гениальности полководцев, которые из всех непроизвольных орудий мировых событий были самыми рабскими и непроизвольными деятелями.
Древние оставили нам образцы героических поэм, в которых герои составляют весь интерес истории, и мы все еще не можем привыкнуть к тому, что для нашего человеческого времени история такого рода не имеет смысла.
На другой вопрос: как даны были Бородинское и предшествующее ему Шевардинское сражения – существует точно так же весьма определенное и всем известное, совершенно ложное представление. Все историки описывают дело следующим образом:
Русская армия будто бы в отступлении своем от Смоленска отыскивала себе наилучшую позицию для генерального сражения, и таковая позиция была найдена будто бы у Бородина.
Русские будто бы укрепили вперед эту позицию, влево от дороги (из Москвы в Смоленск), под прямым почти углом к ней, от Бородина к Утице, на том самом месте, где произошло сражение.
Впереди этой позиции будто бы был выставлен для наблюдения за неприятелем укрепленный передовой пост на Шевардинском кургане. 24 го будто бы Наполеон атаковал передовой пост и взял его; 26 го же атаковал всю русскую армию, стоявшую на позиции на Бородинском поле.
Так говорится в историях, и все это совершенно несправедливо, в чем легко убедится всякий, кто захочет вникнуть в сущность дела.
Русские не отыскивали лучшей позиции; а, напротив, в отступлении своем прошли много позиций, которые были лучше Бородинской. Они не остановились ни на одной из этих позиций: и потому, что Кутузов не хотел принять позицию, избранную не им, и потому, что требованье народного сражения еще недостаточно сильно высказалось, и потому, что не подошел еще Милорадович с ополчением, и еще по другим причинам, которые неисчислимы. Факт тот – что прежние позиции были сильнее и что Бородинская позиция (та, на которой дано сражение) не только не сильна, но вовсе не есть почему нибудь позиция более, чем всякое другое место в Российской империи, на которое, гадая, указать бы булавкой на карте.
Русские не только не укрепляли позицию Бородинского поля влево под прямым углом от дороги (то есть места, на котором произошло сражение), но и никогда до 25 го августа 1812 года не думали о том, чтобы сражение могло произойти на этом месте. Этому служит доказательством, во первых, то, что не только 25 го не было на этом месте укреплений, но что, начатые 25 го числа, они не были кончены и 26 го; во вторых, доказательством служит положение Шевардинского редута: Шевардинский редут, впереди той позиции, на которой принято сражение, не имеет никакого смысла. Для чего был сильнее всех других пунктов укреплен этот редут? И для чего, защищая его 24 го числа до поздней ночи, были истощены все усилия и потеряно шесть тысяч человек? Для наблюдения за неприятелем достаточно было казачьего разъезда. В третьих, доказательством того, что позиция, на которой произошло сражение, не была предвидена и что Шевардинский редут не был передовым пунктом этой позиции, служит то, что Барклай де Толли и Багратион до 25 го числа находились в убеждении, что Шевардинский редут есть левый фланг позиции и что сам Кутузов в донесении своем, писанном сгоряча после сражения, называет Шевардинский редут левым флангом позиции. Уже гораздо после, когда писались на просторе донесения о Бородинском сражении, было (вероятно, для оправдания ошибок главнокомандующего, имеющего быть непогрешимым) выдумано то несправедливое и странное показание, будто Шевардинский редут служил передовым постом (тогда как это был только укрепленный пункт левого фланга) и будто Бородинское сражение было принято нами на укрепленной и наперед избранной позиции, тогда как оно произошло на совершенно неожиданном и почти не укрепленном месте.
Дело же, очевидно, было так: позиция была избрана по реке Колоче, пересекающей большую дорогу не под прямым, а под острым углом, так что левый фланг был в Шевардине, правый около селения Нового и центр в Бородине, при слиянии рек Колочи и Во йны. Позиция эта, под прикрытием реки Колочи, для армии, имеющей целью остановить неприятеля, движущегося по Смоленской дороге к Москве, очевидна для всякого, кто посмотрит на Бородинское поле, забыв о том, как произошло сражение.
Наполеон, выехав 24 го к Валуеву, не увидал (как говорится в историях) позицию русских от Утицы к Бородину (он не мог увидать эту позицию, потому что ее не было) и не увидал передового поста русской армии, а наткнулся в преследовании русского арьергарда на левый фланг позиции русских, на Шевардинский редут, и неожиданно для русских перевел войска через Колочу. И русские, не успев вступить в генеральное сражение, отступили своим левым крылом из позиции, которую они намеревались занять, и заняли новую позицию, которая была не предвидена и не укреплена. Перейдя на левую сторону Колочи, влево от дороги, Наполеон передвинул все будущее сражение справа налево (со стороны русских) и перенес его в поле между Утицей, Семеновским и Бородиным (в это поле, не имеющее в себе ничего более выгодного для позиции, чем всякое другое поле в России), и на этом поле произошло все сражение 26 го числа. В грубой форме план предполагаемого сражения и происшедшего сражения будет следующий:
Ежели бы Наполеон не выехал вечером 24 го числа на Колочу и не велел бы тотчас же вечером атаковать редут, а начал бы атаку на другой день утром, то никто бы не усомнился в том, что Шевардинский редут был левый фланг нашей позиции; и сражение произошло бы так, как мы его ожидали. В таком случае мы, вероятно, еще упорнее бы защищали Шевардинский редут, наш левый фланг; атаковали бы Наполеона в центре или справа, и 24 го произошло бы генеральное сражение на той позиции, которая была укреплена и предвидена. Но так как атака на наш левый фланг произошла вечером, вслед за отступлением нашего арьергарда, то есть непосредственно после сражения при Гридневой, и так как русские военачальники не хотели или не успели начать тогда же 24 го вечером генерального сражения, то первое и главное действие Бородинского сражения было проиграно еще 24 го числа и, очевидно, вело к проигрышу и того, которое было дано 26 го числа.
После потери Шевардинского редута к утру 25 го числа мы оказались без позиции на левом фланге и были поставлены в необходимость отогнуть наше левое крыло и поспешно укреплять его где ни попало.
Но мало того, что 26 го августа русские войска стояли только под защитой слабых, неконченных укреплений, – невыгода этого положения увеличилась еще тем, что русские военачальники, не признав вполне совершившегося факта (потери позиции на левом фланге и перенесения всего будущего поля сражения справа налево), оставались в своей растянутой позиции от села Нового до Утицы и вследствие того должны были передвигать свои войска во время сражения справа налево. Таким образом, во все время сражения русские имели против всей французской армии, направленной на наше левое крыло, вдвое слабейшие силы. (Действия Понятовского против Утицы и Уварова на правом фланге французов составляли отдельные от хода сражения действия.)
Итак, Бородинское сражение произошло совсем не так, как (стараясь скрыть ошибки наших военачальников и вследствие того умаляя славу русского войска и народа) описывают его. Бородинское сражение не произошло на избранной и укрепленной позиции с несколько только слабейшими со стороны русских силами, а Бородинское сражение, вследствие потери Шевардинского редута, принято было русскими на открытой, почти не укрепленной местности с вдвое слабейшими силами против французов, то есть в таких условиях, в которых не только немыслимо было драться десять часов и сделать сражение нерешительным, но немыслимо было удержать в продолжение трех часов армию от совершенного разгрома и бегства.
25 го утром Пьер выезжал из Можайска. На спуске с огромной крутой и кривой горы, ведущей из города, мимо стоящего на горе направо собора, в котором шла служба и благовестили, Пьер вылез из экипажа и пошел пешком. За ним спускался на горе какой то конный полк с песельниками впереди. Навстречу ему поднимался поезд телег с раненными во вчерашнем деле. Возчики мужики, крича на лошадей и хлеща их кнутами, перебегали с одной стороны на другую. Телеги, на которых лежали и сидели по три и по четыре солдата раненых, прыгали по набросанным в виде мостовой камням на крутом подъеме. Раненые, обвязанные тряпками, бледные, с поджатыми губами и нахмуренными бровями, держась за грядки, прыгали и толкались в телегах. Все почти с наивным детским любопытством смотрели на белую шляпу и зеленый фрак Пьера.
Кучер Пьера сердито кричал на обоз раненых, чтобы они держали к одной. Кавалерийский полк с песнями, спускаясь с горы, надвинулся на дрожки Пьера и стеснил дорогу. Пьер остановился, прижавшись к краю скопанной в горе дороги. Из за откоса горы солнце не доставало в углубление дороги, тут было холодно, сыро; над головой Пьера было яркое августовское утро, и весело разносился трезвон. Одна подвода с ранеными остановилась у края дороги подле самого Пьера. Возчик в лаптях, запыхавшись, подбежал к своей телеге, подсунул камень под задние нешиненые колеса и стал оправлять шлею на своей ставшей лошаденке.
Один раненый старый солдат с подвязанной рукой, шедший за телегой, взялся за нее здоровой рукой и оглянулся на Пьера.
– Что ж, землячок, тут положат нас, что ль? Али до Москвы? – сказал он.
Пьер так задумался, что не расслышал вопроса. Он смотрел то на кавалерийский, повстречавшийся теперь с поездом раненых полк, то на ту телегу, у которой он стоял и на которой сидели двое раненых и лежал один, и ему казалось, что тут, в них, заключается разрешение занимавшего его вопроса. Один из сидевших на телеге солдат был, вероятно, ранен в щеку. Вся голова его была обвязана тряпками, и одна щека раздулась с детскую голову. Рот и нос у него были на сторону. Этот солдат глядел на собор и крестился. Другой, молодой мальчик, рекрут, белокурый и белый, как бы совершенно без крови в тонком лице, с остановившейся доброй улыбкой смотрел на Пьера; третий лежал ничком, и лица его не было видно. Кавалеристы песельники проходили над самой телегой.
– Ах запропала… да ежова голова…
– Да на чужой стороне живучи… – выделывали они плясовую солдатскую песню. Как бы вторя им, но в другом роде веселья, перебивались в вышине металлические звуки трезвона. И, еще в другом роде веселья, обливали вершину противоположного откоса жаркие лучи солнца. Но под откосом, у телеги с ранеными, подле запыхавшейся лошаденки, у которой стоял Пьер, было сыро, пасмурно и грустно.
Солдат с распухшей щекой сердито глядел на песельников кавалеристов.
– Ох, щегольки! – проговорил он укоризненно.
– Нынче не то что солдат, а и мужичков видал! Мужичков и тех гонят, – сказал с грустной улыбкой солдат, стоявший за телегой и обращаясь к Пьеру. – Нынче не разбирают… Всем народом навалиться хотят, одью слово – Москва. Один конец сделать хотят. – Несмотря на неясность слов солдата, Пьер понял все то, что он хотел сказать, и одобрительно кивнул головой.
Дорога расчистилась, и Пьер сошел под гору и поехал дальше.
Пьер ехал, оглядываясь по обе стороны дороги, отыскивая знакомые лица и везде встречая только незнакомые военные лица разных родов войск, одинаково с удивлением смотревшие на его белую шляпу и зеленый фрак.
Проехав версты четыре, он встретил первого знакомого и радостно обратился к нему. Знакомый этот был один из начальствующих докторов в армии. Он в бричке ехал навстречу Пьеру, сидя рядом с молодым доктором, и, узнав Пьера, остановил своего казака, сидевшего на козлах вместо кучера.
– Граф! Ваше сиятельство, вы как тут? – спросил доктор.
– Да вот хотелось посмотреть…
– Да, да, будет что посмотреть…
Пьер слез и, остановившись, разговорился с доктором, объясняя ему свое намерение участвовать в сражении.
Доктор посоветовал Безухову прямо обратиться к светлейшему.
– Что же вам бог знает где находиться во время сражения, в безызвестности, – сказал он, переглянувшись с своим молодым товарищем, – а светлейший все таки знает вас и примет милостиво. Так, батюшка, и сделайте, – сказал доктор.
Доктор казался усталым и спешащим.
– Так вы думаете… А я еще хотел спросить вас, где же самая позиция? – сказал Пьер.
– Позиция? – сказал доктор. – Уж это не по моей части. Проедете Татаринову, там что то много копают. Там на курган войдете: оттуда видно, – сказал доктор.
– И видно оттуда?.. Ежели бы вы…
Но доктор перебил его и подвинулся к бричке.
– Я бы вас проводил, да, ей богу, – вот (доктор показал на горло) скачу к корпусному командиру. Ведь у нас как?.. Вы знаете, граф, завтра сражение: на сто тысяч войска малым числом двадцать тысяч раненых считать надо; а у нас ни носилок, ни коек, ни фельдшеров, ни лекарей на шесть тысяч нет. Десять тысяч телег есть, да ведь нужно и другое; как хочешь, так и делай.
Та странная мысль, что из числа тех тысяч людей живых, здоровых, молодых и старых, которые с веселым удивлением смотрели на его шляпу, было, наверное, двадцать тысяч обреченных на раны и смерть (может быть, те самые, которых он видел), – поразила Пьера.
Они, может быть, умрут завтра, зачем они думают о чем нибудь другом, кроме смерти? И ему вдруг по какой то тайной связи мыслей живо представился спуск с Можайской горы, телеги с ранеными, трезвон, косые лучи солнца и песня кавалеристов.
«Кавалеристы идут на сраженье, и встречают раненых, и ни на минуту не задумываются над тем, что их ждет, а идут мимо и подмигивают раненым. А из этих всех двадцать тысяч обречены на смерть, а они удивляются на мою шляпу! Странно!» – думал Пьер, направляясь дальше к Татариновой.
У помещичьего дома, на левой стороне дороги, стояли экипажи, фургоны, толпы денщиков и часовые. Тут стоял светлейший. Но в то время, как приехал Пьер, его не было, и почти никого не было из штабных. Все были на молебствии. Пьер поехал вперед к Горкам.
Въехав на гору и выехав в небольшую улицу деревни, Пьер увидал в первый раз мужиков ополченцев с крестами на шапках и в белых рубашках, которые с громким говором и хохотом, оживленные и потные, что то работали направо от дороги, на огромном кургане, обросшем травою.
Одни из них копали лопатами гору, другие возили по доскам землю в тачках, третьи стояли, ничего не делая.
Два офицера стояли на кургане, распоряжаясь ими. Увидав этих мужиков, очевидно, забавляющихся еще своим новым, военным положением, Пьер опять вспомнил раненых солдат в Можайске, и ему понятно стало то, что хотел выразить солдат, говоривший о том, что всем народом навалиться хотят. Вид этих работающих на поле сражения бородатых мужиков с их странными неуклюжими сапогами, с их потными шеями и кое у кого расстегнутыми косыми воротами рубах, из под которых виднелись загорелые кости ключиц, подействовал на Пьера сильнее всего того, что он видел и слышал до сих пор о торжественности и значительности настоящей минуты.
Пьер вышел из экипажа и мимо работающих ополченцев взошел на тот курган, с которого, как сказал ему доктор, было видно поле сражения.
Было часов одиннадцать утра. Солнце стояло несколько влево и сзади Пьера и ярко освещало сквозь чистый, редкий воздух огромную, амфитеатром по поднимающейся местности открывшуюся перед ним панораму.
Вверх и влево по этому амфитеатру, разрезывая его, вилась большая Смоленская дорога, шедшая через село с белой церковью, лежавшее в пятистах шагах впереди кургана и ниже его (это было Бородино). Дорога переходила под деревней через мост и через спуски и подъемы вилась все выше и выше к видневшемуся верст за шесть селению Валуеву (в нем стоял теперь Наполеон). За Валуевым дорога скрывалась в желтевшем лесу на горизонте. В лесу этом, березовом и еловом, вправо от направления дороги, блестел на солнце дальний крест и колокольня Колоцкого монастыря. По всей этой синей дали, вправо и влево от леса и дороги, в разных местах виднелись дымящиеся костры и неопределенные массы войск наших и неприятельских. Направо, по течению рек Колочи и Москвы, местность была ущелиста и гориста. Между ущельями их вдали виднелись деревни Беззубово, Захарьино. Налево местность была ровнее, были поля с хлебом, и виднелась одна дымящаяся, сожженная деревня – Семеновская.
Все, что видел Пьер направо и налево, было так неопределенно, что ни левая, ни правая сторона поля не удовлетворяла вполне его представлению. Везде было не доле сражения, которое он ожидал видеть, а поля, поляны, войска, леса, дымы костров, деревни, курганы, ручьи; и сколько ни разбирал Пьер, он в этой живой местности не мог найти позиции и не мог даже отличить ваших войск от неприятельских.
«Надо спросить у знающего», – подумал он и обратился к офицеру, с любопытством смотревшему на его невоенную огромную фигуру.
– Позвольте спросить, – обратился Пьер к офицеру, – это какая деревня впереди?
– Бурдино или как? – сказал офицер, с вопросом обращаясь к своему товарищу.
– Бородино, – поправляя, отвечал другой.
Офицер, видимо, довольный случаем поговорить, подвинулся к Пьеру.
– Там наши? – спросил Пьер.
– Да, а вон подальше и французы, – сказал офицер. – Вон они, вон видны.
– Где? где? – спросил Пьер.
– Простым глазом видно. Да вот, вот! – Офицер показал рукой на дымы, видневшиеся влево за рекой, и на лице его показалось то строгое и серьезное выражение, которое Пьер видел на многих лицах, встречавшихся ему.
– Ах, это французы! А там?.. – Пьер показал влево на курган, около которого виднелись войска.
– Это наши.
– Ах, наши! А там?.. – Пьер показал на другой далекий курган с большим деревом, подле деревни, видневшейся в ущелье, у которой тоже дымились костры и чернелось что то.
– Это опять он, – сказал офицер. (Это был Шевардинский редут.) – Вчера было наше, а теперь его.
– Так как же наша позиция?
– Позиция? – сказал офицер с улыбкой удовольствия. – Я это могу рассказать вам ясно, потому что я почти все укрепления наши строил. Вот, видите ли, центр наш в Бородине, вот тут. – Он указал на деревню с белой церковью, бывшей впереди. – Тут переправа через Колочу. Вот тут, видите, где еще в низочке ряды скошенного сена лежат, вот тут и мост. Это наш центр. Правый фланг наш вот где (он указал круто направо, далеко в ущелье), там Москва река, и там мы три редута построили очень сильные. Левый фланг… – и тут офицер остановился. – Видите ли, это трудно вам объяснить… Вчера левый фланг наш был вот там, в Шевардине, вон, видите, где дуб; а теперь мы отнесли назад левое крыло, теперь вон, вон – видите деревню и дым? – это Семеновское, да вот здесь, – он указал на курган Раевского. – Только вряд ли будет тут сраженье. Что он перевел сюда войска, это обман; он, верно, обойдет справа от Москвы. Ну, да где бы ни было, многих завтра не досчитаемся! – сказал офицер.
Старый унтер офицер, подошедший к офицеру во время его рассказа, молча ожидал конца речи своего начальника; но в этом месте он, очевидно, недовольный словами офицера, перебил его.
– За турами ехать надо, – сказал он строго.
Офицер как будто смутился, как будто он понял, что можно думать о том, сколь многих не досчитаются завтра, но не следует говорить об этом.
– Ну да, посылай третью роту опять, – поспешно сказал офицер.
– А вы кто же, не из докторов?
– Нет, я так, – отвечал Пьер. И Пьер пошел под гору опять мимо ополченцев.
– Ах, проклятые! – проговорил следовавший за ним офицер, зажимая нос и пробегая мимо работающих.
– Вон они!.. Несут, идут… Вон они… сейчас войдут… – послышались вдруг голоса, и офицеры, солдаты и ополченцы побежали вперед по дороге.
Из под горы от Бородина поднималось церковное шествие. Впереди всех по пыльной дороге стройно шла пехота с снятыми киверами и ружьями, опущенными книзу. Позади пехоты слышалось церковное пение.
Обгоняя Пьера, без шапок бежали навстречу идущим солдаты и ополченцы.
– Матушку несут! Заступницу!.. Иверскую!..
– Смоленскую матушку, – поправил другой.
Ополченцы – и те, которые были в деревне, и те, которые работали на батарее, – побросав лопаты, побежали навстречу церковному шествию. За батальоном, шедшим по пыльной дороге, шли в ризах священники, один старичок в клобуке с причтом и певчпми. За ними солдаты и офицеры несли большую, с черным ликом в окладе, икону. Это была икона, вывезенная из Смоленска и с того времени возимая за армией. За иконой, кругом ее, впереди ее, со всех сторон шли, бежали и кланялись в землю с обнаженными головами толпы военных.
Взойдя на гору, икона остановилась; державшие на полотенцах икону люди переменились, дьячки зажгли вновь кадила, и начался молебен. Жаркие лучи солнца били отвесно сверху; слабый, свежий ветерок играл волосами открытых голов и лентами, которыми была убрана икона; пение негромко раздавалось под открытым небом. Огромная толпа с открытыми головами офицеров, солдат, ополченцев окружала икону. Позади священника и дьячка, на очищенном месте, стояли чиновные люди. Один плешивый генерал с Георгием на шее стоял прямо за спиной священника и, не крестясь (очевидно, пемец), терпеливо дожидался конца молебна, который он считал нужным выслушать, вероятно, для возбуждения патриотизма русского народа. Другой генерал стоял в воинственной позе и потряхивал рукой перед грудью, оглядываясь вокруг себя. Между этим чиновным кружком Пьер, стоявший в толпе мужиков, узнал некоторых знакомых; но он не смотрел на них: все внимание его было поглощено серьезным выражением лиц в этой толпе солдат и оиолченцев, однообразно жадно смотревших на икону. Как только уставшие дьячки (певшие двадцатый молебен) начинали лениво и привычно петь: «Спаси от бед рабы твоя, богородице», и священник и дьякон подхватывали: «Яко вси по бозе к тебе прибегаем, яко нерушимой стене и предстательству», – на всех лицах вспыхивало опять то же выражение сознания торжественности наступающей минуты, которое он видел под горой в Можайске и урывками на многих и многих лицах, встреченных им в это утро; и чаще опускались головы, встряхивались волоса и слышались вздохи и удары крестов по грудям.
Толпа, окружавшая икону, вдруг раскрылась и надавила Пьера. Кто то, вероятно, очень важное лицо, судя по поспешности, с которой перед ним сторонились, подходил к иконе.
Это был Кутузов, объезжавший позицию. Он, возвращаясь к Татариновой, подошел к молебну. Пьер тотчас же узнал Кутузова по его особенной, отличавшейся от всех фигуре.
В длинном сюртуке на огромном толщиной теле, с сутуловатой спиной, с открытой белой головой и с вытекшим, белым глазом на оплывшем лице, Кутузов вошел своей ныряющей, раскачивающейся походкой в круг и остановился позади священника. Он перекрестился привычным жестом, достал рукой до земли и, тяжело вздохнув, опустил свою седую голову. За Кутузовым был Бенигсен и свита. Несмотря на присутствие главнокомандующего, обратившего на себя внимание всех высших чинов, ополченцы и солдаты, не глядя на него, продолжали молиться.
Когда кончился молебен, Кутузов подошел к иконе, тяжело опустился на колена, кланяясь в землю, и долго пытался и не мог встать от тяжести и слабости. Седая голова его подергивалась от усилий. Наконец он встал и с детски наивным вытягиванием губ приложился к иконе и опять поклонился, дотронувшись рукой до земли. Генералитет последовал его примеру; потом офицеры, и за ними, давя друг друга, топчась, пыхтя и толкаясь, с взволнованными лицами, полезли солдаты и ополченцы.
Покачиваясь от давки, охватившей его, Пьер оглядывался вокруг себя.
– Граф, Петр Кирилыч! Вы как здесь? – сказал чей то голос. Пьер оглянулся.
Борис Друбецкой, обчищая рукой коленки, которые он запачкал (вероятно, тоже прикладываясь к иконе), улыбаясь подходил к Пьеру. Борис был одет элегантно, с оттенком походной воинственности. На нем был длинный сюртук и плеть через плечо, так же, как у Кутузова.
Кутузов между тем подошел к деревне и сел в тени ближайшего дома на лавку, которую бегом принес один казак, а другой поспешно покрыл ковриком. Огромная блестящая свита окружила главнокомандующего.
Икона тронулась дальше, сопутствуемая толпой. Пьер шагах в тридцати от Кутузова остановился, разговаривая с Борисом.
Пьер объяснил свое намерение участвовать в сражении и осмотреть позицию.
– Вот как сделайте, – сказал Борис. – Je vous ferai les honneurs du camp. [Я вас буду угощать лагерем.] Лучше всего вы увидите все оттуда, где будет граф Бенигсен. Я ведь при нем состою. Я ему доложу. А если хотите объехать позицию, то поедемте с нами: мы сейчас едем на левый фланг. А потом вернемся, и милости прошу у меня ночевать, и партию составим. Вы ведь знакомы с Дмитрием Сергеичем? Он вот тут стоит, – он указал третий дом в Горках.
– Но мне бы хотелось видеть правый фланг; говорят, он очень силен, – сказал Пьер. – Я бы хотел проехать от Москвы реки и всю позицию.
– Ну, это после можете, а главный – левый фланг…
– Да, да. А где полк князя Болконского, не можете вы указать мне? – спросил Пьер.
– Андрея Николаевича? мы мимо проедем, я вас проведу к нему.
– Что ж левый фланг? – спросил Пьер.
– По правде вам сказать, entre nous, [между нами,] левый фланг наш бог знает в каком положении, – сказал Борис, доверчиво понижая голос, – граф Бенигсен совсем не то предполагал. Он предполагал укрепить вон тот курган, совсем не так… но, – Борис пожал плечами. – Светлейший не захотел, или ему наговорили. Ведь… – И Борис не договорил, потому что в это время к Пьеру подошел Кайсаров, адъютант Кутузова. – А! Паисий Сергеич, – сказал Борис, с свободной улыбкой обращаясь к Кайсарову, – А я вот стараюсь объяснить графу позицию. Удивительно, как мог светлейший так верно угадать замыслы французов!
– Вы про левый фланг? – сказал Кайсаров.
– Да, да, именно. Левый фланг наш теперь очень, очень силен.
Несмотря на то, что Кутузов выгонял всех лишних из штаба, Борис после перемен, произведенных Кутузовым, сумел удержаться при главной квартире. Борис пристроился к графу Бенигсену. Граф Бенигсен, как и все люди, при которых находился Борис, считал молодого князя Друбецкого неоцененным человеком.
В начальствовании армией были две резкие, определенные партии: партия Кутузова и партия Бенигсена, начальника штаба. Борис находился при этой последней партии, и никто так, как он, не умел, воздавая раболепное уважение Кутузову, давать чувствовать, что старик плох и что все дело ведется Бенигсеном. Теперь наступила решительная минута сражения, которая должна была или уничтожить Кутузова и передать власть Бенигсену, или, ежели бы даже Кутузов выиграл сражение, дать почувствовать, что все сделано Бенигсеном. Во всяком случае, за завтрашний день должны были быть розданы большие награды и выдвинуты вперед новые люди. И вследствие этого Борис находился в раздраженном оживлении весь этот день.
За Кайсаровым к Пьеру еще подошли другие из его знакомых, и он не успевал отвечать на расспросы о Москве, которыми они засыпали его, и не успевал выслушивать рассказов, которые ему делали. На всех лицах выражались оживление и тревога. Но Пьеру казалось, что причина возбуждения, выражавшегося на некоторых из этих лиц, лежала больше в вопросах личного успеха, и у него не выходило из головы то другое выражение возбуждения, которое он видел на других лицах и которое говорило о вопросах не личных, а общих, вопросах жизни и смерти. Кутузов заметил фигуру Пьера и группу, собравшуюся около него.
– Позовите его ко мне, – сказал Кутузов. Адъютант передал желание светлейшего, и Пьер направился к скамейке. Но еще прежде него к Кутузову подошел рядовой ополченец. Это был Долохов.
– Этот как тут? – спросил Пьер.
– Это такая бестия, везде пролезет! – отвечали Пьеру. – Ведь он разжалован. Теперь ему выскочить надо. Какие то проекты подавал и в цепь неприятельскую ночью лазил… но молодец!..
Пьер, сняв шляпу, почтительно наклонился перед Кутузовым.
– Я решил, что, ежели я доложу вашей светлости, вы можете прогнать меня или сказать, что вам известно то, что я докладываю, и тогда меня не убудет… – говорил Долохов.
– Так, так.
– А ежели я прав, то я принесу пользу отечеству, для которого я готов умереть.
– Так… так…
– И ежели вашей светлости понадобится человек, который бы не жалел своей шкуры, то извольте вспомнить обо мне… Может быть, я пригожусь вашей светлости.
– Так… так… – повторил Кутузов, смеющимся, суживающимся глазом глядя на Пьера.
В это время Борис, с своей придворной ловкостью, выдвинулся рядом с Пьером в близость начальства и с самым естественным видом и не громко, как бы продолжая начатый разговор, сказал Пьеру:
– Ополченцы – те прямо надели чистые, белые рубахи, чтобы приготовиться к смерти. Какое геройство, граф!
Борис сказал это Пьеру, очевидно, для того, чтобы быть услышанным светлейшим. Он знал, что Кутузов обратит внимание на эти слова, и действительно светлейший обратился к нему:
– Ты что говоришь про ополченье? – сказал он Борису.
– Они, ваша светлость, готовясь к завтрашнему дню, к смерти, надели белые рубахи.
– А!.. Чудесный, бесподобный народ! – сказал Кутузов и, закрыв глаза, покачал головой. – Бесподобный народ! – повторил он со вздохом.
– Хотите пороху понюхать? – сказал он Пьеру. – Да, приятный запах. Имею честь быть обожателем супруги вашей, здорова она? Мой привал к вашим услугам. – И, как это часто бывает с старыми людьми, Кутузов стал рассеянно оглядываться, как будто забыв все, что ему нужно было сказать или сделать.
Очевидно, вспомнив то, что он искал, он подманил к себе Андрея Сергеича Кайсарова, брата своего адъютанта.
– Как, как, как стихи то Марина, как стихи, как? Что на Геракова написал: «Будешь в корпусе учитель… Скажи, скажи, – заговорил Кутузов, очевидно, собираясь посмеяться. Кайсаров прочел… Кутузов, улыбаясь, кивал головой в такт стихов.
Когда Пьер отошел от Кутузова, Долохов, подвинувшись к нему, взял его за руку.
– Очень рад встретить вас здесь, граф, – сказал он ему громко и не стесняясь присутствием посторонних, с особенной решительностью и торжественностью. – Накануне дня, в который бог знает кому из нас суждено остаться в живых, я рад случаю сказать вам, что я жалею о тех недоразумениях, которые были между нами, и желал бы, чтобы вы не имели против меня ничего. Прошу вас простить меня.
Пьер, улыбаясь, глядел на Долохова, не зная, что сказать ему. Долохов со слезами, выступившими ему на глаза, обнял и поцеловал Пьера.
Борис что то сказал своему генералу, и граф Бенигсен обратился к Пьеру и предложил ехать с собою вместе по линии.
– Вам это будет интересно, – сказал он.
– Да, очень интересно, – сказал Пьер.
Через полчаса Кутузов уехал в Татаринову, и Бенигсен со свитой, в числе которой был и Пьер, поехал по линии.
Бенигсен от Горок спустился по большой дороге к мосту, на который Пьеру указывал офицер с кургана как на центр позиции и у которого на берегу лежали ряды скошенной, пахнувшей сеном травы. Через мост они проехали в село Бородино, оттуда повернули влево и мимо огромного количества войск и пушек выехали к высокому кургану, на котором копали землю ополченцы. Это был редут, еще не имевший названия, потом получивший название редута Раевского, или курганной батареи.
Пьер не обратил особенного внимания на этот редут. Он не знал, что это место будет для него памятнее всех мест Бородинского поля. Потом они поехали через овраг к Семеновскому, в котором солдаты растаскивали последние бревна изб и овинов. Потом под гору и на гору они проехали вперед через поломанную, выбитую, как градом, рожь, по вновь проложенной артиллерией по колчам пашни дороге на флеши [род укрепления. (Примеч. Л.Н. Толстого.) ], тоже тогда еще копаемые.
Бенигсен остановился на флешах и стал смотреть вперед на (бывший еще вчера нашим) Шевардинский редут, на котором виднелось несколько всадников. Офицеры говорили, что там был Наполеон или Мюрат. И все жадно смотрели на эту кучку всадников. Пьер тоже смотрел туда, стараясь угадать, который из этих чуть видневшихся людей был Наполеон. Наконец всадники съехали с кургана и скрылись.
Бенигсен обратился к подошедшему к нему генералу и стал пояснять все положение наших войск. Пьер слушал слова Бенигсена, напрягая все свои умственные силы к тому, чтоб понять сущность предстоящего сражения, но с огорчением чувствовал, что умственные способности его для этого были недостаточны. Он ничего не понимал. Бенигсен перестал говорить, и заметив фигуру прислушивавшегося Пьера, сказал вдруг, обращаясь к нему:
– Вам, я думаю, неинтересно?
– Ах, напротив, очень интересно, – повторил Пьер не совсем правдиво.
С флеш они поехали еще левее дорогою, вьющеюся по частому, невысокому березовому лесу. В середине этого
леса выскочил перед ними на дорогу коричневый с белыми ногами заяц и, испуганный топотом большого количества лошадей, так растерялся, что долго прыгал по дороге впереди их, возбуждая общее внимание и смех, и, только когда в несколько голосов крикнули на него, бросился в сторону и скрылся в чаще. Проехав версты две по лесу, они выехали на поляну, на которой стояли войска корпуса Тучкова, долженствовавшего защищать левый фланг.
Здесь, на крайнем левом фланге, Бенигсен много и горячо говорил и сделал, как казалось Пьеру, важное в военном отношении распоряжение. Впереди расположения войск Тучкова находилось возвышение. Это возвышение не было занято войсками. Бенигсен громко критиковал эту ошибку, говоря, что было безумно оставить незанятою командующую местностью высоту и поставить войска под нею. Некоторые генералы выражали то же мнение. Один в особенности с воинской горячностью говорил о том, что их поставили тут на убой. Бенигсен приказал своим именем передвинуть войска на высоту.
Распоряжение это на левом фланге еще более заставило Пьера усумниться в его способности понять военное дело. Слушая Бенигсена и генералов, осуждавших положение войск под горою, Пьер вполне понимал их и разделял их мнение; но именно вследствие этого он не мог понять, каким образом мог тот, кто поставил их тут под горою, сделать такую очевидную и грубую ошибку.
Пьер не знал того, что войска эти были поставлены не для защиты позиции, как думал Бенигсен, а были поставлены в скрытое место для засады, то есть для того, чтобы быть незамеченными и вдруг ударить на подвигавшегося неприятеля. Бенигсен не знал этого и передвинул войска вперед по особенным соображениям, не сказав об этом главнокомандующему.
Князь Андрей в этот ясный августовский вечер 25 го числа лежал, облокотившись на руку, в разломанном сарае деревни Князькова, на краю расположения своего полка. В отверстие сломанной стены он смотрел на шедшую вдоль по забору полосу тридцатилетних берез с обрубленными нижними сучьями, на пашню с разбитыми на ней копнами овса и на кустарник, по которому виднелись дымы костров – солдатских кухонь.
Как ни тесна и никому не нужна и ни тяжка теперь казалась князю Андрею его жизнь, он так же, как и семь лет тому назад в Аустерлице накануне сражения, чувствовал себя взволнованным и раздраженным.
Приказания на завтрашнее сражение были отданы и получены им. Делать ему было больше нечего. Но мысли самые простые, ясные и потому страшные мысли не оставляли его в покое. Он знал, что завтрашнее сражение должно было быть самое страшное изо всех тех, в которых он участвовал, и возможность смерти в первый раз в его жизни, без всякого отношения к житейскому, без соображений о том, как она подействует на других, а только по отношению к нему самому, к его душе, с живостью, почти с достоверностью, просто и ужасно, представилась ему. И с высоты этого представления все, что прежде мучило и занимало его, вдруг осветилось холодным белым светом, без теней, без перспективы, без различия очертаний. Вся жизнь представилась ему волшебным фонарем, в который он долго смотрел сквозь стекло и при искусственном освещении. Теперь он увидал вдруг, без стекла, при ярком дневном свете, эти дурно намалеванные картины. «Да, да, вот они те волновавшие и восхищавшие и мучившие меня ложные образы, – говорил он себе, перебирая в своем воображении главные картины своего волшебного фонаря жизни, глядя теперь на них при этом холодном белом свете дня – ясной мысли о смерти. – Вот они, эти грубо намалеванные фигуры, которые представлялись чем то прекрасным и таинственным. Слава, общественное благо, любовь к женщине, самое отечество – как велики казались мне эти картины, какого глубокого смысла казались они исполненными! И все это так просто, бледно и грубо при холодном белом свете того утра, которое, я чувствую, поднимается для меня». Три главные горя его жизни в особенности останавливали его внимание. Его любовь к женщине, смерть его отца и французское нашествие, захватившее половину России. «Любовь!.. Эта девочка, мне казавшаяся преисполненною таинственных сил. Как же я любил ее! я делал поэтические планы о любви, о счастии с нею. О милый мальчик! – с злостью вслух проговорил он. – Как же! я верил в какую то идеальную любовь, которая должна была мне сохранить ее верность за целый год моего отсутствия! Как нежный голубок басни, она должна была зачахнуть в разлуке со мной. А все это гораздо проще… Все это ужасно просто, гадко!
Отец тоже строил в Лысых Горах и думал, что это его место, его земля, его воздух, его мужики; а пришел Наполеон и, не зная об его существовании, как щепку с дороги, столкнул его, и развалились его Лысые Горы и вся его жизнь. А княжна Марья говорит, что это испытание, посланное свыше. Для чего же испытание, когда его уже нет и не будет? никогда больше не будет! Его нет! Так кому же это испытание? Отечество, погибель Москвы! А завтра меня убьет – и не француз даже, а свой, как вчера разрядил солдат ружье около моего уха, и придут французы, возьмут меня за ноги и за голову и швырнут в яму, чтоб я не вонял им под носом, и сложатся новые условия жизни, которые будут также привычны для других, и я не буду знать про них, и меня не будет».
Он поглядел на полосу берез с их неподвижной желтизной, зеленью и белой корой, блестящих на солнце. «Умереть, чтобы меня убили завтра, чтобы меня не было… чтобы все это было, а меня бы не было». Он живо представил себе отсутствие себя в этой жизни. И эти березы с их светом и тенью, и эти курчавые облака, и этот дым костров – все вокруг преобразилось для него и показалось чем то страшным и угрожающим. Мороз пробежал по его спине. Быстро встав, он вышел из сарая и стал ходить.
За сараем послышались голоса.
– Кто там? – окликнул князь Андрей.
Красноносый капитан Тимохин, бывший ротный командир Долохова, теперь, за убылью офицеров, батальонный командир, робко вошел в сарай. За ним вошли адъютант и казначей полка.
Князь Андрей поспешно встал, выслушал то, что по службе имели передать ему офицеры, передал им еще некоторые приказания и сбирался отпустить их, когда из за сарая послышался знакомый, пришепетывающий голос.







