Домициан
| Тит Флавий Домициан лат. Titus Flavius Domitianus<tr><td colspan="2" style="text-align: center; border-top: solid darkgray 1px;">  </td></tr> </td></tr>
<tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Бюст Домициана. Капитолийский музей</td></tr> | ||
| ||
|---|---|---|
| 14 сентября 81 года — 18 сентября 96 года | ||
| Предшественник: | Тит Флавий Веспасиан | |
| Преемник: | Марк Кокцей Нерва | |
| Вероисповедание: | древнеримская религия | |
| Рождение: | 24 октября 51 Рим, Римская империя | |
| Смерть: | 18 сентября 96 (44 года) Рим, Римская империя | |
| Место погребения: | храм рода Флавиев | |
| Род: | Флавии | |
| Отец: | Веспасиан | |
| Мать: | Флавия Домицилла Старшая | |
| Супруга: | Домиция Лонгина | |
| Дети: | сын: умер в детстве (имя неизвестно) | |
Тит Фла́вий Домициа́н (лат. Titus Flavius Domitianus), более известный в римской историографии как Домициан, — последний римский император из династии Флавиев, правивший в 81—96 годах.
Отец — первый представитель династии Флавиев, император Веспасиан. Домициан вступил на престол после смерти своего брата Тита. В 83 году Домициан одержал победу над германским племенем хаттов и для обеспечения безопасности только что завоёванных Декуматских полей начал создание лимеса, основал провинции Нижняя и Верхняя Германия. В 85—92 годах император вёл военные действия на Дунае против царя даков Децебала, а также против племён маркоманов, квадов и сарматов. В связи с этим Домициан был вынужден приостановить наступление своего военачальника Гнея Юлия Агриколы в Британии.
Он проводил политику по укреплению единоличной власти. Для этого он систематически ограничивал влияние сената и сделал своей опорой всадническое сословие, войско и провинции. Впервые за всё время существования принципата Домициан приказал называть себя «господином и богом» (лат. dominus et deus) и оживил императорский культ. С 85 года присвоил себе полномочия цензора. Его роскошные постройки (в их число входила и арка Тита) ложились тяжёлым грузом на государственную казну.
После подавления восстания полководца Антония Сатурнина в 89 году возросло число процессов по обвинению в «оскорблении величия» и последовавших за этим казней. По приказу Домициана были начаты преследования философов-стоиков. Подобные меры вылились в оппозиционные настроения среди сенаторов. В результате заговора Домициан был убит и предан проклятию памяти сенатом. С его гибелью династия Флавиев прекратила своё существование[1].
Домициан носил победный титул «Германский» с 83 года[2].
Содержание
Ранняя жизнь
Семья
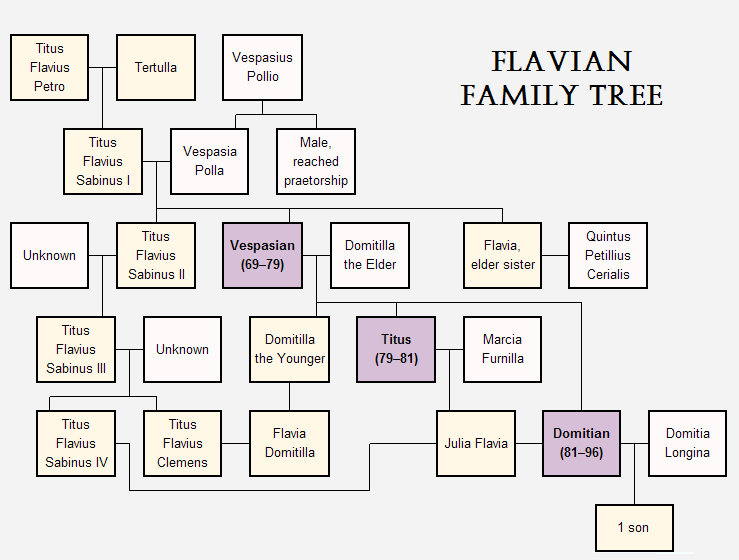 Будущий император Тит Флавий Домициан родился в Риме на Гранатовой улице, что на Квиринальском холме, 24 октября 51 года[3][4]. Он был младшим сыном Тита Флавия Веспасиана, более известного как Веспасиан, и Флавии Домициллы Старшей. Кроме того, у Домициана была старшая сестра, Флавия Домицилла Младшая, и старший брат Тит[5].
Будущий император Тит Флавий Домициан родился в Риме на Гранатовой улице, что на Квиринальском холме, 24 октября 51 года[3][4]. Он был младшим сыном Тита Флавия Веспасиана, более известного как Веспасиан, и Флавии Домициллы Старшей. Кроме того, у Домициана была старшая сестра, Флавия Домицилла Младшая, и старший брат Тит[5].
Десятилетиями длившиеся гражданские войны в I веке до н. э. внесли большой вклад в разрушение старой римской аристократии, которая вскоре, в начале I века, была постепенно вытеснена с передовых позиций новой италийской знатью[6]. Одной из таких новых семей являлся род Флавиев, который вознёсся на вершины из относительной безвестности и занял выдающееся положение всего лишь за четыре поколения, приобретя богатство и статус во время правления императоров из династии Юлиев-Клавдиев. Прадед Домициана, Тит Флавий Петрон, происходивший из италийского города Реате, служил центурионом (или простым солдатом) в легионах Гнея Помпея Великого во время гражданской войны против Цезаря[7]. Его военная карьера закончилась позором — он бежал с поля боя во время сражения при Фарсале в 48 году до н. э.[4] Тем не менее, Петрону удалось приумножить своё состояние в результате женитьбы на Тертулле, чьё богатство позволило возвыситься его сыну и деду Домициана Титу Флавию Сабину[6]. Сабин скопил состояние и, возможно, получил всадническое достоинство благодаря своей службе в качестве сборщика податей в Азии и ростовщической деятельности в землях галльского племени гельветов. Женившись на Веспасии Полле, он объединился с более знатным патрицианским родом Веспасиев, что обеспечило включение его сыновей Флавия Сабина и Веспасиана в сенаторское сословие[8].
Пиком политической карьеры Веспасиана, включавшей в себя должности квестора, эдила и претора, стало консульство, которое он получил в 51 году — в год рождения Домициана. Как военачальник, Веспасиан получил известность благодаря участию в римском вторжении и последующем завоевании Британии в 43 году[9]. Однако античные источники упоминают о бедности семьи Флавиев во время детства Домициана[3], даже утверждая, что Веспасиан впал в немилость в правление императоров Калигулы (37—41 годы) и Нерона (54—68 годы)[10]. Современные историки (например, Брайан Джонс) опровергли эти утверждения, предполагая, что все эти рассказы были распространены позднее, уже в правление Флавиев, как часть пропагандистской кампании — для ретуширования карьеры Веспасиана в правление менее авторитетных императоров династии Юлиев-Клавдиев и возвеличивания его успехов при императоре Клавдии (41—54 годы) и его сыне Британнике[11].
По всей видимости, Флавии находились в милости у императоров на протяжении 40-х и 60-х годов. В то время как Тит получал образование при дворе в компании с императорским сыном Британником, Веспасиан делал успешную политическую и военную карьеру[11]. После вступления на престол Нерона и увеличения влияния его матери Агриппины Младшей Веспасиан был постепенно отдалён от двора и провёл 50-е годы (вплоть до убийства Агриппины) в отставке[12]. После этого события он был возвращён на государственную службу Нероном и назначен в 63 году на должность проконсула провинции Африка и, кроме того, сопровождал императора во время его поездки по Греции в 66 году[13]. В том же году жители провинции Иудея восстали против власти Римской империи, начав так называемую Первую Иудейскую войну. Веспасиан был назначен командующим римской армии, отправленной против мятежников. Один из трёх легионов, входивших в эту армию, возглавил в качестве легата его сын Тит[14].
Молодость и характер
К тому моменту, когда Домициану исполнилось пятнадцать лет, он уже потерял и мать, и сестру[15], в то время как его отец и брат постоянно находились в походах, командуя армиями в Германии и Иудее. Это означало, что Домициан значительную часть своей юности провёл в отсутствие ближайших родственников. Во время римско-иудейского конфликта он, скорее всего, находился под опекой своего дяди Тита Флавия Сабина, который на тот момент был префектом Рима, или, возможно, даже Марка Кокцея Нервы, преданного друга Флавиев и будущего преемника Домициана[16][17].
В отличие от Тита, Домициан не получил образования при императорском дворе[18], хотя он и изучал риторику и литературу в столице, что было обыкновенным для отпрыска сенаторской семьи[18]. В его биографии в «Жизни двенадцати цезарей» Светоний свидетельствует о способности Домициана процитировать многих известных поэтов и писателей, таких как Гомер или Вергилий, в необходимых случаях[19][20] и описывает его как учёного и образованного человека[21]. Среди его первых работ были опубликованы стихи (Плиний Старший в предисловии к своему труду «Естественная история» высоко оценивает поэзию Тита и Домициана[22]), а также труды по законодательству и управлению[16]. Хотя Тацит говорит, что Домициан прикрывался литературными занятиями для того, чтобы «скрыть свои подлинные намерения и избежать соперничества с братом»[23]. Неизвестно, имел ли Домициан элементарное военное обучение, но, по свидетельству Светония, он проявлял настолько необыкновенное искусство при стрельбе из лука, «что стрела его пролетала между пальцами вытянутой руки человека, стоявшего на далёком расстоянии»[24][25][26]. Подробное описание внешности и характера Домициана оставил Светоний, который посвятил этому часть его биографии:
«Росту он был высокого, лицо скромное, с ярким румянцем, глаза большие, но слегка близорукие. Во всём его теле были красота и достоинство, особенно в молодые годы, если не считать того, что пальцы на ногах были кривые; но впоследствии лысина, выпяченный живот и тощие ноги, исхудавшие от долгой болезни, обезобразили его. Он чувствовал, что скромное выражение лица ему благоприятствует, и однажды даже похвастался в сенате: „До сих пор, по крайней мере, вам не приходилось жаловаться на мой вид и нрав…“ Зато лысина доставляла ему много горя, и если кого-нибудь другого в насмешку или в обиду попрекали плешью, он считал это оскорблением себе. Он издал даже книжку об уходе за волосами, посвятив её другу, и в утешение ему и себе вставил в неё такое рассуждение: „Видишь, каков я и сам и красив и величествен видом? — А ведь мои волосы постигла та же судьба! Но я стойко терплю, что кудрям моим суждена старость ещё в молодости. Верь мне, что ничего пленительней красоты, но ничего нет и недолговечней её“».[27]
Домициан очень чувствительно относился к своему облысению, последствия которого он маскировал при помощи парика[28]. Что касается личности Домициана, сообщения Светония представляют императора одновременно как тирана, человека как физически, так и интеллектуально ленивого, но тем не менее умного и изысканного[29]. Историк Брайан Джонс пришёл к выводу в своём труде «Император Домициан», что оценка истинного характера и личности Домициана значительно осложняется враждебным отношением к нему сохранившихся источников[29].
Можно лишь наметить общие черты, исходя из информации, представленной в античной литературе. Домициану, по всей видимости, не хватало природной харизмы его брата и отца. Он был склонен к подозрительности, обладал странным, иногда самоуничижительным чувством юмора, был угрюмым и мрачным[29][30]. Эта двойственность характера усугублялась его удалённостью от людей, и когда он стал старше, он всё чаще отдавал своё предпочтение уединению, которое, возможно, имело свои корни в изолированном воспитании[16]. Действительно, к восемнадцати годам Домициан потерял многих своих родственников, а его отец и брат находились постоянно в провинциях. Домициан провёл большую часть своей молодости на закате правления Нерона, и на него оказали значительное влияние политические потрясения 60-х годов, приведшие к гражданской войне 69 года, которая окончилась приходом его семьи к власти[31].
Восхождение династии Флавиев
Год четырёх императоров
9 июня 68 года, на фоне растущей оппозиции сената и армии, Нерон кончает жизнь самоубийством, и вместе с его смертью заканчивается эпоха правления династии Юлиев-Клавдиев. В империи воцаряется хаос, приведший к началу жестокой гражданской войны, известной как Год четырёх императоров, в ходе которой четыре наиболее влиятельных военачальника в Римской империи — Гальба, Отон, Вителлий и Веспасиан — последовательно боролись за императорскую власть. Известие о смерти Нерона достигло Веспасиана во время подготовки к осаде Иерусалима. Почти одновременно сенат провозгласил наместника Тарраконской Испании Гальбу императором. Вместо того, чтобы продолжить свою кампанию, Веспасиан решил ждать дальнейшего развития ситуации и отправил Тита, чтобы тот приветствовал нового императора[32]. Однако ещё до своего прибытия в Италию Тит узнал, что Гальба был убит и заменён Отоном, наместником Лузитании (современная Португалия). В то же время Вителлий со своим войском в Германии поднял восстание и начал подготовку к походу на Рим, намереваясь свергнуть Отона. Не желая рисковать и оказаться заложником той или другой стороны, Тит отказался от путешествия в Рим и вернулся обратно к своему отцу в Иудею[33].
Отон и Вителлий понимали потенциальную угрозу со стороны Флавиев. С тремя легионами, находившимися в распоряжении Веспасиана, и множеством вспомогательных частей численность его войска достигала около 60 тысяч солдат[34]. Его нахождение в Иудее в дальнейшем предоставляло ему преимущество в близости к жизненно важной провинции Египет, которая контролировала поставку зерна в Рим. Его брат Тит Флавий Сабин в качестве префекта города имел под своим командованием весь римский гарнизон, а также в отсутствие императора получал практически полный контроль над городом[14]. Напряжённость среди флавиевских войск постепенно возрастала, но пока Гальба или Отон оставались у власти, Веспасиан отказывался предпринимать какие-либо меры[35]. Однако, когда Отон потерпел поражение от Вителлия во время первого сражения у Бедриака, находившиеся в Иудее и Египте легионы взяли дело в свои руки и 1 июля 69 года провозгласили Веспасиана императором[36]. Веспасиан принял их решение и вступил в союз против Вителлия с сирийским наместником Гаем Лицинием Муцианом[36]. Крупные силы, собранные из иудейских и сирийских легионов, двинулись на Рим под командованием Муциана, в то время как сам Веспасиан отправился в Александрию, оставив Тита командующим римской армией в Иудее для окончательного подавления восстания[37].
Очень мало известно о жизни Домициана во время года четырёх императоров[18]. Во время провозглашения своего отца императором Домициан находился в Риме, где по приказу Вителлия был помещён под домашний арест в качестве заложника для защиты от будущего нападения флавиевских войск[31]. Однако поддержка старого императора пошла на убыль, как только легионы по всей империи заявили о своей верности Веспасиану. 24 октября 69 года войска Вителлия и Веспасиана (под командованием Марка Антония Прима) сошлись в сражении при Бедриаке (где недавно Вителлий разгромил Отона), которое завершилось сокрушительным поражением армии Вителлия[38]. В отчаянии император попытался вести переговоры о капитуляции. Условия мира, в том числе добровольное отречение, были согласованы с Титом Флавием Сабином[39], но солдаты преторианской гвардии — императорские телохранители — посчитали их позорными и воспрепятствовали Вителлию дать согласие на этот договор[40].
Утром 18 декабря император отправился отдать императорские знаки отличия на хранение в храм Конкордии, затем он хотел укрыться в доме своего брата, но в последнюю минуту, видя поддержку народа, не дававшего ему пройти к храму, решил вернуться обратно в императорский дворец[41]. В суматохе главные члены государственного правления собрались около дома Сабина, провозгласив Веспасиана императором, но были обращены в бегство, когда когорты вителлианцев столкнулись с вооружённым эскортом Сабина, который был вынужден отступить на Капитолийский холм, где его окружил противник[42]. Ночью, пользуясь тем, что враг плохо следит за крепостью, Сабин сумел провести на Капитолий своих детей и Домициана[42]. Хотя армия Муциана приближалась к Риму, осаждённые сторонники Флавиев не могли продержаться длительное время[43].
19 декабря вителлианцы ворвались на Капитолий, и в результате произошедшего сражения Сабин был схвачен и казнён[42]. Самому Домициану удалось бежать: по версии Тацита, сначала спрятавшись у сторожа храма, а затем смешавшись с группой жрецов Исиды, он вышел никем не узнанный и добрался до клиента его отца Корнелия Прима, который его приютил[42]. Впоследствии домик сторожа был снесён по приказу Домициана, который возвёл на том месте храм Юпитеру Хранителю, а позже, став императором, Юпитеру Стражу[44]. Версия Светония звучит по-иному: Домициан переночевал у привратника храма, а затем в одежде жреца Исиды, смешавшись с другими, в сопровождении одного спутника переправился на другой берег Тибра к матери одного из своих товарищей[3]. Брайан Джонс считает версию Тацита более точной[42]. Во второй половине дня 20 декабря Вителлий был убит, а остатки его войск были разгромлены. Узнав, что ему больше нечего опасаться противника, Домициан вышел к людям, чтобы встретить вступление в город армии Муциана; он был тотчас провозглашён цезарем, а масса войск проводила его до дома Веспасиана[42]. На следующий день, 21 декабря, сенат объявил Веспасиана императором Римской империи[45].
После гражданской войны
Хотя гражданская война официально закончилась, в первые дни после кончины Вителлия общество все ещё находилось в состоянии анархии и беззакония. Порядок был надлежащим образом восстановлен Муцианом в начале 70 года, однако Веспасиан не вошёл в Рим до сентября того же года[42]. Было недовольство среди преторианцев, которые были распущены Вителлием и вновь сформированы Веспасианом, требовавших, чтобы им вернули их привилегированное положение; перевод в гвардию был обещан многим простым легионерам, и теперь они настаивали на исполнении данного обещания[46]. В то же время Домициан выступал в качестве представителя семьи Флавиев в римском сенате. Он получил титул цезаря и был назначен претором с консульской властью[46]. Тацит называет первое выступление Домициана в сенате кратким и размеренным, в то же время отмечая способность оратора ускользать от неудобных вопросов[47]. После речи Домициан перебрался в императорский дворец[26]. Власть Домициана была чисто номинальной и оставалась таковой ещё по крайней мере десять лет. Судя по всему, в отсутствие Веспасиана в руках Муциана сосредоточилась реальная власть, и он делал всё возможное, чтобы Домициан, которому было только восемнадцать лет, не выходил за границы своих полномочий[46]. Поначалу, сразу после победы над Вителлием, Антоний Прим и префект претория Аррий Вар располагали властью в городе, однако, когда Муциан вступил в город, он отстранил их от власти «и относился к ним с ненавистью, которую, хоть и без большого успеха, старался скрыть за внешней любезностью»[48][46]. Вар, хотя и поддерживал Домициана, был заменён на родственника и друга Домициана Марка Аррецина Клемента[46]. Кроме того, Муциан не допустил, чтобы Домициан включил в состав своей свиты Прима, опасаясь его популярности, и тот уехал к Веспасиану за поддержкой, которую, впрочем, не получил[46].
Кроме того, Муциан стремился ограничить военные амбиции Домициана. Перед его глазами были примеры его брата, отца и дяди, которые командовали легионами, поэтому он стремился также приобрести славу на военном поприще[26]. Гражданская война 69 года серьёзно дестабилизировала положение в провинциях, что привело к нескольким местным восстаниям, таким как Батавское восстание в Галлии. Батавские вспомогательные части, стоявшие вместе с легионами на Рейне, во главе с Гаем Юлием Цивилисом взбунтовались при поддержке присоединившейся к ним части племени треверов под командованием Юлия Классика[26]. Семь легионов были отправлены из Рима во главе с шурином Веспасиана Квинтом Петиллием Цериалом[26]. Хотя восстание было быстро подавлено, преувеличенные слухи об этом событии побудили Муциана покинуть столицу с подкреплением и двинуться на север[26]. Домициан настойчиво искал возможность для достижения воинской славы и присоединился к остальным военачальникам с целью получить командование над легионом. По словам Тацита, «Муциан опасался, что, получив власть над армией, Домициан под влиянием молодости, собственных страстей и дурных советчиков наделает ошибок и в политике, и в военном искусстве»[49]. Когда пришло известие о победе Цериала над Цивилисом, находившийся в Лугдуне Муциан тактично отговорил Домициана от дальнейших попыток достижения военной славы[26]. Тогда Домициан отправил тайных гонцов к Цериалу для того, чтобы выяснить, даст ли тот ему командование над войсками, если он лично прибудет в армию[26]. Но в конце лета 70 года Веспасиан вернулся в столицу не потому, что был насторожён поведением Домициана, а в связи с увеличившимся влиянием Муциана[50]. Домициан вскоре отстранился от государственных дел, отдав предпочтение занятиям литературой[50].
Брак
Хотя политическая и военная карьера Домициана закончились неудачей, его личная жизнь складывалась более успешно. Светоний свидетельствует: «не вдаваясь в подробности, достаточно сказать, что у многих он отнимал жён»[3]. Веспасиан пытался устроить династический брак между своим младшим сыном и дочерью Тита Юлией Флавией, узнав о его распутном поведении, однако Домициан был непреклонен в своей любви к Домиции Лонгине[51]. С Лонгиной он познакомился в период между падением Вителлия и вступлением его отца в Рим 13 октября 70 года[51]. Любовь к ней зашла так далеко, что Домициан сумел убедить её мужа Луция Элия Ламию развестись с ней для того, чтобы жениться на ней самому[51]. Нет никаких причин сомневаться в подлинности привязанности Домициана к Лонгине[52].
Несмотря на своё начальное безрассудство, этот брак оказался политически выгоден для самого Веспасиана[52], поскольку Домиция Лонгина была младшей дочерью заслуженного военачальника и уважаемого политика Гнея Домиция Корбулона. После неудачно окончившегося заговора Пизона против Нерона в 65 году Корбулон был вынужден покончить с собой. Новый брак не только восстановил связь с сенаторской оппозицией, но и служил для пропаганды флавианцев[52]. Новый император стремился разорвать любые связи с Нероном или по крайней мере преуменьшить успех своей семьи в предыдущее десятилетие (таким образом, Веспасиан хотел представить себя не придворным Нерона, а изгнанником), чтобы подчеркнуть связь с более уважаемыми членами династии Юлиев-Клавдиев (отсюда и внимание на детской дружбе Тита с Британником) и реабилитировать всех жертв нероновских репрессий[52].
В 73 году, когда Домициан получил второе консульство, Домиция родила ему сына[53]. Имя мальчика неизвестно, он умер в детстве, в 83 году[54]. Вскоре после своего восшествия на престол Домициан удостоил Домицию почётного звания Августы, а их сын был обожествлён, его портреты чеканились на реверсах монет той эпохи[55]. В 83 году брак дал трещину. По неизвестным причинам Домициан изгнал из дворца Лонгину и стал открыто жить со своей племянницей Юлией Флавией[56]. Джонс предполагает, что, скорее всего, он сделал это из-за её неспособности повторно родить наследника[54].
В 84 году Домиция Лонгина вернулась во дворец[57], где она и жила до конца правления Домициана без происшествий[58]. Мало что известно о деятельности Домиции в качестве супруги императора, о том, каким влиянием она обладала в правительстве Домициана, но, по всей видимости, её роль была ограничена. От Светония мы знаем, что она, по крайней мере, сопровождала императора в амфитеатре, в то время как иудейский историк Иосиф Флавий рассказывает о полученных им от неё выгодах[59]. Неизвестно, были ли у Домициана другие дети, однако во второй раз он уже не женился. Несмотря на многочисленные рассказы о его изменах и разводе, брак, похоже, был счастливым[60].
Путь к престолу
До того как Домициан стал императором, его присутствие в правительстве носило в основном церемониальный характер. В июне 71 года Тит вернулся победителем с Иудейской войны. В конечном счёте, восстание унесло жизни более одного миллиона человек, большинство из которых являлись евреями[61]. Сам город и Иерусалимский Храм были полностью разрушены, его наиболее ценные сокровища похищены римской армией, а почти 100 тысяч человек были взяты в плен и обращены в рабство[61]. За эту победу сенат назначил Титу триумф[62]. В день торжества вся семья Флавиев вступила в столицу, ей предшествовала триумфальная процессия, во время которой были пронесены захваченные во время войны трофеи[63]. Вступление рода Флавиев было возглавлено Веспасианом и Титом, ехавшими на колеснице, затем проехал Домициан на белом коне[64]. Лидеры еврейского сопротивления были казнены на Римском форуме, после чего процессия завершилось религиозной жертвой в храме Юпитера Капитолийского[63]. В честь успешного окончания войны на юго-восточном входе на форум была возведена триумфальная арка, названная аркой Тита[65].
Тем не менее, возвращение Тита в дальнейшем подчеркнуло сравнительную незначительность Домициана и в военном, и в политическом плане[66]. Как старший и наиболее опытный из сыновей Веспасиана, Тит разделил трибунскую власть вместе с отцом, получил семь консульств, цензорство, и ему было предоставлено командование преторианской гвардией: полномочия, которые не оставляли сомнения, что он стал полноправным наследником престола[66]. В качестве второго сына Домициан обладал несколькими почётными званиями, такими как цезарь или предводитель молодёжи, и несколькими религиозными должностями, в том числе авгура, понтифика, арвальского брата, магистра арвальских братьев и «sacerdos collegiorum omnium»[67]. Также он достаточно часто упоминался на монетных надписях, однако империй он так и не получил[18][67]. Домициан отбыл шесть консульств во время правления Веспасиана, но только одно из них, в 73 году, было ординарным[66]. Остальные пять были менее престижными должностями консула-суффекта, которые он занимал в 71, 75, 76, 77 и 79 годах соответственно, как правило, заменяя своего отца или брата в середине января[66]. Несмотря на то, что должности носили исключительно церемониальный характер, Домициан получил ценный опыт в римском сенате, что, возможно, способствовало его позднейшим высказываниям о его актуальности[67]. При Веспасиане и Тите не принадлежавшие к партии флавианцев были практически исключены из важнейших общественных учреждений. Сам Муциан практически исчез из хронологических записей того времени, и считается, что он умер приблизительно между 75 и 77 годами[68]. Реальная власть была явно сконцентрирована в руках партии флавианцев, в то время как ослабленный сенат лишь сохранял видимость подобия демократии[69].
По причине того, что Тит эффективно действовал в качестве соправителя своего отца, никаких резких изменений ни в политике Флавиев, ни в карьере Домициана после смерти Веспасиана 23 июня 79 года не произошло: Домициан не получил ни трибунской власти, ни империя за всё недолговременное правление Тита[18]. Было ясно, что новый император не собирается менять существующее положение дел, хотя он даровал Домициану некоторые знаки почёта и заверил его права будущего преемника[1]. Кроме того, Домициан доверял слухам, что его отец предполагал завещать ему равные с братом права на престол, однако Тит, используя своё умение подделывать почерк отца, исключил из завещания всякое об этом упоминание[1]. У него возникало подозрение, что Тит хочет сделать своим наследником внука брата Веспасиана Флавия Сабина, так как незадолго до своей смерти тот назначил его консулом на 82 год[70]. Короткое правление Тита было ознаменовано извержением Везувия 24 августа 79 года, которое погребло окрестные города Помпеи и Геркуланум под пеплом и лавой[71], в следующем году вспыхнул пожар в Риме, который длился три дня и уничтожил ряд важных общественных зданий[72]. Большую часть правления Тит потратил на ликвидацию последствий этих бедствий. 13 сентября 81 года, после почти двух лет руководства империей, он неожиданно умер от лихорадки во время поездки в земли сабинов[70].
Античные авторы говорят о причастности Домициана к смерти своего брата либо прямо обвиняют его в убийстве[73][74], также рассказывают о том, что ещё до кончины Тита Домициан велел всем покинуть его как мёртвого[64][75]. Дион Кассий утверждает даже, что при жизни брата Домициан открыто готовил против него заговор[75]. Трудно оценить фактическую достоверность этих заявлений, так как известно об отрицательном отношении к Домициану античных авторов. У него не было братской любви к Титу, но это неудивительно, учитывая, что Домициан едва видел Тита после семилетнего возраста[70].
Независимо от характера их отношений, Домициан, кажется, проявил мало сочувствия, когда его брат умирал, и поспешил в преторианский лагерь, где, обещая телохранителям щедрый донатив, был провозглашён императором[75]. При известии о смерти императора сенат решил прежде всего почтить его память, а затем признать его брата преемником: это были первые признаки будущих неприязненных отношений Домициана с аристократией[18]. Лишь на следующий день, 14 сентября, сенат подтвердил полномочия Домициана, предоставил ему трибунскую власть, должность понтифика, провозгласил Августом и Отцом Отечества[18][70].
Император
Администрация
В качестве императора Домициан быстро отказался от республиканского фасада здания империи, который его отец и брат поддерживали во время их правления[76]. По мере перемещения центра власти (более или менее формально) к императорскому двору Домициан открыто показывал, что считает полномочия сената устаревшими. По его мнению, Римская империя должна была управляться как божественная монархия во главе с великодушным деспотом, под которым он подразумевал самого себя[76]. В дополнение к осуществлению абсолютной политической власти Домициан считал, что роль императора должна охватывать каждый аспект повседневной жизни и что он должен направлять римский народ согласно своему культурному и моральному авторитету[77]. Чтобы провозгласить начало новой эры, Домициан приступил к претворению в жизнь амбициозной экономической, военной и культурной программы с целью восстановления великолепия империи, которое она имела в правление императора Октавиана Августа[78].
Ради претворения этих грандиозных замыслов Домициан был полон решимости управлять империей добросовестно и тщательно[79]. Он стал лично принимать участие во всех областях управления государством: были изданы приказы, руководящие мельчайшими деталями повседневной жизни и права, кроме того, жёстко контролировались налогообложение и соблюдение общественной морали[79]. По сообщению Светония, «столичных магистратов и провинциальных наместников он держал в узде так крепко, что никогда они не были честнее и справедливее»[80] — император благодаря взыскательным мерам и подозрительному характеру сумел поддерживать низкий уровень коррупции среди наместников провинций и выборных должностных лиц[81][82]. Хотя Домициан и не делал никаких высказываний относительно значения сената при его абсолютистском правлении, те сенаторы, которых он считал недостойными, были исключены из сената, а при распределении государственных должностей он редко выдвигал своих родственников; его политика резко контрастировала с политикой непотизма Веспасиана и Тита[83]. Прежде всего, Домициан оценивал лояльность и универсальность тех, кого он назначал на стратегические посты, качества, которые он встречал чаще у представителей сословия всадников, чем у членов сената или представителей своей семьи, к которым он относился с подозрением и которых быстро отстранял от должности, если они были не согласны с имперской политикой[84].
Кроме того, самодержавное правление Домициана было подчёркнуто тем фактом, что он, в отличие от императоров, правивших после Тиберия, провёл большое время вдали от столицы[85]. Хотя власть сената находилась в состоянии упадка после уничтожения республики, при Домициане место власти находилось даже не в Риме, а там, где присутствовал в тот или иной момент времени сам император[76]. До завершения строительства дворца Флавиев на Палатинском холме императорский двор был расположен в Альбе или Чирчео, а иногда и в более отдалённых местах. Домициан совершал длительную поездку по европейским провинциям и по крайней мере три года своего правления находился в Германии и Иллирике, проводя военные кампании на границах империи[86].
Экономика
Главной особенностью правления Домициана является особо уделяемое им внимание финансовой политике. Вопрос о том, оставил ли император Римское государство после своей гибели в долгах или, наоборот, обогащённой, подвергается многочисленным обсуждениям. Однако факты указывают на сбалансированность экономики на протяжении большей части правления Домициана[87]. После своего восхождения на престол он резко повысил ценность римской валюты. Император увеличил процентную долю серебра в денарии с 90 % до 98 % — тем самым фактическая масса серебра увеличилась с 2,87 до 3,26 грамма[88]. Тем не менее, финансовый кризис в 85 году вызвал девальвацию, что привело к уменьшению процентной доли серебра до 93,5 % и массы до 3,04 грамма соответственно[89][88]. Однако новая ценность монеты была по-прежнему выше того уровня, который Веспасиан и Тит поддерживали во время своего правления. Строгая налоговая политика Домициана поддерживала эти стандарты в течение последующих одиннадцати лет[89]. Монеты из этой эпохи отличаются высокой степенью качества чеканки, кроме того, проявляется тщательное внимание к императорской титулатуре и изображению портрета Домициана на оборотной стороне[89].
Историк Брайан Джонс оценивает годовой доход Домициана в более чем 1,2 миллиарда сестерциев, из которых свыше одной трети, предположительно, тратилось на финансирование римской армии[87]. Другой крупной статьёй расходов являлась обширная реконструкция столицы империи. На момент восхождения Домициана на престол ещё чувствовались последствия от разрушений Рима, вызванных Великим пожаром 64 года (выгорело 10 районов города), гражданской войной 69 года (особенно большой ущерб был нанесён Вителлием) и трёхдневным пожаром 80 года, во время которого погибло множество крупных зданий, например, храм Нептуна, театр Бальба, храм Исиды и т. д.[90] Грандиозная строительная программа Домициана была направлена на коренное изменение внешнего облика столицы Римской империи, создание облика, подчёркивающего мировое значение города[90]. Около пятидесяти сооружений были построены, восстановлены или достроены. Достижения императора уступают разве что строительной деятельности Октавиана Августа[90]. Среди наиболее важных новых строений были Одеон, стадион, вмещавший до 15 тысяч человек, а также большой дворец на Палатинском холме, известный более как дворец Флавиев, план которого был разработан архитектором Домициана Рабирием[91]. Отреставрированы были: Атрий Весты (кроме того, он был расширен), Большой Цирк, Пантеон, Портик Октавии, Храм Божественного Августа, полностью отстроенный после пожара 80 года, Храм Юпитера Наилучшего Величайшего, чья крыша была покрыта золотом, Термы Агриппы[92]. Среди зданий, строительство которых завершено в правление Домициана: Храм Веспасиана и Тита, Арка Тита и Колизей, к которому он добавил четвёртый уровень и завершил оформление интерьера здания[65]. По всей видимости, больше всего денег было потрачено на Палатин, Марсово поле, район Римского Форума, Квиринал, долину Колизея и Эсквилин[93].
Для того чтобы привлечь к себе римское население, Домициан на всём протяжении своего правления, по оценкам, потратил около 135 миллионов сестерциев на раздачу денежных подарков, или конгиариума[94]. За пятнадцать лет Домициан производил раздачу три раза — в 83, 89 и 93 годах[94]. Император также возродил практику государственных званых обедов, которая была сведена к простому распределению продовольствия при Нероне, в то время как он вкладывал крупные суммы в развлечения и игры[94]. В 86 году Домициан возобновил проведение Капитолийских игрищ, основанных, по всей видимости, на проводимых при Нероне Нерониях и представлявших собой соревнования по атлетике, гонки на колесницах и конкурсы ораторского искусства, музыки, проводимые раз в четыре года[95]. Домициан лично поддерживал съезды на игры представителей из уголков империи в Рим и выделял для них призы. Также нововведения были и в регулярно проводимых гладиаторских играх, такие как морские сражения, ночные бои, а также бои женщин и карликов[96]. Наконец, он добавил две новые партии в гонках на колесницах — «пурпурные» и «золотые» — к уже имевшимся «синим», «зелёным», «красным» и «белым»[96].
Военная деятельность
 Военные кампании, проводимые римлянами в эпоху правления Домициана, как правило, носили оборонительный характер, так как император отказался от идей ведения экспансионистской войны[97]. Его наиболее значительным военным вкладом было формирование Верхнегерманско-ретийского лимеса, который включал в себя обширную сеть дорог, фортов и сторожевых башен, возведённых вдоль Рейна, чтобы защитить империю[98]. Тем не менее, ряд важных войн вёлся в Галлии против хаттов и вдоль дунайской границы против свевов, сарматов и даков[99].
Военные кампании, проводимые римлянами в эпоху правления Домициана, как правило, носили оборонительный характер, так как император отказался от идей ведения экспансионистской войны[97]. Его наиболее значительным военным вкладом было формирование Верхнегерманско-ретийского лимеса, который включал в себя обширную сеть дорог, фортов и сторожевых башен, возведённых вдоль Рейна, чтобы защитить империю[98]. Тем не менее, ряд важных войн вёлся в Галлии против хаттов и вдоль дунайской границы против свевов, сарматов и даков[99].
Завоевание Британии продолжалось под командованием Гнея Юлия Агриколы, который расширил пределы Римской империи вплоть до границ Каледонии (современная Шотландия). Домициан также создал в 82 году новый легион, I легион Минервы, для своей кампании против хаттов[99]. Кроме того, император, по всей видимости, увеличил римское влияние в Армении и Иберии — известна надпись на камне возле горы Беюкдаш в Гобустанском заповеднике неподалёку от Баку в современном Азербайджане, свидетельствующая о присутствии там частей XII Молниеносного легиона под командованием центуриона Луция Юлия Максима[100]. Судя по тому, что Домициан в ней назван Германским, надпись относится к периоду после 83 года, предположительно, к 92 году[100].
Домициановскому управлению римской армией была характерна та же скрупулёзность, как и в остальных ветвях власти. Однако его способности военного стратега были подвергнуты современниками критике[97]. Хотя он претендовал на несколько триумфов, эти действия являлись в основном пропагандистскими[97]. Тацит высмеивал победы Домициана над хаттами, называя их «ложным триумфом», и критиковал его приказ Агриколе покинуть завоёванные им области в Британии[101]. Вот как Дион Кассий характеризует принципы военного руководства Домициана:
«Будучи разбит, он обвинял в этом своих военачальников. Дело в том, что, хотя для себя он требовал побед, ни одна из них не была одержана им самим, однако он обвинял других в поражениях, несмотря на то, что они были следствием отданных им приказов. Таким образом, он ненавидел тех, кто побеждал, и обвинял тех, кто терпел поражения[102]».
Тем не менее, Домициан, по всей видимости, пользовался большой популярностью среди легионеров, посвятив около трёх лет своего правления армии во время военных кампаний — больше, чем какой-либо император, начиная с Октавиана Августа, кроме того, император повысил солдатское жалование на треть[98][103]. В то время как командование армии, возможно, не всегда одобряло его тактические и стратегические решения, лояльность к нему простого солдата не подвергается сомнению[104].
Кампания против хаттов
После восхождения на престол главной внешнеполитической задачей Домициана стало стяжание военной славы[98]. Свою военную деятельность император начал с похода против хаттов[105]. Состояние источников, где содержатся упоминания об этом событии, по выражению историка Виктора Николаевича Парфёнова, «можно смело назвать плачевным»[105]. Как рассказывает Светоний, из всех кампаний Домициана война с хаттами была единственной предпринятой по его собственной инициативе[106]. Насчёт даты начала войны существовала долгая дискуссия, но традиционной стала точка зрения о весне 83 года[107][108].
Локальные столкновения с хаттами происходили и до правления Домициана — в 41, 50 и 70 годах[105]. По сообщению Секста Юлия Фронтина, император для того, чтобы скрыть свои намерения, прибыл в Галлию под предлогом проведения переписи населения и неожиданно напал на хаттов[109]. Тем самым историк признаёт, что римляне были стороной, развязавшей войну, хотя при этом уточняет, что хатты сами готовились к нападению на римские провинции, и поэтому удар римлян носил упреждающий характер[105]. Для похода Домициан создал новый легион — I легион Минервы, который построил дорогу в землях хаттов для облегчения перемещений римских легионеров[99]. Приблизительная численность солдат, участвовавших в походе, достигала 50 тысяч[110].
В конце того же года, по-видимому, достигнув успеха, император возвращается в Рим, где отпраздновал победу, приняв победный титул «Германский», оставив руководство военными действиями своим легатам[111]. Домициану приписывают жульничество, состоявшее в том, что он якобы купил рабов и выдал их за пленных германцев[101][112], но это «является явным измышлением его „заклятых друзей“ из числа высшей столичной аристократии»[113]. Начатая Домицианом война окончилась, по всей видимости, в 85 году[114]. В результате были завоёвана горная цепь Тавн, а границы расширены до рек Лан и Майн[1]. На то, что хатты не были разбиты до конца, указывает их согласие на участие в восстании наместника Верхней Германии Антония Сатурнина в 89 году, и лишь ледоход на Рейне помешал этому замыслу[114].
Поход Агриколы в Каледонию
Одним из наиболее подробных рассказов о военной деятельности эпохи династии Флавиев является труд Тацита, чья биография его тестя Гнея Юлия Агриколы в значительной степени касается завоевания Британии между 77 и 84 годами[98]. Агрикола был назначен наместником Римской Британии около 77 года, ещё при Веспасиане, и после прибытия в провинцию сразу же начал кампанию в Каледонии (современная Шотландия)[98]. Хронология его кампаний всё ещё является предметом споров, одни мнения склоняются в пользу периода с 77 по 84 год, а другие — с 78 по 85 год[98].
В 82 году войска Агриколы пересекли неизвестный водоём и разгромили народы, которые были неизвестны римлянам до тех пор[115]. Наместник укрепил британские берега напротив Ирландии, а Тацит позже вспоминал, что его тесть часто говорил, что остров можно завоевать всего лишь с одним легионом и небольшим количеством вспомогательных войск[116]. Он «приютил у себя одного из правивших её народом царьков, который был изгнан на чужбину внутренним переворотом, и под предлогом дружеского участия на всякий случай держал его при себе»[115]. Этого завоевания не произошло, но некоторые историки считают, что римляне побывали в Ирландии во время небольшой исследовательской или карательной экспедиции[117].
Агрикола переносит своё внимание с Ирландии; в следующем году при участии флота он пересекает каледонскую реку Форт и продвигается вглубь острова[116]. Для укрепления позиций римской армии в Инчьютитл была построена большая легионная крепость[116]. Летом 84 года Агрикола встретился с каледонской армией во главе с Калгаком в битве у Граупийских гор[118]. Хотя римляне нанесли противнику тяжёлое поражение, две трети каледонской армии бежало и укрылось в болотах Северо-Шотландского нагорья, что в конечном счёте препятствовало дальнейшему и окончательному завоеванию Агриколой острова[116].
В 85 году Агрикола был отозван в Рим по приказу Домициана, к тому времени занимая должность наместника дольше, чем любые другие легаты флавианской эпохи[116]. Тацит утверждает, что император с опаской относился к достижениям своего легата, потому что успехи Агриколы затмили собственные скромные победы императора в Германии — «имя его подчинённого ставится выше его имени, имени принцепса»[101]. Отношения между Домицианом и Агриколой остаются загадкой: с одной стороны, Агрикола был удостоен триумфальных украшений и статуй, с другой стороны, Агрикола с тех пор больше никогда не занимал гражданский или военный пост, несмотря на свой опыт и известность[119]. Ему предложили должность наместника провинции Африка, но Агрикола отказался от него либо из-за плохого состояния здоровья, либо, как утверждает Тацит, из-за чинимых Домицианом препятствий[115].
Вскоре после того, как Агрикола сложил с себя полномочия легата Британии, Римская империя вступила в войну с Дакией. Необходимы были подкрепления, и в 87 или 88 году Домициан начал широкомасштабный стратегический вывод войск из завоёванной территории[116]. Была полностью разрушена легионная крепость в Инчьютитл, а вместе с ней и ряд каледонских фортов и сторожевых башен; тогда римская граница была отодвинута на юг приблизительно на 120 километров[116]. Римские военачальники, возможно, возмущались решением Домициана отступить с завоёванных земель, но ему каледонские территории представлялись не чем иным, как убытком для римской казны[98].
Дакийские войны
Зимой 84/85 года даки под предводительством, предположительно, Диурпанея переправились через Дунай и, напав на римлян, убили мезийского наместника Гая Оппия Сабина, нанеся значительный ущерб провинции — по некоторым данным, тогда был уничтожен V легион Жаворонков[120]. Однако Светоний не упоминает о разгроме V легиона, но рассказывает об уничтожении сарматами легиона вместе с легатом (вероятно, это был XXI Стремительный легион)[106]. Преемником погибшего Сабина стал местный легионный легат Марк Корнелий Нигрин[120]. Домициан в сопровождении префекта претория Корнелия Фуска отправляется к Дунаю, сделав своей ставкой Наисс[120]. Даки были вынуждены отступить обратно за Дунай, но сдерживать их становилось труднее по причине появления среди них нового лидера — Децебала[120]. Ранее считалось, что одной из мер Домициана по обороне от даков стало строительство огромного земляного вала в Добрудже, но теперь известно, что он был возведён только в IX веке[120]. Сразу после поражения Оппия Сабина Домициан отказал дакам в заключении мира и отправил в провинцию Корнелия Фуска. Его первоначальные успехи заставили императора вернуться в Рим, где он отпраздновал их салютацией в свою честь[121].
Всю первую половину 86 года Домициан оставался в столице[122]. Летом он принимал участие в праздновании Капитолийских игр[122]. В это время Корнелий Фуск сделал попытку отомстить дакам за нанесённое ими поражение Сабину и вторгся в саму Дакию. Военачальник стремительно переправился через Дунай с помощью понтонного моста, проник вглубь Дакии, где и погиб[122]. Даки провели блестящую операцию, в результате которой римская армия попала в ловушку в горных дакийских теснинах и потерпела поражение[123]. Даки захватили и разграбили римский лагерь; оружие, военное снаряжение, также в их руки попали боевые машины римского войска[123]. Результатом этого стала вторая поездка Домициана к дунайской границе. Император прибыл туда приблизительно в августе 86 года[122]. Он сразу же разделил Мезию на две провинции — Верхнюю (на западе) и Нижнюю (на востоке), оставив Корнелия Нигрина в Нижней Мезии, а в Верхнюю Мезию вызвал Луция Фунисулана Веттониана из Паннонии[122]. Домициану были необходимы опытные военачальники: Веттониан правил Далмацией и затем Паннонией с 79 года[122]. По всей видимости, Нигрин и Веттониан достигли некоторых успехов в войне против даков (они совершили карательный поход и переправлялись через Дунай[123]) судя по тому, что император в конце года получил тринадцатую и четырнадцатую салютации[122]. В результате произошёл распад дакийского союза под начальством Диурпанея, и командование перешло к Децебалу[123]. Перед возвращением в Рим в конце 86 года Домициан, вероятно, приказал трём легионам дополнительно прибыть к Дунаю, а именно: IV Счастливый Флавиев легион был переведён из Далмации в, возможно, Верхнюю Мезию, I Вспомогательный легион из Германии в Бригетион или Сирмий и II Вспомогательный легион из Британии в Сирмий, а затем в Аквинкум[124].
После годового бездействия (87 год) Домициан был готов отомстить за Фуска. Новый наместник был назначен в Верхней Мезии. Длительное правление Веттониана на Балканах (Далмация, Паннония и Верхняя Мезия подряд с 79/80 по 87/88 год) закончилось, и он был заменён на своего родственника Теттия Юлиана, который также имел опыт военных действий на дунайской границе[125]. В бытность легатом VII Клавдиева легиона в 69 году он разгромил роксоланов, когда они попытались вторгнуться в Мезию, и, кроме того, имел репутацию строгого полководца[122]. Из Виминациума он провёл свою армию через Банат и Железные ворота и направился на Сармизегетузу, столицу Децебала, и разгромил даков в кровопролитном сражении при Тапах, предположительно, в конце 88 года[125]. В Риме Домициан отпраздновал Секулярные игры (в которых в качестве жреца-квиндецемвира принимал участие историк Публий Корнелий Тацит[126]), вероятно, в середине года, а также удостоился шестнадцатой и семнадцатой салютаций; он предполагал, что следующая поездка к Дунаю окончится личной капитуляцией Децебала[125]. Однако восстание в Германии изменило его планы. Именно в это время он ввёл ряд льгот для отставных солдат[125]. Это было сделано в целях укрепления авторитета императора в армии в связи с недавним появлением лже-Нерона, восстанием Антония Сатурнина, а также конфликтами с маркоманнами и квадами[125]. Зато успех Теттия Юлиана укрепил образ Домициана как императора-воина[127].
Вскоре Децебал отправил к Домициану, который прибыл на дунайскую границу из Германии, своего брата Диэгида[128]. Диэгид в подтверждение дружественных намерений Децебала вернул римлянам захваченные даками после поражения Фуска трофеи и пленных, впрочем не всех[128]. Сам правитель даков не решился на личную встречу с римским императором, не желая, вероятно, рисковать своей безопасностью[128]. Условия мирного договора были следующими: Децебал признавал свою зависимость от Римской империи и получал от Домициана царские инсигнии[128]. По причине отсутствия самого Децебала Домициан увенчал диадемой его брата[128]. Кроме того, дакийскому правителю были даны в распоряжение гражданские и военные специалисты различных направлений[128]. Император отправил Децебалу крупную сумму денег, а также обязался регулярно выплачивать ему субсидии[129]. При оценке деятельности Домициана на дунайской границе историк Х. Бенгстон приходит к выводу, что император «самоотверженно и сознательно служил державе в её трудный час. Если имперская оборона на Дунае не рухнула, то это главным образом личная заслуга Домициана»[130].
Паннонские войны
Домициан находился, вероятно, ещё в Могонциаке, когда узнал о враждебной деятельности со стороны квадов и маркоманнов, и так как военные действия против даков ещё не были завершены, он столкнулся с перспективой войны на два фронта[85]. Подробности конфликта с маркоманнами и квадами остаются неясными. По словам Диона Кассия, Домициан развязал войну сам, напав на оба народа по причине непредоставления ему помощи против даков, затем он отклонил две попытки маркоманнов и квадов заключить мир и даже казнил членов второго посольства[131]. Когда маркоманны нанесли поражение римским войскам, император пришёл к соглашению с дакийским правителем Децебалом[132]. По хронологии Диона Кассия получается, что этот конфликт произошёл в 89 году[132].
В начале мая 92 года Домициан покинул Рим, чтобы принять участие в ещё одной экспедиции на Дунай, где сарматы вместе со свевами выступали против предложения римлянами военной помощи лугиям[133]. Благодаря договору с Децебалом, римский экспедиционный корпус, состоявший из вексилляций девяти легионов, во главе с Велием Руфом прошёл через Дакию и напал на сарматское племя языгов[133]. Но сарматы уничтожили один из римских легионов, очевидно, этим легионом был XXI Стремительный[133]. Очень мало известно об этой кампании, возможно, будущий император Марк Ульпий Траян, управлявший Паннонией в 93 году, играл в ней значительную роль[133]. Поход длился восемь месяцев, а в январе 93 года император вернулся в Рим, где отпраздновал овацию, но не триумф. Домициан сознательно отказался от триумфа: возможно, он был не в полной мере удовлетворён тем, что случилось, и хотел в конечном итоге достигнуть полной победы[133]. Есть предположение, опирающееся на данные нескольких военных дипломов, что в конце своего правления Домициан планировал провести ещё одну крупную кампанию против сарматов[134]. Согласно одному из них[135], концентрация войск в провинции Верхняя Мезия увеличилась по сравнению с 93 годом[134]. По некоторым сведениям, в 95 или 96 году неподалёку от Сингидуна произошёл конфликт с языгами[136]. По всей видимости, Домициан предполагал сначала разбить сарматов, а затем свевов, но из-за своей гибели не успел осуществить эти намерения[137].
Африка
 В Африке в правление Домициана также происходили военные кампании и укрепление границ. Клавдий Птолемей упоминал несколько походов в Эфиопию через территорию гарамантов под предводительством Юлия Матерна и Септимия Флакка[138], которые состоялись, по всей видимости, в правление династии Флавиев[121]. В то время между Римом и гарамантами установились дружественные отношения[121]. Но с насамонами, племенем, обитавшим к северо-востоку от гарамантов и к юго-востоку от Лептиса-Магны, у римлян происходили столкновения. Дион Кассий упоминает о конфликте между римскими властями в Африке и насамонами[139]. В 86 году, когда Гней Суэллий Флакк был назначен легатом дислоцировавшегося в Нумидии III Августова легиона, многие из обитавших в пустынях племён Проконсульской Африки, в том числе и насамоны (Дион Кассий называет по имени только их одних), восстали по причине непосильности наложенных на них налогов, перебили сборщиков и разгромили высланные для усмирения восставших римские отряды[139]. Они разграбили даже римский лагерь, но, найдя там вино, устроили пир и в конце концов уснули. Когда Флакк узнал об этом, он напал на них и всех уничтожил[139]. Домициан, бывший в восторге от этого успеха, объявил сенату: «Я запретил насамонам существовать»[139].
В Африке в правление Домициана также происходили военные кампании и укрепление границ. Клавдий Птолемей упоминал несколько походов в Эфиопию через территорию гарамантов под предводительством Юлия Матерна и Септимия Флакка[138], которые состоялись, по всей видимости, в правление династии Флавиев[121]. В то время между Римом и гарамантами установились дружественные отношения[121]. Но с насамонами, племенем, обитавшим к северо-востоку от гарамантов и к юго-востоку от Лептиса-Магны, у римлян происходили столкновения. Дион Кассий упоминает о конфликте между римскими властями в Африке и насамонами[139]. В 86 году, когда Гней Суэллий Флакк был назначен легатом дислоцировавшегося в Нумидии III Августова легиона, многие из обитавших в пустынях племён Проконсульской Африки, в том числе и насамоны (Дион Кассий называет по имени только их одних), восстали по причине непосильности наложенных на них налогов, перебили сборщиков и разгромили высланные для усмирения восставших римские отряды[139]. Они разграбили даже римский лагерь, но, найдя там вино, устроили пир и в конце концов уснули. Когда Флакк узнал об этом, он напал на них и всех уничтожил[139]. Домициан, бывший в восторге от этого успеха, объявил сенату: «Я запретил насамонам существовать»[139].
На западе от Проконсульской Африки располагались Нумидия и Мавретания. По причине отсутствия каких-либо сведений о деятельности Домициана в этом регионе о ней трудно составить мнение[140]. Но деятельность Траяна — строительство фортов, основание колоний (например, Тимгада в 100 году), окончательный захват Оресских гор — предполагает подготовительную работу Домициана[140]. Кроме того, III Августов легион первоначально находился то в Амедере, то в Тевесте и только в 80 году или уже в правление Траяна был передислоцирован в Ламбезис[140]. Этот шаг имел большое значение, потому что в Амедере и Тевесте легион был, так сказать, обращён к Проконсульской Африке, а в Ламбезисе он был гораздо ближе к Мавретании и занимал стратегически более важное положение. Кроме того, это действие служит доказательством продвижения римлян к Оресским горам[140]. Заслугу Домициана в этом вопросе оценить трудно.
Ситуация в Мавретании была несколько более серьёзной[140]. В правление Веспасиана два всаднических прокуратора Мавретании Тингитанской и Мавретании Цезарейской были заменены на одного императорского легата[140]. Причина такого решения неизвестна, но война в Мавретании заведомо являлась долгой и трудной[140]. Между 85 и 87 годами трибун тринадцатой городской когорты в Карфагене Велий Руф был назначен «командующим армиями Африки и Мавретании для сокрушения племён в Мавретании»[140]. То, что в этом регионе некоторое время проходили военные действия, свидетельствуют несколько военных дипломов из Мавретании Тингитанской, датированных периодом между 88 и 109 годами[140]. Возможно, упоминаемые конфликты идентичны[140]. Однако о каких-либо действиях, предпринятых Домицианом для прекращения войны, неизвестно[122].
Восточные провинции
 Политика Домициана на востоке мало чем отличалась от политики его отца, который продолжил мирное соглашение с Парфянским царством, заключённое в 63 году, в результате которого брат парфянского царя становится армянским царём, но как вассал Рима, и должен был направиться в Рим, чтобы получить царскую тиару из рук правившего тогда Нерона[137]. Главной целью Домициана было не допустить расширения пределов Парфии либо путём присоединения сопредельных территорий, либо созданием клиентских государств, кроме того, по его приказу были усилены восточные оборонительные сооружения[137]. Так, Коммагена и Малая Армения были присоединены к Римской империи, тем самым расширив её территорию на 112 тысяч квадратных миль. Там были размещены два легиона: XII Молниеносный в Мелитене и XVI Флавия Фирма в Сатале, а также были построены многочисленные дороги[137].
Политика Домициана на востоке мало чем отличалась от политики его отца, который продолжил мирное соглашение с Парфянским царством, заключённое в 63 году, в результате которого брат парфянского царя становится армянским царём, но как вассал Рима, и должен был направиться в Рим, чтобы получить царскую тиару из рук правившего тогда Нерона[137]. Главной целью Домициана было не допустить расширения пределов Парфии либо путём присоединения сопредельных территорий, либо созданием клиентских государств, кроме того, по его приказу были усилены восточные оборонительные сооружения[137]. Так, Коммагена и Малая Армения были присоединены к Римской империи, тем самым расширив её территорию на 112 тысяч квадратных миль. Там были размещены два легиона: XII Молниеносный в Мелитене и XVI Флавия Фирма в Сатале, а также были построены многочисленные дороги[137].
Из соседних племён, по всей видимости, наиболее важными римскими союзниками являлись иберы, гирканцы и албанцы[137]. Жившие в окрестностях современного Тбилиси, иберы контролировали жизненно важное Дарьяльское ущелье[137]. Независимо от предыдущих отношений Иберии с Римом, теперь она стала клиентским царством, а иберийский правитель Митридат был объявлен «philocaesar kai philoromaios» («любящий Цезаря и любящий римлян»), согласно следующей надписи, найденной в Гармозике:
«Император Цезарь Веспасиан Август, великий понтифик, […] и император Тит Цезарь, сын Августа […] и Домициан Цезарь усилили эти укрепления для Митридата, царя иберов, сына царя Фарасмана и Ямаспа, друга Цезаря и друга римлян, и для народа иберов[137]».
То, что римляне возводили военные укрепления в Иберии, является достаточным доказательством успеха политики Веспасиана[141]. Подробности отношений между римлянами и гирканцами точно не известны. В начале правления Веспасиана они позволили аланам пройти через их территории, чтобы напасть на Парфию и Армению, и на просьбу парфян вмешаться Веспасиан ответил отказом[141]. Таким образом, поводов для вражды между римлянами и гирканцами не было[141]. Не менее важными являются отношения с албанцами. Поскольку их территория граничила с Великой Арменией и Иберией, с Кавказом и Каспийским морем на севере и востоке, они контролировали Дербентский проход и являлись оплотом против движения с Кавказа[141]. То, что албанцы стали римскими союзниками, является достижением Домициана[141]. В Албании стояли отдельные подразделения XII Молниеносного легиона, охранявшие подступы к Дербентскому проходу[142]. Также неподалёку от города Физули некогда находилась надпись (ныне утерянная, даже полностью не переписанная), также упоминавшая XII Молниеносный легион[142]. Таким образом, римское влияние было распространено на всё государство, и Домициан завершил окружение своими клиентскими царствами парфян[142].
Правление Домициана было отмечено появлением третьего Лже-Нерона, который пользовался поддержкой парфян. Это произошло приблизительно в 88 году, на что указывает усиление сирийских войск дополнительными частями[142]. Однако вскоре самозванец был выдан парфянами[143]. У поэта эпохи правления Домициана Стация встречаются намёки на желание императора провести крупную военную кампанию на Востоке, но, по всей видимости, это было желание самого поэта[144].
Религиозная политика
Домициан твёрдо следовал обычаям традиционной римской религии и на протяжении всего своего правления лично следил за тем, чтобы обычаи и нравы соблюдались[77]. Для того чтобы оправдать божественную природу правления Флавиев и подчеркнуть преемственность к предыдущему правящему роду Юлиев-Клавдиев, Домициан особенно уделяет внимание связи с главным римским божеством Юпитером, возможно, через самое значительное и впечатляющее восстановление храма Юпитера на Капитолийском холме[77]. Небольшой храм Юпитеру Хранителю также был возведён на месте дома храмового сторожа, где Домициан укрывался 20 декабря 69 года. Позже, когда он уже взошёл на престол, этот храм был перестроен и расширен, став посвящённым Юпитеру Стражу[145].
Кроме того, император отличался особенно усердным поклонением богине Минерве[146]. Он не только хранил статуэтку этой богини в своей спальне, её изображение регулярно появлялось на его монетах в четырёх различных вариантах[146]. В честь Минервы Домициан прозвал один из основанных им легионов[146].
Домициан также возродил практику имперского культа, который был несколько забыт в правление Веспасиана[147]. Примечательно, что первым действием в качестве императора Домициан приказал обожествить своего предшественника и брата Тита. После смерти его малолетнего сына и племянницы Юлии Флавии они также были обожествлены. Что касается самого императора как религиозного деятеля, то Светоний и Дион Кассий утверждают, что Домициан официально присвоил себе титул «Dominus Deus» («Господин и Бог»)[148][149]. Тем не менее, он не только отказывался от титула «Dominus» во время своего правления[147], но и не сохранилось никаких официальных документов или монет с упоминанием данного титула, из чего некоторые историки, такие как Брайан Джонс, утверждают, что всеми этими прозвищами Домициан был наделён придворными льстецами, которые хотели получить привилегии от императора[81].
Для того чтобы поспособствовать укреплению поклонения императорской семье, император построил храм рода Флавиев, в котором он позднее был захоронен со своей кормилицей Филлидой[150]. Храм стоял на месте бывшего дома Веспасиана на Квиринальском холме и был роскошно украшен[145]. В настоящее время следов храма так и не нашли. Кроме того, Домициан завершил возведение храма Веспасиана и Тита, который был предназначен для поклонения его обожествлённым отцу и брату[65]. Чтобы увековечить память о военных победах династии Флавиев, император приказал построить храм Богов (на его месте начали свой триумф в честь успешного окончания Иудейской войны Тит и Веспасиан), храм Возвращённой Фортуны, построенный в 93 году после триумфального въезда Домициана в Рим в честь победы над сарматами[150]. Триумфальная арка Тита была достроена также при Домициане.
 Строительство таких объектов составляет лишь наиболее заметную часть религиозной политики Домициана, которая также включала наблюдение за выполнением религиозных законов и общественной морали. В апреле 85 года Домициан совершил беспрецедентный поступок, назначив себя пожизненным цензором (лат. censor perpetuus), главной задачей которого являлось наблюдение за римскими нравами и поведением, а также получил право сопровождаться двадцатью четырьмя ликторами и носить триумфальное платье в сенате[151]. В этой должности Домициан оправдал себя, исполняя свои полномочия добросовестно и с большой осторожностью. Своей главной задачей император объявил «correctio morum» («исправление нравов»)[151]. Вообще этот шаг показывал интерес императора ко всем аспектам римской жизни[18]. Он возобновил закон Юлия о прелюбодеянии, в рамках которого прелюбодеяние карается изгнанием[151]. Вот что рассказывает Светоний ещё о деятельности Домициана в качестве цензора:
Строительство таких объектов составляет лишь наиболее заметную часть религиозной политики Домициана, которая также включала наблюдение за выполнением религиозных законов и общественной морали. В апреле 85 года Домициан совершил беспрецедентный поступок, назначив себя пожизненным цензором (лат. censor perpetuus), главной задачей которого являлось наблюдение за римскими нравами и поведением, а также получил право сопровождаться двадцатью четырьмя ликторами и носить триумфальное платье в сенате[151]. В этой должности Домициан оправдал себя, исполняя свои полномочия добросовестно и с большой осторожностью. Своей главной задачей император объявил «correctio morum» («исправление нравов»)[151]. Вообще этот шаг показывал интерес императора ко всем аспектам римской жизни[18]. Он возобновил закон Юлия о прелюбодеянии, в рамках которого прелюбодеяние карается изгнанием[151]. Вот что рассказывает Светоний ещё о деятельности Домициана в качестве цензора:
«Приняв на себя попечение о нравах, он положил конец своеволию в театрах, где зрители без разбора занимали всаднические места; ходившие на руках сочинения с порочащими нападками на именитых мужчин и женщин он уничтожил, а сочинителей наказал бесчестьем; одного бывшего квестора за страсть к лицедейству и пляске он исключил из сената; дурным женщинам запретил пользоваться носилками и принимать по завещаниям подарки и наследства; римского всадника он вычеркнул из судей за то, что он, прогнав жену за прелюбодеяние, снова вступил с ней в брак[152]<…>»
Несколько людей было осуждено по закону Сканциния о совращении малолетних[79]. Домициан также подвергал преследованию коррупцию среди государственных служащих, снимая с должностей присяжных заседателей, если они брали взятки[79]. По его приказу клеветничество, особенно направленное против его самого, каралось изгнанием или смертной казнью[79]. К актёрам также относились с подозрением, так как их публичные выступления давали возможность в сатирическом тоне отзываться о государстве[153]. Как один из примеров, он запретил мимам появляться на сцене в общественных местах[153]. Также император переименовал согласно своему имени и титулу месяцы сентябрь и октябрь в Германик и Домициан, поскольку в одном из этих месяцев он родился, а в другом стал императором, но после его смерти это постановление было отменено[154].
В 87 году было установлено, что три из шести весталок (сёстры Окулаты и Варронилла) нарушили данные ими священные обеты целомудрия[155]. Домициан в качестве верховного понтифика лично принял участие в расследовании этого дела[156]. Император предложил весталкам самим выбрать себе смерть, а их любовники были сосланы[157]. Старшую весталку Корнелию, которая ранее уже была оправдана и снова предстала перед судом, Домициан приказал похоронить заживо, а её любовников, в том числе и всадника Целера, засечь до смерти розгами, но одного, претора и оратора Валерия Лициниана, отправил в изгнание, когда он признал свою вину[156]. Иностранные религии римляне терпели постольку, поскольку они не мешали общественному порядку либо отчасти ассимилировались с традиционной римской религией. В эпоху династии Флавиев процветало поклонение египетским божествам, в особенности Серапису и Исиде, которые отождествлялись с Юпитером и Минервой соответственно[146]. В 95 году по обвинению в атеизме были казнены двоюродный брат Домициана Тит Флавий Клемент и бывший консул Ацилий Глабрион, были сосланы «многие другие люди, которые приняли еврейские обычаи»[158]. Клемента казнили несмотря на то, что его сыновей император усыновил и называл своими наследниками[159]. Им он дал новые имена Домициана (Домициана, по всей видимости, провозгласили Цезарем) и Веспасиана, их учителем назначил ритора Квинтилиана, но, очевидно, и они были казнены вместе со своим отцом[159].
Кроме того, Домициан устраивал гонения на философов. Так, были казнены Гельвидий Приск Младший, автор восхваления погибшего при Нероне стоика Тразеи Пета Геренний Сенецион, претор и приятель Тразеи Пета Юний Арулен Рустик, а вскоре сенат издал приказ о высылке всех философов и астрологов[160][161].
Христианский историк Евсевий Кесарийский утверждает, что евреи и христиане подвергались сильным преследованиям к концу правления Домициана[162]. Откровение Иоанна Богослова, как полагают некоторые, было написано в этот период[163]. Нет доказательств того, что Домициан имел организованную программу преследования христиан[18]. С другой стороны, существует явное свидетельство того, что евреи не чувствовали себя спокойно в правление Домициана, который скрупулёзно собирал еврейский налог и преследовал уклонистов в течение большей части своего правления[18]. В целом репутация Домициана как гонителя была преувеличена[18].
Оппозиция
Восстание Антония Сатурнина
 1 января 89 года легат пропретор Верхней Германии Луций Антоний Сатурнин во главе двух легионов — XIV Парного и XXI Стремительного — в Могонциаке поднял восстание против императора Домициана[104]. Бунтовщика поддержало несколькими годами ранее разбитое римлянами германское племя хаттов[104]. Это было весьма критическое время для Домициана, поскольку он столкнулся с проблемами на двух других фронтах, на восточном — с появлением лже-Нерона, а на дунайском продолжался конфликт[104].
1 января 89 года легат пропретор Верхней Германии Луций Антоний Сатурнин во главе двух легионов — XIV Парного и XXI Стремительного — в Могонциаке поднял восстание против императора Домициана[104]. Бунтовщика поддержало несколькими годами ранее разбитое римлянами германское племя хаттов[104]. Это было весьма критическое время для Домициана, поскольку он столкнулся с проблемами на двух других фронтах, на восточном — с появлением лже-Нерона, а на дунайском продолжался конфликт[104].
Во всяком случае, восстание было строго ограничено вверенной Сатурнину провинцией, и слухи о восстании стремительно проникли в соседние провинции[104]. Легат пропретор Нижней Германии Авл Буций Лаппий Максим при содействии прокуратора Реции Тита Флавия Норбана мгновенно отреагировал на это происшествие, начав движение в сторону восставших[104]. Из Испании был вызван Траян вместе с VII Парным легионом, в то время как Домициан сам выступил из Рима во главе преторианской гвардии[164].
По счастливой случайности хатты, которые хотели прийти на помощь Сатурнину, оказались не в состоянии переправиться через Рейн по причине начавшейся ранней оттепели[164]. В течение двадцати четырёх дней восстание было подавлено, а его предводители жестоко наказаны в Могонциаке[164]. После победы наместник Нижней Германии уничтожил все документы Сатурнина, чтобы избежать излишне жестоких мер со стороны императора. Из мятежных легионов XXI Стремительный был отправлен на дунайскую границу, где вскоре погиб в сражении с сарматами, XIV Парный наказан так и не был по неизвестной причине, а те легионы, которые оказывали помощь в подавлении мятежа, должным образом были вознаграждены[165].
Точная причина восстания является неопределённой, хотя, по всей видимости, оно было заранее спланировано. Существует несколько версий причины произошедшего: ответ на жестокое обращение императора с сенаторским сословием[166]; бунт легионеров, которые вынудили Сатурнина стать их предводителем (однако солдаты не могли иметь особых причин для бунта, так как Домициан повысил им жалование, создал определённые привилегии для ветеранов и т. д.[167]); отражение недовольства офицеров военной политикой Домициана (недостаточное внимание к германской границе и мягкое обращение с приграничными племенами, отступление из Южной Шотландии, в том числе и демонтаж крупной крепости Инчьютитл, неудачи на Дунае)[164][166].
В награду за подавление восстания Лаппий Максим получил должность наместника провинции Сирия, консула-суффекта с мая по август 95 года и, наконец, должность понтифика, которую он все ещё занимал в 102 году[165]. Тит Флавий Норбан, возможно, был назначен префектом Египта, в 94 году он стал префектом претория с Титом Петронием Секундом[168]. Определённую роль в раскрытии заговора Сатурнина и подавлении восстания, возможно, сыграл будущий император Нерва, которого на следующий год император взял в коллеги по консулату[169]. Кроме того, Домициан запретил соединять два легиона в одном лагере, а легионной казне принимать на хранение от каждого легионера сумму, большую тысячи сестерциев[170].
Взаимоотношения с сенатом
После падения республики власть римского сената в значительной степени была ограничена в новой системе государственного управления, установленной Октавианом Августом и известной как принципат. Принципат фактически представлял особенную форму диктаторского режима, но при этом поддерживалась формальная структура Римской республики[171]. Большинство императоров сохраняло внешний фасад былого демократического режима, а в ответ сенат косвенно признавал статус императора как фактического монарха[172].
Некоторые императоры не всегда точно следовали этой негласной договорённости. Домициан принадлежал к их числу. С самого начала своего правления он подчеркнул реальность его самодержавия[172]. Он не любил аристократов и не боялся показывать им своего чувства, отобрав у сената право принятия каких-либо важных решений, и вместо этого полагался на небольшую группу друзей и выходцев из всаднического сословия для контроля над всеми важными государственными учреждениями[173].
Неприязнь была взаимной. После убийства Домициана римские сенаторы направились в здание сената, где они сразу же приняли решение предать покойного императора проклятию памяти[174]. В эпоху правления династии Антонинов сенатские историки представляли Домициана в своих трудах как тирана[172].
Тем не менее, данные свидетельствуют, что Домициан иногда шёл на уступки по отношению к сенаторскому мнению[69]. Принимая во внимание то, что его отец и брат сконцентрировали консульскую власть в значительной степени в руках династии Флавиев, Домициан допустил удивительно большое количество провинциалов и потенциальных противников к должности консула, позволив им «начать год и открыть фасты»[175] в качестве ординарных консулов[69]. Были ли эти действия подлинной попыткой урегулировать отношения с враждебными фракциями в сенате либо попыткой завоевать их поддержку, неизвестно[173]. Предлагая должность консула своим потенциальным противникам, Домициан, возможно, хотел скомпрометировать этих сенаторов в глазах их сторонников[173]. Когда их поведение по отношению к императору не удовлетворяло последнего, они практически все были привлечены к судебному преследованию и в результате сосланы или казнены, а их собственность была конфискована[173].
И Тацит, и Светоний говорят о росте репрессий к концу правления Домициана, пик этих репрессий датируется 93 годом или приблизительно временем после неудачного восстания Сатурнина в 89 году[161][176]. До этого было несколько волн репрессий, направленных против представителей римской аристократии: в 83 году (которые, по всей видимости, были бескровными); 22 сентября 87 года арвальские братья совершили жертвоприношение на Капитолии «в честь раскрытия злодеяний нечестивцев» (лат. ob detecta scelera nefariorum), что говорит о первой серьёзной опасности, угрожавшей императору; в 88 году последовал ряд изгнаний и казней[177]. Во время последних волн, в 88 и 93 годах, по меньшей мере двадцать противников Домициана в сенаторской среде были казнены[178], в том числе бывший муж Домиции Лонгины Луций Элий Ламия, три представителя династии Флавиев: Тит Флавий Сабин, Тит Флавий Клемент и Марк Аррецин Клемент (Аррецин, возможно, был не казнён, а сослан), наместник Британии Саллюстий Лукулл и т. д.[179] Однако некоторые из этих людей были казнены ещё в 83 или 85 годах, что не позволяет в полной мере доверять свидетельствам Тацита, сообщавшего о господстве террора в конце правления Домициана. По словам Светония, некоторые из них были осуждены за коррупцию, измену или по другим обвинениям, которые Домициан оправдывал своими подозрениями:
«Правителям, говорил он, живётся хуже всего: когда они обнаруживают заговоры, им не верят, покуда их не убьют[180]».
Брайан Джонс сравнивает казни Домициана с подобными событиями, происходившими при императоре Клавдии (41—55 годы), отмечая при этом, что по приказу Клавдия было казнено 35 сенаторов и более 300 (или 221) всадников, и, несмотря на это, он был обожествлён сенатом и рассматривается как один из хороших императоров в римской истории[181]. Домициан был явно не в состоянии получить поддержку среди аристократии, несмотря на попытки успокоить враждебные фракции назначениями на должность консула. Его автократический стиль правления подчёркивал утрату власти сенатом, в то время как его политика рассмотрения патрициев и даже членов своей семьи как равных всем остальным римлянам принесла ему их презрение[181].
Смерть и последствия
Убийство
 Домициан был убит 18 сентября 96 года во дворце в результате заговора, организованного его придворными[182]. Весьма подробный рассказ о заговоре и убийстве в своей биографии Домициана оставил Светоний, который утверждает, что спальник императора Парфений был организатором заговора, а основным мотивом называет казнь советника Домициана Эпафродита, которого Домициан подозревал в том, что он помог всеми покинутому Нерону покончить с собой[183]. Само убийство осуществили вольноотпущенник Парфения по имени Максим и управляющий Домициллы Стефан[184].
Домициан был убит 18 сентября 96 года во дворце в результате заговора, организованного его придворными[182]. Весьма подробный рассказ о заговоре и убийстве в своей биографии Домициана оставил Светоний, который утверждает, что спальник императора Парфений был организатором заговора, а основным мотивом называет казнь советника Домициана Эпафродита, которого Домициан подозревал в том, что он помог всеми покинутому Нерону покончить с собой[183]. Само убийство осуществили вольноотпущенник Парфения по имени Максим и управляющий Домициллы Стефан[184].
По всей видимости, не последнюю роль в этом заговоре играли два тогдашних префекта претория. В то время преторианская гвардия находилась под командованием Тита Флавия Норбана и Тита Петрония Секунда, которым почти наверняка было известно о готовящемся заговоре[184]. Норбан и Секунд вступили в заговор, опасаясь, очевидно, за свою жизнь: ведь они были поставлены вместо недавно уволенных лично императором префектов, и, кроме того, императору на них были поданы жалобы[1]. Дион Кассий писал спустя почти сто лет после убийства, что включает в число заговорщиков и супругу императора Домицию Лонгину, но, учитывая её преданность памяти Домициана даже спустя годы после гибели мужа, это утверждение кажется маловероятным[59].
Дион Кассий также считает, что убийство не было спланировано тщательно, в то время как из повествования Светония следует, что имел место хорошо организованный заговор[185]. За несколько дней до убийства Стефан притворился, что у него болит левая рука и несколько дней подряд заматывал её повязками, а в день убийства Домициана спрятал в них кинжал. В день убийства двери в комнаты слуг были заперты, а кинжал, который император обычно хранил у себя под подушкой, был заранее выкраден Стефаном[186].
В соответствии с данным ему астрологическим прогнозом Домициан считал, что он умрёт около полудня, и поэтому в это время дня обычно проявлял беспокойство. В свой последний день Домициан очень тревожился и спросил слугу, который час. Слуга, который, по всей видимости, участвовал в заговоре, ответил, что шестой (Домициан боялся пятого)[186]. Успокоенный император решил отправиться в баню, но ему помешал Парфений, который сообщил, что какой-то человек хочет сообщить императору нечто очень важное. Домициан один отправился в спальню, куда к нему впустили Стефана, который подал записку, сообщавшую о заговоре:
«…и пока тот в недоумении читал его записку, он нанёс ему удар в пах. Раненый пытался сопротивляться, но корникуларий Клодиан, вольноотпущенник Парфения Максим, декурион спальников Сатур и кто-то из гладиаторов набросились на него и добили семью ударами[187]».
Домициан и Стефан боролись на полу в течение некоторого времени, пока император не был окончательно добит, но и сам Стефан получил смертельные ранения[1][188]. Около полудня император, который не дожил один месяц до своего 45-летия, был мёртв. Его тело было вынесено на дешёвых носилках. Кормилица Домициана Филлида предала сожжению его прах в своей усадьбе на Латинской дороге, а останки тайно перенесла в храм рода Флавиев и смешала с прахом его племянницы Юлии[188]. Убийство императора произошло без участия преторианской гвардии, поскольку один из участников заговора префект претория Тит Петроний Секунд удерживал солдат[160].
По словам Светония, ряд предзнаменований предсказывали смерть Домициана. За несколько дней до убийства его покровительница Минерва явилась ему во сне, объявив, что она разоружена Юпитером и уже будет не в состоянии защитить его[146].
Избрание преемника и дальнейшие события
 Согласно Остийским фастам, в день убийства Домициана сенат провозгласил императором Марка Кокцея Нерву[189]. Несмотря на его небольшой политический опыт, его кандидатура казалась прекрасным выбором. Нерва был стар, бездетен и провёл большую часть своей карьеры при дворе Флавиев, что даёт повод как древним, так и современным авторам говорить о его участии в убийстве Домициана[190][191].
Согласно Остийским фастам, в день убийства Домициана сенат провозгласил императором Марка Кокцея Нерву[189]. Несмотря на его небольшой политический опыт, его кандидатура казалась прекрасным выбором. Нерва был стар, бездетен и провёл большую часть своей карьеры при дворе Флавиев, что даёт повод как древним, так и современным авторам говорить о его участии в убийстве Домициана[190][191].
Исходя из сообщения Диона Кассия, что заговорщики ещё до убийства видели Нерву как потенциального кандидата на престол, можно предположить, что он по крайней мере был извещён о заговоре[192][193]. Нерва не появляется в рассказе Светония об убийстве Домициана, но это можно понять, так как его работы были опубликованы в правление наследников Нервы Траяна и Адриана, чтобы таким образом убрать известие о том, что правящая династия обязана своим восхождением убийству[192].
С другой стороны, Нерве не хватало широкой поддержки в империи, и он был предан Флавиям, его послужной список не обязывал его присоединиться к заговорщикам. Подробности тех дней не известны, но современные историки считают, что Нерва был провозглашён императором исключительно по инициативе сената, в течение нескольких часов после появления известия об убийстве[189]. Сенатское решение, возможно, было поспешным, но оно было принято, чтобы избежать гражданской войны, и, как представляется, ни один из сенаторов не был вовлечён в заговор[194].
Сенат, тем не менее, радовался смерти Домициана и сразу же после вступления Нервы на престол предал умершего императора проклятию памяти: его монеты и статуи были переплавлены, арки были снесены, а его имя было вычеркнуто из всех публичных записей[195]. Домициан и правивший спустя век после него Гета были единственными императорами, которые были официально преданы проклятию памяти. Во многих случаях существующие портреты Домициана, такие как те, которые найдены на рельефах палаццо Канчеллерия, были просто перевырезаны, чтобы добиться сходства с Нервой, что позволило быстро сделать портреты нового императора и избавиться от изображений старого[196]. Однако указ сената был выполнен лишь частично в Риме и полностью игнорировался в большинстве провинций за пределами Италии[195].
По словам Светония, народ Рима встретил известие о смерти Домициана с безразличием, но армия выразила сильное неудовольствие и призывала к его обожествлению сразу же после убийства, а в некоторых провинциях были мелкие беспорядки[197]. В качестве компенсации преторианская гвардия требовала казни убийц Домициана, но Нерва отказался. Вместо этого он просто отправил в отставку префекта претория Тита Петрония Секунда и заменил его на уже бывшего при Домициане префектом претория Касперия Элиана[198].
Недовольство таким положением дел продолжало нарастать в течение правления Нервы, что в конечном итоге вылилось в кризис в октябре 97 года, когда члены преторианской гвардии во главе с Касперием Элианом осадили императорский дворец и взяли Нерву в заложники[199]. Император был вынужден подчиниться их требованиям, согласившись выдать им виновных в смерти Домициана и даже во время выступления поблагодарив мятежных преторианцев[199]. Тит Петроний Секунд и Парфений были найдены и убиты. Нерва во время этих событий не пострадал, но его власть была, таким образом, поколеблена. Вскоре после этого он объявил об усыновлении Траяна, провозгласил его своим преемником и вскоре после этих событий скончался[200].
Память
Античные источники
Классическое отношение к Домициану, как правило, отрицательное, поскольку большинство из античных источников, писавших о нём, были связаны с сенаторским или аристократическим классами, с которыми Домициан находился в затруднённых отношениях[174]. Кроме того, современные ему историки, такие как Плиний Младший, Тацит и Светоний, писали о нём после его смерти, когда император был предан проклятию памяти. Работы придворных поэтов Домициана Марциала и Стация являются практически единственными литературными источниками, написанными при его жизни. Стихи Марциала, который после смерти Домициана перестаёт писать о нём похвальбы, и Стация — весьма льстивые, прославляют достижения Домициана и представляют его равным богам[116][194].
Самый обширный дошедший до наших дней рассказ о жизни Домициана принадлежит перу историка Светония, который родился во времена правления Веспасиана и опубликовал свои работы при императоре Адриане (117—138 годы). Его «Жизнь двенадцати цезарей» является источником большей части того, что известно о Домициане. Хотя его текст является преимущественно негативно настроенным по отношению к императору, он не осуждает и не восхваляет Домициана, а также утверждает, что его правление начиналось хорошо, но постепенно превратилось в террор[201]. Биография является проблематичной, поскольку она противоречит сама себе в отношении правления Домициана и его личности, в одно и то же время представляя его как добросовестного, умеренного человека и отъявленного развратника[29].
По словам Светония, Домициан притворно проявлял интерес к искусству и литературе, но так и не потрудился ознакомиться с классическими авторами. Другие отрывки, намекающие на пристрастие Домициана к различным афоризмам, предполагают, что он на самом деле был знаком с классическими писателями, покровительствовал поэтам и архитекторам, основал артистические Олимпийские игры и, потратив немалые личные средства, восстановил библиотеки Рима после того, как они сгорели во время пожара[29].
«Жизнь двенадцати цезарей» также является источником многих возмутительных историй относительно брака Домициана. По словам Светония, Домиция Лонгина была сослана в 83 году из-за романа с известным актёром по имени Парис. Когда Домициан узнал об этой связи, он якобы убил Париса на улице и тут же развёлся с женой, а после ссылки Лонгины Домициан сделал своей любовницей племянницу Юлию Флавию, которая позже погибла в результате неудачного аборта[60][202].
Современные историки считают это маловероятным, однако следует отметить, что порочащие слухи, такие как о предполагаемых изменах Домиции Лонгины, повторялись историками, которые писали свои труды уже после смерти Домициана, и использовались для выделения лицемерия императора, публично проповедовавшего о возвращении к нравственности времён правления Октавиана Августа[203]. Тем не менее, рассказ Светония доминировал в императорской историографии на протяжении веков.
Хотя Тацит, как правило, считается самым надёжным автором этой эпохи, его отношение к Домициану осложняется тем, что его тесть, Гней Юлий Агрикола, возможно, был личным врагом императора[204]. В своей работе «Жизнеописание Юлия Агриколы» Тацит утверждает, что Агрикола был вынужден уйти в отставку, так как его победа в Каледонии подчеркнула несостоятельность Домициана как военачальника. Некоторые современные авторы, такие как Т. Дорей и Б. Джонс, утверждают противоположное: Агрикола в действительности был близким другом Домициана, и Тацит на самом деле хотел скрыть в произведении связи своей семьи с представителем бывшей династии, как только Нерва и его наследники взошли на престол[204][205].
 Основные исторические работы Тацита, в том числе «История» и «Жизнеописание Юлия Агриколы», были написаны и опубликованы в правление преемников Домициана Нервы (96—98 годы) и Траяна (98—117 годы). К сожалению, часть «Истории» Тацита, рассказывающая о правлении династии Флавиев, практически полностью утрачена. Его впечатления о Домициане складываются из кратких упоминаний в первых пяти книгах и короткой, но крайне негативной характеристики в «Жизнеописании Юлия Агриколы», в которой он сурово критикует военную деятельность Домициана[206]. Тем не менее, Тацит признаёт то, что основная часть его карьеры прошла при содействии Флавиев[207].
Основные исторические работы Тацита, в том числе «История» и «Жизнеописание Юлия Агриколы», были написаны и опубликованы в правление преемников Домициана Нервы (96—98 годы) и Траяна (98—117 годы). К сожалению, часть «Истории» Тацита, рассказывающая о правлении династии Флавиев, практически полностью утрачена. Его впечатления о Домициане складываются из кратких упоминаний в первых пяти книгах и короткой, но крайне негативной характеристики в «Жизнеописании Юлия Агриколы», в которой он сурово критикует военную деятельность Домициана[206]. Тем не менее, Тацит признаёт то, что основная часть его карьеры прошла при содействии Флавиев[207].
Другими влиятельными авторами II века являются Ювенал и Плиний Младший, последний из которых был другом Тацита и в 100 году произнёс перед римским сенатом свой знаменитый «Панегирик Траяну», где ясно противопоставляет «наилучшего принцепса» Траяна «наихудшему» Домициану, не называя последнего даже по имени[206]. В некоторых письмах Плиния есть отзывы современников Домициана о нём:
- Меттий Модест (наместник Ливии), отправленный в ссылку при Домициане, в одном из писем характеризует его так: «царёк, негоднейший из всех двуногих»[208].
- Квинт Коррелий Руф (наместник Верхней Германии) именует Домициана «грабителем», имея в виду, что Домициан практиковал конфискацию имущества граждан, подвергшихся его репрессиям. «Как ты думаешь, почему я так долго терплю такую муку? Да чтобы хоть на один день пережить этого грабителя»[209].
Ювенал жестоко высмеивал двор Домициана в своих «Сатирах», изображая императора и его окружение взяточниками, описывая насилия и несправедливости. Он, в частности, вспоминает: «…когда последний Флавий терзал уже полумёртвый мир, и Рим пресмыкался перед лысым Нероном»[210][206][211]. В трудах христианских историков, таких как Евсевий Кесарийский и Иероним Стридонский, Домициан предстаёт как гонитель церкви[212].
Современная наука
Враждебное отношение к Домициану было широко распространено вплоть до начала XX века, когда новые открытия в области археологии и нумизматики оживили интерес к его правлению и потребовали пересмотреть устоявшуюся литературную традицию, установленную Тацитом и Плинием Младшим[212]. В 1930 году Рональд Сайм решил полностью пересмотреть финансовую политику Домициана, итоги которой до того времени считали катастрофичными, начав свою работу со следующего введения:
«Лопата и здравый смысл немало сделали для смягчения влияния Тацита и Плиния и избавления памяти о Домициане от позора и забвения. Но многое ещё предстоит сделать[213]».
В течение XX века была пересмотрена военная, административная и экономическая политика императора. Однако новые исследования были опубликованы лишь в 1990-х годах, спустя почти сто лет после того, как Стефан Гселл выпустил свой «Essai sur le règne de l’empereur Domitien» (1894 год). Наиболее важным из этих трудов был «The Emperor Domitian» Брайана Джонса. В своей монографии Джонс считает, что Домициан был безжалостным, но эффективным самодержцем[214]. В большую часть времени его правления не существовало широко распространённой неудовлетворённости императором или его правлением. Его суровость ощущалась лишь небольшим, хотя и весьма активным меньшинством, которое позже преувеличило его деспотизм в пользу хорошо воспринятой династии Антонинов, последовавшей за Флавиями[214].
Внешняя политика Домициана была реалистичной, отрицающей практику экспансионистских войн и предпочитающей решать проблемы посредством мирных переговоров, в то время как римская военная традиция, выразителем которой в своих произведениях был Тацит, требовала завоеваний[215]. Эффективная экономическая программа Домициана поддерживала римскую валюту на таком уровне, какого она уже никогда больше не достигла. Преследований религиозных меньшинств, таких как евреи и христиане, не существовало в масштабах, описываемых христианскими авторами[216]. Правительство Домициана, тем не менее, имело черты авторитаризма. Как император, он видел себя в качестве нового Августа, просвещённого деспота, предназначенного для руководства Римской империей в новую эпоху Флавиевского возрождения[78].
Религиозная, военная и культурная пропаганда способствовала укреплению культа личности. Домициан обожествил трёх членов своей семьи и построил множество памятников в честь достижений Флавиев. Тщательно продуманные триумфы праздновались, чтобы повысить его авторитет как воина-императора, но многие из них были либо незаслуженными, либо преждевременными[97]. Назначив себя пожизненным цензором, последний Флавий стремился контролировать государственную и общественную мораль[151]. Однако поведение Домициана, который старался казаться выше простых смертных, было ответом на вызов времени, поскольку Римская империя могла сохраниться лишь при полной централизации руководства и железной дисциплине в правящем классе[211].
Домициан стал лично принимать участие в деятельности всех ветвей власти и успешно преследовал коррупцию среди государственных служащих. Мрачная сторона его цензуры вылилась в ограничение свободы слова и во всё более репрессивное отношение к римскому сенату. Он наказывал за клевету изгнанием или смертью, однако из-за своего подозрительного характера всё чаще принимал информацию от доносчиков, чтобы при необходимости предъявить ложные обвинения в измене[217]. В. Н. Парфёнов указывает в своей статье «Pessimus princeps. Принципат Домициана в кривом зеркале античной традиции» (2006 год):
«Последний Флавий видел дальше многих других своих современников: он первым оценил и ограниченность ресурсов империи по сравнению с варварским миром, и ту страшную опасность, которая угрожала ей с севера. Баланс сил буквально на глазах менялся не в пользу Рима. Заслугой Домициана было то, что он верно оценил степень опасности на каждом участке римских границ и сумел выработать оптимальный вариант решения проблемы в каждом случае. Отсюда его отказ от агрессивной политики, времена которой, как он справедливо полагал, уже прошли[177]».
Хотя современные императору историки поносили его после смерти, его администрация заложила основу для мирного принципата II века. Его преемники Нерва и Траян были менее строгими, хотя в действительности их политика мало чем отличалась от политики Домициана. Теодор Моммзен назвал правление Домициана мрачным, но интеллектуальным деспотизмом[218].
Домициан в искусстве
Художественная литература
- Дэвид Корсон. «Домиция и Домициан»
- Донна Гиллеспи. «Носитель света»
- Филипп Мэссинджер. «Римский актёр»
- Кейт Куинн. «Хозяйка Рима»
- Марк Меллон. «Римский ад»
- Брюс Макбэйн. «Римские игры: Мистерии Плиния Секунда»
- Альберт Белл. «Кровь Цезаря»
- Лион Фейхтвангер. «Лже-Нерон», «Иудейская война», «Сыновья», «Настанет день»
- Леонид Зорин. Пьеса «Римская комедия (Дион)».
Живопись
- Лоуренс Альма-Тадема. «Триумф Тита»
Кинематограф
- Революция преторианцев (1964 год). Итальянский фильм. В роли Домициана — Пьеро Лулли[219].
- Даки (1967 год). Румынский фильм. В роли Домициана — Йорги Ковач[220].
- Эпоха вероломства (1993 год). Английский фильм. В роли Домициана — Джейми Гловер[221].
- Святой Иоанн — Апокалипсис (2003 год). Английский фильм. В роли Домициана — Брюс Пэйн[222].
Театр
- Римская комедия (Дион). Постановка театра им. Моссовета по пьесе Леонида Зорина. В роли Домициана — Виктор Сухоруков.
Напишите отзыв о статье "Домициан"
Примечания
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Грант, 1998.
- ↑ Roman Imperial Coinage. Domitianus. II. 127.
- ↑ 1 2 3 4 Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Домициан. 1.
- ↑ 1 2 Jones, 1992, p. 1.
- ↑ Townend, 1961, p. 62.
- ↑ 1 2 Jones, 1992, p. 3.
- ↑ Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Веспасиан. 1.
- ↑ Jones, 1992, p. 2.
- ↑ Jones, 1992, p. 8.
- ↑ Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Домициан. 4.
- ↑ 1 2 Jones, 1992, p. 7.
- ↑ Jones, 1992, p. 9.
- ↑ Jones, 1992, p. 9—11.
- ↑ 1 2 Jones, 1992, p. 11.
- ↑ Waters, 1964, pp. 52—53.
- ↑ 1 2 3 Jones, 1992, p. 13.
- ↑ Murison, 2003, p. 149.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Donahue, 1997.
- ↑ Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Домициан. 9.
- ↑ Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Домициан. 12. 3.
- ↑ Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Домициан. 20.
- ↑ Jones, 1992, p. 12.
- ↑ Тацит. История. IV. 86.
- ↑ Псевдо-Аврелий Виктор. Извлечения о жизни и нравах римских императоров. XI. 5.
- ↑ Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Домициан. 19.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Jones, 1992, p. 16.
- ↑ Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Домициан. 18.
- ↑ Morgan, 1997, p. 141.
- ↑ 1 2 3 4 5 Jones, 1992, p. 198.
- ↑ Morgan, 1997, p. 209.
- ↑ 1 2 Waters, 1964, p. 54.
- ↑ Sullivan, 1953, p. 69.
- ↑ Wellesley, 2000, p. 44.
- ↑ Иосиф Флавий. Иудейская война. III. 4.
- ↑ Wellesley, 2000, p. 45.
- ↑ 1 2 Sullivan, 1953, p. 68.
- ↑ Wellesley, 2000, p. 123.
- ↑ Тацит. История. III. 34.
- ↑ Wellesley, 2000, p. 166.
- ↑ Wellesley, 2000, p. 189.
- ↑ Тацит. История. III. 68.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Jones, 1992, p. 14.
- ↑ Тацит. История. III. 69.
- ↑ Тацит. История. III. 74.
- ↑ Wellesley, 2000, p. 213.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Jones, 1992, p. 15.
- ↑ Тацит. История. IV. 40.
- ↑ Тацит. История. IV. 11.
- ↑ Тацит. История. IV. 68.
- ↑ 1 2 Jones, 1992, p. 17.
- ↑ 1 2 3 Jones, 1992, p. 33.
- ↑ 1 2 3 4 Jones, 1992, p. 34.
- ↑ Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Домициан. 3.
- ↑ 1 2 Jones, 1992, p. 36.
- ↑ Jones, 1992, p. 161—162.
- ↑ Jones, 1992, p. 39.
- ↑ Varner, 1995, p. 200.
- ↑ Jones, 1992, pp. 34—35.
- ↑ 1 2 Jones, 1992, p. 37.
- ↑ 1 2 Jones, 1992, p. 35.
- ↑ 1 2 Иосиф Флавий. Иудейская война. VI. 9. 3.
- ↑ Иосиф Флавий. Иудейская война. VII. 5. 3.
- ↑ 1 2 Иосиф Флавий. Иудейская война. VII. 5. 5.
- ↑ 1 2 Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Домициан. 2.
- ↑ 1 2 3 Jones, 1992, p. 93.
- ↑ 1 2 3 4 Jones, 1992, p. 18.
- ↑ 1 2 3 Jones, 1992, p. 19.
- ↑ Crook, John A. Titus and Berenice. — 1951. — Вып. The American Journal of Philology. — № 72 (2). — С. 162—175.
- ↑ 1 2 3 Jones, 1992, p. 163.
- ↑ 1 2 3 4 Jones, 1992, p. 20.
- ↑ Дион Кассий. Римская история. LXVI. 22.
- ↑ Jones, 1992, p. 80.
- ↑ Филострат. Жизнь Аполлония Тианского. VI. 32.
- ↑ Аврелий Виктор. О цезарях. XI. 1.
- ↑ 1 2 3 Дион Кассий. Римская история. LXVI. 26.
- ↑ 1 2 3 Jones, 1992, p. 22.
- ↑ 1 2 3 Jones, 1992, p. 99.
- ↑ 1 2 Jones, 1992, p. 72.
- ↑ 1 2 3 4 5 Jones, 1992, p. 107.
- ↑ Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Домициан. 8.
- ↑ 1 2 Jones, 1992, p. 109.
- ↑ Canduci, 2010, p. 34.
- ↑ Jones, 1992, p. 164.
- ↑ Jones, 1992, p. 178—179.
- ↑ 1 2 Jones, 1992, p. 150.
- ↑ Jones, 1992, p. 26—28.
- ↑ 1 2 Jones, 1992, p. 73.
- ↑ 1 2 [www.tulane.edu/~august/handouts/601cprin.htm Tulane University. Roman Currency of the Principate] (англ.). Проверено 5 ноября 2012. [www.webcitation.org/6Bz2nKFe7 Архивировано из первоисточника 7 ноября 2012].
- ↑ 1 2 3 Jones, 1992, p. 75.
- ↑ 1 2 3 Jones, 1992, p. 79.
- ↑ Jones, 1992, pp. 84—88.
- ↑ Jones, 1992, pp. 88—93.
- ↑ Jones, 1992, p. 84.
- ↑ 1 2 3 Jones, 1992, p. 74.
- ↑ Jones, 1992, p. 103.
- ↑ 1 2 Jones, 1992, p. 105.
- ↑ 1 2 3 4 Jones, 1992, p. 127.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Jones, 1992, p. 131.
- ↑ 1 2 3 Jones, 1992, p. 130.
- ↑ 1 2 Jona Lendering. [www.livius.org/le-lh/legio/xii_fulminata.html Legio XII Fulminata] (англ.). 2002. [www.webcitation.org/6C603L2NJ Архивировано из первоисточника 11 ноября 2012].
- ↑ 1 2 3 Тацит. Жизнеописание Юлия Агриколы. 39.
- ↑ Дион Кассий. Римская история. LVII. 7. 1.
- ↑ Syme, 1930, p. 64.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Jones, 1992, p. 144.
- ↑ 1 2 3 4 Парфёнов, 2010, p. 240.
- ↑ 1 2 Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Домициан. 6.
- ↑ Парфёнов, 2010, p. 241.
- ↑ Jones, 1992, pp. 128—129.
- ↑ Фронтин. Военные хитрости. I. 8.
- ↑ Парфёнов, 2010, p. 241 (примечание 4).
- ↑ Jones, 1992, p. 129.
- ↑ Дион Кассий. Римская история. LVII. 7. 4.
- ↑ Парфёнов, 2010, p. 244.
- ↑ 1 2 Парфёнов, 2010, p. 245.
- ↑ 1 2 3 Тацит. Жизнеописание Юлия Агриколы. 24.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Jones, 1992, p. 132.
- ↑ Reed, Nicholas. The Fifth Year of Agricola's Campaigns. — 1971. — Вып. Britannia. — № 2. — С. 143—148.
- ↑ Тацит. Жизнеописание Юлия Агриколы. 37.
- ↑ Тацит. Жизнеописание Юлия Агриколы. 40.
- ↑ 1 2 3 4 5 Jones, 1992, p. 138.
- ↑ 1 2 3 Jones, 1992, p. 139.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jones, 1992, p. 141.
- ↑ 1 2 3 4 Парфёнов (2), 2006, p. 219.
- ↑ Jones, 1992, pp. 141—142.
- ↑ 1 2 3 4 5 Jones, 1992, p. 142.
- ↑ Тацит. Анналы. XI. 11.
- ↑ Jones, 1992, p. 143.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Парфёнов (2), 2006, p. 222.
- ↑ Дион Кассий. Римская история. LXVII. 7. 3—4.
- ↑ Bengtson, H. Die Flavier. Geschichte eines römischen Kaiserhauses. — München, 1979. — 206 p.
- ↑ Дион Кассий. Римская история. LXVII. 7. 1—2.
- ↑ 1 2 Jones, 1992, p. 151.
- ↑ 1 2 3 4 5 Jones, 1992, p. 152.
- ↑ 1 2 Jones, 1992, p. 153.
- ↑ Corpus Inscriptionum Latinarum [db.edcs.eu/epigr/epi_einzel_de.php?p_belegstelle=CIL+16%2C+00046&r_sortierung=Belegstelle 16, 46]
- ↑ Jones, 1992, p. 154.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Jones, 1992, p. 155.
- ↑ Клавдий Птолемей. География. I. 8. 4.
- ↑ 1 2 3 4 Дион Кассий. Римская история. LXVII. 4. 6.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jones, 1992, p. 140.
- ↑ 1 2 3 4 5 Jones, 1992, p. 156.
- ↑ 1 2 3 4 Jones, 1992, p. 157.
- ↑ Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Нерон. 57.
- ↑ Jones, 1992, p. 159.
- ↑ 1 2 Jones, 1992, p. 88.
- ↑ 1 2 3 4 5 Jones, 1992, p. 100.
- ↑ 1 2 Jones, 1992, p. 108.
- ↑ Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Домициан. 13. 2.
- ↑ Дион Кассий. Римская история. LVII. 4. 7.
- ↑ 1 2 Jones, 1992, p. 87.
- ↑ 1 2 3 4 Jones, 1992, p. 106.
- ↑ Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Домициан. 8. 3.
- ↑ 1 2 Grainger, 2003, p. 54.
- ↑ Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Домициан. 13.
- ↑ Jones, 1992, p. 101.
- ↑ 1 2 Jones, 1992, p. 102.
- ↑ Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Домициан. 8. 4.
- ↑ Дион Кассий. Римская история. LXVII. 4.
- ↑ 1 2 Dietmar, Kienast. Diva Domitilla. — Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 1989. — Вып. 76. — С. 141—147.
- ↑ 1 2 Дион Кассий. Римская история. LXVII. 13.
- ↑ 1 2 Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Домициан. 10.
- ↑ Евсевий Кесарийский. Церковная история. III. 20. 8.
- ↑ Brown, Raymond E. An Introduction to the New Testament. — New York: Doubleday, 1997. — С. 805—809.
- ↑ 1 2 3 4 Jones, 1992, p. 146.
- ↑ 1 2 Jones, 1992, p. 149.
- ↑ 1 2 Парфёнов, 2008, p. 334.
- ↑ Jones, 1992, p. 145.
- ↑ Jones, 1992, pp. 148—149.
- ↑ Grainger, 2003, p. 30.
- ↑ Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Домициан. 7. 3.
- ↑ Waters, K. H. The Second Dynasty of Rome. — Phoenix: Classical Association of Canada, 1963. — Вып. 17 (3). — С. 198—218.
- ↑ 1 2 3 Jones, 1992, p. 161.
- ↑ 1 2 3 4 Jones, 1992, p. 169.
- ↑ 1 2 Jones, 1992, p. 160.
- ↑ Плиний Младший. Панегирик императору Траяну. 58.
- ↑ Тацит. Жизнеописание Юлия Агриколы. 45.
- ↑ 1 2 Парфёнов, 2006, p. 216.
- ↑ Jones, 1992, pp. 182—188 (полный список жертв).
- ↑ Jones, 1992, p. 187.
- ↑ Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Домициан. 21.
- ↑ 1 2 Jones, 1992, p. 192.
- ↑ Jones, 1992, p. 193.
- ↑ Grainger, 2003, p. 16.
- ↑ 1 2 Grainger, 2003, p. 19.
- ↑ Grainger, 2003, p. 5.
- ↑ 1 2 Grainger, 2003, pp. 1—3.
- ↑ Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Домициан. 17. 1—2.
- ↑ 1 2 Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Домициан. 17. 2.
- ↑ 1 2 Murison, 2003, p. 153.
- ↑ Murison, 2003, p. 151.
- ↑ Grainger, 2003, pp. 4—27.
- ↑ 1 2 Jones, 1992, p. 194.
- ↑ Дион Кассий. Римская история. LXVII. 15.
- ↑ 1 2 Jones, 1992, p. 196.
- ↑ 1 2 Grainger, 2003, p. 49.
- ↑ Last, Hugh. [www.jstor.org/pss/298163 On the Flavian Reliefs from the Palazzo della Cancelleria]. — The Journal of Roman Studies (Society for the Promotion of Roman Studies), 1948. — Вып. 38 (1—2). — С. 8—14.
- ↑ Grainger, 2003, pp. 32—33.
- ↑ Grainger, 2003, p. 40.
- ↑ 1 2 Grainger, 2003, pp. 94—95.
- ↑ Syme, Ronald. Guard Prefects of Trajan and Hadrian. — The Journal of Roman Studies (Society for the Promotion of Roman Studies), 1980. — Вып. 70 (1—2). — С. 64—80.
- ↑ Waters, 1964, p. 51.
- ↑ Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Домициан. 22.
- ↑ Levick, 2002, p. 211.
- ↑ 1 2 Jones, 1992, p. 58.
- ↑ Dorey, T. A. Agricola and Domitian. — Greece & Rome, 1960. — Вып. 7 (1). — С. 66—71.
- ↑ 1 2 3 Парфёнов, 2006, p. 212.
- ↑ Тацит. История. I. 1.
- ↑ Плиний Младший. Письма. I. 5.
- ↑ Плиний Младший. Письма. I. 12.
- ↑ Ювенал. Сатиры. I. 4. 37—-38.
- ↑ 1 2 Парфёнов, 2006, p. 217.
- ↑ 1 2 Парфёнов, 2006, pp. 212—213.
- ↑ Syme, 1930, p. 55.
- ↑ 1 2 Gowing, Alain M. [bmcr.brynmawr.edu/1992/03.06.10.html Review: The Emperor Domitian] // Bryn Mawr Classical Review. — University of Washington, 1992.
- ↑ Парфёнов, 2006, pp. 216—217.
- ↑ Jones, 1992, pp. 114—119.
- ↑ Jones, 1992, p. 180.
- ↑ Syme, 1930, p. 67.
- ↑ «Революция преторианцев» (англ.) на сайте Internet Movie Database
- ↑ «Даки» (англ.) на сайте Internet Movie Database
- ↑ «Эпоха вероломства» (англ.) на сайте Internet Movie Database
- ↑ «Святой Иоанн — Апокалипсис» (англ.) на сайте Internet Movie Database
Источники и литература
Источники
- Аврелий Виктор. Тит Флавий Домициан // [www.ancientrome.ru/antlitr/aur-vict/caesar-f.htm О цезарях].
- Псевдо-Аврелий Виктор. Тит Флавий Домициан // [www.ancientrome.ru/antlitr/aur-vict/epitoma-f.htm Извлечения о жизни и нравах римских императоров].
- Дион Кассий. Эпитома книги LXVIII. // [penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Cassius_Dio/67*.html Римская история].
- Светоний. Домициан. // [ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1354717625 Жизнь двенадцати цезарей].
- Тацит. Книги III—IV. // [ancientrome.ru/antlitr/tacit/index.htm История].
- Тацит. [ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1346763637 Жизнеописание Юлия Агриколы].
Литература
- Syme, Ronald. The Imperial Finances under Domitian, Nerva and Trajan. — 1930. — Вып. The Journal of Roman Studies. — № 20. — С. 55—70.
- Sullivan, Philip B. A Note on the Flavian Accession. — 1953. — Вып. The Classical Journal (The Classical Association of the Middle West and South, Inc.). — № 49 (2). — С. 67—70.
- Wellesley, Kenneth. Three Historical Puzzles in Histories 3. — 1956. — Вып. The Classical Quarterly (Cambridge University Press). — № 6 (3/4). — С. 207—214.
- Townend, Gavin. Some Flavian Connections. — 1961. — Вып. The Journal of Roman Studies (Society for the Promotion of Roman Studies). — № 51. — С. 54—62.
- Waters, K. H. The Character of Domitian. — 1964. — Вып. Phoenix (Classical Association of Canada). — № 18 (1). — С. 49—77.
- Jones, Brian W. The Emperor Domitian. — London: Routledge, 1992.
- Morgan, Llewelyn. Achilleae Comae: Hair and Heroism According to Domitian. — 1997. — Вып. The Classical Quarterly, New Series (Great Britain). — № 47 (1). — С. 209–214.
- Donahue, John. [www.roman-emperors.org/domitian.htm Titus Flavius Domitianus (A.D. 81—96)] (англ.). An Online Encyclopedia of Roman Emperors. 1997. [www.webcitation.org/6BSjQR0ju Архивировано из первоисточника 16 октября 2012].
- Грант, М. [ancientrome.ru/imp/domit1.htm Римские императоры. Домициан]. — М.: ТЕРРА — Книжный клуб, 1998.
- Wellesley, Kenneth. The Year of the Four Emperors. Roman Imperial Biographies. — London: Routledge, 2000.
- Levick, Barbara. Corbulo's Daughter. — 2002. — Вып. Greece & Rome. — № 49 (2). — С. 199—211.
- Murison, Charles Leslie. M. Cocceius Nerva and the Flavians. — 2003. — Вып. Transactions of the American Philological Association (University of Western Ontario). — № 133 (1). — С. 147–157.
- Grainger, John D. Nerva and the Roman Succession Crisis of AD 96—99. — London: Routledge, 2003.
- Парфёнов В. Н. [elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/840 Pessimus princeps. Принципат Домициана в кривом зеркале античной традиции] // Античная история и классическая археология: сб. науч. тр. — М., 2006. — С. 212—221.
- Парфёнов В. Н. [ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1352999102#n000 Домициан и Децебал: нереализованный вариант развития римско-дакийских отношений]. — Саратов, 2006. — Т. 12, вып. Античный мир и археология. — С. 215—227.
- Парфёнов В. Н. [elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/1453 Домициан и его «генералитет»] // История: мир прошлого в современном освещении. Сборник научных статей к 75-летию со дня рождения профессора Э. Д. Фролова. — СПб, 2008. — С. 327—336.
- Canduci, Alexander. Triumph & Tragedy: The Rise and Fall of Rome's Immortal Emperors. — Sydney: Pier 9, 2010.
- Парфёнов В. Н. [elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/1452 Рим и Германия при Домициане. Проблемы и поиск их решения] // Восток, Европа, Америка в древности: сб. науч. тр. XVI Сергеевских чтений. — М., 2010. — С. 238—247.
Ссылки
- [wildwinds.com/coins/ric/domitian/i.html Монеты Домициана] (англ.). Проверено 6 сентября 2012.
| ||||||
| ||||||
| Эта статья входит в число избранных статей русскоязычного раздела Википедии. |
| Статья содержит короткие («гарвардские») ссылки на публикации, не указанные или неправильно описанные в библиографическом разделе. Список неработающих ссылок: Donahue, 1997, Varner, 1995 Пожалуйста, исправьте ссылки согласно инструкции к шаблону {{sfn}} и дополните библиографический раздел корректными описаниями цитируемых публикаций, следуя руководствам ВП:Сноски и ВП:Ссылки на источники.
|
Отрывок, характеризующий Домициан
– Одним духом, иначе проиграно, – кричал четвертый.– Яков, давай бутылку, Яков! – кричал сам хозяин, высокий красавец, стоявший посреди толпы в одной тонкой рубашке, раскрытой на средине груди. – Стойте, господа. Вот он Петруша, милый друг, – обратился он к Пьеру.
Другой голос невысокого человека, с ясными голубыми глазами, особенно поражавший среди этих всех пьяных голосов своим трезвым выражением, закричал от окна: «Иди сюда – разойми пари!» Это был Долохов, семеновский офицер, известный игрок и бретёр, живший вместе с Анатолем. Пьер улыбался, весело глядя вокруг себя.
– Ничего не понимаю. В чем дело?
– Стойте, он не пьян. Дай бутылку, – сказал Анатоль и, взяв со стола стакан, подошел к Пьеру.
– Прежде всего пей.
Пьер стал пить стакан за стаканом, исподлобья оглядывая пьяных гостей, которые опять столпились у окна, и прислушиваясь к их говору. Анатоль наливал ему вино и рассказывал, что Долохов держит пари с англичанином Стивенсом, моряком, бывшим тут, в том, что он, Долохов, выпьет бутылку рому, сидя на окне третьего этажа с опущенными наружу ногами.
– Ну, пей же всю! – сказал Анатоль, подавая последний стакан Пьеру, – а то не пущу!
– Нет, не хочу, – сказал Пьер, отталкивая Анатоля, и подошел к окну.
Долохов держал за руку англичанина и ясно, отчетливо выговаривал условия пари, обращаясь преимущественно к Анатолю и Пьеру.
Долохов был человек среднего роста, курчавый и с светлыми, голубыми глазами. Ему было лет двадцать пять. Он не носил усов, как и все пехотные офицеры, и рот его, самая поразительная черта его лица, был весь виден. Линии этого рта были замечательно тонко изогнуты. В средине верхняя губа энергически опускалась на крепкую нижнюю острым клином, и в углах образовывалось постоянно что то вроде двух улыбок, по одной с каждой стороны; и всё вместе, а особенно в соединении с твердым, наглым, умным взглядом, составляло впечатление такое, что нельзя было не заметить этого лица. Долохов был небогатый человек, без всяких связей. И несмотря на то, что Анатоль проживал десятки тысяч, Долохов жил с ним и успел себя поставить так, что Анатоль и все знавшие их уважали Долохова больше, чем Анатоля. Долохов играл во все игры и почти всегда выигрывал. Сколько бы он ни пил, он никогда не терял ясности головы. И Курагин, и Долохов в то время были знаменитостями в мире повес и кутил Петербурга.
Бутылка рому была принесена; раму, не пускавшую сесть на наружный откос окна, выламывали два лакея, видимо торопившиеся и робевшие от советов и криков окружавших господ.
Анатоль с своим победительным видом подошел к окну. Ему хотелось сломать что нибудь. Он оттолкнул лакеев и потянул раму, но рама не сдавалась. Он разбил стекло.
– Ну ка ты, силач, – обратился он к Пьеру.
Пьер взялся за перекладины, потянул и с треском выворотип дубовую раму.
– Всю вон, а то подумают, что я держусь, – сказал Долохов.
– Англичанин хвастает… а?… хорошо?… – говорил Анатоль.
– Хорошо, – сказал Пьер, глядя на Долохова, который, взяв в руки бутылку рома, подходил к окну, из которого виднелся свет неба и сливавшихся на нем утренней и вечерней зари.
Долохов с бутылкой рома в руке вскочил на окно. «Слушать!»
крикнул он, стоя на подоконнике и обращаясь в комнату. Все замолчали.
– Я держу пари (он говорил по французски, чтоб его понял англичанин, и говорил не слишком хорошо на этом языке). Держу пари на пятьдесят империалов, хотите на сто? – прибавил он, обращаясь к англичанину.
– Нет, пятьдесят, – сказал англичанин.
– Хорошо, на пятьдесят империалов, – что я выпью бутылку рома всю, не отнимая ото рта, выпью, сидя за окном, вот на этом месте (он нагнулся и показал покатый выступ стены за окном) и не держась ни за что… Так?…
– Очень хорошо, – сказал англичанин.
Анатоль повернулся к англичанину и, взяв его за пуговицу фрака и сверху глядя на него (англичанин был мал ростом), начал по английски повторять ему условия пари.
– Постой! – закричал Долохов, стуча бутылкой по окну, чтоб обратить на себя внимание. – Постой, Курагин; слушайте. Если кто сделает то же, то я плачу сто империалов. Понимаете?
Англичанин кивнул головой, не давая никак разуметь, намерен ли он или нет принять это новое пари. Анатоль не отпускал англичанина и, несмотря на то что тот, кивая, давал знать что он всё понял, Анатоль переводил ему слова Долохова по английски. Молодой худощавый мальчик, лейб гусар, проигравшийся в этот вечер, взлез на окно, высунулся и посмотрел вниз.
– У!… у!… у!… – проговорил он, глядя за окно на камень тротуара.
– Смирно! – закричал Долохов и сдернул с окна офицера, который, запутавшись шпорами, неловко спрыгнул в комнату.
Поставив бутылку на подоконник, чтобы было удобно достать ее, Долохов осторожно и тихо полез в окно. Спустив ноги и расперевшись обеими руками в края окна, он примерился, уселся, опустил руки, подвинулся направо, налево и достал бутылку. Анатоль принес две свечки и поставил их на подоконник, хотя было уже совсем светло. Спина Долохова в белой рубашке и курчавая голова его были освещены с обеих сторон. Все столпились у окна. Англичанин стоял впереди. Пьер улыбался и ничего не говорил. Один из присутствующих, постарше других, с испуганным и сердитым лицом, вдруг продвинулся вперед и хотел схватить Долохова за рубашку.
– Господа, это глупости; он убьется до смерти, – сказал этот более благоразумный человек.
Анатоль остановил его:
– Не трогай, ты его испугаешь, он убьется. А?… Что тогда?… А?…
Долохов обернулся, поправляясь и опять расперевшись руками.
– Ежели кто ко мне еще будет соваться, – сказал он, редко пропуская слова сквозь стиснутые и тонкие губы, – я того сейчас спущу вот сюда. Ну!…
Сказав «ну»!, он повернулся опять, отпустил руки, взял бутылку и поднес ко рту, закинул назад голову и вскинул кверху свободную руку для перевеса. Один из лакеев, начавший подбирать стекла, остановился в согнутом положении, не спуская глаз с окна и спины Долохова. Анатоль стоял прямо, разинув глаза. Англичанин, выпятив вперед губы, смотрел сбоку. Тот, который останавливал, убежал в угол комнаты и лег на диван лицом к стене. Пьер закрыл лицо, и слабая улыбка, забывшись, осталась на его лице, хоть оно теперь выражало ужас и страх. Все молчали. Пьер отнял от глаз руки: Долохов сидел всё в том же положении, только голова загнулась назад, так что курчавые волосы затылка прикасались к воротнику рубахи, и рука с бутылкой поднималась всё выше и выше, содрогаясь и делая усилие. Бутылка видимо опорожнялась и с тем вместе поднималась, загибая голову. «Что же это так долго?» подумал Пьер. Ему казалось, что прошло больше получаса. Вдруг Долохов сделал движение назад спиной, и рука его нервически задрожала; этого содрогания было достаточно, чтобы сдвинуть всё тело, сидевшее на покатом откосе. Он сдвинулся весь, и еще сильнее задрожали, делая усилие, рука и голова его. Одна рука поднялась, чтобы схватиться за подоконник, но опять опустилась. Пьер опять закрыл глаза и сказал себе, что никогда уж не откроет их. Вдруг он почувствовал, что всё вокруг зашевелилось. Он взглянул: Долохов стоял на подоконнике, лицо его было бледно и весело.
– Пуста!
Он кинул бутылку англичанину, который ловко поймал ее. Долохов спрыгнул с окна. От него сильно пахло ромом.
– Отлично! Молодцом! Вот так пари! Чорт вас возьми совсем! – кричали с разных сторон.
Англичанин, достав кошелек, отсчитывал деньги. Долохов хмурился и молчал. Пьер вскочил на окно.
Господа! Кто хочет со мною пари? Я то же сделаю, – вдруг крикнул он. – И пари не нужно, вот что. Вели дать бутылку. Я сделаю… вели дать.
– Пускай, пускай! – сказал Долохов, улыбаясь.
– Что ты? с ума сошел? Кто тебя пустит? У тебя и на лестнице голова кружится, – заговорили с разных сторон.
– Я выпью, давай бутылку рому! – закричал Пьер, решительным и пьяным жестом ударяя по столу, и полез в окно.
Его схватили за руки; но он был так силен, что далеко оттолкнул того, кто приблизился к нему.
– Нет, его так не уломаешь ни за что, – говорил Анатоль, – постойте, я его обману. Послушай, я с тобой держу пари, но завтра, а теперь мы все едем к***.
– Едем, – закричал Пьер, – едем!… И Мишку с собой берем…
И он ухватил медведя, и, обняв и подняв его, стал кружиться с ним по комнате.
Князь Василий исполнил обещание, данное на вечере у Анны Павловны княгине Друбецкой, просившей его о своем единственном сыне Борисе. О нем было доложено государю, и, не в пример другим, он был переведен в гвардию Семеновского полка прапорщиком. Но адъютантом или состоящим при Кутузове Борис так и не был назначен, несмотря на все хлопоты и происки Анны Михайловны. Вскоре после вечера Анны Павловны Анна Михайловна вернулась в Москву, прямо к своим богатым родственникам Ростовым, у которых она стояла в Москве и у которых с детства воспитывался и годами живал ее обожаемый Боренька, только что произведенный в армейские и тотчас же переведенный в гвардейские прапорщики. Гвардия уже вышла из Петербурга 10 го августа, и сын, оставшийся для обмундирования в Москве, должен был догнать ее по дороге в Радзивилов.
У Ростовых были именинницы Натальи, мать и меньшая дочь. С утра, не переставая, подъезжали и отъезжали цуги, подвозившие поздравителей к большому, всей Москве известному дому графини Ростовой на Поварской. Графиня с красивой старшею дочерью и гостями, не перестававшими сменять один другого, сидели в гостиной.
Графиня была женщина с восточным типом худого лица, лет сорока пяти, видимо изнуренная детьми, которых у ней было двенадцать человек. Медлительность ее движений и говора, происходившая от слабости сил, придавала ей значительный вид, внушавший уважение. Княгиня Анна Михайловна Друбецкая, как домашний человек, сидела тут же, помогая в деле принимания и занимания разговором гостей. Молодежь была в задних комнатах, не находя нужным участвовать в приеме визитов. Граф встречал и провожал гостей, приглашая всех к обеду.
«Очень, очень вам благодарен, ma chere или mon cher [моя дорогая или мой дорогой] (ma сherе или mon cher он говорил всем без исключения, без малейших оттенков как выше, так и ниже его стоявшим людям) за себя и за дорогих именинниц. Смотрите же, приезжайте обедать. Вы меня обидите, mon cher. Душевно прошу вас от всего семейства, ma chere». Эти слова с одинаковым выражением на полном веселом и чисто выбритом лице и с одинаково крепким пожатием руки и повторяемыми короткими поклонами говорил он всем без исключения и изменения. Проводив одного гостя, граф возвращался к тому или той, которые еще были в гостиной; придвинув кресла и с видом человека, любящего и умеющего пожить, молодецки расставив ноги и положив на колена руки, он значительно покачивался, предлагал догадки о погоде, советовался о здоровье, иногда на русском, иногда на очень дурном, но самоуверенном французском языке, и снова с видом усталого, но твердого в исполнении обязанности человека шел провожать, оправляя редкие седые волосы на лысине, и опять звал обедать. Иногда, возвращаясь из передней, он заходил через цветочную и официантскую в большую мраморную залу, где накрывали стол на восемьдесят кувертов, и, глядя на официантов, носивших серебро и фарфор, расставлявших столы и развертывавших камчатные скатерти, подзывал к себе Дмитрия Васильевича, дворянина, занимавшегося всеми его делами, и говорил: «Ну, ну, Митенька, смотри, чтоб всё было хорошо. Так, так, – говорил он, с удовольствием оглядывая огромный раздвинутый стол. – Главное – сервировка. То то…» И он уходил, самодовольно вздыхая, опять в гостиную.
– Марья Львовна Карагина с дочерью! – басом доложил огромный графинин выездной лакей, входя в двери гостиной.
Графиня подумала и понюхала из золотой табакерки с портретом мужа.
– Замучили меня эти визиты, – сказала она. – Ну, уж ее последнюю приму. Чопорна очень. Проси, – сказала она лакею грустным голосом, как будто говорила: «ну, уж добивайте!»
Высокая, полная, с гордым видом дама с круглолицей улыбающейся дочкой, шумя платьями, вошли в гостиную.
«Chere comtesse, il y a si longtemps… elle a ete alitee la pauvre enfant… au bal des Razoumowsky… et la comtesse Apraksine… j'ai ete si heureuse…» [Дорогая графиня, как давно… она должна была пролежать в постеле, бедное дитя… на балу у Разумовских… и графиня Апраксина… была так счастлива…] послышались оживленные женские голоса, перебивая один другой и сливаясь с шумом платьев и передвиганием стульев. Начался тот разговор, который затевают ровно настолько, чтобы при первой паузе встать, зашуметь платьями, проговорить: «Je suis bien charmee; la sante de maman… et la comtesse Apraksine» [Я в восхищении; здоровье мамы… и графиня Апраксина] и, опять зашумев платьями, пройти в переднюю, надеть шубу или плащ и уехать. Разговор зашел о главной городской новости того времени – о болезни известного богача и красавца Екатерининского времени старого графа Безухого и о его незаконном сыне Пьере, который так неприлично вел себя на вечере у Анны Павловны Шерер.
– Я очень жалею бедного графа, – проговорила гостья, – здоровье его и так плохо, а теперь это огорченье от сына, это его убьет!
– Что такое? – спросила графиня, как будто не зная, о чем говорит гостья, хотя она раз пятнадцать уже слышала причину огорчения графа Безухого.
– Вот нынешнее воспитание! Еще за границей, – проговорила гостья, – этот молодой человек предоставлен был самому себе, и теперь в Петербурге, говорят, он такие ужасы наделал, что его с полицией выслали оттуда.
– Скажите! – сказала графиня.
– Он дурно выбирал свои знакомства, – вмешалась княгиня Анна Михайловна. – Сын князя Василия, он и один Долохов, они, говорят, Бог знает что делали. И оба пострадали. Долохов разжалован в солдаты, а сын Безухого выслан в Москву. Анатоля Курагина – того отец как то замял. Но выслали таки из Петербурга.
– Да что, бишь, они сделали? – спросила графиня.
– Это совершенные разбойники, особенно Долохов, – говорила гостья. – Он сын Марьи Ивановны Долоховой, такой почтенной дамы, и что же? Можете себе представить: они втроем достали где то медведя, посадили с собой в карету и повезли к актрисам. Прибежала полиция их унимать. Они поймали квартального и привязали его спина со спиной к медведю и пустили медведя в Мойку; медведь плавает, а квартальный на нем.
– Хороша, ma chere, фигура квартального, – закричал граф, помирая со смеху.
– Ах, ужас какой! Чему тут смеяться, граф?
Но дамы невольно смеялись и сами.
– Насилу спасли этого несчастного, – продолжала гостья. – И это сын графа Кирилла Владимировича Безухова так умно забавляется! – прибавила она. – А говорили, что так хорошо воспитан и умен. Вот всё воспитание заграничное куда довело. Надеюсь, что здесь его никто не примет, несмотря на его богатство. Мне хотели его представить. Я решительно отказалась: у меня дочери.
– Отчего вы говорите, что этот молодой человек так богат? – спросила графиня, нагибаясь от девиц, которые тотчас же сделали вид, что не слушают. – Ведь у него только незаконные дети. Кажется… и Пьер незаконный.
Гостья махнула рукой.
– У него их двадцать незаконных, я думаю.
Княгиня Анна Михайловна вмешалась в разговор, видимо, желая выказать свои связи и свое знание всех светских обстоятельств.
– Вот в чем дело, – сказала она значительно и тоже полушопотом. – Репутация графа Кирилла Владимировича известна… Детям своим он и счет потерял, но этот Пьер любимый был.
– Как старик был хорош, – сказала графиня, – еще прошлого года! Красивее мужчины я не видывала.
– Теперь очень переменился, – сказала Анна Михайловна. – Так я хотела сказать, – продолжала она, – по жене прямой наследник всего именья князь Василий, но Пьера отец очень любил, занимался его воспитанием и писал государю… так что никто не знает, ежели он умрет (он так плох, что этого ждут каждую минуту, и Lorrain приехал из Петербурга), кому достанется это огромное состояние, Пьеру или князю Василию. Сорок тысяч душ и миллионы. Я это очень хорошо знаю, потому что мне сам князь Василий это говорил. Да и Кирилл Владимирович мне приходится троюродным дядей по матери. Он и крестил Борю, – прибавила она, как будто не приписывая этому обстоятельству никакого значения.
– Князь Василий приехал в Москву вчера. Он едет на ревизию, мне говорили, – сказала гостья.
– Да, но, entre nous, [между нами,] – сказала княгиня, – это предлог, он приехал собственно к графу Кирилле Владимировичу, узнав, что он так плох.
– Однако, ma chere, это славная штука, – сказал граф и, заметив, что старшая гостья его не слушала, обратился уже к барышням. – Хороша фигура была у квартального, я воображаю.
И он, представив, как махал руками квартальный, опять захохотал звучным и басистым смехом, колебавшим всё его полное тело, как смеются люди, всегда хорошо евшие и особенно пившие. – Так, пожалуйста же, обедать к нам, – сказал он.
Наступило молчание. Графиня глядела на гостью, приятно улыбаясь, впрочем, не скрывая того, что не огорчится теперь нисколько, если гостья поднимется и уедет. Дочь гостьи уже оправляла платье, вопросительно глядя на мать, как вдруг из соседней комнаты послышался бег к двери нескольких мужских и женских ног, грохот зацепленного и поваленного стула, и в комнату вбежала тринадцатилетняя девочка, запахнув что то короткою кисейною юбкою, и остановилась по средине комнаты. Очевидно было, она нечаянно, с нерассчитанного бега, заскочила так далеко. В дверях в ту же минуту показались студент с малиновым воротником, гвардейский офицер, пятнадцатилетняя девочка и толстый румяный мальчик в детской курточке.
Граф вскочил и, раскачиваясь, широко расставил руки вокруг бежавшей девочки.
– А, вот она! – смеясь закричал он. – Именинница! Ma chere, именинница!
– Ma chere, il y a un temps pour tout, [Милая, на все есть время,] – сказала графиня, притворяясь строгою. – Ты ее все балуешь, Elie, – прибавила она мужу.
– Bonjour, ma chere, je vous felicite, [Здравствуйте, моя милая, поздравляю вас,] – сказала гостья. – Quelle delicuse enfant! [Какое прелестное дитя!] – прибавила она, обращаясь к матери.
Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими детскими открытыми плечиками, которые, сжимаясь, двигались в своем корсаже от быстрого бега, с своими сбившимися назад черными кудрями, тоненькими оголенными руками и маленькими ножками в кружевных панталончиках и открытых башмачках, была в том милом возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка. Вывернувшись от отца, она подбежала к матери и, не обращая никакого внимания на ее строгое замечание, спрятала свое раскрасневшееся лицо в кружевах материной мантильи и засмеялась. Она смеялась чему то, толкуя отрывисто про куклу, которую вынула из под юбочки.
– Видите?… Кукла… Мими… Видите.
И Наташа не могла больше говорить (ей всё смешно казалось). Она упала на мать и расхохоталась так громко и звонко, что все, даже чопорная гостья, против воли засмеялись.
– Ну, поди, поди с своим уродом! – сказала мать, притворно сердито отталкивая дочь. – Это моя меньшая, – обратилась она к гостье.
Наташа, оторвав на минуту лицо от кружевной косынки матери, взглянула на нее снизу сквозь слезы смеха и опять спрятала лицо.
Гостья, принужденная любоваться семейною сценой, сочла нужным принять в ней какое нибудь участие.
– Скажите, моя милая, – сказала она, обращаясь к Наташе, – как же вам приходится эта Мими? Дочь, верно?
Наташе не понравился тон снисхождения до детского разговора, с которым гостья обратилась к ней. Она ничего не ответила и серьезно посмотрела на гостью.
Между тем всё это молодое поколение: Борис – офицер, сын княгини Анны Михайловны, Николай – студент, старший сын графа, Соня – пятнадцатилетняя племянница графа, и маленький Петруша – меньшой сын, все разместились в гостиной и, видимо, старались удержать в границах приличия оживление и веселость, которыми еще дышала каждая их черта. Видно было, что там, в задних комнатах, откуда они все так стремительно прибежали, у них были разговоры веселее, чем здесь о городских сплетнях, погоде и comtesse Apraksine. [о графине Апраксиной.] Изредка они взглядывали друг на друга и едва удерживались от смеха.
Два молодые человека, студент и офицер, друзья с детства, были одних лет и оба красивы, но не похожи друг на друга. Борис был высокий белокурый юноша с правильными тонкими чертами спокойного и красивого лица; Николай был невысокий курчавый молодой человек с открытым выражением лица. На верхней губе его уже показывались черные волосики, и во всем лице выражались стремительность и восторженность.
Николай покраснел, как только вошел в гостиную. Видно было, что он искал и не находил, что сказать; Борис, напротив, тотчас же нашелся и рассказал спокойно, шутливо, как эту Мими куклу он знал еще молодою девицей с неиспорченным еще носом, как она в пять лет на его памяти состарелась и как у ней по всему черепу треснула голова. Сказав это, он взглянул на Наташу. Наташа отвернулась от него, взглянула на младшего брата, который, зажмурившись, трясся от беззвучного смеха, и, не в силах более удерживаться, прыгнула и побежала из комнаты так скоро, как только могли нести ее быстрые ножки. Борис не рассмеялся.
– Вы, кажется, тоже хотели ехать, maman? Карета нужна? – .сказал он, с улыбкой обращаясь к матери.
– Да, поди, поди, вели приготовить, – сказала она, уливаясь.
Борис вышел тихо в двери и пошел за Наташей, толстый мальчик сердито побежал за ними, как будто досадуя на расстройство, происшедшее в его занятиях.
Из молодежи, не считая старшей дочери графини (которая была четырьмя годами старше сестры и держала себя уже, как большая) и гостьи барышни, в гостиной остались Николай и Соня племянница. Соня была тоненькая, миниатюрненькая брюнетка с мягким, отененным длинными ресницами взглядом, густой черною косой, два раза обвившею ее голову, и желтоватым оттенком кожи на лице и в особенности на обнаженных худощавых, но грациозных мускулистых руках и шее. Плавностью движений, мягкостью и гибкостью маленьких членов и несколько хитрою и сдержанною манерой она напоминала красивого, но еще не сформировавшегося котенка, который будет прелестною кошечкой. Она, видимо, считала приличным выказывать улыбкой участие к общему разговору; но против воли ее глаза из под длинных густых ресниц смотрели на уезжавшего в армию cousin [двоюродного брата] с таким девическим страстным обожанием, что улыбка ее не могла ни на мгновение обмануть никого, и видно было, что кошечка присела только для того, чтоб еще энергичнее прыгнуть и заиграть с своим соusin, как скоро только они так же, как Борис с Наташей, выберутся из этой гостиной.
– Да, ma chere, – сказал старый граф, обращаясь к гостье и указывая на своего Николая. – Вот его друг Борис произведен в офицеры, и он из дружбы не хочет отставать от него; бросает и университет и меня старика: идет в военную службу, ma chere. А уж ему место в архиве было готово, и всё. Вот дружба то? – сказал граф вопросительно.
– Да ведь война, говорят, объявлена, – сказала гостья.
– Давно говорят, – сказал граф. – Опять поговорят, поговорят, да так и оставят. Ma chere, вот дружба то! – повторил он. – Он идет в гусары.
Гостья, не зная, что сказать, покачала головой.
– Совсем не из дружбы, – отвечал Николай, вспыхнув и отговариваясь как будто от постыдного на него наклепа. – Совсем не дружба, а просто чувствую призвание к военной службе.
Он оглянулся на кузину и на гостью барышню: обе смотрели на него с улыбкой одобрения.
– Нынче обедает у нас Шуберт, полковник Павлоградского гусарского полка. Он был в отпуску здесь и берет его с собой. Что делать? – сказал граф, пожимая плечами и говоря шуточно о деле, которое, видимо, стоило ему много горя.
– Я уж вам говорил, папенька, – сказал сын, – что ежели вам не хочется меня отпустить, я останусь. Но я знаю, что я никуда не гожусь, кроме как в военную службу; я не дипломат, не чиновник, не умею скрывать того, что чувствую, – говорил он, всё поглядывая с кокетством красивой молодости на Соню и гостью барышню.
Кошечка, впиваясь в него глазами, казалась каждую секунду готовою заиграть и выказать всю свою кошачью натуру.
– Ну, ну, хорошо! – сказал старый граф, – всё горячится. Всё Бонапарте всем голову вскружил; все думают, как это он из поручиков попал в императоры. Что ж, дай Бог, – прибавил он, не замечая насмешливой улыбки гостьи.
Большие заговорили о Бонапарте. Жюли, дочь Карагиной, обратилась к молодому Ростову:
– Как жаль, что вас не было в четверг у Архаровых. Мне скучно было без вас, – сказала она, нежно улыбаясь ему.
Польщенный молодой человек с кокетливой улыбкой молодости ближе пересел к ней и вступил с улыбающейся Жюли в отдельный разговор, совсем не замечая того, что эта его невольная улыбка ножом ревности резала сердце красневшей и притворно улыбавшейся Сони. – В середине разговора он оглянулся на нее. Соня страстно озлобленно взглянула на него и, едва удерживая на глазах слезы, а на губах притворную улыбку, встала и вышла из комнаты. Всё оживление Николая исчезло. Он выждал первый перерыв разговора и с расстроенным лицом вышел из комнаты отыскивать Соню.
– Как секреты то этой всей молодежи шиты белыми нитками! – сказала Анна Михайловна, указывая на выходящего Николая. – Cousinage dangereux voisinage, [Бедовое дело – двоюродные братцы и сестрицы,] – прибавила она.
– Да, – сказала графиня, после того как луч солнца, проникнувший в гостиную вместе с этим молодым поколением, исчез, и как будто отвечая на вопрос, которого никто ей не делал, но который постоянно занимал ее. – Сколько страданий, сколько беспокойств перенесено за то, чтобы теперь на них радоваться! А и теперь, право, больше страха, чем радости. Всё боишься, всё боишься! Именно тот возраст, в котором так много опасностей и для девочек и для мальчиков.
– Всё от воспитания зависит, – сказала гостья.
– Да, ваша правда, – продолжала графиня. – До сих пор я была, слава Богу, другом своих детей и пользуюсь полным их доверием, – говорила графиня, повторяя заблуждение многих родителей, полагающих, что у детей их нет тайн от них. – Я знаю, что я всегда буду первою confidente [поверенной] моих дочерей, и что Николенька, по своему пылкому характеру, ежели будет шалить (мальчику нельзя без этого), то всё не так, как эти петербургские господа.
– Да, славные, славные ребята, – подтвердил граф, всегда разрешавший запутанные для него вопросы тем, что всё находил славным. – Вот подите, захотел в гусары! Да вот что вы хотите, ma chere!
– Какое милое существо ваша меньшая, – сказала гостья. – Порох!
– Да, порох, – сказал граф. – В меня пошла! И какой голос: хоть и моя дочь, а я правду скажу, певица будет, Саломони другая. Мы взяли итальянца ее учить.
– Не рано ли? Говорят, вредно для голоса учиться в эту пору.
– О, нет, какой рано! – сказал граф. – Как же наши матери выходили в двенадцать тринадцать лет замуж?
– Уж она и теперь влюблена в Бориса! Какова? – сказала графиня, тихо улыбаясь, глядя на мать Бориса, и, видимо отвечая на мысль, всегда ее занимавшую, продолжала. – Ну, вот видите, держи я ее строго, запрещай я ей… Бог знает, что бы они делали потихоньку (графиня разумела: они целовались бы), а теперь я знаю каждое ее слово. Она сама вечером прибежит и всё мне расскажет. Может быть, я балую ее; но, право, это, кажется, лучше. Я старшую держала строго.
– Да, меня совсем иначе воспитывали, – сказала старшая, красивая графиня Вера, улыбаясь.
Но улыбка не украсила лица Веры, как это обыкновенно бывает; напротив, лицо ее стало неестественно и оттого неприятно.
Старшая, Вера, была хороша, была неглупа, училась прекрасно, была хорошо воспитана, голос у нее был приятный, то, что она сказала, было справедливо и уместно; но, странное дело, все, и гостья и графиня, оглянулись на нее, как будто удивились, зачем она это сказала, и почувствовали неловкость.
– Всегда с старшими детьми мудрят, хотят сделать что нибудь необыкновенное, – сказала гостья.
– Что греха таить, ma chere! Графинюшка мудрила с Верой, – сказал граф. – Ну, да что ж! всё таки славная вышла, – прибавил он, одобрительно подмигивая Вере.
Гостьи встали и уехали, обещаясь приехать к обеду.
– Что за манера! Уж сидели, сидели! – сказала графиня, проводя гостей.
Когда Наташа вышла из гостиной и побежала, она добежала только до цветочной. В этой комнате она остановилась, прислушиваясь к говору в гостиной и ожидая выхода Бориса. Она уже начинала приходить в нетерпение и, топнув ножкой, сбиралась было заплакать оттого, что он не сейчас шел, когда заслышались не тихие, не быстрые, приличные шаги молодого человека.
Наташа быстро бросилась между кадок цветов и спряталась.
Борис остановился посереди комнаты, оглянулся, смахнул рукой соринки с рукава мундира и подошел к зеркалу, рассматривая свое красивое лицо. Наташа, притихнув, выглядывала из своей засады, ожидая, что он будет делать. Он постоял несколько времени перед зеркалом, улыбнулся и пошел к выходной двери. Наташа хотела его окликнуть, но потом раздумала. «Пускай ищет», сказала она себе. Только что Борис вышел, как из другой двери вышла раскрасневшаяся Соня, сквозь слезы что то злобно шепчущая. Наташа удержалась от своего первого движения выбежать к ней и осталась в своей засаде, как под шапкой невидимкой, высматривая, что делалось на свете. Она испытывала особое новое наслаждение. Соня шептала что то и оглядывалась на дверь гостиной. Из двери вышел Николай.
– Соня! Что с тобой? Можно ли это? – сказал Николай, подбегая к ней.
– Ничего, ничего, оставьте меня! – Соня зарыдала.
– Нет, я знаю что.
– Ну знаете, и прекрасно, и подите к ней.
– Соооня! Одно слово! Можно ли так мучить меня и себя из за фантазии? – говорил Николай, взяв ее за руку.
Соня не вырывала у него руки и перестала плакать.
Наташа, не шевелясь и не дыша, блестящими главами смотрела из своей засады. «Что теперь будет»? думала она.
– Соня! Мне весь мир не нужен! Ты одна для меня всё, – говорил Николай. – Я докажу тебе.
– Я не люблю, когда ты так говоришь.
– Ну не буду, ну прости, Соня! – Он притянул ее к себе и поцеловал.
«Ах, как хорошо!» подумала Наташа, и когда Соня с Николаем вышли из комнаты, она пошла за ними и вызвала к себе Бориса.
– Борис, подите сюда, – сказала она с значительным и хитрым видом. – Мне нужно сказать вам одну вещь. Сюда, сюда, – сказала она и привела его в цветочную на то место между кадок, где она была спрятана. Борис, улыбаясь, шел за нею.
– Какая же это одна вещь ? – спросил он.
Она смутилась, оглянулась вокруг себя и, увидев брошенную на кадке свою куклу, взяла ее в руки.
– Поцелуйте куклу, – сказала она.
Борис внимательным, ласковым взглядом смотрел в ее оживленное лицо и ничего не отвечал.
– Не хотите? Ну, так подите сюда, – сказала она и глубже ушла в цветы и бросила куклу. – Ближе, ближе! – шептала она. Она поймала руками офицера за обшлага, и в покрасневшем лице ее видны были торжественность и страх.
– А меня хотите поцеловать? – прошептала она чуть слышно, исподлобья глядя на него, улыбаясь и чуть не плача от волненья.
Борис покраснел.
– Какая вы смешная! – проговорил он, нагибаясь к ней, еще более краснея, но ничего не предпринимая и выжидая.
Она вдруг вскочила на кадку, так что стала выше его, обняла его обеими руками, так что тонкие голые ручки согнулись выше его шеи и, откинув движением головы волосы назад, поцеловала его в самые губы.
Она проскользнула между горшками на другую сторону цветов и, опустив голову, остановилась.
– Наташа, – сказал он, – вы знаете, что я люблю вас, но…
– Вы влюблены в меня? – перебила его Наташа.
– Да, влюблен, но, пожалуйста, не будем делать того, что сейчас… Еще четыре года… Тогда я буду просить вашей руки.
Наташа подумала.
– Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать… – сказала она, считая по тоненьким пальчикам. – Хорошо! Так кончено?
И улыбка радости и успокоения осветила ее оживленное лицо.
– Кончено! – сказал Борис.
– Навсегда? – сказала девочка. – До самой смерти?
И, взяв его под руку, она с счастливым лицом тихо пошла с ним рядом в диванную.
Графиня так устала от визитов, что не велела принимать больше никого, и швейцару приказано было только звать непременно кушать всех, кто будет еще приезжать с поздравлениями. Графине хотелось с глазу на глаз поговорить с другом своего детства, княгиней Анной Михайловной, которую она не видала хорошенько с ее приезда из Петербурга. Анна Михайловна, с своим исплаканным и приятным лицом, подвинулась ближе к креслу графини.
– С тобой я буду совершенно откровенна, – сказала Анна Михайловна. – Уж мало нас осталось, старых друзей! От этого я так и дорожу твоею дружбой.
Анна Михайловна посмотрела на Веру и остановилась. Графиня пожала руку своему другу.
– Вера, – сказала графиня, обращаясь к старшей дочери, очевидно, нелюбимой. – Как у вас ни на что понятия нет? Разве ты не чувствуешь, что ты здесь лишняя? Поди к сестрам, или…
Красивая Вера презрительно улыбнулась, видимо не чувствуя ни малейшего оскорбления.
– Ежели бы вы мне сказали давно, маменька, я бы тотчас ушла, – сказала она, и пошла в свою комнату.
Но, проходя мимо диванной, она заметила, что в ней у двух окошек симметрично сидели две пары. Она остановилась и презрительно улыбнулась. Соня сидела близко подле Николая, который переписывал ей стихи, в первый раз сочиненные им. Борис с Наташей сидели у другого окна и замолчали, когда вошла Вера. Соня и Наташа с виноватыми и счастливыми лицами взглянули на Веру.
Весело и трогательно было смотреть на этих влюбленных девочек, но вид их, очевидно, не возбуждал в Вере приятного чувства.
– Сколько раз я вас просила, – сказала она, – не брать моих вещей, у вас есть своя комната.
Она взяла от Николая чернильницу.
– Сейчас, сейчас, – сказал он, мокая перо.
– Вы всё умеете делать не во время, – сказала Вера. – То прибежали в гостиную, так что всем совестно сделалось за вас.
Несмотря на то, или именно потому, что сказанное ею было совершенно справедливо, никто ей не отвечал, и все четверо только переглядывались между собой. Она медлила в комнате с чернильницей в руке.
– И какие могут быть в ваши года секреты между Наташей и Борисом и между вами, – всё одни глупости!
– Ну, что тебе за дело, Вера? – тихеньким голоском, заступнически проговорила Наташа.
Она, видимо, была ко всем еще более, чем всегда, в этот день добра и ласкова.
– Очень глупо, – сказала Вера, – мне совестно за вас. Что за секреты?…
– У каждого свои секреты. Мы тебя с Бергом не трогаем, – сказала Наташа разгорячаясь.
– Я думаю, не трогаете, – сказала Вера, – потому что в моих поступках никогда ничего не может быть дурного. А вот я маменьке скажу, как ты с Борисом обходишься.
– Наталья Ильинишна очень хорошо со мной обходится, – сказал Борис. – Я не могу жаловаться, – сказал он.
– Оставьте, Борис, вы такой дипломат (слово дипломат было в большом ходу у детей в том особом значении, какое они придавали этому слову); даже скучно, – сказала Наташа оскорбленным, дрожащим голосом. – За что она ко мне пристает? Ты этого никогда не поймешь, – сказала она, обращаясь к Вере, – потому что ты никогда никого не любила; у тебя сердца нет, ты только madame de Genlis [мадам Жанлис] (это прозвище, считавшееся очень обидным, было дано Вере Николаем), и твое первое удовольствие – делать неприятности другим. Ты кокетничай с Бергом, сколько хочешь, – проговорила она скоро.
– Да уж я верно не стану перед гостями бегать за молодым человеком…
– Ну, добилась своего, – вмешался Николай, – наговорила всем неприятностей, расстроила всех. Пойдемте в детскую.
Все четверо, как спугнутая стая птиц, поднялись и пошли из комнаты.
– Мне наговорили неприятностей, а я никому ничего, – сказала Вера.
– Madame de Genlis! Madame de Genlis! – проговорили смеющиеся голоса из за двери.
Красивая Вера, производившая на всех такое раздражающее, неприятное действие, улыбнулась и видимо не затронутая тем, что ей было сказано, подошла к зеркалу и оправила шарф и прическу. Глядя на свое красивое лицо, она стала, повидимому, еще холоднее и спокойнее.
В гостиной продолжался разговор.
– Ah! chere, – говорила графиня, – и в моей жизни tout n'est pas rose. Разве я не вижу, что du train, que nous allons, [не всё розы. – при нашем образе жизни,] нашего состояния нам не надолго! И всё это клуб, и его доброта. В деревне мы живем, разве мы отдыхаем? Театры, охоты и Бог знает что. Да что обо мне говорить! Ну, как же ты это всё устроила? Я часто на тебя удивляюсь, Annette, как это ты, в свои годы, скачешь в повозке одна, в Москву, в Петербург, ко всем министрам, ко всей знати, со всеми умеешь обойтись, удивляюсь! Ну, как же это устроилось? Вот я ничего этого не умею.
– Ах, душа моя! – отвечала княгиня Анна Михайловна. – Не дай Бог тебе узнать, как тяжело остаться вдовой без подпоры и с сыном, которого любишь до обожания. Всему научишься, – продолжала она с некоторою гордостью. – Процесс мой меня научил. Ежели мне нужно видеть кого нибудь из этих тузов, я пишу записку: «princesse une telle [княгиня такая то] желает видеть такого то» и еду сама на извозчике хоть два, хоть три раза, хоть четыре, до тех пор, пока не добьюсь того, что мне надо. Мне всё равно, что бы обо мне ни думали.
– Ну, как же, кого ты просила о Бореньке? – спросила графиня. – Ведь вот твой уже офицер гвардии, а Николушка идет юнкером. Некому похлопотать. Ты кого просила?
– Князя Василия. Он был очень мил. Сейчас на всё согласился, доложил государю, – говорила княгиня Анна Михайловна с восторгом, совершенно забыв всё унижение, через которое она прошла для достижения своей цели.
– Что он постарел, князь Василий? – спросила графиня. – Я его не видала с наших театров у Румянцевых. И думаю, забыл про меня. Il me faisait la cour, [Он за мной волочился,] – вспомнила графиня с улыбкой.
– Всё такой же, – отвечала Анна Михайловна, – любезен, рассыпается. Les grandeurs ne lui ont pas touriene la tete du tout. [Высокое положение не вскружило ему головы нисколько.] «Я жалею, что слишком мало могу вам сделать, милая княгиня, – он мне говорит, – приказывайте». Нет, он славный человек и родной прекрасный. Но ты знаешь, Nathalieie, мою любовь к сыну. Я не знаю, чего я не сделала бы для его счастья. А обстоятельства мои до того дурны, – продолжала Анна Михайловна с грустью и понижая голос, – до того дурны, что я теперь в самом ужасном положении. Мой несчастный процесс съедает всё, что я имею, и не подвигается. У меня нет, можешь себе представить, a la lettre [буквально] нет гривенника денег, и я не знаю, на что обмундировать Бориса. – Она вынула платок и заплакала. – Мне нужно пятьсот рублей, а у меня одна двадцатипятирублевая бумажка. Я в таком положении… Одна моя надежда теперь на графа Кирилла Владимировича Безухова. Ежели он не захочет поддержать своего крестника, – ведь он крестил Борю, – и назначить ему что нибудь на содержание, то все мои хлопоты пропадут: мне не на что будет обмундировать его.
Графиня прослезилась и молча соображала что то.
– Часто думаю, может, это и грех, – сказала княгиня, – а часто думаю: вот граф Кирилл Владимирович Безухой живет один… это огромное состояние… и для чего живет? Ему жизнь в тягость, а Боре только начинать жить.
– Он, верно, оставит что нибудь Борису, – сказала графиня.
– Бог знает, chere amie! [милый друг!] Эти богачи и вельможи такие эгоисты. Но я всё таки поеду сейчас к нему с Борисом и прямо скажу, в чем дело. Пускай обо мне думают, что хотят, мне, право, всё равно, когда судьба сына зависит от этого. – Княгиня поднялась. – Теперь два часа, а в четыре часа вы обедаете. Я успею съездить.
И с приемами петербургской деловой барыни, умеющей пользоваться временем, Анна Михайловна послала за сыном и вместе с ним вышла в переднюю.
– Прощай, душа моя, – сказала она графине, которая провожала ее до двери, – пожелай мне успеха, – прибавила она шопотом от сына.
– Вы к графу Кириллу Владимировичу, ma chere? – сказал граф из столовой, выходя тоже в переднюю. – Коли ему лучше, зовите Пьера ко мне обедать. Ведь он у меня бывал, с детьми танцовал. Зовите непременно, ma chere. Ну, посмотрим, как то отличится нынче Тарас. Говорит, что у графа Орлова такого обеда не бывало, какой у нас будет.
– Mon cher Boris, [Дорогой Борис,] – сказала княгиня Анна Михайловна сыну, когда карета графини Ростовой, в которой они сидели, проехала по устланной соломой улице и въехала на широкий двор графа Кирилла Владимировича Безухого. – Mon cher Boris, – сказала мать, выпрастывая руку из под старого салопа и робким и ласковым движением кладя ее на руку сына, – будь ласков, будь внимателен. Граф Кирилл Владимирович всё таки тебе крестный отец, и от него зависит твоя будущая судьба. Помни это, mon cher, будь мил, как ты умеешь быть…
– Ежели бы я знал, что из этого выйдет что нибудь, кроме унижения… – отвечал сын холодно. – Но я обещал вам и делаю это для вас.
Несмотря на то, что чья то карета стояла у подъезда, швейцар, оглядев мать с сыном (которые, не приказывая докладывать о себе, прямо вошли в стеклянные сени между двумя рядами статуй в нишах), значительно посмотрев на старенький салоп, спросил, кого им угодно, княжен или графа, и, узнав, что графа, сказал, что их сиятельству нынче хуже и их сиятельство никого не принимают.
– Мы можем уехать, – сказал сын по французски.
– Mon ami! [Друг мой!] – сказала мать умоляющим голосом, опять дотрогиваясь до руки сына, как будто это прикосновение могло успокоивать или возбуждать его.
Борис замолчал и, не снимая шинели, вопросительно смотрел на мать.
– Голубчик, – нежным голоском сказала Анна Михайловна, обращаясь к швейцару, – я знаю, что граф Кирилл Владимирович очень болен… я затем и приехала… я родственница… Я не буду беспокоить, голубчик… А мне бы только надо увидать князя Василия Сергеевича: ведь он здесь стоит. Доложи, пожалуйста.
Швейцар угрюмо дернул снурок наверх и отвернулся.
– Княгиня Друбецкая к князю Василию Сергеевичу, – крикнул он сбежавшему сверху и из под выступа лестницы выглядывавшему официанту в чулках, башмаках и фраке.
Мать расправила складки своего крашеного шелкового платья, посмотрелась в цельное венецианское зеркало в стене и бодро в своих стоптанных башмаках пошла вверх по ковру лестницы.
– Mon cher, voue m'avez promis, [Мой друг, ты мне обещал,] – обратилась она опять к Сыну, прикосновением руки возбуждая его.
Сын, опустив глаза, спокойно шел за нею.
Они вошли в залу, из которой одна дверь вела в покои, отведенные князю Василью.
В то время как мать с сыном, выйдя на середину комнаты, намеревались спросить дорогу у вскочившего при их входе старого официанта, у одной из дверей повернулась бронзовая ручка и князь Василий в бархатной шубке, с одною звездой, по домашнему, вышел, провожая красивого черноволосого мужчину. Мужчина этот был знаменитый петербургский доктор Lorrain.
– C'est donc positif? [Итак, это верно?] – говорил князь.
– Mon prince, «errare humanum est», mais… [Князь, человеку ошибаться свойственно.] – отвечал доктор, грассируя и произнося латинские слова французским выговором.
– C'est bien, c'est bien… [Хорошо, хорошо…]
Заметив Анну Михайловну с сыном, князь Василий поклоном отпустил доктора и молча, но с вопросительным видом, подошел к ним. Сын заметил, как вдруг глубокая горесть выразилась в глазах его матери, и слегка улыбнулся.
– Да, в каких грустных обстоятельствах пришлось нам видеться, князь… Ну, что наш дорогой больной? – сказала она, как будто не замечая холодного, оскорбительного, устремленного на нее взгляда.
Князь Василий вопросительно, до недоумения, посмотрел на нее, потом на Бориса. Борис учтиво поклонился. Князь Василий, не отвечая на поклон, отвернулся к Анне Михайловне и на ее вопрос отвечал движением головы и губ, которое означало самую плохую надежду для больного.
– Неужели? – воскликнула Анна Михайловна. – Ах, это ужасно! Страшно подумать… Это мой сын, – прибавила она, указывая на Бориса. – Он сам хотел благодарить вас.
Борис еще раз учтиво поклонился.
– Верьте, князь, что сердце матери никогда не забудет того, что вы сделали для нас.
– Я рад, что мог сделать вам приятное, любезная моя Анна Михайловна, – сказал князь Василий, оправляя жабо и в жесте и голосе проявляя здесь, в Москве, перед покровительствуемою Анною Михайловной еще гораздо большую важность, чем в Петербурге, на вечере у Annette Шерер.
– Старайтесь служить хорошо и быть достойным, – прибавил он, строго обращаясь к Борису. – Я рад… Вы здесь в отпуску? – продиктовал он своим бесстрастным тоном.
– Жду приказа, ваше сиятельство, чтоб отправиться по новому назначению, – отвечал Борис, не выказывая ни досады за резкий тон князя, ни желания вступить в разговор, но так спокойно и почтительно, что князь пристально поглядел на него.
– Вы живете с матушкой?
– Я живу у графини Ростовой, – сказал Борис, опять прибавив: – ваше сиятельство.
– Это тот Илья Ростов, который женился на Nathalie Шиншиной, – сказала Анна Михайловна.
– Знаю, знаю, – сказал князь Василий своим монотонным голосом. – Je n'ai jamais pu concevoir, comment Nathalieie s'est decidee a epouser cet ours mal – leche l Un personnage completement stupide et ridicule.Et joueur a ce qu'on dit. [Я никогда не мог понять, как Натали решилась выйти замуж за этого грязного медведя. Совершенно глупая и смешная особа. К тому же игрок, говорят.]
– Mais tres brave homme, mon prince, [Но добрый человек, князь,] – заметила Анна Михайловна, трогательно улыбаясь, как будто и она знала, что граф Ростов заслуживал такого мнения, но просила пожалеть бедного старика. – Что говорят доктора? – спросила княгиня, помолчав немного и опять выражая большую печаль на своем исплаканном лице.
– Мало надежды, – сказал князь.
– А мне так хотелось еще раз поблагодарить дядю за все его благодеяния и мне и Боре. C'est son filleuil, [Это его крестник,] – прибавила она таким тоном, как будто это известие должно было крайне обрадовать князя Василия.
Князь Василий задумался и поморщился. Анна Михайловна поняла, что он боялся найти в ней соперницу по завещанию графа Безухого. Она поспешила успокоить его.
– Ежели бы не моя истинная любовь и преданность дяде, – сказала она, с особенною уверенностию и небрежностию выговаривая это слово: – я знаю его характер, благородный, прямой, но ведь одни княжны при нем…Они еще молоды… – Она наклонила голову и прибавила шопотом: – исполнил ли он последний долг, князь? Как драгоценны эти последние минуты! Ведь хуже быть не может; его необходимо приготовить ежели он так плох. Мы, женщины, князь, – она нежно улыбнулась, – всегда знаем, как говорить эти вещи. Необходимо видеть его. Как бы тяжело это ни было для меня, но я привыкла уже страдать.
Князь, видимо, понял, и понял, как и на вечере у Annette Шерер, что от Анны Михайловны трудно отделаться.
– Не было бы тяжело ему это свидание, chere Анна Михайловна, – сказал он. – Подождем до вечера, доктора обещали кризис.
– Но нельзя ждать, князь, в эти минуты. Pensez, il у va du salut de son ame… Ah! c'est terrible, les devoirs d'un chretien… [Подумайте, дело идет о спасения его души! Ах! это ужасно, долг христианина…]
Из внутренних комнат отворилась дверь, и вошла одна из княжен племянниц графа, с угрюмым и холодным лицом и поразительно несоразмерною по ногам длинною талией.
Князь Василий обернулся к ней.
– Ну, что он?
– Всё то же. И как вы хотите, этот шум… – сказала княжна, оглядывая Анну Михайловну, как незнакомую.
– Ah, chere, je ne vous reconnaissais pas, [Ах, милая, я не узнала вас,] – с счастливою улыбкой сказала Анна Михайловна, легкою иноходью подходя к племяннице графа. – Je viens d'arriver et je suis a vous pour vous aider a soigner mon oncle . J`imagine, combien vous avez souffert, [Я приехала помогать вам ходить за дядюшкой. Воображаю, как вы настрадались,] – прибавила она, с участием закатывая глаза.
Княжна ничего не ответила, даже не улыбнулась и тотчас же вышла. Анна Михайловна сняла перчатки и в завоеванной позиции расположилась на кресле, пригласив князя Василья сесть подле себя.
– Борис! – сказала она сыну и улыбнулась, – я пройду к графу, к дяде, а ты поди к Пьеру, mon ami, покаместь, да не забудь передать ему приглашение от Ростовых. Они зовут его обедать. Я думаю, он не поедет? – обратилась она к князю.
– Напротив, – сказал князь, видимо сделавшийся не в духе. – Je serais tres content si vous me debarrassez de ce jeune homme… [Я был бы очень рад, если бы вы меня избавили от этого молодого человека…] Сидит тут. Граф ни разу не спросил про него.
Он пожал плечами. Официант повел молодого человека вниз и вверх по другой лестнице к Петру Кирилловичу.
Пьер так и не успел выбрать себе карьеры в Петербурге и, действительно, был выслан в Москву за буйство. История, которую рассказывали у графа Ростова, была справедлива. Пьер участвовал в связываньи квартального с медведем. Он приехал несколько дней тому назад и остановился, как всегда, в доме своего отца. Хотя он и предполагал, что история его уже известна в Москве, и что дамы, окружающие его отца, всегда недоброжелательные к нему, воспользуются этим случаем, чтобы раздражить графа, он всё таки в день приезда пошел на половину отца. Войдя в гостиную, обычное местопребывание княжен, он поздоровался с дамами, сидевшими за пяльцами и за книгой, которую вслух читала одна из них. Их было три. Старшая, чистоплотная, с длинною талией, строгая девица, та самая, которая выходила к Анне Михайловне, читала; младшие, обе румяные и хорошенькие, отличавшиеся друг от друга только тем, что у одной была родинка над губой, очень красившая ее, шили в пяльцах. Пьер был встречен как мертвец или зачумленный. Старшая княжна прервала чтение и молча посмотрела на него испуганными глазами; младшая, без родинки, приняла точно такое же выражение; самая меньшая, с родинкой, веселого и смешливого характера, нагнулась к пяльцам, чтобы скрыть улыбку, вызванную, вероятно, предстоящею сценой, забавность которой она предвидела. Она притянула вниз шерстинку и нагнулась, будто разбирая узоры и едва удерживаясь от смеха.
– Bonjour, ma cousine, – сказал Пьер. – Vous ne me гесоnnaissez pas? [Здравствуйте, кузина. Вы меня не узнаете?]
– Я слишком хорошо вас узнаю, слишком хорошо.
– Как здоровье графа? Могу я видеть его? – спросил Пьер неловко, как всегда, но не смущаясь.
– Граф страдает и физически и нравственно, и, кажется, вы позаботились о том, чтобы причинить ему побольше нравственных страданий.
– Могу я видеть графа? – повторил Пьер.
– Гм!.. Ежели вы хотите убить его, совсем убить, то можете видеть. Ольга, поди посмотри, готов ли бульон для дяденьки, скоро время, – прибавила она, показывая этим Пьеру, что они заняты и заняты успокоиваньем его отца, тогда как он, очевидно, занят только расстроиванием.
Ольга вышла. Пьер постоял, посмотрел на сестер и, поклонившись, сказал:
– Так я пойду к себе. Когда можно будет, вы мне скажите.
Он вышел, и звонкий, но негромкий смех сестры с родинкой послышался за ним.
На другой день приехал князь Василий и поместился в доме графа. Он призвал к себе Пьера и сказал ему:
– Mon cher, si vous vous conduisez ici, comme a Petersbourg, vous finirez tres mal; c'est tout ce que je vous dis. [Мой милый, если вы будете вести себя здесь, как в Петербурге, вы кончите очень дурно; больше мне нечего вам сказать.] Граф очень, очень болен: тебе совсем не надо его видеть.
С тех пор Пьера не тревожили, и он целый день проводил один наверху, в своей комнате.
В то время как Борис вошел к нему, Пьер ходил по своей комнате, изредка останавливаясь в углах, делая угрожающие жесты к стене, как будто пронзая невидимого врага шпагой, и строго взглядывая сверх очков и затем вновь начиная свою прогулку, проговаривая неясные слова, пожимая плечами и разводя руками.
– L'Angleterre a vecu, [Англии конец,] – проговорил он, нахмуриваясь и указывая на кого то пальцем. – M. Pitt comme traitre a la nation et au droit des gens est condamiene a… [Питт, как изменник нации и народному праву, приговаривается к…] – Он не успел договорить приговора Питту, воображая себя в эту минуту самим Наполеоном и вместе с своим героем уже совершив опасный переезд через Па де Кале и завоевав Лондон, – как увидал входившего к нему молодого, стройного и красивого офицера. Он остановился. Пьер оставил Бориса четырнадцатилетним мальчиком и решительно не помнил его; но, несмотря на то, с свойственною ему быстрою и радушною манерой взял его за руку и дружелюбно улыбнулся.
– Вы меня помните? – спокойно, с приятной улыбкой сказал Борис. – Я с матушкой приехал к графу, но он, кажется, не совсем здоров.
– Да, кажется, нездоров. Его всё тревожат, – отвечал Пьер, стараясь вспомнить, кто этот молодой человек.
Борис чувствовал, что Пьер не узнает его, но не считал нужным называть себя и, не испытывая ни малейшего смущения, смотрел ему прямо в глаза.
– Граф Ростов просил вас нынче приехать к нему обедать, – сказал он после довольно долгого и неловкого для Пьера молчания.
– А! Граф Ростов! – радостно заговорил Пьер. – Так вы его сын, Илья. Я, можете себе представить, в первую минуту не узнал вас. Помните, как мы на Воробьевы горы ездили c m me Jacquot… [мадам Жако…] давно.
– Вы ошибаетесь, – неторопливо, с смелою и несколько насмешливою улыбкой проговорил Борис. – Я Борис, сын княгини Анны Михайловны Друбецкой. Ростова отца зовут Ильей, а сына – Николаем. И я m me Jacquot никакой не знал.
Пьер замахал руками и головой, как будто комары или пчелы напали на него.
– Ах, ну что это! я всё спутал. В Москве столько родных! Вы Борис…да. Ну вот мы с вами и договорились. Ну, что вы думаете о булонской экспедиции? Ведь англичанам плохо придется, ежели только Наполеон переправится через канал? Я думаю, что экспедиция очень возможна. Вилльнев бы не оплошал!
Борис ничего не знал о булонской экспедиции, он не читал газет и о Вилльневе в первый раз слышал.
– Мы здесь в Москве больше заняты обедами и сплетнями, чем политикой, – сказал он своим спокойным, насмешливым тоном. – Я ничего про это не знаю и не думаю. Москва занята сплетнями больше всего, – продолжал он. – Теперь говорят про вас и про графа.
Пьер улыбнулся своей доброю улыбкой, как будто боясь за своего собеседника, как бы он не сказал чего нибудь такого, в чем стал бы раскаиваться. Но Борис говорил отчетливо, ясно и сухо, прямо глядя в глаза Пьеру.
– Москве больше делать нечего, как сплетничать, – продолжал он. – Все заняты тем, кому оставит граф свое состояние, хотя, может быть, он переживет всех нас, чего я от души желаю…
– Да, это всё очень тяжело, – подхватил Пьер, – очень тяжело. – Пьер всё боялся, что этот офицер нечаянно вдастся в неловкий для самого себя разговор.
– А вам должно казаться, – говорил Борис, слегка краснея, но не изменяя голоса и позы, – вам должно казаться, что все заняты только тем, чтобы получить что нибудь от богача.
«Так и есть», подумал Пьер.
– А я именно хочу сказать вам, чтоб избежать недоразумений, что вы очень ошибетесь, ежели причтете меня и мою мать к числу этих людей. Мы очень бедны, но я, по крайней мере, за себя говорю: именно потому, что отец ваш богат, я не считаю себя его родственником, и ни я, ни мать никогда ничего не будем просить и не примем от него.
Пьер долго не мог понять, но когда понял, вскочил с дивана, ухватил Бориса за руку снизу с свойственною ему быстротой и неловкостью и, раскрасневшись гораздо более, чем Борис, начал говорить с смешанным чувством стыда и досады.
– Вот это странно! Я разве… да и кто ж мог думать… Я очень знаю…
Но Борис опять перебил его:
– Я рад, что высказал всё. Может быть, вам неприятно, вы меня извините, – сказал он, успокоивая Пьера, вместо того чтоб быть успокоиваемым им, – но я надеюсь, что не оскорбил вас. Я имею правило говорить всё прямо… Как же мне передать? Вы приедете обедать к Ростовым?
И Борис, видимо свалив с себя тяжелую обязанность, сам выйдя из неловкого положения и поставив в него другого, сделался опять совершенно приятен.
– Нет, послушайте, – сказал Пьер, успокоиваясь. – Вы удивительный человек. То, что вы сейчас сказали, очень хорошо, очень хорошо. Разумеется, вы меня не знаете. Мы так давно не видались…детьми еще… Вы можете предполагать во мне… Я вас понимаю, очень понимаю. Я бы этого не сделал, у меня недостало бы духу, но это прекрасно. Я очень рад, что познакомился с вами. Странно, – прибавил он, помолчав и улыбаясь, – что вы во мне предполагали! – Он засмеялся. – Ну, да что ж? Мы познакомимся с вами лучше. Пожалуйста. – Он пожал руку Борису. – Вы знаете ли, я ни разу не был у графа. Он меня не звал… Мне его жалко, как человека… Но что же делать?
– И вы думаете, что Наполеон успеет переправить армию? – спросил Борис, улыбаясь.
Пьер понял, что Борис хотел переменить разговор, и, соглашаясь с ним, начал излагать выгоды и невыгоды булонского предприятия.
Лакей пришел вызвать Бориса к княгине. Княгиня уезжала. Пьер обещался приехать обедать затем, чтобы ближе сойтись с Борисом, крепко жал его руку, ласково глядя ему в глаза через очки… По уходе его Пьер долго еще ходил по комнате, уже не пронзая невидимого врага шпагой, а улыбаясь при воспоминании об этом милом, умном и твердом молодом человеке.
Как это бывает в первой молодости и особенно в одиноком положении, он почувствовал беспричинную нежность к этому молодому человеку и обещал себе непременно подружиться с ним.
Князь Василий провожал княгиню. Княгиня держала платок у глаз, и лицо ее было в слезах.
– Это ужасно! ужасно! – говорила она, – но чего бы мне ни стоило, я исполню свой долг. Я приеду ночевать. Его нельзя так оставить. Каждая минута дорога. Я не понимаю, чего мешкают княжны. Может, Бог поможет мне найти средство его приготовить!… Adieu, mon prince, que le bon Dieu vous soutienne… [Прощайте, князь, да поддержит вас Бог.]
– Adieu, ma bonne, [Прощайте, моя милая,] – отвечал князь Василий, повертываясь от нее.
– Ах, он в ужасном положении, – сказала мать сыну, когда они опять садились в карету. – Он почти никого не узнает.
– Я не понимаю, маменька, какие его отношения к Пьеру? – спросил сын.
– Всё скажет завещание, мой друг; от него и наша судьба зависит…
– Но почему вы думаете, что он оставит что нибудь нам?
– Ах, мой друг! Он так богат, а мы так бедны!
– Ну, это еще недостаточная причина, маменька.
– Ах, Боже мой! Боже мой! Как он плох! – восклицала мать.
Когда Анна Михайловна уехала с сыном к графу Кириллу Владимировичу Безухому, графиня Ростова долго сидела одна, прикладывая платок к глазам. Наконец, она позвонила.
– Что вы, милая, – сказала она сердито девушке, которая заставила себя ждать несколько минут. – Не хотите служить, что ли? Так я вам найду место.
Графиня была расстроена горем и унизительною бедностью своей подруги и поэтому была не в духе, что выражалось у нее всегда наименованием горничной «милая» и «вы».
– Виновата с, – сказала горничная.
– Попросите ко мне графа.
Граф, переваливаясь, подошел к жене с несколько виноватым видом, как и всегда.
– Ну, графинюшка! Какое saute au madere [сотэ на мадере] из рябчиков будет, ma chere! Я попробовал; не даром я за Тараску тысячу рублей дал. Стоит!
Он сел подле жены, облокотив молодецки руки на колена и взъерошивая седые волосы.
– Что прикажете, графинюшка?
– Вот что, мой друг, – что это у тебя запачкано здесь? – сказала она, указывая на жилет. – Это сотэ, верно, – прибавила она улыбаясь. – Вот что, граф: мне денег нужно.
Лицо ее стало печально.
– Ах, графинюшка!…
И граф засуетился, доставая бумажник.
– Мне много надо, граф, мне пятьсот рублей надо.
И она, достав батистовый платок, терла им жилет мужа.
– Сейчас, сейчас. Эй, кто там? – крикнул он таким голосом, каким кричат только люди, уверенные, что те, кого они кличут, стремглав бросятся на их зов. – Послать ко мне Митеньку!
Митенька, тот дворянский сын, воспитанный у графа, который теперь заведывал всеми его делами, тихими шагами вошел в комнату.
– Вот что, мой милый, – сказал граф вошедшему почтительному молодому человеку. – Принеси ты мне… – он задумался. – Да, 700 рублей, да. Да смотри, таких рваных и грязных, как тот раз, не приноси, а хороших, для графини.
– Да, Митенька, пожалуйста, чтоб чистенькие, – сказала графиня, грустно вздыхая.
– Ваше сиятельство, когда прикажете доставить? – сказал Митенька. – Изволите знать, что… Впрочем, не извольте беспокоиться, – прибавил он, заметив, как граф уже начал тяжело и часто дышать, что всегда было признаком начинавшегося гнева. – Я было и запамятовал… Сию минуту прикажете доставить?
– Да, да, то то, принеси. Вот графине отдай.
– Экое золото у меня этот Митенька, – прибавил граф улыбаясь, когда молодой человек вышел. – Нет того, чтобы нельзя. Я же этого терпеть не могу. Всё можно.
– Ах, деньги, граф, деньги, сколько от них горя на свете! – сказала графиня. – А эти деньги мне очень нужны.
– Вы, графинюшка, мотовка известная, – проговорил граф и, поцеловав у жены руку, ушел опять в кабинет.
Когда Анна Михайловна вернулась опять от Безухого, у графини лежали уже деньги, всё новенькими бумажками, под платком на столике, и Анна Михайловна заметила, что графиня чем то растревожена.
– Ну, что, мой друг? – спросила графиня.
– Ах, в каком он ужасном положении! Его узнать нельзя, он так плох, так плох; я минутку побыла и двух слов не сказала…
– Annette, ради Бога, не откажи мне, – сказала вдруг графиня, краснея, что так странно было при ее немолодом, худом и важном лице, доставая из под платка деньги.
Анна Михайловна мгновенно поняла, в чем дело, и уж нагнулась, чтобы в должную минуту ловко обнять графиню.
– Вот Борису от меня, на шитье мундира…
Анна Михайловна уж обнимала ее и плакала. Графиня плакала тоже. Плакали они о том, что они дружны; и о том, что они добры; и о том, что они, подруги молодости, заняты таким низким предметом – деньгами; и о том, что молодость их прошла… Но слезы обеих были приятны…
Графиня Ростова с дочерьми и уже с большим числом гостей сидела в гостиной. Граф провел гостей мужчин в кабинет, предлагая им свою охотницкую коллекцию турецких трубок. Изредка он выходил и спрашивал: не приехала ли? Ждали Марью Дмитриевну Ахросимову, прозванную в обществе le terrible dragon, [страшный дракон,] даму знаменитую не богатством, не почестями, но прямотой ума и откровенною простотой обращения. Марью Дмитриевну знала царская фамилия, знала вся Москва и весь Петербург, и оба города, удивляясь ей, втихомолку посмеивались над ее грубостью, рассказывали про нее анекдоты; тем не менее все без исключения уважали и боялись ее.
В кабинете, полном дыма, шел разговор о войне, которая была объявлена манифестом, о наборе. Манифеста еще никто не читал, но все знали о его появлении. Граф сидел на отоманке между двумя курившими и разговаривавшими соседями. Граф сам не курил и не говорил, а наклоняя голову, то на один бок, то на другой, с видимым удовольствием смотрел на куривших и слушал разговор двух соседей своих, которых он стравил между собой.
Один из говоривших был штатский, с морщинистым, желчным и бритым худым лицом, человек, уже приближавшийся к старости, хотя и одетый, как самый модный молодой человек; он сидел с ногами на отоманке с видом домашнего человека и, сбоку запустив себе далеко в рот янтарь, порывисто втягивал дым и жмурился. Это был старый холостяк Шиншин, двоюродный брат графини, злой язык, как про него говорили в московских гостиных. Он, казалось, снисходил до своего собеседника. Другой, свежий, розовый, гвардейский офицер, безупречно вымытый, застегнутый и причесанный, держал янтарь у середины рта и розовыми губами слегка вытягивал дымок, выпуская его колечками из красивого рта. Это был тот поручик Берг, офицер Семеновского полка, с которым Борис ехал вместе в полк и которым Наташа дразнила Веру, старшую графиню, называя Берга ее женихом. Граф сидел между ними и внимательно слушал. Самое приятное для графа занятие, за исключением игры в бостон, которую он очень любил, было положение слушающего, особенно когда ему удавалось стравить двух говорливых собеседников.
– Ну, как же, батюшка, mon tres honorable [почтеннейший] Альфонс Карлыч, – говорил Шиншин, посмеиваясь и соединяя (в чем и состояла особенность его речи) самые народные русские выражения с изысканными французскими фразами. – Vous comptez vous faire des rentes sur l'etat, [Вы рассчитываете иметь доход с казны,] с роты доходец получать хотите?
– Нет с, Петр Николаич, я только желаю показать, что в кавалерии выгод гораздо меньше против пехоты. Вот теперь сообразите, Петр Николаич, мое положение…
Берг говорил всегда очень точно, спокойно и учтиво. Разговор его всегда касался только его одного; он всегда спокойно молчал, пока говорили о чем нибудь, не имеющем прямого к нему отношения. И молчать таким образом он мог несколько часов, не испытывая и не производя в других ни малейшего замешательства. Но как скоро разговор касался его лично, он начинал говорить пространно и с видимым удовольствием.
– Сообразите мое положение, Петр Николаич: будь я в кавалерии, я бы получал не более двухсот рублей в треть, даже и в чине поручика; а теперь я получаю двести тридцать, – говорил он с радостною, приятною улыбкой, оглядывая Шиншина и графа, как будто для него было очевидно, что его успех всегда будет составлять главную цель желаний всех остальных людей.
– Кроме того, Петр Николаич, перейдя в гвардию, я на виду, – продолжал Берг, – и вакансии в гвардейской пехоте гораздо чаще. Потом, сами сообразите, как я мог устроиться из двухсот тридцати рублей. А я откладываю и еще отцу посылаю, – продолжал он, пуская колечко.
– La balance у est… [Баланс установлен…] Немец на обухе молотит хлебец, comme dit le рroverbe, [как говорит пословица,] – перекладывая янтарь на другую сторону ртa, сказал Шиншин и подмигнул графу.
Граф расхохотался. Другие гости, видя, что Шиншин ведет разговор, подошли послушать. Берг, не замечая ни насмешки, ни равнодушия, продолжал рассказывать о том, как переводом в гвардию он уже выиграл чин перед своими товарищами по корпусу, как в военное время ротного командира могут убить, и он, оставшись старшим в роте, может очень легко быть ротным, и как в полку все любят его, и как его папенька им доволен. Берг, видимо, наслаждался, рассказывая всё это, и, казалось, не подозревал того, что у других людей могли быть тоже свои интересы. Но всё, что он рассказывал, было так мило степенно, наивность молодого эгоизма его была так очевидна, что он обезоруживал своих слушателей.
– Ну, батюшка, вы и в пехоте, и в кавалерии, везде пойдете в ход; это я вам предрекаю, – сказал Шиншин, трепля его по плечу и спуская ноги с отоманки.
Берг радостно улыбнулся. Граф, а за ним и гости вышли в гостиную.
Было то время перед званым обедом, когда собравшиеся гости не начинают длинного разговора в ожидании призыва к закуске, а вместе с тем считают необходимым шевелиться и не молчать, чтобы показать, что они нисколько не нетерпеливы сесть за стол. Хозяева поглядывают на дверь и изредка переглядываются между собой. Гости по этим взглядам стараются догадаться, кого или чего еще ждут: важного опоздавшего родственника или кушанья, которое еще не поспело.
Пьер приехал перед самым обедом и неловко сидел посредине гостиной на первом попавшемся кресле, загородив всем дорогу. Графиня хотела заставить его говорить, но он наивно смотрел в очки вокруг себя, как бы отыскивая кого то, и односложно отвечал на все вопросы графини. Он был стеснителен и один не замечал этого. Большая часть гостей, знавшая его историю с медведем, любопытно смотрели на этого большого толстого и смирного человека, недоумевая, как мог такой увалень и скромник сделать такую штуку с квартальным.
– Вы недавно приехали? – спрашивала у него графиня.
– Oui, madame, [Да, сударыня,] – отвечал он, оглядываясь.
– Вы не видали моего мужа?
– Non, madame. [Нет, сударыня.] – Он улыбнулся совсем некстати.
– Вы, кажется, недавно были в Париже? Я думаю, очень интересно.
– Очень интересно..
Графиня переглянулась с Анной Михайловной. Анна Михайловна поняла, что ее просят занять этого молодого человека, и, подсев к нему, начала говорить об отце; но так же, как и графине, он отвечал ей только односложными словами. Гости были все заняты между собой. Les Razoumovsky… ca a ete charmant… Vous etes bien bonne… La comtesse Apraksine… [Разумовские… Это было восхитительно… Вы очень добры… Графиня Апраксина…] слышалось со всех сторон. Графиня встала и пошла в залу.
– Марья Дмитриевна? – послышался ее голос из залы.
– Она самая, – послышался в ответ грубый женский голос, и вслед за тем вошла в комнату Марья Дмитриевна.
Все барышни и даже дамы, исключая самых старых, встали. Марья Дмитриевна остановилась в дверях и, с высоты своего тучного тела, высоко держа свою с седыми буклями пятидесятилетнюю голову, оглядела гостей и, как бы засучиваясь, оправила неторопливо широкие рукава своего платья. Марья Дмитриевна всегда говорила по русски.
– Имениннице дорогой с детками, – сказала она своим громким, густым, подавляющим все другие звуки голосом. – Ты что, старый греховодник, – обратилась она к графу, целовавшему ее руку, – чай, скучаешь в Москве? Собак гонять негде? Да что, батюшка, делать, вот как эти пташки подрастут… – Она указывала на девиц. – Хочешь – не хочешь, надо женихов искать.
– Ну, что, казак мой? (Марья Дмитриевна казаком называла Наташу) – говорила она, лаская рукой Наташу, подходившую к ее руке без страха и весело. – Знаю, что зелье девка, а люблю.
Она достала из огромного ридикюля яхонтовые сережки грушками и, отдав их именинно сиявшей и разрумянившейся Наташе, тотчас же отвернулась от нее и обратилась к Пьеру.
– Э, э! любезный! поди ка сюда, – сказала она притворно тихим и тонким голосом. – Поди ка, любезный…
И она грозно засучила рукава еще выше.
Пьер подошел, наивно глядя на нее через очки.
– Подойди, подойди, любезный! Я и отцу то твоему правду одна говорила, когда он в случае был, а тебе то и Бог велит.
Она помолчала. Все молчали, ожидая того, что будет, и чувствуя, что было только предисловие.
– Хорош, нечего сказать! хорош мальчик!… Отец на одре лежит, а он забавляется, квартального на медведя верхом сажает. Стыдно, батюшка, стыдно! Лучше бы на войну шел.
Она отвернулась и подала руку графу, который едва удерживался от смеха.
– Ну, что ж, к столу, я чай, пора? – сказала Марья Дмитриевна.
Впереди пошел граф с Марьей Дмитриевной; потом графиня, которую повел гусарский полковник, нужный человек, с которым Николай должен был догонять полк. Анна Михайловна – с Шиншиным. Берг подал руку Вере. Улыбающаяся Жюли Карагина пошла с Николаем к столу. За ними шли еще другие пары, протянувшиеся по всей зале, и сзади всех по одиночке дети, гувернеры и гувернантки. Официанты зашевелились, стулья загремели, на хорах заиграла музыка, и гости разместились. Звуки домашней музыки графа заменились звуками ножей и вилок, говора гостей, тихих шагов официантов.
На одном конце стола во главе сидела графиня. Справа Марья Дмитриевна, слева Анна Михайловна и другие гостьи. На другом конце сидел граф, слева гусарский полковник, справа Шиншин и другие гости мужского пола. С одной стороны длинного стола молодежь постарше: Вера рядом с Бергом, Пьер рядом с Борисом; с другой стороны – дети, гувернеры и гувернантки. Граф из за хрусталя, бутылок и ваз с фруктами поглядывал на жену и ее высокий чепец с голубыми лентами и усердно подливал вина своим соседям, не забывая и себя. Графиня так же, из за ананасов, не забывая обязанности хозяйки, кидала значительные взгляды на мужа, которого лысина и лицо, казалось ей, своею краснотой резче отличались от седых волос. На дамском конце шло равномерное лепетанье; на мужском всё громче и громче слышались голоса, особенно гусарского полковника, который так много ел и пил, всё более и более краснея, что граф уже ставил его в пример другим гостям. Берг с нежной улыбкой говорил с Верой о том, что любовь есть чувство не земное, а небесное. Борис называл новому своему приятелю Пьеру бывших за столом гостей и переглядывался с Наташей, сидевшей против него. Пьер мало говорил, оглядывал новые лица и много ел. Начиная от двух супов, из которых он выбрал a la tortue, [черепаховый,] и кулебяки и до рябчиков он не пропускал ни одного блюда и ни одного вина, которое дворецкий в завернутой салфеткою бутылке таинственно высовывал из за плеча соседа, приговаривая или «дрей мадера», или «венгерское», или «рейнвейн». Он подставлял первую попавшуюся из четырех хрустальных, с вензелем графа, рюмок, стоявших перед каждым прибором, и пил с удовольствием, всё с более и более приятным видом поглядывая на гостей. Наташа, сидевшая против него, глядела на Бориса, как глядят девочки тринадцати лет на мальчика, с которым они в первый раз только что поцеловались и в которого они влюблены. Этот самый взгляд ее иногда обращался на Пьера, и ему под взглядом этой смешной, оживленной девочки хотелось смеяться самому, не зная чему.
Николай сидел далеко от Сони, подле Жюли Карагиной, и опять с той же невольной улыбкой что то говорил с ней. Соня улыбалась парадно, но, видимо, мучилась ревностью: то бледнела, то краснела и всеми силами прислушивалась к тому, что говорили между собою Николай и Жюли. Гувернантка беспокойно оглядывалась, как бы приготавливаясь к отпору, ежели бы кто вздумал обидеть детей. Гувернер немец старался запомнить вое роды кушаний, десертов и вин с тем, чтобы описать всё подробно в письме к домашним в Германию, и весьма обижался тем, что дворецкий, с завернутою в салфетку бутылкой, обносил его. Немец хмурился, старался показать вид, что он и не желал получить этого вина, но обижался потому, что никто не хотел понять, что вино нужно было ему не для того, чтобы утолить жажду, не из жадности, а из добросовестной любознательности.
На мужском конце стола разговор всё более и более оживлялся. Полковник рассказал, что манифест об объявлении войны уже вышел в Петербурге и что экземпляр, который он сам видел, доставлен ныне курьером главнокомандующему.
– И зачем нас нелегкая несет воевать с Бонапартом? – сказал Шиншин. – II a deja rabattu le caquet a l'Autriche. Je crains, que cette fois ce ne soit notre tour. [Он уже сбил спесь с Австрии. Боюсь, не пришел бы теперь наш черед.]
Полковник был плотный, высокий и сангвинический немец, очевидно, служака и патриот. Он обиделся словами Шиншина.
– А затэ м, мы лосты вый государ, – сказал он, выговаривая э вместо е и ъ вместо ь . – Затэм, что импэ ратор это знаэ т. Он в манифэ стэ сказал, что нэ можэ т смотрэт равнодушно на опасности, угрожающие России, и что бэ зопасност империи, достоинство ее и святост союзов , – сказал он, почему то особенно налегая на слово «союзов», как будто в этом была вся сущность дела.
И с свойственною ему непогрешимою, официальною памятью он повторил вступительные слова манифеста… «и желание, единственную и непременную цель государя составляющее: водворить в Европе на прочных основаниях мир – решили его двинуть ныне часть войска за границу и сделать к достижению „намерения сего новые усилия“.
– Вот зачэм, мы лосты вый государ, – заключил он, назидательно выпивая стакан вина и оглядываясь на графа за поощрением.
– Connaissez vous le proverbe: [Знаете пословицу:] «Ерема, Ерема, сидел бы ты дома, точил бы свои веретена», – сказал Шиншин, морщась и улыбаясь. – Cela nous convient a merveille. [Это нам кстати.] Уж на что Суворова – и того расколотили, a plate couture, [на голову,] а где y нас Суворовы теперь? Je vous demande un peu, [Спрашиваю я вас,] – беспрестанно перескакивая с русского на французский язык, говорил он.
– Мы должны и драться до послэ днэ капли кров, – сказал полковник, ударяя по столу, – и умэ р р рэ т за своэ го импэ ратора, и тогда всэ й будэ т хорошо. А рассуждать как мо о ожно (он особенно вытянул голос на слове «можно»), как мо о ожно менше, – докончил он, опять обращаясь к графу. – Так старые гусары судим, вот и всё. А вы как судитэ , молодой человек и молодой гусар? – прибавил он, обращаясь к Николаю, который, услыхав, что дело шло о войне, оставил свою собеседницу и во все глаза смотрел и всеми ушами слушал полковника.
– Совершенно с вами согласен, – отвечал Николай, весь вспыхнув, вертя тарелку и переставляя стаканы с таким решительным и отчаянным видом, как будто в настоящую минуту он подвергался великой опасности, – я убежден, что русские должны умирать или побеждать, – сказал он, сам чувствуя так же, как и другие, после того как слово уже было сказано, что оно было слишком восторженно и напыщенно для настоящего случая и потому неловко.
– C'est bien beau ce que vous venez de dire, [Прекрасно! прекрасно то, что вы сказали,] – сказала сидевшая подле него Жюли, вздыхая. Соня задрожала вся и покраснела до ушей, за ушами и до шеи и плеч, в то время как Николай говорил. Пьер прислушался к речам полковника и одобрительно закивал головой.
– Вот это славно, – сказал он.
– Настоящэ й гусар, молодой человэк, – крикнул полковник, ударив опять по столу.
– О чем вы там шумите? – вдруг послышался через стол басистый голос Марьи Дмитриевны. – Что ты по столу стучишь? – обратилась она к гусару, – на кого ты горячишься? верно, думаешь, что тут французы перед тобой?
– Я правду говору, – улыбаясь сказал гусар.
– Всё о войне, – через стол прокричал граф. – Ведь у меня сын идет, Марья Дмитриевна, сын идет.
– А у меня четыре сына в армии, а я не тужу. На всё воля Божья: и на печи лежа умрешь, и в сражении Бог помилует, – прозвучал без всякого усилия, с того конца стола густой голос Марьи Дмитриевны.
– Это так.
И разговор опять сосредоточился – дамский на своем конце стола, мужской на своем.
– А вот не спросишь, – говорил маленький брат Наташе, – а вот не спросишь!
– Спрошу, – отвечала Наташа.
Лицо ее вдруг разгорелось, выражая отчаянную и веселую решимость. Она привстала, приглашая взглядом Пьера, сидевшего против нее, прислушаться, и обратилась к матери:
– Мама! – прозвучал по всему столу ее детски грудной голос.
– Что тебе? – спросила графиня испуганно, но, по лицу дочери увидев, что это была шалость, строго замахала ей рукой, делая угрожающий и отрицательный жест головой.
Разговор притих.
– Мама! какое пирожное будет? – еще решительнее, не срываясь, прозвучал голосок Наташи.
Графиня хотела хмуриться, но не могла. Марья Дмитриевна погрозила толстым пальцем.
– Казак, – проговорила она с угрозой.
Большинство гостей смотрели на старших, не зная, как следует принять эту выходку.
– Вот я тебя! – сказала графиня.
– Мама! что пирожное будет? – закричала Наташа уже смело и капризно весело, вперед уверенная, что выходка ее будет принята хорошо.
Соня и толстый Петя прятались от смеха.
– Вот и спросила, – прошептала Наташа маленькому брату и Пьеру, на которого она опять взглянула.
– Мороженое, только тебе не дадут, – сказала Марья Дмитриевна.
Наташа видела, что бояться нечего, и потому не побоялась и Марьи Дмитриевны.
– Марья Дмитриевна? какое мороженое! Я сливочное не люблю.
– Морковное.
– Нет, какое? Марья Дмитриевна, какое? – почти кричала она. – Я хочу знать!
Марья Дмитриевна и графиня засмеялись, и за ними все гости. Все смеялись не ответу Марьи Дмитриевны, но непостижимой смелости и ловкости этой девочки, умевшей и смевшей так обращаться с Марьей Дмитриевной.
Наташа отстала только тогда, когда ей сказали, что будет ананасное. Перед мороженым подали шампанское. Опять заиграла музыка, граф поцеловался с графинюшкою, и гости, вставая, поздравляли графиню, через стол чокались с графом, детьми и друг с другом. Опять забегали официанты, загремели стулья, и в том же порядке, но с более красными лицами, гости вернулись в гостиную и кабинет графа.
Раздвинули бостонные столы, составили партии, и гости графа разместились в двух гостиных, диванной и библиотеке.
Граф, распустив карты веером, с трудом удерживался от привычки послеобеденного сна и всему смеялся. Молодежь, подстрекаемая графиней, собралась около клавикорд и арфы. Жюли первая, по просьбе всех, сыграла на арфе пьеску с вариациями и вместе с другими девицами стала просить Наташу и Николая, известных своею музыкальностью, спеть что нибудь. Наташа, к которой обратились как к большой, была, видимо, этим очень горда, но вместе с тем и робела.
– Что будем петь? – спросила она.
– «Ключ», – отвечал Николай.
– Ну, давайте скорее. Борис, идите сюда, – сказала Наташа. – А где же Соня?
Она оглянулась и, увидав, что ее друга нет в комнате, побежала за ней.
Вбежав в Сонину комнату и не найдя там свою подругу, Наташа пробежала в детскую – и там не было Сони. Наташа поняла, что Соня была в коридоре на сундуке. Сундук в коридоре был место печалей женского молодого поколения дома Ростовых. Действительно, Соня в своем воздушном розовом платьице, приминая его, лежала ничком на грязной полосатой няниной перине, на сундуке и, закрыв лицо пальчиками, навзрыд плакала, подрагивая своими оголенными плечиками. Лицо Наташи, оживленное, целый день именинное, вдруг изменилось: глаза ее остановились, потом содрогнулась ее широкая шея, углы губ опустились.
– Соня! что ты?… Что, что с тобой? У у у!…
И Наташа, распустив свой большой рот и сделавшись совершенно дурною, заревела, как ребенок, не зная причины и только оттого, что Соня плакала. Соня хотела поднять голову, хотела отвечать, но не могла и еще больше спряталась. Наташа плакала, присев на синей перине и обнимая друга. Собравшись с силами, Соня приподнялась, начала утирать слезы и рассказывать.
– Николенька едет через неделю, его… бумага… вышла… он сам мне сказал… Да я бы всё не плакала… (она показала бумажку, которую держала в руке: то были стихи, написанные Николаем) я бы всё не плакала, но ты не можешь… никто не может понять… какая у него душа.
И она опять принялась плакать о том, что душа его была так хороша.
– Тебе хорошо… я не завидую… я тебя люблю, и Бориса тоже, – говорила она, собравшись немного с силами, – он милый… для вас нет препятствий. А Николай мне cousin… надобно… сам митрополит… и то нельзя. И потом, ежели маменьке… (Соня графиню и считала и называла матерью), она скажет, что я порчу карьеру Николая, у меня нет сердца, что я неблагодарная, а право… вот ей Богу… (она перекрестилась) я так люблю и ее, и всех вас, только Вера одна… За что? Что я ей сделала? Я так благодарна вам, что рада бы всем пожертвовать, да мне нечем…
Соня не могла больше говорить и опять спрятала голову в руках и перине. Наташа начинала успокоиваться, но по лицу ее видно было, что она понимала всю важность горя своего друга.
– Соня! – сказала она вдруг, как будто догадавшись о настоящей причине огорчения кузины. – Верно, Вера с тобой говорила после обеда? Да?
– Да, эти стихи сам Николай написал, а я списала еще другие; она и нашла их у меня на столе и сказала, что и покажет их маменьке, и еще говорила, что я неблагодарная, что маменька никогда не позволит ему жениться на мне, а он женится на Жюли. Ты видишь, как он с ней целый день… Наташа! За что?…
И опять она заплакала горьче прежнего. Наташа приподняла ее, обняла и, улыбаясь сквозь слезы, стала ее успокоивать.
– Соня, ты не верь ей, душенька, не верь. Помнишь, как мы все втроем говорили с Николенькой в диванной; помнишь, после ужина? Ведь мы всё решили, как будет. Я уже не помню как, но, помнишь, как было всё хорошо и всё можно. Вот дяденьки Шиншина брат женат же на двоюродной сестре, а мы ведь троюродные. И Борис говорил, что это очень можно. Ты знаешь, я ему всё сказала. А он такой умный и такой хороший, – говорила Наташа… – Ты, Соня, не плачь, голубчик милый, душенька, Соня. – И она целовала ее, смеясь. – Вера злая, Бог с ней! А всё будет хорошо, и маменьке она не скажет; Николенька сам скажет, и он и не думал об Жюли.
И она целовала ее в голову. Соня приподнялась, и котеночек оживился, глазки заблистали, и он готов был, казалось, вот вот взмахнуть хвостом, вспрыгнуть на мягкие лапки и опять заиграть с клубком, как ему и было прилично.
– Ты думаешь? Право? Ей Богу? – сказала она, быстро оправляя платье и прическу.
– Право, ей Богу! – отвечала Наташа, оправляя своему другу под косой выбившуюся прядь жестких волос.
И они обе засмеялись.
– Ну, пойдем петь «Ключ».
– Пойдем.
– А знаешь, этот толстый Пьер, что против меня сидел, такой смешной! – сказала вдруг Наташа, останавливаясь. – Мне очень весело!
И Наташа побежала по коридору.
Соня, отряхнув пух и спрятав стихи за пазуху, к шейке с выступавшими костями груди, легкими, веселыми шагами, с раскрасневшимся лицом, побежала вслед за Наташей по коридору в диванную. По просьбе гостей молодые люди спели квартет «Ключ», который всем очень понравился; потом Николай спел вновь выученную им песню.
В приятну ночь, при лунном свете,
Представить счастливо себе,
Что некто есть еще на свете,
Кто думает и о тебе!
Что и она, рукой прекрасной,
По арфе золотой бродя,
Своей гармониею страстной
Зовет к себе, зовет тебя!
Еще день, два, и рай настанет…
Но ах! твой друг не доживет!
И он не допел еще последних слов, когда в зале молодежь приготовилась к танцам и на хорах застучали ногами и закашляли музыканты.
Пьер сидел в гостиной, где Шиншин, как с приезжим из за границы, завел с ним скучный для Пьера политический разговор, к которому присоединились и другие. Когда заиграла музыка, Наташа вошла в гостиную и, подойдя прямо к Пьеру, смеясь и краснея, сказала:
– Мама велела вас просить танцовать.
– Я боюсь спутать фигуры, – сказал Пьер, – но ежели вы хотите быть моим учителем…
И он подал свою толстую руку, низко опуская ее, тоненькой девочке.
Пока расстанавливались пары и строили музыканты, Пьер сел с своей маленькой дамой. Наташа была совершенно счастлива; она танцовала с большим , с приехавшим из за границы . Она сидела на виду у всех и разговаривала с ним, как большая. У нее в руке был веер, который ей дала подержать одна барышня. И, приняв самую светскую позу (Бог знает, где и когда она этому научилась), она, обмахиваясь веером и улыбаясь через веер, говорила с своим кавалером.
– Какова, какова? Смотрите, смотрите, – сказала старая графиня, проходя через залу и указывая на Наташу.
Наташа покраснела и засмеялась.
– Ну, что вы, мама? Ну, что вам за охота? Что ж тут удивительного?
В середине третьего экосеза зашевелились стулья в гостиной, где играли граф и Марья Дмитриевна, и большая часть почетных гостей и старички, потягиваясь после долгого сиденья и укладывая в карманы бумажники и кошельки, выходили в двери залы. Впереди шла Марья Дмитриевна с графом – оба с веселыми лицами. Граф с шутливою вежливостью, как то по балетному, подал округленную руку Марье Дмитриевне. Он выпрямился, и лицо его озарилось особенною молодецки хитрою улыбкой, и как только дотанцовали последнюю фигуру экосеза, он ударил в ладоши музыкантам и закричал на хоры, обращаясь к первой скрипке:
– Семен! Данилу Купора знаешь?
Это был любимый танец графа, танцованный им еще в молодости. (Данило Купор была собственно одна фигура англеза .)
– Смотрите на папа, – закричала на всю залу Наташа (совершенно забыв, что она танцует с большим), пригибая к коленам свою кудрявую головку и заливаясь своим звонким смехом по всей зале.
Действительно, всё, что только было в зале, с улыбкою радости смотрело на веселого старичка, который рядом с своею сановитою дамой, Марьей Дмитриевной, бывшей выше его ростом, округлял руки, в такт потряхивая ими, расправлял плечи, вывертывал ноги, слегка притопывая, и всё более и более распускавшеюся улыбкой на своем круглом лице приготовлял зрителей к тому, что будет. Как только заслышались веселые, вызывающие звуки Данилы Купора, похожие на развеселого трепачка, все двери залы вдруг заставились с одной стороны мужскими, с другой – женскими улыбающимися лицами дворовых, вышедших посмотреть на веселящегося барина.
– Батюшка то наш! Орел! – проговорила громко няня из одной двери.
Граф танцовал хорошо и знал это, но его дама вовсе не умела и не хотела хорошо танцовать. Ее огромное тело стояло прямо с опущенными вниз мощными руками (она передала ридикюль графине); только одно строгое, но красивое лицо ее танцовало. Что выражалось во всей круглой фигуре графа, у Марьи Дмитриевны выражалось лишь в более и более улыбающемся лице и вздергивающемся носе. Но зато, ежели граф, всё более и более расходясь, пленял зрителей неожиданностью ловких выверток и легких прыжков своих мягких ног, Марья Дмитриевна малейшим усердием при движении плеч или округлении рук в поворотах и притопываньях, производила не меньшее впечатление по заслуге, которую ценил всякий при ее тучности и всегдашней суровости. Пляска оживлялась всё более и более. Визави не могли ни на минуту обратить на себя внимания и даже не старались о том. Всё было занято графом и Марьею Дмитриевной. Наташа дергала за рукава и платье всех присутствовавших, которые и без того не спускали глаз с танцующих, и требовала, чтоб смотрели на папеньку. Граф в промежутках танца тяжело переводил дух, махал и кричал музыкантам, чтоб они играли скорее. Скорее, скорее и скорее, лише, лише и лише развертывался граф, то на цыпочках, то на каблуках, носясь вокруг Марьи Дмитриевны и, наконец, повернув свою даму к ее месту, сделал последнее па, подняв сзади кверху свою мягкую ногу, склонив вспотевшую голову с улыбающимся лицом и округло размахнув правою рукой среди грохота рукоплесканий и хохота, особенно Наташи. Оба танцующие остановились, тяжело переводя дыхание и утираясь батистовыми платками.
– Вот как в наше время танцовывали, ma chere, – сказал граф.
– Ай да Данила Купор! – тяжело и продолжительно выпуская дух и засучивая рукава, сказала Марья Дмитриевна.
В то время как у Ростовых танцовали в зале шестой англез под звуки от усталости фальшививших музыкантов, и усталые официанты и повара готовили ужин, с графом Безухим сделался шестой удар. Доктора объявили, что надежды к выздоровлению нет; больному дана была глухая исповедь и причастие; делали приготовления для соборования, и в доме была суетня и тревога ожидания, обыкновенные в такие минуты. Вне дома, за воротами толпились, скрываясь от подъезжавших экипажей, гробовщики, ожидая богатого заказа на похороны графа. Главнокомандующий Москвы, который беспрестанно присылал адъютантов узнавать о положении графа, в этот вечер сам приезжал проститься с знаменитым Екатерининским вельможей, графом Безухим.
Великолепная приемная комната была полна. Все почтительно встали, когда главнокомандующий, пробыв около получаса наедине с больным, вышел оттуда, слегка отвечая на поклоны и стараясь как можно скорее пройти мимо устремленных на него взглядов докторов, духовных лиц и родственников. Князь Василий, похудевший и побледневший за эти дни, провожал главнокомандующего и что то несколько раз тихо повторил ему.
Проводив главнокомандующего, князь Василий сел в зале один на стул, закинув высоко ногу на ногу, на коленку упирая локоть и рукою закрыв глаза. Посидев так несколько времени, он встал и непривычно поспешными шагами, оглядываясь кругом испуганными глазами, пошел чрез длинный коридор на заднюю половину дома, к старшей княжне.
Находившиеся в слабо освещенной комнате неровным шопотом говорили между собой и замолкали каждый раз и полными вопроса и ожидания глазами оглядывались на дверь, которая вела в покои умирающего и издавала слабый звук, когда кто нибудь выходил из нее или входил в нее.
– Предел человеческий, – говорил старичок, духовное лицо, даме, подсевшей к нему и наивно слушавшей его, – предел положен, его же не прейдеши.
– Я думаю, не поздно ли соборовать? – прибавляя духовный титул, спрашивала дама, как будто не имея на этот счет никакого своего мнения.
– Таинство, матушка, великое, – отвечало духовное лицо, проводя рукою по лысине, по которой пролегало несколько прядей зачесанных полуседых волос.
– Это кто же? сам главнокомандующий был? – спрашивали в другом конце комнаты. – Какой моложавый!…
– А седьмой десяток! Что, говорят, граф то не узнает уж? Хотели соборовать?
– Я одного знал: семь раз соборовался.
Вторая княжна только вышла из комнаты больного с заплаканными глазами и села подле доктора Лоррена, который в грациозной позе сидел под портретом Екатерины, облокотившись на стол.
– Tres beau, – говорил доктор, отвечая на вопрос о погоде, – tres beau, princesse, et puis, a Moscou on se croit a la campagne. [прекрасная погода, княжна, и потом Москва так похожа на деревню.]
– N'est ce pas? [Не правда ли?] – сказала княжна, вздыхая. – Так можно ему пить?
Лоррен задумался.
– Он принял лекарство?
– Да.
Доктор посмотрел на брегет.
– Возьмите стакан отварной воды и положите une pincee (он своими тонкими пальцами показал, что значит une pincee) de cremortartari… [щепотку кремортартара…]
– Не пило слушай , – говорил немец доктор адъютанту, – чтопи с третий удар шивь оставался .
– А какой свежий был мужчина! – говорил адъютант. – И кому пойдет это богатство? – прибавил он шопотом.
– Окотник найдутся , – улыбаясь, отвечал немец.
Все опять оглянулись на дверь: она скрипнула, и вторая княжна, сделав питье, показанное Лорреном, понесла его больному. Немец доктор подошел к Лоррену.
– Еще, может, дотянется до завтрашнего утра? – спросил немец, дурно выговаривая по французски.
Лоррен, поджав губы, строго и отрицательно помахал пальцем перед своим носом.
– Сегодня ночью, не позже, – сказал он тихо, с приличною улыбкой самодовольства в том, что ясно умеет понимать и выражать положение больного, и отошел.
Между тем князь Василий отворил дверь в комнату княжны.
В комнате было полутемно; только две лампадки горели перед образами, и хорошо пахло куреньем и цветами. Вся комната была установлена мелкою мебелью шифоньерок, шкапчиков, столиков. Из за ширм виднелись белые покрывала высокой пуховой кровати. Собачка залаяла.
– Ах, это вы, mon cousin?
Она встала и оправила волосы, которые у нее всегда, даже и теперь, были так необыкновенно гладки, как будто они были сделаны из одного куска с головой и покрыты лаком.
– Что, случилось что нибудь? – спросила она. – Я уже так напугалась.
– Ничего, всё то же; я только пришел поговорить с тобой, Катишь, о деле, – проговорил князь, устало садясь на кресло, с которого она встала. – Как ты нагрела, однако, – сказал он, – ну, садись сюда, causons. [поговорим.]
– Я думала, не случилось ли что? – сказала княжна и с своим неизменным, каменно строгим выражением лица села против князя, готовясь слушать.
– Хотела уснуть, mon cousin, и не могу.
– Ну, что, моя милая? – сказал князь Василий, взяв руку княжны и пригибая ее по своей привычке книзу.
Видно было, что это «ну, что» относилось ко многому такому, что, не называя, они понимали оба.
Княжна, с своею несообразно длинною по ногам, сухою и прямою талией, прямо и бесстрастно смотрела на князя выпуклыми серыми глазами. Она покачала головой и, вздохнув, посмотрела на образа. Жест ее можно было объяснить и как выражение печали и преданности, и как выражение усталости и надежды на скорый отдых. Князь Василий объяснил этот жест как выражение усталости.
– А мне то, – сказал он, – ты думаешь, легче? Je suis ereinte, comme un cheval de poste; [Я заморен, как почтовая лошадь;] а всё таки мне надо с тобой поговорить, Катишь, и очень серьезно.
Князь Василий замолчал, и щеки его начинали нервически подергиваться то на одну, то на другую сторону, придавая его лицу неприятное выражение, какое никогда не показывалось на лице князя Василия, когда он бывал в гостиных. Глаза его тоже были не такие, как всегда: то они смотрели нагло шутливо, то испуганно оглядывались.
Княжна, своими сухими, худыми руками придерживая на коленях собачку, внимательно смотрела в глаза князю Василию; но видно было, что она не прервет молчания вопросом, хотя бы ей пришлось молчать до утра.
– Вот видите ли, моя милая княжна и кузина, Катерина Семеновна, – продолжал князь Василий, видимо, не без внутренней борьбы приступая к продолжению своей речи, – в такие минуты, как теперь, обо всём надо подумать. Надо подумать о будущем, о вас… Я вас всех люблю, как своих детей, ты это знаешь.
Княжна так же тускло и неподвижно смотрела на него.
– Наконец, надо подумать и о моем семействе, – сердито отталкивая от себя столик и не глядя на нее, продолжал князь Василий, – ты знаешь, Катишь, что вы, три сестры Мамонтовы, да еще моя жена, мы одни прямые наследники графа. Знаю, знаю, как тебе тяжело говорить и думать о таких вещах. И мне не легче; но, друг мой, мне шестой десяток, надо быть ко всему готовым. Ты знаешь ли, что я послал за Пьером, и что граф, прямо указывая на его портрет, требовал его к себе?
Князь Василий вопросительно посмотрел на княжну, но не мог понять, соображала ли она то, что он ей сказал, или просто смотрела на него…
– Я об одном не перестаю молить Бога, mon cousin, – отвечала она, – чтоб он помиловал его и дал бы его прекрасной душе спокойно покинуть эту…
– Да, это так, – нетерпеливо продолжал князь Василий, потирая лысину и опять с злобой придвигая к себе отодвинутый столик, – но, наконец…наконец дело в том, ты сама знаешь, что прошлою зимой граф написал завещание, по которому он всё имение, помимо прямых наследников и нас, отдавал Пьеру.
– Мало ли он писал завещаний! – спокойно сказала княжна. – Но Пьеру он не мог завещать. Пьер незаконный.
– Ma chere, – сказал вдруг князь Василий, прижав к себе столик, оживившись и начав говорить скорей, – но что, ежели письмо написано государю, и граф просит усыновить Пьера? Понимаешь, по заслугам графа его просьба будет уважена…
Княжна улыбнулась, как улыбаются люди, которые думают что знают дело больше, чем те, с кем разговаривают.
– Я тебе скажу больше, – продолжал князь Василий, хватая ее за руку, – письмо было написано, хотя и не отослано, и государь знал о нем. Вопрос только в том, уничтожено ли оно, или нет. Ежели нет, то как скоро всё кончится , – князь Василий вздохнул, давая этим понять, что он разумел под словами всё кончится , – и вскроют бумаги графа, завещание с письмом будет передано государю, и просьба его, наверно, будет уважена. Пьер, как законный сын, получит всё.
– А наша часть? – спросила княжна, иронически улыбаясь так, как будто всё, но только не это, могло случиться.
– Mais, ma pauvre Catiche, c'est clair, comme le jour. [Но, моя дорогая Катишь, это ясно, как день.] Он один тогда законный наследник всего, а вы не получите ни вот этого. Ты должна знать, моя милая, были ли написаны завещание и письмо, и уничтожены ли они. И ежели почему нибудь они забыты, то ты должна знать, где они, и найти их, потому что…
– Этого только недоставало! – перебила его княжна, сардонически улыбаясь и не изменяя выражения глаз. – Я женщина; по вашему мы все глупы; но я настолько знаю, что незаконный сын не может наследовать… Un batard, [Незаконный,] – прибавила она, полагая этим переводом окончательно показать князю его неосновательность.
– Как ты не понимаешь, наконец, Катишь! Ты так умна: как ты не понимаешь, – ежели граф написал письмо государю, в котором просит его признать сына законным, стало быть, Пьер уж будет не Пьер, а граф Безухой, и тогда он по завещанию получит всё? И ежели завещание с письмом не уничтожены, то тебе, кроме утешения, что ты была добродетельна et tout ce qui s'en suit, [и всего, что отсюда вытекает,] ничего не останется. Это верно.
– Я знаю, что завещание написано; но знаю тоже, что оно недействительно, и вы меня, кажется, считаете за совершенную дуру, mon cousin, – сказала княжна с тем выражением, с которым говорят женщины, полагающие, что они сказали нечто остроумное и оскорбительное.
– Милая ты моя княжна Катерина Семеновна, – нетерпеливо заговорил князь Василий. – Я пришел к тебе не за тем, чтобы пикироваться с тобой, а за тем, чтобы как с родной, хорошею, доброю, истинною родной, поговорить о твоих же интересах. Я тебе говорю десятый раз, что ежели письмо к государю и завещание в пользу Пьера есть в бумагах графа, то ты, моя голубушка, и с сестрами, не наследница. Ежели ты мне не веришь, то поверь людям знающим: я сейчас говорил с Дмитрием Онуфриичем (это был адвокат дома), он то же сказал.
Видимо, что то вдруг изменилось в мыслях княжны; тонкие губы побледнели (глаза остались те же), и голос, в то время как она заговорила, прорывался такими раскатами, каких она, видимо, сама не ожидала.
– Это было бы хорошо, – сказала она. – Я ничего не хотела и не хочу.
Она сбросила свою собачку с колен и оправила складки платья.
– Вот благодарность, вот признательность людям, которые всем пожертвовали для него, – сказала она. – Прекрасно! Очень хорошо! Мне ничего не нужно, князь.
– Да, но ты не одна, у тебя сестры, – ответил князь Василий.
Но княжна не слушала его.
– Да, я это давно знала, но забыла, что, кроме низости, обмана, зависти, интриг, кроме неблагодарности, самой черной неблагодарности, я ничего не могла ожидать в этом доме…
– Знаешь ли ты или не знаешь, где это завещание? – спрашивал князь Василий еще с большим, чем прежде, подергиванием щек.
– Да, я была глупа, я еще верила в людей и любила их и жертвовала собой. А успевают только те, которые подлы и гадки. Я знаю, чьи это интриги.
Княжна хотела встать, но князь удержал ее за руку. Княжна имела вид человека, вдруг разочаровавшегося во всем человеческом роде; она злобно смотрела на своего собеседника.
– Еще есть время, мой друг. Ты помни, Катишь, что всё это сделалось нечаянно, в минуту гнева, болезни, и потом забыто. Наша обязанность, моя милая, исправить его ошибку, облегчить его последние минуты тем, чтобы не допустить его сделать этой несправедливости, не дать ему умереть в мыслях, что он сделал несчастными тех людей…
– Тех людей, которые всем пожертвовали для него, – подхватила княжна, порываясь опять встать, но князь не пустил ее, – чего он никогда не умел ценить. Нет, mon cousin, – прибавила она со вздохом, – я буду помнить, что на этом свете нельзя ждать награды, что на этом свете нет ни чести, ни справедливости. На этом свете надо быть хитрою и злою.
– Ну, voyons, [послушай,] успокойся; я знаю твое прекрасное сердце.
– Нет, у меня злое сердце.
– Я знаю твое сердце, – повторил князь, – ценю твою дружбу и желал бы, чтобы ты была обо мне того же мнения. Успокойся и parlons raison, [поговорим толком,] пока есть время – может, сутки, может, час; расскажи мне всё, что ты знаешь о завещании, и, главное, где оно: ты должна знать. Мы теперь же возьмем его и покажем графу. Он, верно, забыл уже про него и захочет его уничтожить. Ты понимаешь, что мое одно желание – свято исполнить его волю; я затем только и приехал сюда. Я здесь только затем, чтобы помогать ему и вам.
– Теперь я всё поняла. Я знаю, чьи это интриги. Я знаю, – говорила княжна.
– Hе в том дело, моя душа.
– Это ваша protegee, [любимица,] ваша милая княгиня Друбецкая, Анна Михайловна, которую я не желала бы иметь горничной, эту мерзкую, гадкую женщину.
– Ne perdons point de temps. [Не будем терять время.]
– Ax, не говорите! Прошлую зиму она втерлась сюда и такие гадости, такие скверности наговорила графу на всех нас, особенно Sophie, – я повторить не могу, – что граф сделался болен и две недели не хотел нас видеть. В это время, я знаю, что он написал эту гадкую, мерзкую бумагу; но я думала, что эта бумага ничего не значит.
– Nous у voila, [В этом то и дело.] отчего же ты прежде ничего не сказала мне?
– В мозаиковом портфеле, который он держит под подушкой. Теперь я знаю, – сказала княжна, не отвечая. – Да, ежели есть за мной грех, большой грех, то это ненависть к этой мерзавке, – почти прокричала княжна, совершенно изменившись. – И зачем она втирается сюда? Но я ей выскажу всё, всё. Придет время!
В то время как такие разговоры происходили в приемной и в княжниной комнатах, карета с Пьером (за которым было послано) и с Анной Михайловной (которая нашла нужным ехать с ним) въезжала во двор графа Безухого. Когда колеса кареты мягко зазвучали по соломе, настланной под окнами, Анна Михайловна, обратившись к своему спутнику с утешительными словами, убедилась в том, что он спит в углу кареты, и разбудила его. Очнувшись, Пьер за Анною Михайловной вышел из кареты и тут только подумал о том свидании с умирающим отцом, которое его ожидало. Он заметил, что они подъехали не к парадному, а к заднему подъезду. В то время как он сходил с подножки, два человека в мещанской одежде торопливо отбежали от подъезда в тень стены. Приостановившись, Пьер разглядел в тени дома с обеих сторон еще несколько таких же людей. Но ни Анна Михайловна, ни лакей, ни кучер, которые не могли не видеть этих людей, не обратили на них внимания. Стало быть, это так нужно, решил сам с собой Пьер и прошел за Анною Михайловной. Анна Михайловна поспешными шагами шла вверх по слабо освещенной узкой каменной лестнице, подзывая отстававшего за ней Пьера, который, хотя и не понимал, для чего ему надо было вообще итти к графу, и еще меньше, зачем ему надо было итти по задней лестнице, но, судя по уверенности и поспешности Анны Михайловны, решил про себя, что это было необходимо нужно. На половине лестницы чуть не сбили их с ног какие то люди с ведрами, которые, стуча сапогами, сбегали им навстречу. Люди эти прижались к стене, чтобы пропустить Пьера с Анной Михайловной, и не показали ни малейшего удивления при виде их.








