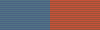Ямагата Аритомо
| Ямагата Аритомо 山縣有朋<tr><td colspan="2" style="text-align: center; border-top: solid darkgray 1px;">  </td></tr> </td></tr>
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 декабря 1889 — 6 мая 1891 | ||||||||||||
| Монарх: | Мэйдзи | |||||||||||
| Предшественник: | Курода Киётака | |||||||||||
| Преемник: | Мацуката Масаёси | |||||||||||
| ||||||||||||
| 8 ноября 1898 — 19 ноября 1900 | ||||||||||||
| Монарх: | Мэйдзи | |||||||||||
| Предшественник: | Окума Сигэнобу | |||||||||||
| Преемник: | Ито Хиробуми | |||||||||||
| Рождение: | 14 июня 1838 город Хаги, княжество Тёсю, сёгунат Токугава | |||||||||||
| Смерть: | 1 февраля 1922 (83 года) Токио, Япония | |||||||||||
| Военная служба | ||||||||||||
| Звание: | маршал | |||||||||||
| Награды: |
| |||||||||||
Ямагата Аритомо (яп. 山県有朋) — японский политический и государственный деятель, военный. 3-й и 9-й премьер-министр Японии (24 декабря 1889 — 6 мая 1891, 8 ноября 1898 — 19 октября 1900). Генерал Императорской армии Японии, маршал, председатель Генерального штаба армии (1878—1882, 1884—1885, 1904—1905). Участник гражданской войны Босин (1868—1869), Сацумского восстания (1877), японо-китайской (1894—1895) и русско-японской (1904—1905) войн. Министр армии (1873—1878), министр внутренних дел (1883—1890), 4-й министр юстиции (1892—1893), 5-й, 9-й и 11-й председатель Тайного совета (1893—1894, 1900—1903, 1909—1922). Гэнро. Лауреат британского Ордена заслуг. Знаток японской поэзии и японского садоводства[1]. За свой вклад в формирование современных вооружённых сил Японии получил прозвище — «отец японской армии». Псевдоним — Гансэцу (яп. 含雪).
Содержание
Жизнеописание
Молодые годы
Ямагата Аритомо родился 14 июня 1838 года в городе Хаги автономного удела Тёсю. Его отец Ямагата Аритоси происходил из незнатных самураев и занимался обслуживанием амбаров[2].
В юности Ямагата учился в частной школе Сёка-сондзюку[ja] под руководством Ёсиды Сёина. Юноша находился под влиянием общественного антиправительственного движения «Да здравствует Император, долой варваров!» и принимал участие во всех военных мероприятиях княжества Тёсю, нацеленных на свержение сёгуната Токугава. За свои управленческие таланты Ямагата получил должность командующего ополчения княжества[2].
После реставрации Мэйдзи в 1868 году в Японии вспыхнула гражданская война, в которой Ямагата выступил на стороне новообразованного императорского правительства. В качестве генерала правительственных войск он командовал военными операциями в регионе Хокурикудо, а также возглавил карательный поход против княжеств провинций Этиго, Дэва и Муцу, членов Северного союза[2].
В 1869 году правительство отправило Ямагата на стажировку в Европу, где он занимался изучением организации вооруженных сил европейских стран. Через год молодой офицер вернулся на родину, получил назначение на должность младшего, а впоследствии старшего вице-министра войны. Вместе с Сайго Такамори Ямагата сформировал императорскую гвардию, основу будущей Императорской армии Японии, а также принимал участие в упразднении княжеств в 1871 году. Вслед за Омурой Масудзиро он планировал создание общенациональных вооруженных сил, которые формировались бы без учета сословной принадлежности, на основе общей воинской повинности. В 1873 году Ямагата добился публикации указа о введении этой повинности, отменив тем самым традиционные самурайские войска и заложив фундамент новейших вооруженных сил Японии[2].
Министр
В 1873 году Ямагата был назначен на должности министра армии и императорского советника. Участвовал в подавлении многочисленных крестьянских и самурайских антиправительственных восстаний, что вспыхивали в течение 1870-х годов. В 1878 году, после пацификации сацумских повстанцев, Ямагата основал по прусским лекалам независимый от министерства Генеральный штаб вооруженных сил, превращенный в 1889 году в Генштаб армии. Он возглавлял его трижды: в 1878—1882, 1884—1885, 1904—1905 годах[2].
В 1878 году Ямагата опубликовал наказ военным (яп. 軍人訓誡 гундзин кункай) , на основе которого составил в 1882 году Императорский рескрипт для военных. Этот документ устанавливал новый кодекс чести для японских солдат и офицеров и провозглашал армию и флот страны защитниками божественной монархии. Он действовал до 1945 года[2].
В 1870-х годах Ямагата выступал против Общественного движения за свободу и народные права («Дзию минкэн ундо»). Он настаивал на эволюционных, а не революционных изменениях и поддерживал идею создания конституции. Так, в 1881 году Ямагата сговорился с Ито Хиробуми и Ивакурой Томоми и добился отставки либеральной группы Окумы Сигэнобу из правительства, благодаря чему правительство смогло составить основной закон Японии по консервативным прусским образцам[2].
В 1882 году Ямагата получил назначение на должность председателя Палаты советников (яп. 参事院 сандзиин), а в следующем году стал министром внутренних дел. Продолжая подавлять выступления сторонников движения за свободу и народные права, он ввёл новую систему контроля за регионами, в которых землевладельцами могли становиться люди исключительно с хорошей репутацией. В 1888 году Ямагата способствовал утверждению новой системы муниципалитетов Японии, по которой все населенные пункты страны делились на города, посёлки и сёла, а в 1890 году присоединился к административной реформе, которая поделила префектуры на уезды. В 1884 году министр был награждён титулом графа и приравнен к титулованной аристократии. В 1890 году его повысили до звания генерала армии, а в 1898 году удостоили званием маршала[2].
Премьер
В 1889 году Ямагата стал премьер-министром Японии и сформировал свой первый кабинет. На первой сессии парламента, которая состоялась в 1890, он настаивал на наращивании военной мощи, противостоял Народной партии, которая требовала установления системы выходных, и сумел обезвредить оппозиционеров из Либеральной партии. В 1891 кабинет Ямагата вышел всём составом в отставку. В том же году за заслуги перед государством император присвоил ему звание гэнро, что давало ему широкие политические полномочия[2].
Во время японско-китайской войны 1894—1895 годов Ямагата был назначен командующим первой армии и уехал на фронт, однако из-за болезни вскоре вернулся домой. После войны он продолжал настаивать на увеличении обороноспособности Японии, ставя в пример незащищённый Китай, который стал жертвой колонизации европейских государств[2].
Во второй половине 1890-х годов Ямагата пытался сдержать фрагментацию японского политикума и государственного аппарата по партийной принадлежности. С этой целью он сформировал собственную большую политическую группу в парламенте, недовольную сотрудничеством ханских фракций правительства с политическими партиями. Эта группа состояла из государственных служащих, депутатов верхней палаты и военных. Генерал выступал против идеи создания многопартийной системы, которую поддерживал гэнро Ито Хиробуми, и ратовал за создание упрощённой двухпартийной системы[2].
В 1898 году, после развала первого кабинета Окумы, Ямагата вновь занял пост премьер-министра страны и сформировал свой второй кабинет. При поддержке Конституционной партии в парламенте, он повысил налог на землю, доходы от которого должны были пойти на наращивание мощи вооруженных сил страны, и внёс поправки в законодательство, которые сделали невозможным приём на государственную службу членов политических партий. Кроме этого, Ямагата расширил полномочия Тайного совета императора и провёл через парламент закон, по которому ключевые должности в военных структурах могли занимать только действительные военные. В его правление также было принято положение о правопорядке и полиции, направленное на подавление антиправительственных выступлений рабочих и крестьян. Во внешней политике Ямагата пытался поддерживать авторитет Японии на уровне передовых европейских государств, поэтому в 1900 году, во время вспышки боксерского восстания в Китае, он прислал на помощь европейским войскам японские армейские подразделения. После создания Ито Хиробуми Общества друзей конституционного правительства он рекомендовал его кандидатуру в качестве своего преемника, а сам ушёл в отставку. С 1901 года Ямагата выполнял роль «серого кардинала» в первом правительстве Кацуры Таро, помогая ему. Он способствовал заключению англо-японского союза, направленному на сдерживание российской экспансии в Азии[2].
Последние годы
Во время русско-японской войны 1904—1905 годов Ямагата находился на посту главы Генерального штаба армии и был генеральным инспектором, ответственным за снабжение и коммуникации в Генеральном штабе вооруженных сил Японии. В 1907 году за заслуги ему пожаловали высокий дворянский титул герцога. После войны генерал занимался разработкой оборонной доктрины Японской империи, которая способствовала наращиванию боеспособности страны и повышению роли армии в политической жизни[2].
В 1909 году, в результате убийства Ито Хиробуми, Ямагата временно усилил своё влияние на вооружённые силы, внутреннюю и внешнюю политику. Однако в 1910-х годах, на фоне роста демократического движения и усиления роли партий в политической жизни Японии, генерал стал терять контроль над ситуацией в стране. Особый удар по нему нанесли рисовые бунты 1918 года, вызванные расстройством японской экономики после Первой мировой войны. Ямагата был вынужден признать Хару Такаси лидером Общества друзей конституционного правительства и допустил представителей политических партий к формированию кабинета министров. В 1921 году он потерпел поражение в дебатах вокруг выбора невесты наследного принца Хирохито. Эти события подорвали силы пожилого генерала. Он умер 1 февраля 1922 года в Токио, в 83-летнем возрасте. Похороны Ямагаты были проведены на самом высоком уровне за государственный счёт[2].
Напишите отзыв о статье "Ямагата Аритомо"
Примечания
- ↑ Сады его особняков и вилл, такие как сад Муринан в Киото, Кокиан в Одаваре или Тиндзан-со в Токио, считаются ценными культурными достопримечательностями Японии.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ямагата Аритомо // Энциклопедия Ниппоника : [яп.] = Ниппон дайхякка дзэнсё : в 26 т. — 2-е изд. — Токио : Сёгакукан, 1994—1997.</span>
</ol>
См. также
Ссылки
- Йамагата Аритомо // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- Ямагата Аритомо — статья из Большой советской энциклопедии.
- [enc-dic.com/enc_japan/Jamagata-aritomo-44/ Ямагата Аритомо] // Япония от А до Я. Популярная иллюстрированная энциклопедия. (CD-ROM). — М.: Directmedia Publishing, «Япония сегодня», 2008. — ISBN 978-5-94865-190-3.
- Барышев Э. А. [cyberleninka.ru/article/n/rol-knyazya-yamagata-v-podgotovke-russko-yaponskogo-soyuza-1916-g-za-kulisami-vizita-velikogo-knyazya-georgiya-mihaylovicha-v-yaponiyu Роль князя Ямагата в подготовке русско-японского союза 1916 г.: за кулисами визита великого князя Георгия Михайловича в Японию]
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||
Отрывок, характеризующий Ямагата Аритомо
Для этого избран толковый офицер, Болховитинов, который, кроме письменного донесения, должен был на словах рассказать все дело. В двенадцатом часу ночи Болховитинов, получив конверт и словесное приказание, поскакал, сопутствуемый казаком, с запасными лошадьми в главный штаб.Ночь была темная, теплая, осенняя. Шел дождик уже четвертый день. Два раза переменив лошадей и в полтора часа проскакав тридцать верст по грязной вязкой дороге, Болховитинов во втором часу ночи был в Леташевке. Слезши у избы, на плетневом заборе которой была вывеска: «Главный штаб», и бросив лошадь, он вошел в темные сени.
– Дежурного генерала скорее! Очень важное! – проговорил он кому то, поднимавшемуся и сопевшему в темноте сеней.
– С вечера нездоровы очень были, третью ночь не спят, – заступнически прошептал денщицкий голос. – Уж вы капитана разбудите сначала.
– Очень важное, от генерала Дохтурова, – сказал Болховитинов, входя в ощупанную им растворенную дверь. Денщик прошел вперед его и стал будить кого то:
– Ваше благородие, ваше благородие – кульер.
– Что, что? от кого? – проговорил чей то сонный голос.
– От Дохтурова и от Алексея Петровича. Наполеон в Фоминском, – сказал Болховитинов, не видя в темноте того, кто спрашивал его, но по звуку голоса предполагая, что это был не Коновницын.
Разбуженный человек зевал и тянулся.
– Будить то мне его не хочется, – сказал он, ощупывая что то. – Больнёшенек! Может, так, слухи.
– Вот донесение, – сказал Болховитинов, – велено сейчас же передать дежурному генералу.
– Постойте, огня зажгу. Куда ты, проклятый, всегда засунешь? – обращаясь к денщику, сказал тянувшийся человек. Это был Щербинин, адъютант Коновницына. – Нашел, нашел, – прибавил он.
Денщик рубил огонь, Щербинин ощупывал подсвечник.
– Ах, мерзкие, – с отвращением сказал он.
При свете искр Болховитинов увидел молодое лицо Щербинина со свечой и в переднем углу еще спящего человека. Это был Коновницын.
Когда сначала синим и потом красным пламенем загорелись серники о трут, Щербинин зажег сальную свечку, с подсвечника которой побежали обгладывавшие ее прусаки, и осмотрел вестника. Болховитинов был весь в грязи и, рукавом обтираясь, размазывал себе лицо.
– Да кто доносит? – сказал Щербинин, взяв конверт.
– Известие верное, – сказал Болховитинов. – И пленные, и казаки, и лазутчики – все единогласно показывают одно и то же.
– Нечего делать, надо будить, – сказал Щербинин, вставая и подходя к человеку в ночном колпаке, укрытому шинелью. – Петр Петрович! – проговорил он. Коновницын не шевелился. – В главный штаб! – проговорил он, улыбнувшись, зная, что эти слова наверное разбудят его. И действительно, голова в ночном колпаке поднялась тотчас же. На красивом, твердом лице Коновницына, с лихорадочно воспаленными щеками, на мгновение оставалось еще выражение далеких от настоящего положения мечтаний сна, но потом вдруг он вздрогнул: лицо его приняло обычно спокойное и твердое выражение.
– Ну, что такое? От кого? – неторопливо, но тотчас же спросил он, мигая от света. Слушая донесение офицера, Коновницын распечатал и прочел. Едва прочтя, он опустил ноги в шерстяных чулках на земляной пол и стал обуваться. Потом снял колпак и, причесав виски, надел фуражку.
– Ты скоро доехал? Пойдем к светлейшему.
Коновницын тотчас понял, что привезенное известие имело большую важность и что нельзя медлить. Хорошо ли, дурно ли это было, он не думал и не спрашивал себя. Его это не интересовало. На все дело войны он смотрел не умом, не рассуждением, а чем то другим. В душе его было глубокое, невысказанное убеждение, что все будет хорошо; но что этому верить не надо, и тем более не надо говорить этого, а надо делать только свое дело. И это свое дело он делал, отдавая ему все свои силы.
Петр Петрович Коновницын, так же как и Дохтуров, только как бы из приличия внесенный в список так называемых героев 12 го года – Барклаев, Раевских, Ермоловых, Платовых, Милорадовичей, так же как и Дохтуров, пользовался репутацией человека весьма ограниченных способностей и сведений, и, так же как и Дохтуров, Коновницын никогда не делал проектов сражений, но всегда находился там, где было труднее всего; спал всегда с раскрытой дверью с тех пор, как был назначен дежурным генералом, приказывая каждому посланному будить себя, всегда во время сраженья был под огнем, так что Кутузов упрекал его за то и боялся посылать, и был так же, как и Дохтуров, одной из тех незаметных шестерен, которые, не треща и не шумя, составляют самую существенную часть машины.
Выходя из избы в сырую, темную ночь, Коновницын нахмурился частью от головной усилившейся боли, частью от неприятной мысли, пришедшей ему в голову о том, как теперь взволнуется все это гнездо штабных, влиятельных людей при этом известии, в особенности Бенигсен, после Тарутина бывший на ножах с Кутузовым; как будут предлагать, спорить, приказывать, отменять. И это предчувствие неприятно ему было, хотя он и знал, что без этого нельзя.
Действительно, Толь, к которому он зашел сообщить новое известие, тотчас же стал излагать свои соображения генералу, жившему с ним, и Коновницын, молча и устало слушавший, напомнил ему, что надо идти к светлейшему.
Кутузов, как и все старые люди, мало спал по ночам. Он днем часто неожиданно задремывал; но ночью он, не раздеваясь, лежа на своей постели, большею частию не спал и думал.
Так он лежал и теперь на своей кровати, облокотив тяжелую, большую изуродованную голову на пухлую руку, и думал, открытым одним глазом присматриваясь к темноте.
С тех пор как Бенигсен, переписывавшийся с государем и имевший более всех силы в штабе, избегал его, Кутузов был спокойнее в том отношении, что его с войсками не заставят опять участвовать в бесполезных наступательных действиях. Урок Тарутинского сражения и кануна его, болезненно памятный Кутузову, тоже должен был подействовать, думал он.
«Они должны понять, что мы только можем проиграть, действуя наступательно. Терпение и время, вот мои воины богатыри!» – думал Кутузов. Он знал, что не надо срывать яблоко, пока оно зелено. Оно само упадет, когда будет зрело, а сорвешь зелено, испортишь яблоко и дерево, и сам оскомину набьешь. Он, как опытный охотник, знал, что зверь ранен, ранен так, как только могла ранить вся русская сила, но смертельно или нет, это был еще не разъясненный вопрос. Теперь, по присылкам Лористона и Бертелеми и по донесениям партизанов, Кутузов почти знал, что он ранен смертельно. Но нужны были еще доказательства, надо было ждать.
«Им хочется бежать посмотреть, как они его убили. Подождите, увидите. Все маневры, все наступления! – думал он. – К чему? Все отличиться. Точно что то веселое есть в том, чтобы драться. Они точно дети, от которых не добьешься толку, как было дело, оттого что все хотят доказать, как они умеют драться. Да не в том теперь дело.
И какие искусные маневры предлагают мне все эти! Им кажется, что, когда они выдумали две три случайности (он вспомнил об общем плане из Петербурга), они выдумали их все. А им всем нет числа!»
Неразрешенный вопрос о том, смертельна или не смертельна ли была рана, нанесенная в Бородине, уже целый месяц висел над головой Кутузова. С одной стороны, французы заняли Москву. С другой стороны, несомненно всем существом своим Кутузов чувствовал, что тот страшный удар, в котором он вместе со всеми русскими людьми напряг все свои силы, должен был быть смертелен. Но во всяком случае нужны были доказательства, и он ждал их уже месяц, и чем дальше проходило время, тем нетерпеливее он становился. Лежа на своей постели в свои бессонные ночи, он делал то самое, что делала эта молодежь генералов, то самое, за что он упрекал их. Он придумывал все возможные случайности, в которых выразится эта верная, уже свершившаяся погибель Наполеона. Он придумывал эти случайности так же, как и молодежь, но только с той разницей, что он ничего не основывал на этих предположениях и что он видел их не две и три, а тысячи. Чем дальше он думал, тем больше их представлялось. Он придумывал всякого рода движения наполеоновской армии, всей или частей ее – к Петербургу, на него, в обход его, придумывал (чего он больше всего боялся) и ту случайность, что Наполеон станет бороться против него его же оружием, что он останется в Москве, выжидая его. Кутузов придумывал даже движение наполеоновской армии назад на Медынь и Юхнов, но одного, чего он не мог предвидеть, это того, что совершилось, того безумного, судорожного метания войска Наполеона в продолжение первых одиннадцати дней его выступления из Москвы, – метания, которое сделало возможным то, о чем все таки не смел еще тогда думать Кутузов: совершенное истребление французов. Донесения Дорохова о дивизии Брусье, известия от партизанов о бедствиях армии Наполеона, слухи о сборах к выступлению из Москвы – все подтверждало предположение, что французская армия разбита и сбирается бежать; но это были только предположения, казавшиеся важными для молодежи, но не для Кутузова. Он с своей шестидесятилетней опытностью знал, какой вес надо приписывать слухам, знал, как способны люди, желающие чего нибудь, группировать все известия так, что они как будто подтверждают желаемое, и знал, как в этом случае охотно упускают все противоречащее. И чем больше желал этого Кутузов, тем меньше он позволял себе этому верить. Вопрос этот занимал все его душевные силы. Все остальное было для него только привычным исполнением жизни. Таким привычным исполнением и подчинением жизни были его разговоры с штабными, письма к m me Stael, которые он писал из Тарутина, чтение романов, раздачи наград, переписка с Петербургом и т. п. Но погибель французов, предвиденная им одним, было его душевное, единственное желание.
В ночь 11 го октября он лежал, облокотившись на руку, и думал об этом.
В соседней комнате зашевелилось, и послышались шаги Толя, Коновницына и Болховитинова.
– Эй, кто там? Войдите, войди! Что новенького? – окликнул их фельдмаршал.
Пока лакей зажигал свечу, Толь рассказывал содержание известий.
– Кто привез? – спросил Кутузов с лицом, поразившим Толя, когда загорелась свеча, своей холодной строгостью.
– Не может быть сомнения, ваша светлость.
– Позови, позови его сюда!
Кутузов сидел, спустив одну ногу с кровати и навалившись большим животом на другую, согнутую ногу. Он щурил свой зрячий глаз, чтобы лучше рассмотреть посланного, как будто в его чертах он хотел прочесть то, что занимало его.
– Скажи, скажи, дружок, – сказал он Болховитинову своим тихим, старческим голосом, закрывая распахнувшуюся на груди рубашку. – Подойди, подойди поближе. Какие ты привез мне весточки? А? Наполеон из Москвы ушел? Воистину так? А?
Болховитинов подробно доносил сначала все то, что ему было приказано.
– Говори, говори скорее, не томи душу, – перебил его Кутузов.
Болховитинов рассказал все и замолчал, ожидая приказания. Толь начал было говорить что то, но Кутузов перебил его. Он хотел сказать что то, но вдруг лицо его сщурилось, сморщилось; он, махнув рукой на Толя, повернулся в противную сторону, к красному углу избы, черневшему от образов.
– Господи, создатель мой! Внял ты молитве нашей… – дрожащим голосом сказал он, сложив руки. – Спасена Россия. Благодарю тебя, господи! – И он заплакал.
Со времени этого известия и до конца кампании вся деятельность Кутузова заключается только в том, чтобы властью, хитростью, просьбами удерживать свои войска от бесполезных наступлений, маневров и столкновений с гибнущим врагом. Дохтуров идет к Малоярославцу, но Кутузов медлит со всей армией и отдает приказания об очищении Калуги, отступление за которую представляется ему весьма возможным.
Кутузов везде отступает, но неприятель, не дожидаясь его отступления, бежит назад, в противную сторону.
Историки Наполеона описывают нам искусный маневр его на Тарутино и Малоярославец и делают предположения о том, что бы было, если бы Наполеон успел проникнуть в богатые полуденные губернии.
Но не говоря о том, что ничто не мешало Наполеону идти в эти полуденные губернии (так как русская армия давала ему дорогу), историки забывают то, что армия Наполеона не могла быть спасена ничем, потому что она в самой себе несла уже тогда неизбежные условия гибели. Почему эта армия, нашедшая обильное продовольствие в Москве и не могшая удержать его, а стоптавшая его под ногами, эта армия, которая, придя в Смоленск, не разбирала продовольствия, а грабила его, почему эта армия могла бы поправиться в Калужской губернии, населенной теми же русскими, как и в Москве, и с тем же свойством огня сжигать то, что зажигают?
- Родившиеся 14 июня
- Родившиеся в 1838 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Хаги
- Умершие 1 февраля
- Умершие в 1922 году
- Умершие в Токио
- Кавалеры Высшего ордена Хризантемы
- Кавалеры ордена Цветов павловнии
- Кавалеры ордена Золотого коршуна 1 степени
- Кавалеры ордена Восходящего солнца 1 класса
- Почётные кавалеры британского ордена Заслуг
- Кавалеры большого креста ордена Святого Михаила и Святого Георгия
- Кавалеры Большого креста ордена Святых Маврикия и Лазаря
- Кавалеры Большого креста ордена Почётного легиона
- Кавалеры ордена Красного орла Большой крест
- Кавалеры ордена Чёрного орла
- Кавалеры ордена Белого орла (Российская империя)
- Премьер-министры Японии
- Государственные деятели Японии
- Министры внутренних дел Японии
- Участники Японо-китайской войны (1894—1895)
- Князья Японии
- Маршалы армии (Япония)