Корабль 5 ранга
 Корабль 5 ранга — в эпоху парусных кораблей, непригодный к эскадренному бою в линии баталии. В конце XVIII — начале XIX века — 32-44 пушечный парусный фрегат водоизмещением 650—1450 т. В британской системе рангов назывался англ. Fifth Rate.
Корабль 5 ранга — в эпоху парусных кораблей, непригодный к эскадренному бою в линии баталии. В конце XVIII — начале XIX века — 32-44 пушечный парусный фрегат водоизмещением 650—1450 т. В британской системе рангов назывался англ. Fifth Rate.
Содержание
Происхождение (XVII век)
 Введение пятого (и шестого) ранга в середине XVII века прямо связано с появлением фрегатов. Этот исходно французский тип, тогда ещё не устоявшийся, однако имел два основных признака: был слишком слаб, чтобы сражаться наравне с линейными кораблями, и достаточно быстр для разведки и дозора, самостоятельного крейсерства, или связной и посыльной службы. Мэхэн утверждает, что уже при Бичи-Хед у Турвиля имелись фрегаты,[1] но об их облике и вооружении известно мало.
Введение пятого (и шестого) ранга в середине XVII века прямо связано с появлением фрегатов. Этот исходно французский тип, тогда ещё не устоявшийся, однако имел два основных признака: был слишком слаб, чтобы сражаться наравне с линейными кораблями, и достаточно быстр для разведки и дозора, самостоятельного крейсерства, или связной и посыльной службы. Мэхэн утверждает, что уже при Бичи-Хед у Турвиля имелись фрегаты,[1] но об их облике и вооружении известно мало.
Первым «истинным» фрегатом считается 26-пушечная французская Médée (1741), спроектированная и построенная в Бресте Блезом Оливье (фр. Blaise Ollivier). Уже в 1744 году она попала в руки англичан, но после снятия чертежей была продана частному владельцу.[2] Она имела все признаки классического фрегата: три мачты с прямым вооружением, одну батарейную палубу, невооруженный орлоп-дек, лёгкие пушки на шканцах и баке.
Как только фрегаты появились у французов, их оценили и другие страны. Англия немедленно приступила к их строительству. Появившаяся в 1677 британская система рангов определяет 5 ранг как корабли с одной батарейной палубой в 26-30 пушек калибром 6 или 9 фунтов. При этом единственная батарейная палуба (дек), подобно опердеку линейного корабля, не была полностью закрытой: в носу и корме она перекрывалась полностью, но на шкафуте имелся вырез — шлюпочный колодец (англ. well deck), а по бортам над пушками помосты (англ. gangways). На них (и на баке и шканцах) могло быть вспомогательное вооружение: пушки меньшего калибра, а с 1780-х годов карронады.
В таком виде фрегат существовал до 1810-х годов, когда американские (и одновременно французские) кораблестроители ввели сплошную верхнюю палубу.
Век паруса (1756—1815)
 На рубеже XVIII-XIX веков к 5 рангу относились три типа фрегатов: 32-пушечный, 36-пушечный, и 38-пушечный. Во время Англо-американской войны 1812 года к ним добавился 44-пушечный. Поскольку номинальное число пушек корабля могло меняться в ходе службы, полуофициальным методом оценки боевой мощи был ещё калибр главного вооружения. Например, говорили «9-фунтовый» или «12-фунтовый» фрегат.
На рубеже XVIII-XIX веков к 5 рангу относились три типа фрегатов: 32-пушечный, 36-пушечный, и 38-пушечный. Во время Англо-американской войны 1812 года к ним добавился 44-пушечный. Поскольку номинальное число пушек корабля могло меняться в ходе службы, полуофициальным методом оценки боевой мощи был ещё калибр главного вооружения. Например, говорили «9-фунтовый» или «12-фунтовый» фрегат.
К этому времени тип фрегата имел сложившиеся признаки: одну батарейную палубу, легкое вооружение на баке и шканцах, и невооружённую нижнюю палубу (в британском флоте называлась орлоп, в американском коечная палуба — англ. berth deck). Эта последняя была важна потому, что давала высокий свободный от пушечных портов борт (около 7 футов), а значит, возможность применять главную батарею при любой погоде. Немало столкновений с линейными кораблями закончились благодаря этому вничью, а в некоторых случаях и победой, как в зимний шторм 1797 г, когда 38-пушечный HMS Indefatigable довел до полного ничтожества 74-пушечный Droits de l’Homme, который не мог открыть нижние порты.
12-фунтовый фрегат
| Год | В строю | В ремонте
или в резерве |
|---|---|---|
| 1793 | 21 | 23 |
| 1797 | 50 | 9 |
| 1799 | 45 | 13 |
| 1801 | 43 | 1 |
| 1804 | 22 | 11 |
| 1808 | 35 | 8 |
| 1810 | 32 | 3 |
| 1812 | 20 | 5 |
| 1814 | 11 | 0 |
Во французском флоте появление 12-фунтового фрегата следует почти сразу за появлением 8-фунтового.[4] Корабль-прототип Hermione был спущен на воду в 1748 г. В Британии 12-фн фрегат был принят с началом Семилетней войны в 1756, и появился в 32-пушечном и 36-пушечном вариантах. Тот и другой имели по двадцать шесть 12-фн пушек, но вспомогательное вооружение было шесть и десять 6-фн пушек соответственно. Новые корабли считались заменой прежних 44-пушечных двухдечных но, имея только один дек, в глазах некоторых были слишком дороги по критерию огневой мощи к водоизмещению. В результате были заказаны только три 12-фн 36-пушечных корабля (класс Pallas), а водоизмещение 32-пушечных сохранялось на уровне 700 тонн в течение всех 30 лет, что они строились. Превосходные для своего времени корабли, они в большинстве служили подолгу. Например, самый первый 32-пушечный, HMS Southampton, ходил с 1757 года до крушения в 1812.
Для британского Адмиралтейства самой важной характеристикой крейсерских единиц, чуть ли не важнее чем для линейных, была численность. Фрегатов всегда не хватало, и более склонные к драматизму адмиралы утверждали, что сойдут в могилу с эпитафией «мало фрегатов».[3][5] Политика уменьшения размеров имела стратегический смысл, так как давала максимальное число кораблей при заданном бюджете. Однако смысл сохранялся только в условиях господства Британии на морях, когда она не была вынуждена к обороне — на уровне флота, эскадры и даже отдельного корабля. Но ситуация была иной во время Американской революционной войны. Тогда Британия уступила морское превосходство общим силам Франции, Голландии и Американских колоний. Обретенная французами уверенность в себе сделала их 12-фн фрегаты в 900 тонн и более серьёзнейшим противником, который грозил полностью подавить небольшие английские фрегаты.
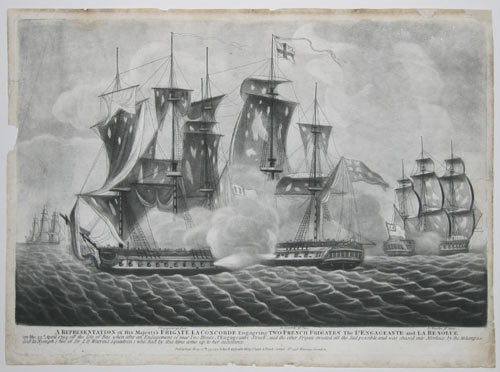 Война заставила Адмиралтейство пересмотреть свои взгляды, и быстро ввести три новшества. Первым, пожалуй самым важным, была обшивка медью, опробованная в 1761 на 32-пушечном HMS Alarm. В ходе войны медью обшили весь крейсерский флот. Благодаря этому увеличилось время в море без докования, а по сути — умножилось число кораблей, доступных в каждый момент. Кроме того, это сделало их быстрее, и значит боеспособнее. Вторым новшеством была карронада. Хотя и с меньшей дальнобойностью, она обладала бо́льшим весом снаряда при том же весе орудия. Она была идеальна для фрегатов, у которых большие участки надстроек были не вооружены, так как позволяла увеличить вес залпа почти без потерь в числе длинноствольных пушек. Дополнительная огневая мощь во многом восстановила утерянный было баланс между французами с испанцами с одной стороны, и англичанами с другой.
Война заставила Адмиралтейство пересмотреть свои взгляды, и быстро ввести три новшества. Первым, пожалуй самым важным, была обшивка медью, опробованная в 1761 на 32-пушечном HMS Alarm. В ходе войны медью обшили весь крейсерский флот. Благодаря этому увеличилось время в море без докования, а по сути — умножилось число кораблей, доступных в каждый момент. Кроме того, это сделало их быстрее, и значит боеспособнее. Вторым новшеством была карронада. Хотя и с меньшей дальнобойностью, она обладала бо́льшим весом снаряда при том же весе орудия. Она была идеальна для фрегатов, у которых большие участки надстроек были не вооружены, так как позволяла увеличить вес залпа почти без потерь в числе длинноствольных пушек. Дополнительная огневая мощь во многом восстановила утерянный было баланс между французами с испанцами с одной стороны, и англичанами с другой.
Третьим новшеством стал качественный скачок, возникший с появлением 18-фн фрегатов. Несмотря на упорство сторонников 44-пушечных двухдечных кораблей, к 1783 году 18-фн фрегат занял прочное место в составе флота, и с тех пор новых заказов на 12-фунтовые не было. Но оставались несколько затянутых программ от прошлого, а 18-фн фрегаты были ещё редки, так что 12-фн доминировали в списках флота до конца Французских революционных войн.
Огромное большинство пополнений среди 12-фн фрегатов были призами. Некоторые, французского или испанского происхождения, по размерам соответствовали британским 18-фн. С началом войны французы строили мало таких кораблей. Одной из последних была Chiffonne, спущенная в 1795 году в Нанте. Несколько построили и в Англии, но новых проектов не было: 32-пушечные корабли класса Thames были повторением HMS Richmond 1756 года. Восемь были заказаны администрацией Сент-Винсента в 1804, один позже отменен. А построенные из сосны HMS Shannon и HMS Madison исходно задумывались как 18-фунтовые, но по ходу постройки были понижены в классе. К 1790-м годам 18-фн калибр стал нормой.
18-фунтовый фрегат
18-фунтовые фрегаты появились в 1778 году, когда традиционное численное превосходство Королевского флота было под угрозой. Они стали попыткой компенсировать количественный недостаток за счёт высокой огневой мощи отдельного корабля. HMS Minerva была родоначальницей типа 38-пушечных фрегатов, а HMS Flora и HMS Perseverance 36-пушечных. Они были очень сильны в роли крейсеров, и короткое время не имели эквивалента в других флотах.
 Как и многие британские корабли того времени, они были слишком малы для установленной батареи, и последующие проекты были склонны увеличивать промежутки между пушками в батарейной палубе, уменьшая их число на 2. Кроме того, возникло мнение что французские фрегаты быстрее, и потому стали расти относительное удлинение и абсолютная длина, вразрез с короткими корпусами, столь любимыми на британских верфях за прочность и маневренность.
Как и многие британские корабли того времени, они были слишком малы для установленной батареи, и последующие проекты были склонны увеличивать промежутки между пушками в батарейной палубе, уменьшая их число на 2. Кроме того, возникло мнение что французские фрегаты быстрее, и потому стали расти относительное удлинение и абсолютная длина, вразрез с короткими корпусами, столь любимыми на британских верфях за прочность и маневренность.
Эта политика, принятая Адмиралтейством при лорде Спенсерe, выразилась в быстрых переменах конструкции и большом количестве одиночных, экспериментальных кораблей, настолько что к Амьенскому миру стандартный тип 18-фунтового фрегата не сложился. К тому же ставший в 1801 Первым лордом Сент-Винсент, следуя убеждению что рост размеров расточителен, вернулся к строительству небольших кораблей.
«Большой», или «тяжёлый» фрегат[6]
 Соединенные Штаты первыми стали строить супер-фрегаты, вооружённые главной батареей из 24-фунтовых пушек. Причин тому было несколько. Во-первых, в ту эпоху они не имели многочисленного флота, а линейных кораблей не имели вовсе. Когда Конгресс, с большим скрипом, одобрял строительство новых кораблей, их старались сделать индивидуально сильнее эквивалентного корабля любой другой страны. Во-вторых, из-за малочисленности, у США была возможность вложить в каждый из кораблей самые лучшие — и гораздо более дорогие — материалы, не заботясь об их экономии. Наконец, кроме чисто практических соображений, это был и вопрос престижа.
Соединенные Штаты первыми стали строить супер-фрегаты, вооружённые главной батареей из 24-фунтовых пушек. Причин тому было несколько. Во-первых, в ту эпоху они не имели многочисленного флота, а линейных кораблей не имели вовсе. Когда Конгресс, с большим скрипом, одобрял строительство новых кораблей, их старались сделать индивидуально сильнее эквивалентного корабля любой другой страны. Во-вторых, из-за малочисленности, у США была возможность вложить в каждый из кораблей самые лучшие — и гораздо более дорогие — материалы, не заботясь об их экономии. Наконец, кроме чисто практических соображений, это был и вопрос престижа.
Самый знаменитый из них — это USS Constitution. Именно его толстый и прочный корпус, щедро сделанный из лучшего, многолетней выдержки дуба, заслужил ему прозвище англ. Old Ironsides — ядра просто отскакивали от него там, где вполне пробивали другие фрегаты.[6]
С начала Революционной войны 1793 года ходили слухи о больших 24-фн фрегатах, переделанных французами из линейных кораблей срезанием одного дека. По-французски тип назывался rasée, то есть «сбритый», «срезанный». Они и вдохновили Хамфриса на создание класса Constitution. В 1794 и британцы срезали три старых 64-пушечных: HMS Anson, HMS Magnanime и HMS Indefatigable, сохранив главную батарею.
Успехи американских фрегатов подтолкнули Адмиралтейство к строительству чего-то крупнее чем стандартный «большой» 38-пушечный 18-фн фрегат. Новые корабли, во главе с HMS Endymion и HMS Acasta, были крупными по британским меркам (1200 и 1100 тонн соответственно), но все же заметно уступали 1500-тонным американским.
Британские фрегаты не дали желаемой отдачи на столь серьёзные затраты. Они были сочтены слишком дорогими и недостаточно выгодными для своего размера. Изо всех фрегатов, они были наиболее подвержены конструктивным проблемем. 24-фн пушки не только расшатывали корпус. Обнаружилось, что они тяжелы в обслуживании на валкой палубе фрегата. В британском флоте утвердилось мнение, что превосходство 24-фн батареи не так уж велико, что и привело вначале к недооценке американских 44-пушечных противников. При этом моряки упускали из виду, что тяжелая батарея покажет себя куда лучше на большой, более устойчивой платформе.
Среди всех «супер-фрегатов» 1790-х звездой стал Endymion. Он был очень быстр, хорошо слушался руля и мог в случае надобности нести 24-фн пушки. Он был хорош настолько, что служил образцом даже для экспериментальных эскадр 1830-х годов. Два примерно похожих корабля были трофейные Forte и L’Egyptienne. Первый был потерян так быстро, что с него не успели сделать чертежи. Второй, захваченный в Александрии в 1801, оказался так слаб корпусом, что после 1807 был переведен на рейдовую службу. Так что когда начались поиски противовеса американским успехам 1812-1813 годов, естественно вспомнили про Endymion. Сам он был не готов в море немедленно, так как нуждался в ремонте «между средним и большим», но по его окончании в мае 1813 был вооружен исходной 24-фн батареей и отправился на Северо-американскую станцию. Тем временем, с него как единственного прототипа стали делать 40-пушечные фрегаты. Имея только 26 портов на батарейной палубе он, в отличие от американских проектов, не нес пушек, способных стрелять вперед. Поэтому в последующие корабли удалось втиснуть по 28 портов.
Постройка из сосны сделала корпуса легче, и в результате жестче. Но в данном случае это позволяло нести большую нагрузку, то есть оказалось преимуществом. Батарейные палубы от этого были тесны, зато корабли не имели проблем с остойчивостью. После доводки они стали прекрасными ходоками, пусть и не такими как сам Endymion. К середине января 1813 пять были заказаны, три планировалось иметь к июлю. Все строились на верфи сэра Роберта Виграма, и составили тип номинально 40-пушечных. Головным был HMS Forth.
Несмотря на скорость постройки из сосны, Адмиралтейство хотело ещё более оперативной реакции. Очевидным шагом было возрождение типа rasée. Командующий Североамериканской станции адмирал сэр Джон Борлэз Уоррен в январе запросил перестройку «шести-семи быстрых линейных». В кои веки Адмиралтейство могло с удовлетворением сообщить, что предвидело запрос и уже действует. На самом деле, осуществлялось предложение капитана Хейса от ноября 1812. По исходному замыслу он предлагал перестроить 64-пушечные, но к тому времени все они были слишком изношены, и в резерве их было мало. Вместо этого Адмиралтейство решило срезать быстрые 74-пушечные из «обычных», и выбрало три: HMS Majestic, HMS Goliath, HMS Saturn, чем спасло их от бесславной роли плавучих тюрем.
Сама перестройка мало напоминала 1794 год. Эти rasées не имели шлюпочных колодцев, и официально считались «промежуточными между фрегатом и линейным». Сохранился заметный ют с планширами, главная батарея в двадцать восемь 32-фн пушек, а на сплошной верхней палубе столько же 42-фн карронад, установленных по-новому: на полозья со шкворнем, что по замыслу должно было уменьшить отдачу и ускорить перезаряжание.
Роль и место
При том, что фрегаты строились под две основные роли: разведка для флота и самостоятельное крейсерство, они оказались настолько универсальны, что встречались везде и повсюду: в блокаде, в защите торговли, при поддержке десантов, в качестве летучих отрядов при преследовании и даже, для более сильных, в передовых боях с целью сковать и задержать линейные корабли. Часто случалось, что фрегат был старшим на удаленной станции или флагманом конвоя.
С точки зрения использования, появление 18-фн фрегата сделало его 12-фн собрата второклассным. Но такова была нехватка 18-фунтовых, что некоторые «меньшие братья» оказались на ключевых ролях. В элитную эскадру Уоррена в середине 1790-х входил HMS Concorde Страчана — большой 12-фн, 36-пушечный фрегат, в прошлом французский. Такие корабли сохранили популярность благодаря отличным ходовым качествам, хотя считались слишком непрочными для тягостей ближней блокады. Вообще же для службы при флоте они были менее популярны, особенно когда на фрегаты стали смотреть как на средство сковывания боем, как например, когда Страчан уничтожил отряд Дюмануара после Трафальгарского боя.
По ходу войны, с появлением больших количеств 18-фн фрегатов, возникла тенденция переводить 12-фунтовые на дальние, малозначимые станции. Несколько оказались в Северном море, — традиционно сиротском среди прочих — но все больше попадали в Ост- и особенно в Вест-индию, где они по-прежнему были сильнее любого приватира — традиционной угрозы торговле.
Другие страны
 Идея «супер-фрегата» (специальной постройки или rasée) нашла много сторонников за пределами Англии. Самыми первыми и наиболее последовательными были Соединенные Штаты. Франция тоже охотно шла этим путём. Все эти изменения дали ощутимый эффект после 1815 года.
Идея «супер-фрегата» (специальной постройки или rasée) нашла много сторонников за пределами Англии. Самыми первыми и наиболее последовательными были Соединенные Штаты. Франция тоже охотно шла этим путём. Все эти изменения дали ощутимый эффект после 1815 года.
Но введение сплошной верхней палубы и установка на ней полной батареи (считается, что первым так был вооружен USS Constitution в 1814) смешали традиционные различия между фрегатом и двухдечным кораблем.
Прошло очень немного времени, и подобные корабли появились у Турции, Австрии, Швеции и Дании, а чуть позже России. Стали говорить о «двухдечных фрегатах». Не помогали уже и обозначения по числу пушек: появились тяжёлые бомбические орудия, стрелявшие разрывными снарядами, и нарезные орудия большой дальнобойности, но из-за огромного веса корабль мог нести их соответственно меньше. В 1840-х годах наблюдается уже заметное размывание типа фрегата. В 5 ранг стали включать и другие корабли.
См. также
Напишите отзыв о статье "Корабль 5 ранга"
Примечания
- ↑ Mahan A.T. The Influence of Sea Power Upon History, 1660—1783. Dover Publications, Inc., New York, 1987, pp.190,192.
- ↑ Lavery, Brian. Ship: The Epic Story of Maritime Adventure. National Maritime Museum, Greenwich, 2004. p.121. ISBN 978-0-7566-5023-0
- ↑ 1 2 The Campaign of Trafalgar: 1803—1805. Robert Gardiner, ed. Chatham Publishing, London, 1997. p.54-56. ISBN 1-86176-028-0
- ↑ Французский фунт (фр. livre) был в 1,1 раза тяжелее английского (англ. pound)
- ↑ Woodman, Richard. An Eye of the Fleet. Warner Books, New York, 1981, p.iii.
- ↑ 1 2 The Naval War of 1812. Robert Gardiner, ed. Chatham Publishing, London, 1998, p.160-161. ISBN 1-55750-654-X
Отрывок, характеризующий Корабль 5 ранга
– Маменька, это нельзя; посмотрите, что на дворе! – закричала она. – Они остаются!..– Что с тобой? Кто они? Что тебе надо?
– Раненые, вот кто! Это нельзя, маменька; это ни на что не похоже… Нет, маменька, голубушка, это не то, простите, пожалуйста, голубушка… Маменька, ну что нам то, что мы увезем, вы посмотрите только, что на дворе… Маменька!.. Это не может быть!..
Граф стоял у окна и, не поворачивая лица, слушал слова Наташи. Вдруг он засопел носом и приблизил свое лицо к окну.
Графиня взглянула на дочь, увидала ее пристыженное за мать лицо, увидала ее волнение, поняла, отчего муж теперь не оглядывался на нее, и с растерянным видом оглянулась вокруг себя.
– Ах, да делайте, как хотите! Разве я мешаю кому нибудь! – сказала она, еще не вдруг сдаваясь.
– Маменька, голубушка, простите меня!
Но графиня оттолкнула дочь и подошла к графу.
– Mon cher, ты распорядись, как надо… Я ведь не знаю этого, – сказала она, виновато опуская глаза.
– Яйца… яйца курицу учат… – сквозь счастливые слезы проговорил граф и обнял жену, которая рада была скрыть на его груди свое пристыженное лицо.
– Папенька, маменька! Можно распорядиться? Можно?.. – спрашивала Наташа. – Мы все таки возьмем все самое нужное… – говорила Наташа.
Граф утвердительно кивнул ей головой, и Наташа тем быстрым бегом, которым она бегивала в горелки, побежала по зале в переднюю и по лестнице на двор.
Люди собрались около Наташи и до тех пор не могли поверить тому странному приказанию, которое она передавала, пока сам граф именем своей жены не подтвердил приказания о том, чтобы отдавать все подводы под раненых, а сундуки сносить в кладовые. Поняв приказание, люди с радостью и хлопотливостью принялись за новое дело. Прислуге теперь это не только не казалось странным, но, напротив, казалось, что это не могло быть иначе, точно так же, как за четверть часа перед этим никому не только не казалось странным, что оставляют раненых, а берут вещи, но казалось, что не могло быть иначе.
Все домашние, как бы выплачивая за то, что они раньше не взялись за это, принялись с хлопотливостью за новое дело размещения раненых. Раненые повыползли из своих комнат и с радостными бледными лицами окружили подводы. В соседних домах тоже разнесся слух, что есть подводы, и на двор к Ростовым стали приходить раненые из других домов. Многие из раненых просили не снимать вещей и только посадить их сверху. Но раз начавшееся дело свалки вещей уже не могло остановиться. Было все равно, оставлять все или половину. На дворе лежали неубранные сундуки с посудой, с бронзой, с картинами, зеркалами, которые так старательно укладывали в прошлую ночь, и всё искали и находили возможность сложить то и то и отдать еще и еще подводы.
– Четверых еще можно взять, – говорил управляющий, – я свою повозку отдаю, а то куда же их?
– Да отдайте мою гардеробную, – говорила графиня. – Дуняша со мной сядет в карету.
Отдали еще и гардеробную повозку и отправили ее за ранеными через два дома. Все домашние и прислуга были весело оживлены. Наташа находилась в восторженно счастливом оживлении, которого она давно не испытывала.
– Куда же его привязать? – говорили люди, прилаживая сундук к узкой запятке кареты, – надо хоть одну подводу оставить.
– Да с чем он? – спрашивала Наташа.
– С книгами графскими.
– Оставьте. Васильич уберет. Это не нужно.
В бричке все было полно людей; сомневались о том, куда сядет Петр Ильич.
– Он на козлы. Ведь ты на козлы, Петя? – кричала Наташа.
Соня не переставая хлопотала тоже; но цель хлопот ее была противоположна цели Наташи. Она убирала те вещи, которые должны были остаться; записывала их, по желанию графини, и старалась захватить с собой как можно больше.
Во втором часу заложенные и уложенные четыре экипажа Ростовых стояли у подъезда. Подводы с ранеными одна за другой съезжали со двора.
Коляска, в которой везли князя Андрея, проезжая мимо крыльца, обратила на себя внимание Сони, устраивавшей вместе с девушкой сиденья для графини в ее огромной высокой карете, стоявшей у подъезда.
– Это чья же коляска? – спросила Соня, высунувшись в окно кареты.
– А вы разве не знали, барышня? – отвечала горничная. – Князь раненый: он у нас ночевал и тоже с нами едут.
– Да кто это? Как фамилия?
– Самый наш жених бывший, князь Болконский! – вздыхая, отвечала горничная. – Говорят, при смерти.
Соня выскочила из кареты и побежала к графине. Графиня, уже одетая по дорожному, в шали и шляпе, усталая, ходила по гостиной, ожидая домашних, с тем чтобы посидеть с закрытыми дверями и помолиться перед отъездом. Наташи не было в комнате.
– Maman, – сказала Соня, – князь Андрей здесь, раненый, при смерти. Он едет с нами.
Графиня испуганно открыла глаза и, схватив за руку Соню, оглянулась.
– Наташа? – проговорила она.
И для Сони и для графини известие это имело в первую минуту только одно значение. Они знали свою Наташу, и ужас о том, что будет с нею при этом известии, заглушал для них всякое сочувствие к человеку, которого они обе любили.
– Наташа не знает еще; но он едет с нами, – сказала Соня.
– Ты говоришь, при смерти?
Соня кивнула головой.
Графиня обняла Соню и заплакала.
«Пути господни неисповедимы!» – думала она, чувствуя, что во всем, что делалось теперь, начинала выступать скрывавшаяся прежде от взгляда людей всемогущая рука.
– Ну, мама, все готово. О чем вы?.. – спросила с оживленным лицом Наташа, вбегая в комнату.
– Ни о чем, – сказала графиня. – Готово, так поедем. – И графиня нагнулась к своему ридикюлю, чтобы скрыть расстроенное лицо. Соня обняла Наташу и поцеловала ее.
Наташа вопросительно взглянула на нее.
– Что ты? Что такое случилось?
– Ничего… Нет…
– Очень дурное для меня?.. Что такое? – спрашивала чуткая Наташа.
Соня вздохнула и ничего не ответила. Граф, Петя, m me Schoss, Мавра Кузминишна, Васильич вошли в гостиную, и, затворив двери, все сели и молча, не глядя друг на друга, посидели несколько секунд.
Граф первый встал и, громко вздохнув, стал креститься на образ. Все сделали то же. Потом граф стал обнимать Мавру Кузминишну и Васильича, которые оставались в Москве, и, в то время как они ловили его руку и целовали его в плечо, слегка трепал их по спине, приговаривая что то неясное, ласково успокоительное. Графиня ушла в образную, и Соня нашла ее там на коленях перед разрозненно по стене остававшимися образами. (Самые дорогие по семейным преданиям образа везлись с собою.)
На крыльце и на дворе уезжавшие люди с кинжалами и саблями, которыми их вооружил Петя, с заправленными панталонами в сапоги и туго перепоясанные ремнями и кушаками, прощались с теми, которые оставались.
Как и всегда при отъездах, многое было забыто и не так уложено, и довольно долго два гайдука стояли с обеих сторон отворенной дверцы и ступенек кареты, готовясь подсадить графиню, в то время как бегали девушки с подушками, узелками из дому в кареты, и коляску, и бричку, и обратно.
– Век свой все перезабудут! – говорила графиня. – Ведь ты знаешь, что я не могу так сидеть. – И Дуняша, стиснув зубы и не отвечая, с выражением упрека на лице, бросилась в карету переделывать сиденье.
– Ах, народ этот! – говорил граф, покачивая головой.
Старый кучер Ефим, с которым одним только решалась ездить графиня, сидя высоко на своих козлах, даже не оглядывался на то, что делалось позади его. Он тридцатилетним опытом знал, что не скоро еще ему скажут «с богом!» и что когда скажут, то еще два раза остановят его и пошлют за забытыми вещами, и уже после этого еще раз остановят, и графиня сама высунется к нему в окно и попросит его Христом богом ехать осторожнее на спусках. Он знал это и потому терпеливее своих лошадей (в особенности левого рыжего – Сокола, который бил ногой и, пережевывая, перебирал удила) ожидал того, что будет. Наконец все уселись; ступеньки собрались и закинулись в карету, дверка захлопнулась, послали за шкатулкой, графиня высунулась и сказала, что должно. Тогда Ефим медленно снял шляпу с своей головы и стал креститься. Форейтор и все люди сделали то же.
– С богом! – сказал Ефим, надев шляпу. – Вытягивай! – Форейтор тронул. Правый дышловой влег в хомут, хрустнули высокие рессоры, и качнулся кузов. Лакей на ходу вскочил на козлы. Встряхнуло карету при выезде со двора на тряскую мостовую, так же встряхнуло другие экипажи, и поезд тронулся вверх по улице. В каретах, коляске и бричке все крестились на церковь, которая была напротив. Остававшиеся в Москве люди шли по обоим бокам экипажей, провожая их.
Наташа редко испытывала столь радостное чувство, как то, которое она испытывала теперь, сидя в карете подле графини и глядя на медленно подвигавшиеся мимо нее стены оставляемой, встревоженной Москвы. Она изредка высовывалась в окно кареты и глядела назад и вперед на длинный поезд раненых, предшествующий им. Почти впереди всех виднелся ей закрытый верх коляски князя Андрея. Она не знала, кто был в ней, и всякий раз, соображая область своего обоза, отыскивала глазами эту коляску. Она знала, что она была впереди всех.
В Кудрине, из Никитской, от Пресни, от Подновинского съехалось несколько таких же поездов, как был поезд Ростовых, и по Садовой уже в два ряда ехали экипажи и подводы.
Объезжая Сухареву башню, Наташа, любопытно и быстро осматривавшая народ, едущий и идущий, вдруг радостно и удивленно вскрикнула:
– Батюшки! Мама, Соня, посмотрите, это он!
– Кто? Кто?
– Смотрите, ей богу, Безухов! – говорила Наташа, высовываясь в окно кареты и глядя на высокого толстого человека в кучерском кафтане, очевидно, наряженного барина по походке и осанке, который рядом с желтым безбородым старичком в фризовой шинели подошел под арку Сухаревой башни.
– Ей богу, Безухов, в кафтане, с каким то старым мальчиком! Ей богу, – говорила Наташа, – смотрите, смотрите!
– Да нет, это не он. Можно ли, такие глупости.
– Мама, – кричала Наташа, – я вам голову дам на отсечение, что это он! Я вас уверяю. Постой, постой! – кричала она кучеру; но кучер не мог остановиться, потому что из Мещанской выехали еще подводы и экипажи, и на Ростовых кричали, чтоб они трогались и не задерживали других.
Действительно, хотя уже гораздо дальше, чем прежде, все Ростовы увидали Пьера или человека, необыкновенно похожего на Пьера, в кучерском кафтане, шедшего по улице с нагнутой головой и серьезным лицом, подле маленького безбородого старичка, имевшего вид лакея. Старичок этот заметил высунувшееся на него лицо из кареты и, почтительно дотронувшись до локтя Пьера, что то сказал ему, указывая на карету. Пьер долго не мог понять того, что он говорил; так он, видимо, погружен был в свои мысли. Наконец, когда он понял его, посмотрел по указанию и, узнав Наташу, в ту же секунду отдаваясь первому впечатлению, быстро направился к карете. Но, пройдя шагов десять, он, видимо, вспомнив что то, остановился.
Высунувшееся из кареты лицо Наташи сияло насмешливою ласкою.
– Петр Кирилыч, идите же! Ведь мы узнали! Это удивительно! – кричала она, протягивая ему руку. – Как это вы? Зачем вы так?
Пьер взял протянутую руку и на ходу (так как карета. продолжала двигаться) неловко поцеловал ее.
– Что с вами, граф? – спросила удивленным и соболезнующим голосом графиня.
– Что? Что? Зачем? Не спрашивайте у меня, – сказал Пьер и оглянулся на Наташу, сияющий, радостный взгляд которой (он чувствовал это, не глядя на нее) обдавал его своей прелестью.
– Что же вы, или в Москве остаетесь? – Пьер помолчал.
– В Москве? – сказал он вопросительно. – Да, в Москве. Прощайте.
– Ах, желала бы я быть мужчиной, я бы непременно осталась с вами. Ах, как это хорошо! – сказала Наташа. – Мама, позвольте, я останусь. – Пьер рассеянно посмотрел на Наташу и что то хотел сказать, но графиня перебила его:
– Вы были на сражении, мы слышали?
– Да, я был, – отвечал Пьер. – Завтра будет опять сражение… – начал было он, но Наташа перебила его:
– Да что же с вами, граф? Вы на себя не похожи…
– Ах, не спрашивайте, не спрашивайте меня, я ничего сам не знаю. Завтра… Да нет! Прощайте, прощайте, – проговорил он, – ужасное время! – И, отстав от кареты, он отошел на тротуар.
Наташа долго еще высовывалась из окна, сияя на него ласковой и немного насмешливой, радостной улыбкой.
Пьер, со времени исчезновения своего из дома, ужа второй день жил на пустой квартире покойного Баздеева. Вот как это случилось.
Проснувшись на другой день после своего возвращения в Москву и свидания с графом Растопчиным, Пьер долго не мог понять того, где он находился и чего от него хотели. Когда ему, между именами прочих лиц, дожидавшихся его в приемной, доложили, что его дожидается еще француз, привезший письмо от графини Елены Васильевны, на него нашло вдруг то чувство спутанности и безнадежности, которому он способен был поддаваться. Ему вдруг представилось, что все теперь кончено, все смешалось, все разрушилось, что нет ни правого, ни виноватого, что впереди ничего не будет и что выхода из этого положения нет никакого. Он, неестественно улыбаясь и что то бормоча, то садился на диван в беспомощной позе, то вставал, подходил к двери и заглядывал в щелку в приемную, то, махая руками, возвращался назад я брался за книгу. Дворецкий в другой раз пришел доложить Пьеру, что француз, привезший от графини письмо, очень желает видеть его хоть на минутку и что приходили от вдовы И. А. Баздеева просить принять книги, так как сама г жа Баздеева уехала в деревню.
– Ах, да, сейчас, подожди… Или нет… да нет, поди скажи, что сейчас приду, – сказал Пьер дворецкому.
Но как только вышел дворецкий, Пьер взял шляпу, лежавшую на столе, и вышел в заднюю дверь из кабинета. В коридоре никого не было. Пьер прошел во всю длину коридора до лестницы и, морщась и растирая лоб обеими руками, спустился до первой площадки. Швейцар стоял у парадной двери. С площадки, на которую спустился Пьер, другая лестница вела к заднему ходу. Пьер пошел по ней и вышел во двор. Никто не видал его. Но на улице, как только он вышел в ворота, кучера, стоявшие с экипажами, и дворник увидали барина и сняли перед ним шапки. Почувствовав на себя устремленные взгляды, Пьер поступил как страус, который прячет голову в куст, с тем чтобы его не видали; он опустил голову и, прибавив шагу, пошел по улице.
Из всех дел, предстоявших Пьеру в это утро, дело разборки книг и бумаг Иосифа Алексеевича показалось ему самым нужным.
Он взял первого попавшегося ему извозчика и велел ему ехать на Патриаршие пруды, где был дом вдовы Баздеева.
Беспрестанно оглядываясь на со всех сторон двигавшиеся обозы выезжавших из Москвы и оправляясь своим тучным телом, чтобы не соскользнуть с дребезжащих старых дрожек, Пьер, испытывая радостное чувство, подобное тому, которое испытывает мальчик, убежавший из школы, разговорился с извозчиком.
Извозчик рассказал ему, что нынешний день разбирают в Кремле оружие, и что на завтрашний народ выгоняют весь за Трехгорную заставу, и что там будет большое сражение.
Приехав на Патриаршие пруды, Пьер отыскал дом Баздеева, в котором он давно не бывал. Он подошел к калитке. Герасим, тот самый желтый безбородый старичок, которого Пьер видел пять лет тому назад в Торжке с Иосифом Алексеевичем, вышел на его стук.
– Дома? – спросил Пьер.
– По обстоятельствам нынешним, Софья Даниловна с детьми уехали в торжковскую деревню, ваше сиятельство.
– Я все таки войду, мне надо книги разобрать, – сказал Пьер.
– Пожалуйте, милости просим, братец покойника, – царство небесное! – Макар Алексеевич остались, да, как изволите знать, они в слабости, – сказал старый слуга.
Макар Алексеевич был, как знал Пьер, полусумасшедший, пивший запоем брат Иосифа Алексеевича.
– Да, да, знаю. Пойдем, пойдем… – сказал Пьер и вошел в дом. Высокий плешивый старый человек в халате, с красным носом, в калошах на босу ногу, стоял в передней; увидав Пьера, он сердито пробормотал что то и ушел в коридор.
– Большого ума были, а теперь, как изволите видеть, ослабели, – сказал Герасим. – В кабинет угодно? – Пьер кивнул головой. – Кабинет как был запечатан, так и остался. Софья Даниловна приказывали, ежели от вас придут, то отпустить книги.
Пьер вошел в тот самый мрачный кабинет, в который он еще при жизни благодетеля входил с таким трепетом. Кабинет этот, теперь запыленный и нетронутый со времени кончины Иосифа Алексеевича, был еще мрачнее.
Герасим открыл один ставень и на цыпочках вышел из комнаты. Пьер обошел кабинет, подошел к шкафу, в котором лежали рукописи, и достал одну из важнейших когда то святынь ордена. Это были подлинные шотландские акты с примечаниями и объяснениями благодетеля. Он сел за письменный запыленный стол и положил перед собой рукописи, раскрывал, закрывал их и, наконец, отодвинув их от себя, облокотившись головой на руки, задумался.
