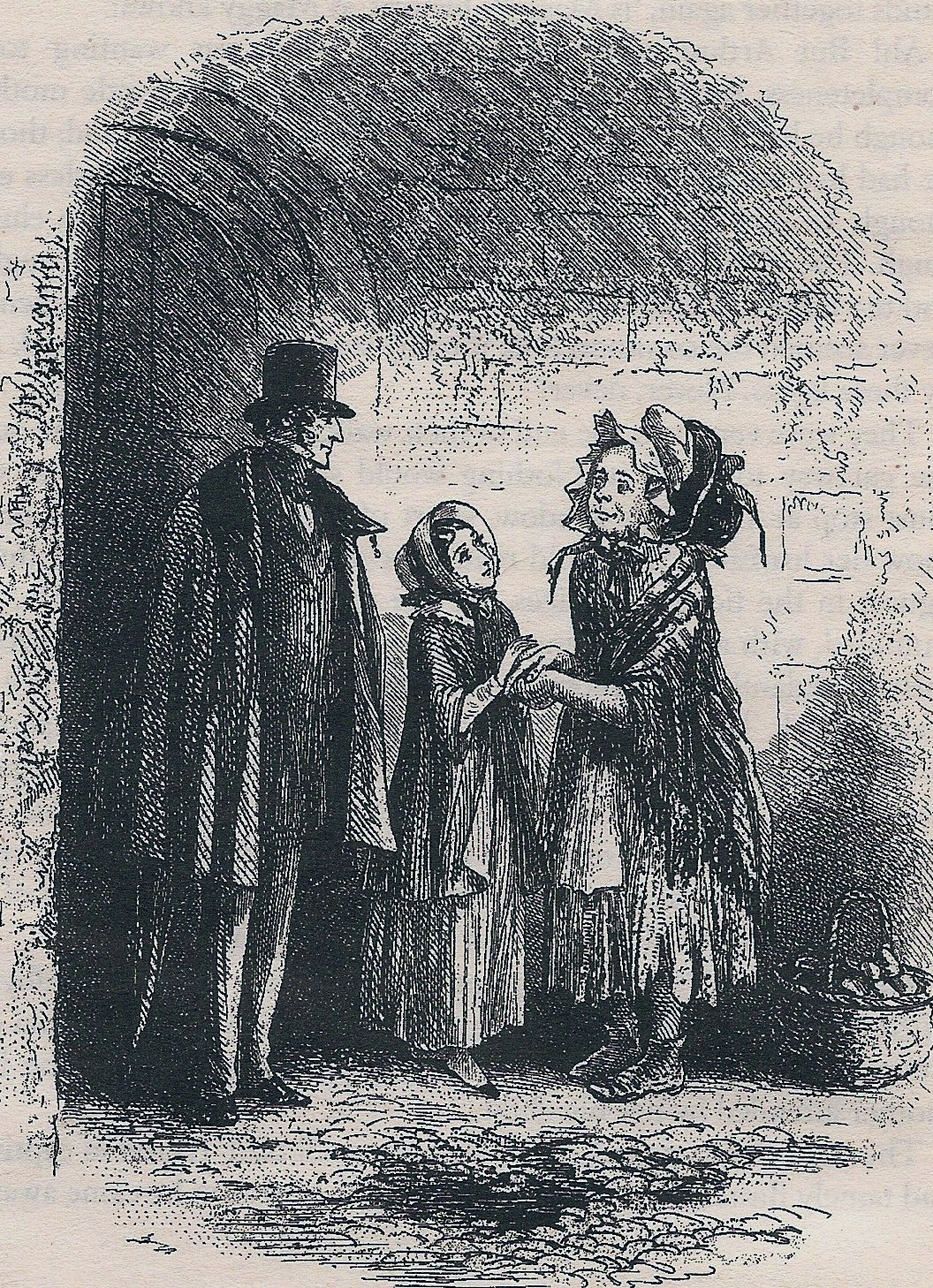Крошка Доррит
| Крошка Доррит | |
 | |
| Жанр: | |
|---|---|
| Автор: | |
| Предыдущее: |
Тяжёлые времена |
| Следующее: | |
«Кро́шка До́ррит» (англ. Little Dorrit) — одиннадцатый роман английского писателя Чарльза Диккенса, впервые публиковавшийся в журнале «Домашнее чтение» с декабря 1855 года по июнь 1857 [1]. Вместе с произведениями «Холодный дом» и «Тяжёлые времена» входит в тройку социально значимых работ автора[2]. Роман разделён на две книги: книгу первую «Бедность» и книгу вторую «Богатство». Действия происходят в Англии начала XIX века[3]. Диккенс повествует о судьбах людей в их сложном переплетении, параллельно вскрывая пороки государственной системы, душащей всё прогрессивное в стране[4].
После публикации роман был раскритикован современниками. В первую очередь, из-за ироничного (и даже саркастического) изображения современной Англии и запутанного сюжета[5]. Признание и славу книга получила много позже, когда такие известные литературоведы и писатели, как Достоевский[6], Бернард Шоу и Лайонел Триллинг[7] высказали ряд положительных отзывов об этом произведении.
Содержание
- 1 Сюжет
- 2 Персонажи
- 3 История создания
- 4 Критика
- 5 Анализ произведения
- 6 Перевод и издание в России
- 7 Экранизация
- 8 Комментарии
- 9 Примечания
- 10 Литература
Сюжет
Книга первая: Бедность
Действия романа начинаются в тюремной камере Марселя с двумя заключёнными — Риго Бландуа и Жаном-Батистом Кавалетто. Риго рассказывает сокамернику, что он осуждён за убийство жены и приговорён к смертной казни. Второй наказан за контрабанду. В город прибывает молодой англичанин Артур Кленнем, который до этого 30 лет жил в Китае с отцом, который перед смертью передал сыну часы с инициалами «Н. З.» (Не забывай), бормоча «Твоя мать». В дороге он знакомится с дружелюбной семьёй Миглз. Прибыв в Лондон, Артур пытается выяснить у матери значение инициалов, однако, она отказывается что-либо разъяснять. Миссис Кленнем, хотя и прикована к инвалидной коляске, управляет всеми делами фирмы с помощью секретаря Иеремии Флинтвинча и его жены служанки Эффери. Артур навещает свою бывшую возлюбленную Флору Финчинг, находит её толстой и неинтересной.
В одной из камер долговой тюрьмы Маршалси живёт с семьёй несостоятельный должник Уильям Доррит. Его зовут «Отец Маршалси» — титул, полученный за долголетнее заключение. Мистер Доррит провёл в тюрьме 23 года. Здесь родилась его младшая дочь Эми, которую за хрупкость и небольшой рост ласково называют «Крошка Доррит». Она работает швеёй в доме миссис Клэннем, содержит своим трудом отца, помогает непутёвому брату Типу и заботится о старшей сестре танцовщице Фанни.
В доме матери мистер Клэннем однажды встречает Эми. Желая больше узнать о ней, он выслеживает её и выходит на тюрьму Маршалси, где от сторожа узнаёт её печальную судьбу. Артур знакомится с Уильямом Дорритом и выражает своё уважение к нему, вручая несколько монет, а после просит прощения у Эми за вторжение в личную жизнь. На следующий день он вновь натыкается на Крошку Доррит, которую сопровождает Мегги — молодая девушка, страдающая психическими расстройствами. В результате более длительной беседы он узнает имена кредиторов Отца Маршалси. Самым главным из них оказывается Тит Полип — влиятельный член Министерства Волокиты. Мистер Кленнем несколько раз посещает это учреждение, но это не приносит результатов. После одного из визитов он встречает мистера Миглза в сопровождении Дэниела Дойса — талантливого молодого изобретателя. Мистер Миглз приглашает Артура погостить в его загородной усадьбе. Мистер Кленнем принимает приглашение и через несколько дней отправляется навестить семью Миглз. Их дочь — Бэби — производит на него большое впечатление, однако его смущает разница в возрасте и то, что у неё уже есть ухажёр — Генри Гоуэн. Дэниел Дойс, по стечению обстоятельств, тоже оказывается в коттедже Миглзов. Артур предлагает ему деловое сотрудничество и тот соглашается.
Между тем молодой Джон Чевери, сын сторожа, давно питавший нежные чувства к Эми Доррит, наконец, признается ей в любви, однако, она деликатно отвечает, что между ними не может быть ничего, кроме дружбы. После она отправляется к сестре в театр и из разговора с ней узнает, что у той появился ухажёр — Эдмунд Спалкер — сын состоятельного банкира мистера Мердла. Артур и Дэниел Дойс открывают фирму «Дойс и Клэннем» в Подворье Кровоточащего Сердца. В первый же рабочий день их приходят навесить Флора и тетушка мистера Ф. Позже к ним присоединяется и Панкс. Оставшись одни, Артур просит Панкса заняться делом Отца Маршалси и попытаться выяснить как можно больше о нём. Панкс соглашается и заверяет Артура, что сделает всё возможное.
В то же время Жан-Батист Кавалетто освобождается из тюрьмы и, при содействии Артура, поселяется в Подворье Кровоточащего Сердца, где теперь живёт честным трудом. Почти одновременно из заключения выходит его сокамерник — Риго Бландуа, который ныне называет себя «Ланье». Он приезжает в Лондон и тут же отправляется к миссис Клэннем, с поддельным рекомендательным письмом. Он пытается ей льстить, но когда понимает, что это бесполезно, переходит к делу и заявляет, что ему нужен кредит в размере 50 фунтов стерлингов. Однако миссис Клэннем заявляет, что фирма не может дать кредит такого размера. Тогда Бландуа просит разрешения осмотреть дом и натыкается на часы с инициалами «Н. З.». Недвусмысленными намёками он заявляет, что не просто знает их расшифровку, но ещё и располагает сведениями о значение часов. На всё пожилая дама реагирует весьма хладнокровно и просит месье Бландуа, если у него нет больше вопросов, удалиться. Последний так и поступает.
 Артур наконец решается продолжить ухаживать за Бэби и вскоре делает ей предложение, от которого она, однако, отказывается, заявив, что уже помолвлена с Гэнри Гоуэном. Разбирательство Панкса в деле Уильяма Доррита продвигается, он неожиданно выясняет, что Отец Маршалси является единственным наследником огромного состояния. Узнав об этом, Эми сообщает отцу, который приходит в смятение от внезапного сообщения. Артур помогает семейству Дорритов выплатить долги в юридическом плане. Когда все дела касательно вступления в наследство становятся решёнными, мистер Доррит решает, что семье необходимо покинуть Лондон и отправиться в путешествие по Европе. В день выезда Крошка Доррит падает в обморок, и Артур на руках выносит её из тюрьмы, чтобы посадить в карету. Дорриты уезжают, и Маршалси остаётся сиротой.
Артур наконец решается продолжить ухаживать за Бэби и вскоре делает ей предложение, от которого она, однако, отказывается, заявив, что уже помолвлена с Гэнри Гоуэном. Разбирательство Панкса в деле Уильяма Доррита продвигается, он неожиданно выясняет, что Отец Маршалси является единственным наследником огромного состояния. Узнав об этом, Эми сообщает отцу, который приходит в смятение от внезапного сообщения. Артур помогает семейству Дорритов выплатить долги в юридическом плане. Когда все дела касательно вступления в наследство становятся решёнными, мистер Доррит решает, что семье необходимо покинуть Лондон и отправиться в путешествие по Европе. В день выезда Крошка Доррит падает в обморок, и Артур на руках выносит её из тюрьмы, чтобы посадить в карету. Дорриты уезжают, и Маршалси остаётся сиротой.
Книга вторая: Богатство
Дорриты путешествуют по Европе. Их сопровождает миссис Дженерал, обучающая дочерей Уильяма светским манерам. Никто не хочет вспоминать о тюрьме. Крошке Доррит запрещают заботиться об отце, упрекают, что она не чтит семейное достоинство. Ей одной плохо и скучно. В дороге они встречают молодожёнов Гоуэнов. Эми заводит дружбу с Бэби и пишет о ней письма Артуру, полагая, что он её любил. Мистер Гоуэн знакомится с Бландуа, и они становятся близкими друзьями. Однако Эми и Бэби не нравится новый знакомый. Фанни легко становится светской дамой, завоёвывает мистера Спарклера и готовится выйти за него замуж.
Однажды, после визита Джона Чевери мистеру Дорриту становится не по себе. На светском обеде он забывается, думая, что он в Маршалси и все вокруг — арестанты, и обращается к ним с речью. Эми еле уводит отца. Он умирает. Фредерик. Бландуа едет в Лондон. Им заинтересовывается Артур. В результате слежки за ним он встречает его с мисс Уэйд.
 Все говорят о предприятии Мердла, вкладывают деньги. Панкс убеждает Артура вложить деньги. Мердлу все поклоняются, как воплощению богатства. Вскоре он кончает жизнь самоубийством, все кто вложил в его предприятие деньги — Дорриты, Панкс, Артур Клэннем — становятся банкротами. Артура за долги арестовывают и заключают в Маршалси. Дойс уезжает за границу, где успешно работает инженером. В тюрьме Джон ухаживает за Артуром и впервые открывает ему глаза на то, что Крошка Доррит любит его. Приезжает Эми и ухаживает за Артуром, тюрьма его угнетает и он заболевает. Панкс и Кавалетто находят Бландуа.
Все говорят о предприятии Мердла, вкладывают деньги. Панкс убеждает Артура вложить деньги. Мердлу все поклоняются, как воплощению богатства. Вскоре он кончает жизнь самоубийством, все кто вложил в его предприятие деньги — Дорриты, Панкс, Артур Клэннем — становятся банкротами. Артура за долги арестовывают и заключают в Маршалси. Дойс уезжает за границу, где успешно работает инженером. В тюрьме Джон ухаживает за Артуром и впервые открывает ему глаза на то, что Крошка Доррит любит его. Приезжает Эми и ухаживает за Артуром, тюрьма его угнетает и он заболевает. Панкс и Кавалетто находят Бландуа.
Риго вновь навещает миссис Клэннем и требует денег, угрожая, что в противном случае он раскроет Артуру тайну его рождения. Оказывается, отец Артура был безвольным человеком, дядя женил его на властной женщине. Когда она узнала, что у неё есть соперница, стала мстить и отобрала у неё ребёнка — Артура. Но дядя оставил ей деньги в приписке к завещанию или младшей дочери или племяннице её покровителя (а это Фредерик Доррит, то есть деньги должны были достаться Эми). Миссис Клэннем скрыла это, с Иеремией она хотела сжечь приписку, но он её спас, передал своему брату-близнецу, а от того она попала к Риго. Сейчас пакет с копиями документов у Крошки Доррит и если миссис Клэннем не заплатит, она и Артур все узнают. Но денег нет, и миссис Клэннем встает и сама как безумная устремляется в тюрьму. Она все открывает Эми, но просит не говорить Артуру до её смерти, Эми обещает сохранить тайну. Они возвращаются в мрачный дом, который рушится на их глазах, погребая под собой Бландуа. Флинтвинч бежит с дорогими вещами из дома. Миссис Клэннем падает замертво. Эми сжигает завещание. При содействии Дойса Артур выходит на свободу. Эми Доррит и Артур Клэннем женятся.
Персонажи
- Эми «Крошка» Доррит (англ. Amy «Little» Dorrit) — главная героиня романа, дочь Уильяма Доррита. Её мать умерла при родах. Всё своё детство она провела в тюрьме Маршалси, вместе со старшим братом и сестрой, из-за чего получила прозвище «Дитя Маршалси». В тринадцать она обучилась грамоте и счёту, позже научилась шить. На момент повествования ей 21 год, однако внешностью она напоминает ребёнка — невысокая, хрупкая. Окружающие часто принимают её за маленькую девочку. Так возникло и укрепилось за ней прозвище «Крошка Доррит». Крошка Доррит заметно отличается от сестры и брата. Она скромна, трудолюбива, самоотверженна: готова и способна отдавать все силы ради других. В первой книге романа, в главе седьмой — «Дитя Маршалси», Диккенс разъясняет эту тайну её внутреннего облика и поведения. Оказывается, влияние крёстного отца, когда она была ещё ребёнком, оказалось сильнее влияния родного отца и тюремной среды[8].
- Уильям Доррит (англ. William Dorrit) — отец Эми, Фанни и Эдуарда Дорритов, заключённый долговой тюрьмы Маршалси в первой книге, и состоятельный джентльмен во второй. Попал в тюрьму тридцать лет назад из-за больших долгов. Всё началось с того, что он вступил компаньоном и инвестировал свои средства в сомнительное предприятие, которое вскоре прогорело. На мистере Доррите повисли долги фирмы, и его осудили на неопределённый срок. Тогда это был тихий застенчивый человек. Его жена регулярно навещала мужа вместе с трёхлетним сыном и двухгодовалой дочкой. Расследование дела не продвигалось, а финансовые дела семьи всё ухудшались. Вскоре семье должника пришлось переселиться к мужу в тюрьму. В одной из тюремных камер у него родилась дочь Эми. Спустя восемь лет жена Уильяма умерла из-за болезни. Муж тяжело пережил смерть жены. После многочисленных попыток распутать дело мистера Доррита все, включая его самого, потеряли надежду на освобождение. Другие заключённые приходили и уходили, но он не покидал тюрьму уже тридцать лет и стал самым старым её заключённым. У всех новичков вошло в обычай представляться мистеру Дорриту и перед выходом на свободу подсовывать под дверь письмо с вложением от полукроны до двух крон. Постепенно за ним закрепилось уважительно прозвище «Отец Маршалси». Для Уильяма характерны такие пороки, как надменность и беспечное самолюбие. Даже в тюрьме он продолжает чваниться, делая вид значительной и высокопоставленной персоны милостивого брата и заботливого отца. Однако и его, на первый взгляд, жалкая и неприглядная жизнь не лишена глубокого драматизма. Например, многозначительно его состояние, когда он обращается к избранному обществу в роли Отца Маршалси со скандальной речью[8].
- Фанни Доррит (англ. Fanny Dorrit) — старшая сестра Эми, жена Эдмунда Спалкера. Она обладает теми же или почти теми же характерные психологические черты, что и отец. Она высокомерна, чванлива, для неё внешний престиж превыше всего. Все же она глубже, чем отец, способна испытывать стыд и угрызения совести. В такие минуты она тоже заливается слезами, он всё-таки не умиляется собой. Для неё характерно, переживая душевный конфликт и понимая своё бессилие в его разрешении, испытывать истерическое раздражение и желание умереть. До получения наследства работала танцовщицей.
- Эдуард «Тип» Доррит (англ. Edward «Tip» Dorrit) — старший брат Эми и Фанни, бездельник, последовательно отразивший в своём поведение отцовскую беспечность и беззаботность. Он не способен ни к какому систематическому занятию: за что бы он ни брался, всё ему быстро надоедает, от всякого начатого дела он быстро устаёт и тут же бросает его.
- Фредерик Доррит (англ. Frederick Dorrit ) — бедный старый музыкант, страдающий старческим маразмом, старший брат Уильяма. Больше всех в семье любит Эми Доррит, всячески пытается заботиться о ней. Умер сразу после смерти брата.
- Артур Клэннем (англ. Arthur Clennam) — незаконнорожденный сын своего отца. В начале романа представлен, как сорокалетний мужчина, пытающийся выяснить правду о смерти отца. После знакомства с Эми Доррит заинтересовывается персоной Уильяма Доррита, нанимает для него адвоката и добивается его освобождения из тюрьмы. Банкротство мистера Мердла приводит к его заключению в долговой тюрьме Маршалси. Эми навещает его несколько раз, а когда тот освобождается, они женятся.
- Миссис Клэннем (англ. Mrs Clennam) — жестокая и властная женщина, холодная как мать. В конце романа выясняется, что она не родная мать Артуру. Из-за болезней и старости прикована к инвалидному креслу, но под влиянием эмоций или «божьего провидения» обретает силы для личного визита в Маршалси и участия, чтобы избежать разоблачения перед Артуром.
- Мистер Мердл (англ. Mr Merdle) — финансовый аферист, долгое время считавшийся всеми гением экономики. Его банкротство привело к финансовому разорению тысяч вкладчиков. Испугавшись заключения, покончил собой при помощи ножа.
- Флора Финчинг (англ. Flora Finching) — бывшая невеста Артура Клэннема. В молодости описывается, как привлекательная стройная девушка, однако после разрыва отношений с Артуром и его отъезда в Китай Флора перестала за собой следить, располнела и отстранилась от общества. Некоторое время поддерживала отношения с Эми, оказывая ей финансовую помощь.
- Мегги (англ. Maggy) — близкая подруга Эми Доррит, страдает от психического расстройства, приведшего к умственной отсталости. Автор пишет, что ей 28 лет, однако описывает как «ребенка с большими руками, ногами, глазами и без волос» (англ. She was about eight-and-twenty, with large bones, large features, large feet and hands, large eyes and no hair).
- Риго Бландуа (англ. Rigaud Blandois) — главный антагонист всей книги. В первой главе романа представлен, как заключённый Марсельской тюрьмы, ожидающий предположительно смертной казни за убийство жены, но чудом избежавший наказания из-за недостатка доказательств и благодаря природному таланту софистики. Чтобы избежать расправы от местных жителей, несогласных с судейством, Риго Бландуа под покровом ночи сбегает из Марселя и направляется в Лондон. По пути он встречает брата Флинтвинча и совершенно случайно получает компромат на миссис Клэннем, который и становится основной «деловой» целью визита Бландуа в Лондон. Во время очередного визита к ней за деньгами дом миссис Клэннем разрушается и Риго гибнет под его обломками.
- Жан-Батист Кавалетто (англ. John Baptist Cavalletto) — бывший контрабандист и сокамерник Риго Бландуа. После освобождения уезжает в Лондон, где знакомится с Артуром и становится на путь исправления.
История создания
Предпосылки и прототипы
Работе над «Крошкой Доррит» предшествовал обычный в творчестве Диккенса период смятения и душевной тревоги. Уже в октябре 1854 года им «овладело неотвязное желание уехать совсем одному и начать новую книгу где-нибудь в недосягаемой дали, в Пиренеях или на одной из снежных вершин Швейцарии, в каком-нибудь диковинном монастыре». В мае он дошёл до такого состояния, когда всё время куда-то тянет, все нё ладится и нет ни минуты покоя — когда, одним словом, пора начинать новую книгу. В письмах этого периода он пишет, что «не уверен в себе, как Макбет[К 1], космат, и оборван, как Тимон[К 2] и путается в мыслях, как Бедный Том»[9].
 Один из центральных образов романа — образ долговой тюрьмы Маршалси — Диккенс изобразил, опираясь на личные впечатления и переживания. В его жизни было время, когда он мальчиком посещал Маршалси, в одной из камер которой был заключён его отец. Диккенс не любил вспоминать об этом периоде жизни, и впоследствии, рассказывая о себе, забывал о нём, делая пропуск[10]:
Один из центральных образов романа — образ долговой тюрьмы Маршалси — Диккенс изобразил, опираясь на личные впечатления и переживания. В его жизни было время, когда он мальчиком посещал Маршалси, в одной из камер которой был заключён его отец. Диккенс не любил вспоминать об этом периоде жизни, и впоследствии, рассказывая о себе, забывал о нём, делая пропуск[10]:
Я родился седьмого февраля 1812 в Портсмуте, английском портовом городе… Отец мой по долгу службы — он числился в расчётной части Адмиралтейства — был вынужден время от времени менять место жительства, и таким образом я двухлетним ребёнком попал в Лондон, а шести лет переехал в другой портовый город, Чатам, где прожил несколько лет, после чего снова вернулся в Лондон вместе со своими родителями и полудюжиной братьев и сестер, среди которых я был вторым. Своё образование я начал кое-как и без всякой системы у некоего священника в Чатаме, а закончил в хорошей лондонской школе, — длилось оно недолго, так как отец мой был небогат, и мне рано пришлось вступить в жизнь. Своё знакомство с жизнью я начал в конторе юриста, и надо сказать, что она показалась мне довольно убогой и скучной…
Однако Диккенс «вступил в жизнь» ещё до того, как попал в контору юриста. Это произошло, когда мистер Диккенс-старший попал за долги в Маршалси. Единственным средством жизни семьи осталась небольшая пенсия, которую он получал, потеряв место на службе. Видя нищету Диккенсов, один из их родственников — Джордж Ламберт — предложил взять к себе в работники Чарльза с платой по шесть шиллингов в неделю. Он должен был работать в сыром подвальном этаже вместе с двумя другими мальчиками и несколькими взрослыми рабочими. Его обязанность состояла в том, чтобы навёртывать бумажки на банки с ваксой и наклеивать на них ярлыки. Много лет спустя Диккенс рассказывал[10]:
Я удивляюсь, как это никто не сжалился надо мной, хотя все признавали, что я мальчик способный, впечатлительный, живо чувствовавший всякое физическое или нравственное оскорбление. Отец и мама так обрадовались моему поступлению к Джорджу Ламберту, точно я в двадцать лет окончил с отличием курс грамматической школы и перехожу в Кембриджский университет.
Денежные дела Диккенсов не поправлялись, и им пришлось перебраться к мужу в тюрьму. Чарльза поместили на квартиру к одной бедной женщине, державшей пансионеров. Впоследствии она послужила прототипом для миссис Пипчинс в романе «Домби и сын» (1846—1848)[11].
Всё это нашло отражение в его произведениях и с наибольшей отчётливостью в романах «Приключения Оливера Твиста», «Домби и сын», «Дэвид Копперфильд» и, конечно, в «Крошке Доррит». Когда Диккенс писал, его память о лично пережитом в ранние годы, об обидах и унижениях не смирялась перед представлениями о социальном престиже, согласно которому человек ценился не по личному достоинству, а по положению в обществе[12].
Многие лица, явления и события в романе Диккенса кажутся фантастическими, но они вполне правдиво отражают изображённую в них действительность. Например, трудности, с которыми столкнулся Дэниел Дойс при попытке запатентовать своё изобретение, действительно существовали в Англии той эпохи. Для закрепления патента было необходимо скрепить его печатью, чему предшествовало 30 независимых операций, третья часть которых дважды требовала подпись монарха[13]. Даже крушение дома миссис Клэннем явно заимствована из сопутствующих событий, когда обрушились дома на Тоттенхем-роуд, о чём своевременно сообщалось в газетах[14].
 Прототипом образа Флоры Финчинг послужила возлюбленная Диккенса Мария Биднел — дочь состоятельного банковского клерка. Их роман продолжался лишь два года и закончился из-за социального неравенства, поскольку семейство Биднел принадлежало к самой обеспеченной части английской буржуазии. Повторно встретились они лишь через много лет. Диккенс нашёл свою бывшую возлюбленную толстой, глупой и скучной. В тех же обстоятельствах оказался и главный горой романа Артур Кленнем[15]. До этого с неё был списан образ Доры для романа «Дэвид Копперфильд» (1849—1850)[16].
Прототипом образа Флоры Финчинг послужила возлюбленная Диккенса Мария Биднел — дочь состоятельного банковского клерка. Их роман продолжался лишь два года и закончился из-за социального неравенства, поскольку семейство Биднел принадлежало к самой обеспеченной части английской буржуазии. Повторно встретились они лишь через много лет. Диккенс нашёл свою бывшую возлюбленную толстой, глупой и скучной. В тех же обстоятельствах оказался и главный горой романа Артур Кленнем[15]. До этого с неё был списан образ Доры для романа «Дэвид Копперфильд» (1849—1850)[16].
Ключевые фигуры и явления в романе Диккенса реакционны и демократичны. К примеру, в образе Огастеса Чваннинга отразилось отношение Диккенса к герцогу Веллингтону, известному своей жесткостью по отношению к парламентской реформе 1832 года и нескрываемой неприязнью к чартистам. Другой персонаж романа, Джон Полип, размышляет об «умиротворении черни» совершенно в духе известного политика середины 1850-х годов лорда Джона Рассела. Коалиция Полипа и Чваннинга, по мнению исследователей, очень напоминает знаменитый «союз» Рассела и Грея в 1830-х годах и коалицию того же Рассела и лорда Абердина в 1852—1855 годах. В образе лорда Децимуса угадываются сатирические намёки на лорда Пальмерстона, ставшего премьер-министром Великобритании в январе 1855 года и активно выступавшего против административных реформ, необходимость которых остро обнаружилась во время Крымской войны[17]. Прототипом финансиста-мошенника Мердла вполне мог послужить реальный аферист Джон Сэдлер. Чарльз Диккенс стал очевидцем это внезапное банкротство ирландского Банка Типперэри в феврале 1856 года. Лондонская банкирская контора по неизвестным причинам неожиданно оказалась оплачивать сертификаты банка Типперэри[18]. Через несколько дней началась паника и пронеслась весть, что один из директоров банка, член парламента Джон Седлер, покончил с собой в ванне, отравившись синильной кислотой. Перед смертью он написал и отправил письмо своему брату Джеймсу, другому директору, в котором сообщил, что в крахе банка виновен он один. Вскоре выяснилось, что Джон Седлер начал изымать активы банка за полтора года до катастрофы[19].
Образ Генри Гоуэна списан Диккенсом с Уильяма Теккерея — английского писателя-реалиста — и введён в повествование с целью выразить отношение автора к последнему. Подобно прототипу, Гоуэн постоянно противоречит самому себе, например, рассуждая о жизни то с холодным цинизмом, то с воодушевлением[К 3][20]:
В будущем, распознав в этом персонаже своё сатирическое изображение, Уильям Теккерей отомстил Диккенсу, раскритиковав его новую книгу[21].
Роман создавался в разгар Крымской войны, и специфика времени также отразилась в произведении, действие которого происходит в 1820 годы. Особенно это ощущается в антибюрократическом пафосе произвидения. Война, осада и взятие Севастополя дорого обошлись народу Англии. Диккенс, который сначала высказывался в поддержку войны, и во многом — из-за ненависти к тирании, воплощением которой была императорская Россия, вскоре в войне разочаровался. Он убедился в бессмысленности кровавой Крымской кампании, и, разумеется, боялся военного поражения, которое, как он считал, может вызвать в стране революцию. В ходе войны обнаружилась техническая и тактическая неподготовленность английских войск, явившаяся следствием хищений командования и дезорганизации государственного и военного управления[22]. Бездействие Парламента чрезвычайно возмущало Диккенса. В письмах и романах он неоднократно высказывал своё мнение по этому поводу. 25 января 1854 года в письме Роберту Роулинсону Чарльз Диккенс писал[10]:
…Что касается Парламента, то там так много говорят и так мало делают, что из всех связанных с ним церемоний самой интересной показалась мне та, которую (без всякой помпы) выполнил один-единственный человек и которая заключалась в том, что он прибрал помещение, запер дверь и положил в карман ключи…
Горечь, гнев, негодование Диккенса по этому поводу и создали сатирический образ Министерства Волокиты[23].
Злоупотребления и хищения, которые допустило английское военное командование в годы Крымской войны, не удалось замолчать. Война ещё не закончилась, а парламент уже начал следственное разбирательство дел о хищении. В 1856 году была сформирована Следственная Комиссия по поставкам британской армии в Крыму (англ. Commission of Inquiry into Supplies of the British Army in the Crimea)[24]. Судебный процесс стал известен в обществе как «разбирательство в Челси», в результате которого были раскрыты многочисленные преступления, как со стороны правительства, так и со стороны армии. Диккенс упоминал это дело в предисловии к «Крошке Доррит»[25]:
…не говоря уже о том незначительном обстоятельстве, что столь бесцеремонное нарушение приличий было допущено мной в дни войны с Россией и судебного разбирательства в Челси…
Примечательно, что «варварская страна», куда от безысходности отправился не нашедший в Англии применения своим изобретениям инженер Дэниел Дойс, — Россия, остро нуждавшаяся в те времена в технологическом прорыве[26].
Процесс написания
Диккенс начал работать над романом в мае 1855 года, находясь в это время в Париже с Уилки Коллинзом, и писал его в течение двух лет. Первоначально он планировал назвать книгу «Никто не виноват» (англ Nobody is to blame). Её главным героем должен был стать человек, неосознанно приносящий всем несчастья. При каждой новой беде он восклицал бы: «Ну, знаете, по крайней мере, хорошо то, что никого нельзя обвинить!»[27]. Однако, после четвёртого выпуска, Диккенс отказался от этого плана и переделал начало[28].
До этого ни один из романов не давался ему с таким трудом, не требовал такого количества переписок и исправлений. По сохранившимся черновым тетрадям Диккенса видна разница между страницами «Дэвида Копперфильда» и «Крошки Доррит». Если в первом из них мысли и образы легко укладываются на бумагу и нисколько не затрудняют автора, то во втором обнаруживается мучительный поиск выражений для иллюстрирования характера и положения действующих лиц. Процесс творческой работы становился для автора всё затруднительней. Биографы отмечают небывалое до того времени в творческой практике писателя нововведение: памятную книжку, в которую он заносил различные факты[29]. Здесь можно найти наброски, касающиеся Полипов, Клэннема, смерти мистера Доррита[30]. Сам Диккенс осознавал ослабление своей писательской силы. В письмах этого времени он говорил о том, что его писательская деятельность подходит к концу и жаловался, что никогда не вернуть ему прежней свежести мысли, плодовитости воображения[31].
 Чтобы заглушить это мучительное осознание, Диккенс брался за устройство театральных представлений, за участие в политических митингах и разных благотворительных собраниях, за публичное чтение своих произведений в пользу разных обществ и учреждений. Однако читатели не замечали этой перемены. «Крошка Доррит» расходилась в огромном количестве экземпляров. Всеобщий интерес привлекало семейство Дорритов, а министерство Волокиты рассматривалось как едкое сатиричное изображение английского правительства[32].
Чтобы заглушить это мучительное осознание, Диккенс брался за устройство театральных представлений, за участие в политических митингах и разных благотворительных собраниях, за публичное чтение своих произведений в пользу разных обществ и учреждений. Однако читатели не замечали этой перемены. «Крошка Доррит» расходилась в огромном количестве экземпляров. Всеобщий интерес привлекало семейство Дорритов, а министерство Волокиты рассматривалось как едкое сатиричное изображение английского правительства[32].
Время от времени заботы о журнале «Домашние чтение» призывали его в Лондон. Тогда им уже безраздельно завладел новый роман, и, начиная очередной выпуск, он каждый раз переживал «мучительнейшее состояние: через каждые пять минут я бегу вниз по лестнице, через каждые две — кидаюсь к окну и больше ничего не делаю… Я с головой ушёл в работу — то взлетаю, то падаю духом, то загораюсь, то гасну».Личные странности Диккенса, нередко выражавшиеся в самопроизвольном впадении в транс, подверженности видениям и испытанию состояния дежавю, проявлялись и во время написания «Крошки Доррит». Ему повсюду мерещился образ главной героине, все мысли были заняты одной ей. Она не покидала его даже во время морской прогулки — «вздымалась на волне, плавала в облаках, прилетала с ветром». Иногда он пробовал «спастись от вездесущий Эми бегством» [33]:
образы этой книги впиваются мне в мозг, голова гудит, и я собираюсь, как говорится, разгрузить её, укрывшись в одном из тех незнакомых мне мест, куда меня в сих широтах заносит по ночам…
Ночами Диккенс гулял по городу, назначал и отменял свидания, мечтал отправиться куда-нибудь на пароходе, полететь на воздушном шаре. В компании стремился к уединению, а оставаясь один, томился по обществу[34].
Когда работа над романом близилась к концу, Диккенс захотел узнать, сохранилась ли тюрьма Маршалси до его дней. Прибыв на место, где она раньше была, он увидел, что на месте наружного двора располагается бакалейная лавка. Это заставило писателя предположить, что от тюрьмы ничего не осталось. Однако, бродя по одной из близлежащих улиц обозначенной как Энлжел-Корт и ведущих к Бермодси, он вдруг очутился на Маршалси-Плейс и не только узнал в стоящих там домах бо́льшую часть строений тюрьмы, но также убедился, что целы те помещения, которые он мысленно видел перед собой при написании «Крошки Доррит». Рядом стоящий юноша подробно рассказал Диккенсу о прошлом этих мест. Указав на окно комнаты, где родилась Крошка Доррит и где столько лет прожил её отец, он спросил, кто там живёт теперь. Собеседник ответил: «Том Питик». Диккенс поинтересовался, кто такой Том Питик и услышал в ответ: «Джека Питика дядя». Пройдя немного дальше, он обнаружил старую невысокую стену, что шла вокруг тесной внутренней тюрьмы[35]. Эту историю автор позже изложил в предисловии к первому полному изданию «Крошка Доррит».
Иллюстрирование
 Главным иллюстратором романа выступил Хэблот Браун, ранее работавший над рядом других романов Диккенса под псевдонимом Физ. Его часто затемнённые, почти чёрные рисунки не были оценены так же высоко, как иллюстрации предыдущих книг. Ф. Г. Киттон обращает внимание на то, что ни одна из его картин не подписана настоящим именем автора. Джейн Рэбб Коэн рассматривает это как признак «полного истощения» (англ. total exhaustion)[36]. Многие письма Диккенса к Хэболту свидетельствуют о том, что партнёры не могут найти взаимопонимания. Например, по поводу мистера Кленнема, которого Диккенс хочет видеть «всегда как можно более приятным и приветливым» (англ. as always agreeable and well-being as possible)[37]. Также он не одобряет изображения лорда Децимуса с вывернутыми руками. Диккенс пишет[38]:"Он кажется мне снисходительным, а я хочу, чтобы он был твёрдым, непреклонным, не таким как простой смертный" (англ. It seems to me condescending, and I want him upright, unmixable с mere). 10 февраля 1857 года Диккенс выразил сожаление по тому поводу, что набросок мистера Доррита перед смертью совсем не соответствует его ожиданиям — он находит его слишком комичным и требует боле яркого и драматичного выражения чувств умирающего старика. С учётом всех этих критических замечаний удивительно, что Хэблот Браун был выбран в качестве иллюстратора только для одного следующего произведения — «Повести о двух городах»[39].
Главным иллюстратором романа выступил Хэблот Браун, ранее работавший над рядом других романов Диккенса под псевдонимом Физ. Его часто затемнённые, почти чёрные рисунки не были оценены так же высоко, как иллюстрации предыдущих книг. Ф. Г. Киттон обращает внимание на то, что ни одна из его картин не подписана настоящим именем автора. Джейн Рэбб Коэн рассматривает это как признак «полного истощения» (англ. total exhaustion)[36]. Многие письма Диккенса к Хэболту свидетельствуют о том, что партнёры не могут найти взаимопонимания. Например, по поводу мистера Кленнема, которого Диккенс хочет видеть «всегда как можно более приятным и приветливым» (англ. as always agreeable and well-being as possible)[37]. Также он не одобряет изображения лорда Децимуса с вывернутыми руками. Диккенс пишет[38]:"Он кажется мне снисходительным, а я хочу, чтобы он был твёрдым, непреклонным, не таким как простой смертный" (англ. It seems to me condescending, and I want him upright, unmixable с mere). 10 февраля 1857 года Диккенс выразил сожаление по тому поводу, что набросок мистера Доррита перед смертью совсем не соответствует его ожиданиям — он находит его слишком комичным и требует боле яркого и драматичного выражения чувств умирающего старика. С учётом всех этих критических замечаний удивительно, что Хэблот Браун был выбран в качестве иллюстратора только для одного следующего произведения — «Повести о двух городах»[39].
Первая публикация
После публикации романа «Холодный дом» (1851—1853) контракт Диккенса с издателями истёк. Публикация книги «Крошка Доррит» ознаменовала собой новый период в правовых отношениях между издательством и автором — как и раньше, издатель получал четвёртую часть прибыли от продажи тиража будущей книги, но эта сумма уже не подлежала снятию со счета ассоциации. По словам Фостера, в контракте был пункт, который страховал Диккенса от накладок. В результате этого процент прибыли, который предназначался издателю, понизился, а процент автора повысился — Диккенс получил самый большой доход за всю свою карьеру, а по договору с издательством «Брэдбери и Эванс» (англ. Bradbury and Evans) и того больше[40].
«Крошка Доррит», как и другие романы, Диккенса, по давнишней традиции английских издательств, выходили частями, ежемесячными выпусками, в журнале «Домашнее чтение». Первый выпуск романа появился в декабре 1855 года, последний — в июне 1857. В среднем тираж составлял 30 000 экземпляров. Первое полное издание появилось в 1857 году[41].
| Номер | Год | Месяц | Главы |
|---|---|---|---|
| 1 | 1855 | Декабрь | I-IV |
| 2 | 1856 | Январь | V-VIII |
| 3 | 1856 | Февраль | IX-XI |
| 4 | 1856 | Март | XII-XIV |
| 5 | 1856 | Апрель | XV-XVIII |
| 6 | 1856 | Май | XIX-XXII |
| 7 | 1856 | Июнь | XXIII-XXV |
| 8 | 1856 | Июль | XXVI-XXIX |
| 9 | 1856 | Август | XXX-XXXII |
| 10 | 1856 | Сентябрь | XXXIII-XXXVI |
| 11 | 1856 | Октябрь | I-IV |
| 12 | 1856 | Ноябрь | V-VII |
| 13 | 1856 | Декабрь | VIII-XI |
| 14 | 1857 | Январь | XII-XIV |
| 15 | 1857 | Февраль | XV-XVIII |
| 16 | 1857 | Март | XIX-XXII |
| 17 | 1857 | Апрель | XXIII-XXVI |
| 18 | 1857 | Май | XXVII-XXIX |
| 19 | 1857 | Июнь | XXX-XXXIV |
Критика
После публикации роман был раскритикован современниками. В журнале «Fraser’s Magazine» писали, что «Крошка Доррит» худший роман Диккенса [42]. Критики в основном осуждали книгу за отсутствие юмористической составляющий и чрезмерный пессимизм. Так, Джеймс Фицджеймс Стивенс писал в журнале «Эдинбургское обозрение» о том, что книга «ложь» и есть «зло в высшей степени» (in the highest degree mischievous)[43]. Даже Джон Форест, давний друг Диккенса, высказался о том, что новый роман трудно читать. Также Форест критиковал излишнее стремление автора создать всеобщую связь между персонажами и подчинить всё единому интересу повествования. Кроме того, многие наиболее важные события имеют сомнительное отношение к рассказу (история мисс Уайд и Тэттикаром)[44]. Джордж Гиссинг объяснял это тем, что Диккенс «устал». Из-за сильно запутанной сюжетной линии, особенно относительно наследства, многие литераторы, например, Джон Уэйн, говорили о том, что не видят в книге законченного сюжета[45].
Сам Диккенс опровергал все обвинения в «преувеличении» и «фантастичности» по отношению к отдельным персонажам и всей книги в целом[46]. В предисловии к «Крошке Доррит» он останавливается на своих воспоминаниях о Маршалси и говорит о героях романа как о реальных людях, которых чуть ли не могут припомнить тюремные старожилы[47]. Такое «оживление» своих героев было характерно для творческого сознания писателя. Свой реализм (в широком смысле) сам Диккенс воспринимал как изображение реальных событий и людей[48].
«Blackwood’s Magazine» не нашёл для книги лучшего определения, чем «пустая болтовня». Когда эта статья случайно попалась на глаза Диккенсу в другом журнале, он «был так возмущён, что даже рассердился на собственную глупость»[49]. Уильям Теккерей заявил, что это «непроходимо глупая книга», «идиотская дребедень», но ему-то как раз подобное суждение простительно. Он один сумел догадаться, что Генри Гоуэн появился на свет лишь затем, чтобы выразить мнение автора о Тэккерее[50].
«"Крошка Доррит" со стороны своей конструкции была более удачным и многообещающим произведением, чем «Домби и сын». Мастер Домби – это кукла; мистер Доррит же незабываемая фигура комедии в её наиболее трагическом аспекте и трагедии в её наиболее комической фазе»
|
В отличие от коллег, Бернард Шоу похвалил «Крошку Доррит», назвав роман «наиболее полной картиной английского общества ХIХ века, которая только может быть» (the most complete picture of English society in the XIX century in existence). Также он добавил, что последнее произведение Диккенса ещё более крамольно, чем «Капитал» Карла Маркса [52].
Сегодняшней популярностью среди работ Диккенса «Крошкам Доррит» обязана американскому литературному критику Лайонелю Триллингу, который в предисловии к первому иллюстрированному изданию New Oxford обратил внимание на ряд достоинств книги[53]. Лайонель отметил, что в «Крошке Доррит» показаны все пороки общества без излишнего драматизма, а тюрьма изображена совершенно неожиданно для того времени. Также писателю настолько понравился образ Эми Доррит, что он назвал её «Параклетом[К 4] в женском теле» (Paraclete in female form)[54].
Запутанность истории и отсутствие чёткого финала, за что современники осуждали роман, напротив, понравились русскому писателю Фёдору Михайловичу Достоевскому. Манеру такого интригующего изложения событий писатель перенял у Диккенса в своих поздних работах[55].
Анализ произведения
Тема и структура
Главная тема романа, по мнению Тамары Сильман, — это капиталистическое общество и его влияние на сферы жизни страны и отдельного человека. В связи с этими двумя аспектами — общая картина капитализма и его влияние на частную судьбу — в «Крошке Доррит» сочетаются две темы[56]. Первая из них: изображение круговорота капиталистического с объективной точки зрения. Для этой цели используется фигура главного героя — Артура Клэннема. В какой-то определённый момент Кленнэм-наблюдатель оказывается включенным в движение механизма капиталистического общества. Артур задался благой целью — разобраться в сложнейших финансовых обстоятельствах, в которых, казалось, навсегда запуталось семейство Доррит. Поиски Клэннема приводят его в разнообразнейшие сферы жизни. Читатель совершает этот путь вмести с ним. Он начинается со зловещего дома миссис Клэннем, где Артур впервые встречает Эми Доррит. Отсюда — прямая дорога к Маршалси; здесь — первая остановка Клэннема являющаяся и остановкой для читателя: подробное описание тюрьмы, её обитателей, жизни старого Доррита, его самоотверженной дочери и всей семьи. Попутно в повествование вводятся другие персонажи — сестра и брат Эми, её дядя Фредерик и «приёмная дочь» Мэгги. Внезапно действия прекращаются — кончилась первая часть романа. Дорриты получили наследство — помимо Клэннема, благодаря Панксу. «Анализ» Клэннема ещё не завершён, он ещё не знает, кто являлся виновником первого разорения Дорритов. Но ещё не выясненные им законы и обстоятельства, оказывается, продолжили действовать — Дорриты снова богаты так же неожиданно и непонятно, как были разорены. Артур делает перерыв и читатель следует за Дорритами, чтобы заняться частной судьбой этого семейства[57].
Тут вступает в силу, хотя и присутствовала раньше, вторая тема романа — судьба отдельной семьи, попавшей под действие непонятных, необъяснимых законов капитализма, рассказанная с точки зрения субъективных переживаний её отдельных членов. С большей систематичностью, чем в «Холодном доме», но весьма сходно различные круги и аспекты переплетаются друг с другом. Одно и то же событие может иметь значение и для частной и для общей темы, одни и те же герои по очереди выступают то внутри одного, то внутри другого повествовательного круга[58]. Однако вполне естественно, что вторая частная тема — история отдельной семьи — выступает в романе всё-таки как главная. Отсюда деление всего произведения в целом на две части: «Бедность» и «Богатство», отражающего два различных периода в истории Дорритов. Тем не менее, в преддверии книги также стоит богатство — относительное благополучие Дорритов до их заключения в тюрьму, — в то время как в эпилоге снова появляется бедность — разорение Фанни, Типа и самой Эми в результате неудачных спекуляций отца[59].
| “ | Моя вера в людей, которые правят, в общем, ничтожна. Моя вера в народ, которым правят, в общем, беспредельна. | ” |
| — Чарльз Диккенс | ||
Таким образом, прибавив к двум центральным частям два обрамляющих их звена, получается формула: богатство — бедность — богатство — бедность, и так далее. Такова, по Диккенсу, формула человеческого существования в капиталистическом обществе, отражающая всю несправедливость и неверность судьбы человека при капитализме. Эта формула находит своё подтверждение и в судьбах других персонажей романа. Особенно показательна и символична здесь фигура богача Мердла, увлёкшего за собой в разорение тысячи людей. Более того — судьба самого мистера Клэннема складывается тоже в полном согласии с этой формулой[60] Итак, капиталистическая действительность в своем движении образует некий прочный круг, который так или иначе, с теми или иными поправками и отступлениями должны проходить все причастные к этой действительности люди. И совсем также как и в геометрическом круге, здесь нет ни начала, ни конца. Человек может включиться в его вращение в любой момент, как включился Артур, и в любой момент может быть выброшен из него. Таков общий ход вещей в мире, изображенном Диккенсом, лишенным справедливости и разумного смысла[24][61].
Загадочный приступный дом мисси Клэннем одновременно входит в две системы — систему частных связей (семья Доррит — Клэннем) и общих. Он стоит в одном ряду с Министерством Волокиты и другими бесчеловечными буржуазными учреждениями, несущими ответственность за существующий порядок вещей, так как, подобно им, мисси Клэннем тоже является фигурой, исполненной глубокой социальной символикой. Поэтому неверно было бы считать, что вся вина за существующий порядок вещей целиком возлагается автором на Министерство Волокиты и тому подобные бессмысленные учреждения, поставившие своим девизом «как не делать того что нужно». Правда, долю ответственности за существования такого мрачного места, как Подворья Кровоточащего сердца, где ютятся бедняки, автор возлагает на людей из Министерства Волокиты[62][63].
Однако показать, что существует группа бездельников-аристократов, а с другой стороны — бедняки и что первые виновны в несчастьях вторых — этого было бы недостаточно. Диккенс ставил перед собой целью описать сам процесс превращения массы людей в бедняков. Именно этой теме, собственно, и посвящён роман, если рассматривать его как историю гибели одной семьи в условиях капитализма. И, как её результат, два плана книги. Один — крупный план видимых признанных всеми, можно сказать, общественно-легализованных противоречий[64]. Они очень просты, понятны и видны с первого взгляда. И в то же время они слишком общи. И второй — частный случай. Здесь всё гораздо менее понятно. Когда видны причины и результат когда люди берятся массами, когда их судьбы — это судьбы целых социальных групп, — тогда нет места сомнениям ни для кого, даже для самых участников этого соотношения. Если лорды из Министерства Волокиты прекрасно знают, за чей счет они существуют, кого обирают, кого притесняют, то тем более для большинства обитателей Подворья кровоточащего сердца не секрет, кто их главные обидчики. Но как только происходит переход от общего плана к частным судьбам, картина немедленно запутывается. Начиная с того, что пострадавшая семья Доррит не имеет никакого представления о состояние своих дел, о том, кто её кредиторы и, наконец, по чьей вине она столько лет томится в тюрьме[65].
Когда Клэннем пробует выяснить этот вопрос у старика Доррита, он сталкивается с полным непониманием и незнанием[66]. Далее, к основному мотиву обнищания, экономического упадка здесь, в этой личной истории, примешиваются различные побочные мотивы, которые для других соучастников могут оказаться даже более существенными. Так, Клэннем, расследующий дело, вполне справедливо заподозрил мать в преступных деяниях. Однако он лишь подозревал о существовании корыстных мотивов. Конец романа приводит к иной разгадке: выясняется, что ненависть миссис Клэннем к Дорритам была для неё лично второстепенным обстоятельством, а что главной целью её жизни была месть матери Артура, который оказывается незаконнорожденным сыном одной бедной девушки, соблазненной его отцом. Однако ясно одно: непосредственная, прямая связь обидчиков с обиженными здесь запутана многообразием целей и индивидуальных стремлений персонажей[67].
Частный случай распадается на бесконечное число нитей, уводит к различным людям, сплетает всевозможные судьбы, смещает логические связи. В этом смысле Диккенс даёт читателю вполне диалектическое соотношение: простота закона, с одной стороны, и бесконечная трудность его конкретизации в отдельном факте, от которого, однако, в своё время этот закон был отвлечён, — с другой. Как раз здесь в повествование внедряется «готический» элемент. Появляются тайны, двойные имена, сны, намёки, предсказания и предчувствия. Даже в тех случаях, когда тайны могло бы и не быть, события всё же подаются в форме тайны[68]. Таковы, например, вещие сны миссис Флинтвинч, которые, все до одного имеет разумное и рациональное объяснение, поскольку это вовсе не сны, а реальные факты, и только запуганная и забитая мисси Флинтвинч под угрозами супруга начинает верить, что всё виденное ею — игра воображения. Но атмосфера шорохов и шумов, привидений и двойников, в которой она живёт, её передник, вечно закинутый на голову, «чтобы не видеть духов», её ужас перед умниками (как она называет мистера Флинтвинча и миссис Клэннем) — всё это придает роману мрачный, «готический» колорит[69].
Интересен также образ Панкса — довольно типичного для Диккенса комического персонажа, для характеристики которого автором чаще всего используется внешнее (конечно, чрезвычайно преувеличенное) сходство с каким-либо предметом. Он включается в «историю Дорритов» и становится косвенным помощником Клэннема по разысканию обидчика. Ему принадлежит открытие наследства, вызволяющего Дорритов из тюрьмы, и с этого момента Панкс погружается в атмосферу тайн. В его руках появляется таинственная книжка, в которой он поминутно делает странные пометки. На Эми Панкс оказывает совершенно мистическое впечатление и ведёт он себя соответствующим образом: пробует гадать ей по руке, называет себя «цыганом, предсказателем будущего», пугает её тёмными намёками. Он поминутно попадается ей на пути, то на улице, то в тюрьме, то, наконец, в доме Клэннемов. Пусть в конце странные пометки Панкса будут расшифрованы как с адрес возможных кредиторов и обидчиков семьи Доррит, пусть необъяснимая манера поведения Панкса с Крошкой Доррит просто одна из его добродушных причуд, — видимость таинственного всё-таки создана и сохраняется до самого момента получения наследства. Таким образом, в «частном аспекте» повествования некоторые вещи приобретают особое, казалось бы, несвойственное им значение, и новые, не совсем рациональные закономерности начинают управлять событиями и людьми[70].
Во втором плане романа, в аспекте индивидуальных человеческих судеб, ещё сохраняются элементы «готического» осмысления мира. В более ранних произведениях Диккенса «готический» элемент символизировал злое начало в капиталистическом обществе. На него был возложен весь груз таинственности неопознанных закономерностей[71]. Проблемный «Х» — законы и связи капиталистического общества — становилась «Х-сом» художественным, то есть «готическим» героем. Но уже тогда в творчестве Диккенса происходит процесс рационализации «готики». Особенно после такого романа, как «Тяжёлые времена», где основное зло капиталистического общества, его тайна расшифрована как эксплуатация и угнетение, не могло быть простого повторения старого, «готического» решение задачи[72].
В «Крошке Доррит» можно наблюдать уже осязаемые результаты такой рационализации тайны, применяемые к более широкому жизненному материалу. Романтической тайне в этой обобщённой картине мира отводится ещё более скромное, вернее ограниченное место, чем раньше. «Готический» элемент утратил своё грандиозное символическое значение — сфера его действий теперь ограничена перипетиями индивидуальной судьбы отдельных героев. Символы другого рода — Полипы, Мердл, «патриархи», иначе говоря, символы, наполненные неизмеримо более конкретным социальным содержанием, оттеснили «готику» на второстепенное место[73]. «Готический» образ всё ещё живописно украшает роман Диккенса (например, Риго Бландуа появляется уже с первой главы), но и его значение, по сути, заметно сократилось. Таким образом, закономерности современного капиталистического общества распределяются автором по следующим двум категориям[61]:
- Общие законы: они ясны и понятны, против них следует бороться, хотя окончательно, по мнению Диккенса, они не устранимы.
- Частные закономерности индивидуальные судьбы, показанные с точки зрения переживающих эти судьбы индивидов. Они непонятны вообще, и первым делом самим этим людям.
Отец Доррит, попавший в тюрьму, не знает, по чьей вине он там оказался. Крошка Доррит инстинктивно боится всех людей, с какими она встречается вне стен Маршалси, так как это люди того мира, который отринул их от себя. Клэннем, добровольно взявший на себя расследование окутанного мраком дела, наталкивается на сплошные тайны. Таким образом, в романе показан не только общий закон капиталистического общества — существования богатства и безделья в одном лагере за счёт несправедливости и угнетения другом, но показаны также и различные формы восприятия этого закона — объективная и субъективная[74]. Так, общий закон и общие соотношения изображаются автором объективно, хотя и в символической форме. Здесь присутствуют объективные результаты действий определённых закономерностей. Во втором случае, в истории отдельных судеб, всё изображено сквозь призму субъективных переживаний, индивидуальных догадок, сомнений, страхов. Здесь всё не только по существо более запутано и внерационально, чем в общей картине, но ещё сверх того окружено, так сказать зашифровано, «субъективными» тайнами, тайнами непонимания[48].
 Сложнейшие хитросплетения судьбы миссис Клэннем и мать Артура с дядей Эми, и в то же время любовь Артура и Крошки Доррит, роль Риго, похищающего у брата Флинтвинча бумагу, касающуюся наследства Эми, в то же время его роль шпиона, нанятого мисс Уэйд в семье Гоуэнов и так далее — всё это усилено догадками, сомнениями, ошибками действующих лиц, их индивидуальной слепотой.
Повествование строится так, что многие события, которые могли бы пролить свет на происходящее, показаны именно сквозь завесу индивидуальных заблуждений. Наиболее разительный пример — сны миссис Флинтвинч, которая собственно видит всё, но, как и читатель, ничего не понимает[75]. Поэтому преступление здесь долгое время не выходит наружу, вина не доказана, имена преступников не названы, и читатель в продолжение всего романа остаётся погружённым в атмосферу невысказанных опасений, страхов, намёков, догадок, не до конца осмысленных происшествий. Отсюда двойственный облик книги. С одной стороны полная рационализация, почти что аллегорическое изображение, сатира большого плана на государство, на способ управления, сухая, но чёткая с определённой типизацией действующих лиц, названных предпочтительно не по именам, а по своим функциям в государственном организме: Адвокатура, Церковь и т. п[76].
Сложнейшие хитросплетения судьбы миссис Клэннем и мать Артура с дядей Эми, и в то же время любовь Артура и Крошки Доррит, роль Риго, похищающего у брата Флинтвинча бумагу, касающуюся наследства Эми, в то же время его роль шпиона, нанятого мисс Уэйд в семье Гоуэнов и так далее — всё это усилено догадками, сомнениями, ошибками действующих лиц, их индивидуальной слепотой.
Повествование строится так, что многие события, которые могли бы пролить свет на происходящее, показаны именно сквозь завесу индивидуальных заблуждений. Наиболее разительный пример — сны миссис Флинтвинч, которая собственно видит всё, но, как и читатель, ничего не понимает[75]. Поэтому преступление здесь долгое время не выходит наружу, вина не доказана, имена преступников не названы, и читатель в продолжение всего романа остаётся погружённым в атмосферу невысказанных опасений, страхов, намёков, догадок, не до конца осмысленных происшествий. Отсюда двойственный облик книги. С одной стороны полная рационализация, почти что аллегорическое изображение, сатира большого плана на государство, на способ управления, сухая, но чёткая с определённой типизацией действующих лиц, названных предпочтительно не по именам, а по своим функциям в государственном организме: Адвокатура, Церковь и т. п[76].
Аллегорическое толкование романа, вообще говоря, почти диктуется всем материалом произведения. Характерный пример такого толкования можно найти в книге английского исследователя Диккенса — Джексона. По его мнению, «Крошка Доррит» — это аллегория, истинное значение которой даже автор не смог до конца осознать. В Маршальси, где происходят действия первой книги, автор создает ощущения присутствия сострадания, мужества и доброты, а во второй части, когда герои попадают в «высшие общество», несмотря на богатства и роскошь, они встречают все низкие и презренные пороки. Узники, освобожденные из Маршальси, — отец и дети — понимают, что сменили одну тюрьму на другую, худшую. Они осознают, что хуже всего ад ортодоксальной теологии, которая сама превращает весь мир в тюрьму. Только когда богатство исчезает, и теология терпит крушение, арестанты получают возможность распоряжаться остатком жизни[77]. С другой стороны — мир тайн и ужасов, мир лирики и любви. Здесь, в том тумане намёков и подозрений даже любовь высказывается не до конца. Отношения героев друг к другу, и без того сложные и запутанные, ещё более осложняются их взаимной скрытностью и сдержанностью.
Последние части книги подводят читателя к разгадке всех неясностей. Нельзя сказать, чтобы подводя своё повествование к развязке, автор сумел избегнуть различного рода натяжек и несообразностей. Наоборот, в «Крошке Доррит» их больше, чем где бы то ни было (сложнейшие выкладки Риго, миссис Клэннем, Иеремии Флинтвинча по поводу ящика, документов, утаённого наследства, происхождения Артура и т. п.). Но, во-первых, следует учитывать огромные трудности, стоявшие перед Диккенсом, который должен был «развязать» бесконечное число клубков запутаннейшей интриги. Во-вторых, несмотря на некоторую тяжеловесность развязки, внутренний смысл её совершенно ясен, поскольку благодаря ей все события оказываются освещёнными по-новому[78].
В конце «Крошки Доррит» целый ряд персонажей занят осмыслением самих себя и той области действительности, к которой они принадлежат. В лице жизнерадостного Фредерика Полипа, посетившего Клэннема в тюрьме, Министерство Волокиты тоже проделывает такого рода осмысление[79]:
На то и существуем, чтобы нам не докучали и чтобы всё оставалось, как оно есть. В этом наше назначение. Разумеется, принято считать, будто наша цель совсем в другом, но это для проформы… взгляните с правильной точки зрения, и вы увидите официальных лиц, добросовестно исполняющих свои официальные обязанности. Это вроде игры в крикет на ограниченной площадке. Игроки посылают мячи государству, а мы их перехватываем на лету.
Однако всех постигающих себя героев объединяет общая черта — все они преклоняются и раболепствуют перед неким, хотя как выясняется фиктивным, содержанием, — перед символом денег, Мердлом[64]345.
Здесь, в этом преклонении перед деньгами, в жажде наживы следует искать связующие нити не только между персонажами широкого обобщающего плана, но и между героями обоих планов — «общего» и «индивидуального». Вот, в конечном счёте, тот, что управляет всем в буржуазном мире в целом. То, что Адвокатура и Церковь производят в символичной форме — все эти обеды, церемонии, собеседование с мистером Мердлом, — то персонажами индивидуального плана проделывается в действительности: они просто вносят свои сбережения в предприятия Мердла и затем терпят крах. Более того, оба мрачных символа общего и частного плана — Мердл и Риго Бландуа — имеют одну и ту же разгадку. Оба они стихийные порождения денег, корыстолюбия, эгоизма, античеловеческого, хищнического начала буржуазного общества. Оба они завлекают невинных жертв. Они действуют различных областях по-разному[80]. Мердл — абстрактный символ, почти что аллегория социально-экономического порядка. Риго — фигура авантюрно-мистическая романтичная, приспособленная для того, чтобы выражать содержание Мердла внутри «частной сферы» жизни[81]347.
 «Я продаю всё, что имеет цену, — говорит этот гражданин мира, неограниченный рамками какой-либо одной страны. — А чем живут ваши юристы, ваши политики, ваши интриганы, ваши биржевики?[82]». И далее: «…Общество продаётся и продаёт меня, а я продаю общество[83]». И Мердл, и Риго означают власть денег, жажду наживы, корысть и продажность как таковую, которая и составляет, по Диккенсу, основу капиталистического общества. Но образ Мердла обращён вовне, к официальной стороне буржуазной сферы, к государственной жизни капитализма. Поэтому его фигура до последней степени рационализована и освобождена от всяких субъективных и мистических наслоений. Риго, наоборот, соотнесён со сферой индивидуальных человеческих судеб, где ещё возможны тайны и ужасы, где процветают «готические» представления о действительности. Мердл в общем и рациональном плане значит то же самое, что Риго — в частном и иррациональном[84].
«Я продаю всё, что имеет цену, — говорит этот гражданин мира, неограниченный рамками какой-либо одной страны. — А чем живут ваши юристы, ваши политики, ваши интриганы, ваши биржевики?[82]». И далее: «…Общество продаётся и продаёт меня, а я продаю общество[83]». И Мердл, и Риго означают власть денег, жажду наживы, корысть и продажность как таковую, которая и составляет, по Диккенсу, основу капиталистического общества. Но образ Мердла обращён вовне, к официальной стороне буржуазной сферы, к государственной жизни капитализма. Поэтому его фигура до последней степени рационализована и освобождена от всяких субъективных и мистических наслоений. Риго, наоборот, соотнесён со сферой индивидуальных человеческих судеб, где ещё возможны тайны и ужасы, где процветают «готические» представления о действительности. Мердл в общем и рациональном плане значит то же самое, что Риго — в частном и иррациональном[84].
Разница между Мердлом и Риго — это разница двух этапов в мировоззрении Диккенса. То, что некогда символизировалось одним только героем «готического» плана, то сейчас раздвоилось на осознанное и неосознанное. Мердл — это результат осознания, «рационализации готики». Риго, который своим демоническим плащом мог бы окутать всё, оказывается жалким плутом, трусом, которому удалось навредить значительно меньше, чем он собирался. Риго убывает свою супругу из-за наследства, но это — в предыстории романа. По существу Риго не так страшен, как Мердл, по вине которого гибнут тысячи безобидных жертв, — хотя Мердл и более понятен и схематичен, как личность, носит обыкновенный пиджак, не умеет от смущения связать двух слов и страшно боится собственного дворецкого. Мердл просто заражает всех манией наживы и, по существу, приносит больше вреда и разрушений, чем Риго с его плащом и длинным носом. Оттого что «тайна капиталистического общества» приближается к своей разгадке, она не стала менее страшной, она просто, в лице скучного Мердла, утратила свою «живописность» и свои демонические атрибуты. Наоборот, она преуспевает в своём разрушительном действии, становясь чуть ли не единственным ведущим законом[85].
Как уже упоминалось, Артур Клэннем, положительный герой, жестоко наказан автором за то, что подобно другим соблазнился славой Мердла и внёс свои капиталы (и капиталы друга Даниила Дойса) в пресловутый банк. Он делает это по совету Панкса, который развивает в оправдание своей идее целую теорию. Однако логика сюжета показывает что Панкс, по мнению автора, ошибается, поскольку все, кто следовал его советам, потерпели поражение. Такова моральная установка романа[86]. Поэтому единственной действительно положительной героиней является Крошка Доррит, для которой бедность показывается не несчастьем, наоборот, естественным состоянием.
Выше утверждалось, что круг «бедность — богатство — бедность» и т. д. неотвратим, неизбежен для всех героев романа. Но здесь необходима оговорка. Он неизбежен для тех, кто однажды вступил на этот путь, кто вздумал включиться во вращательное движение капиталистического механизма, а ведь есть ещё и другие пути, другие аспекты действительности, — и не будет неожиданностью, если сказать, что автор ищет спасение именно на этих боковых путях[87].
Символична картина концовки романа — вместо денег Артура Эми требует его любви, в то время как все окружающие их поступили наоборот. Отсюда идиллическая — утопическая концовка книги. И автор с миром отпускает их, решая проблему. Решает утопическим путём, «освобождая» своих героев от груза материального мира, заставляя их добровольно, в порядке морального самоотречения, признать себя нищими. Это — фантастический путь, так как сам автор на примере других своих романов показал читателю, до чего может довести бедность в условиях буржуазного общества. Но Диккенс здесь не ставит никаких вопросов: он попросту декларирует — и на этом оканчивает книгу. Такова вершина и одновременно таковы границы диккенсовского реализма[88]. С одной стороны — грандиозная панорама капиталистической действительности, где с великой разоблачающей силой показаны церковь и государство, суды и тюрьмы, буржуазная семья и буржуазная школа, где читатель видит людей любых характеров и профессий от скромного клерка до государственного деятеля, рабочего и предпринимателя, миллионера и нищего, бедную швею и великосветскую леди, где показано, как одна дутая спекуляция тянет за собой в бездну миллионы жизней, где напрасно гибнут тысячи стремлений и талантов, подчиняясь бесчеловечному закону капиталистической конкуренции[89]. А с другой стороны — одиночество человека, его затерянность в страшном мире, его попытку уйти вместе с таким же одиночеством, затерянным существом от жестоких противоречий реальной жизни. Сентиментальный утопизм искусственной «счастливой концовки» буржуазной литературы в сущности проникнут пессимизмом. Но в Диккенсе ещё сильна здоровая струя критического реализма XIX века, заставляющая ощущать всю искусственность его меланхоличной концовки, совершенно не снимающей высокого познавательного пафоса его произведения[26].
Социально-политические символы
В «Крошке Доррит», как и в двух предыдущих романах семидесятых годов, обращают на себя внимание масштабные сатирические образы-символы. В романе «Холодный дом» (1853) это Канцелярский суд — рутинное заведение, составная часть государственной и социальной системы и символ того, во что превратилась эта система[90]. В «Тяжёлых временах» (1854) это город Коктаун, место действия романа. Его реальным прототипом является Манчестер — символ промышленной Англии. На всем облике города лежит печать бездуховности, он выстроен по удручающему трафарету, так что «тюрьму нельзя отличить от больницы». Этот бездушный трафарет — следствие утилитарного подхода к жизни, господство принципа голого расчёта и выгоды: ничто в Коктауне не радует глаза, обстановка подавляет чувство прекрасного чувство красоты и живую фантазию. Томас Карлейль однажды высказался на эту тему, заметив, что Диккенс «больше боится всякого рода социальных институтов, чем людей»[91] (англ. more afraid of all kinds of social institutions than people).
Министерство Волокиты
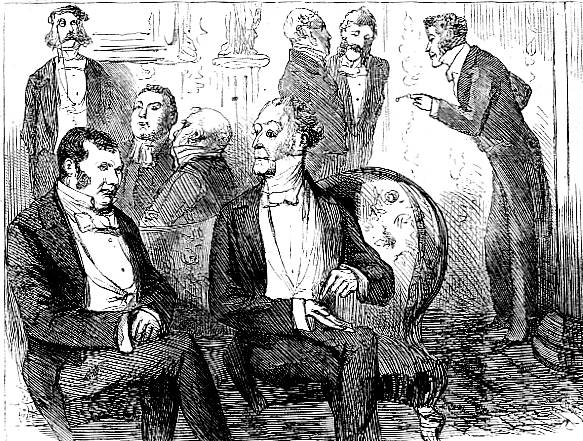 В «Крошке Доррит» масштабный обличительный образ-символ — Министерство Волокиты (англ. Circumlocution Office) (в других версиях перевода — Министерство Околичностей, Министерство Многословия) — воплощение бюрократизма и коррупции в высших эшелонах власти[92]. Это государственное учреждение охватывает все сферы жизни страны и оказывает непосредственное влияние на судьбы всех героев романа, будучи самым важным учреждением в государстве. Ни одно общественное мероприятие не может осуществиться не будучи одобренным им. Главный принцип Министерства — не делать того, что следует делать — неукоснительно соблюдается[93]:
В «Крошке Доррит» масштабный обличительный образ-символ — Министерство Волокиты (англ. Circumlocution Office) (в других версиях перевода — Министерство Околичностей, Министерство Многословия) — воплощение бюрократизма и коррупции в высших эшелонах власти[92]. Это государственное учреждение охватывает все сферы жизни страны и оказывает непосредственное влияние на судьбы всех героев романа, будучи самым важным учреждением в государстве. Ни одно общественное мероприятие не может осуществиться не будучи одобренным им. Главный принцип Министерства — не делать того, что следует делать — неукоснительно соблюдается[93]:

|
Как только выяснялось, что нужно что-то сделать, Министерство Волокиты раньше всех других государственных учреждений изыскивало способ не делать того, что нужно | 
|
Один из выразительных примеров пагубного действия этого принципа — отношение Министерства Волокиты к Даниэлу Дойсу, талантливому изобретателю. Его настойчивые и упорные усилия применить своё изобретение в полезном для Родины деле не приносят результатов, сталкиваясь с полнейшим безразличием со стороны чиновников Министерства. Чиновничье общество Министерства Волокиты составляют две семьи — Полипы и Чванинги, все поколения которых, сменяясь, неизменно служат в этой организации. Работники относятся к своим обязанностям крайне пренебрежительно: не желая брать на себя ответственность за решение того или иного дела, постоянно отсылают их в другие департаменты и отделы. Из-за этого на разбирательство уходит столько времени, что самое дело теряет смысл[94].
В руках представителей этих «влиятельных семейств» сосредоточена власть, они вершат судьбу государства. Бесчисленные и безликие, но всесильные Полипы тормозят всякое движение вперёд, они тянут государство к упадку, прекрасно понимая, что Министерство Волокиты, в котором им принадлежат тёплые местп «есть лишь хитроумные приспособление для того, чтобы разными политическими и дипломатическими уловками помогать жирным оборонятся против тощих». Диккенс подчеркивает многочисленность Полипов и Чванингов: Децимус Тит Полип и Полип-младший, Уильям Полип и миссис Тит Полип, урождённая Чванинг, Тюдор Чванинг и целый выводок менее известных парламентских Полипов — все они удручающе похожи друг на друга. Правда, некоторые из Полипов заслуживают особую известность весьма «полезными» изобретениями. Сущность одно из них выражена в словах: «…если Полипу предлагали в парламенте вопрос, он отвечал на другой вопрос». Этот приём оказал огромные услуги и доставил изобретателю почётное положение в Министерстве Волокиты[95]. Другой весьма сообразительный молодой Полип «пристроился в министерство на секретарскую должность, надеясь поживиться малым, пока не пришло время для большего». И, как и другие Полипы, обосновавшись в Министерстве Волокиты, преуспел, ничего не делая. Чванинги и Полипы многочисленны и едины в своём стремлении бездействовать и умерщвлять всё живое. Полная никчёмность Полипов и Чванингов — это никчёмность отживших представителей английской аристократии. Традиции, за которые крепко держатся эти Полипы, — традиции «старой» Великобритании[96].
Стремясь подчеркнуть ничтожество членов привилегированного общества, Диккенс лишает их какой-либо индивидуальности, а в ряде случаев даже не наделяет именами. Так, одна из представительниц общества названа просто «Бюстом». Её призвание заключается в ношении драгоценностей — и с этой обязанностью «Бюст» великолепно справляется[97].
Писатель распространяет свою сатиру и на тех, кто мирится с существованием отживших традиций и господством Полипов и полагает, что Министерство Волокиты — «учреждение, которым само небо даровало делать всё, что ему вздумается». Главы романа, посвященные Полипам, — гневный и острый памфлет. В его создатели трудно узнать автора «Посмертных записок Пиквикского клуба». Горечь и острота сатиры писателя в большей мери обуславливалась его тревожными мыслями о будущем. В одном из своих писем этого времени Диккенс писал, что его страшит «чертовское пожарище», которое может вспыхнуть в стране в любой момент, спровоцированное «очередным проявлением аристократической наглядности»[98].
В романе часто упоминается корабль, облеплённый полипами и идущий ко дну. Скорее всего, это образ Англии — морской державы, а также всего общества, пороки которого увлекают людей в социальную пропасть[99].
Для лучшего понимания атмосферы заведения, Диккенс при описании погоды близ Министерства использовал такие эпитеты как «промозглый», «серый» и «грязный»[100]. Для изображения дома представителя Министерства Тита Полипа использовались следующие выражения: «…неудобный, с покосившимся парадным крыльцом, немытыми тусклыми оконцами и тёмным двориком…»; «…если говорить о запахах, то дом был точно бутылка с крепким настоем навоза, и лакей, отворявший Артуру дверь, словно вышиб из бутылки пробку»[101].
Тюрьма и власть
 Главное олицетворение тюрьмы в «Крошке Доррит» — это, конечно, долговая тюрьма Маршалси. Она дважды становится центром событий книги: сначала как место заключения Уильяма Доррита, затем — по сути спасшего его Артура Клэннема. Тюрьма выступает в качестве силы, которая деспотично вмешивается в личную жизнь героев, делает её публичной, выносит на всеобщее обсуждение. Она рисуется Диккенсом как нечто принципиально анти-индивидуальное, обостряющее личность, отрицающее идею самостоятельности человека, его права на частную жизнь. Образ тюрьмы в «Крошке Доррит» достигает по ходу повествования высокого уровня обобщения, распространяясь на весь мир, в результате чего возникает ощущение воплощения всего окружения как тюрьмы. Вся сюжетно-композиционная структура книги подчинена этой идее[102]. Роман открывается тюремными сценами: камерой с Риго и Кавалето, а также карантином, куда попало семейство Миглзов и Артур Кленнэм, возвращаясь на родину.
Главное олицетворение тюрьмы в «Крошке Доррит» — это, конечно, долговая тюрьма Маршалси. Она дважды становится центром событий книги: сначала как место заключения Уильяма Доррита, затем — по сути спасшего его Артура Клэннема. Тюрьма выступает в качестве силы, которая деспотично вмешивается в личную жизнь героев, делает её публичной, выносит на всеобщее обсуждение. Она рисуется Диккенсом как нечто принципиально анти-индивидуальное, обостряющее личность, отрицающее идею самостоятельности человека, его права на частную жизнь. Образ тюрьмы в «Крошке Доррит» достигает по ходу повествования высокого уровня обобщения, распространяясь на весь мир, в результате чего возникает ощущение воплощения всего окружения как тюрьмы. Вся сюжетно-композиционная структура книги подчинена этой идее[102]. Роман открывается тюремными сценами: камерой с Риго и Кавалето, а также карантином, куда попало семейство Миглзов и Артур Кленнэм, возвращаясь на родину.
Наиболее ощутимо развитие этого символа в сюжетной линии мистера Доррита и его семьи[103]. Тюрьма приобретает значение психологического давления обстоятельствами, приводящими к нравственной порче. Это «свойство» впервые проявляется, когда описывается постепенное изменение характера мистера Доррита в тюрьме. После слов доктора, утверждавшего, что тюрьма охраняет от неприятностей внешнего мира, автор говорит о мистере Доррите[104]:

|
Должник, надо сказать, был человеком совсем иного склада, нежели доктор; однако он уже начал движение по кругу, которое, хотя и с другой стороны, должно было привести его в ту же точку | 
|
Движение по кругу в одну и ту же точку (англ. travel, by his opposite segment of the circle to the same poin) роднит мистера Доррита с узниками Марсельской тюрьмы (мистер Баптист, совершая своё путешествие, тоже как бы очерчивает круг), повторяются также образы замкнутого пространства (англ. in lock, locked up), ключа (англ. the key). Роковое движение по кругу, из которого невозможно вырваться, становится одним из сопутствующих символу тюрьмы смыслов. Символ «тюрьма» привносит в психологическую тему момент неизбежности отрицательного влияния обстоятельств. Даже став богатым, мистер Доррит сохраняет эту тень, оставаясь, по сути, тем же узником обстоятельств[105]. Крошка Доррит думает об отце[106]:

|
В упреках, которые пришлось выслушать, во всем поведении отца с нею она узнавала знакомую ей тень тюремной стены. Теперь тень выглядела по-иному, но зато была все та же зловещая тень | 
|
Символ «тюрьма» отражает эгоизм героя, не способного увидеть страдания других людей и собственную безответственность, нежелание понять горькую правду о своей жизни. Только перед смертью, когда к мистеру Дорриту приходит осознание своей вины перед дочерью и подвига её дочерней любви, с его лица исчезает «тень тюремной решетки». Символ «тюрьма» проходит и через другие образы[107]. Про Эдуарда Доррита, безалаберного лентяя, сказано[108]:

|
...этот злополучный Тип всюду берёт с собою тюремные стены, и, расставив их вокруг себя, превращает любое заведение или предприятия в некое подобие тюремного двора | 
|
Даже Эми Доррит оказывается под воздействием тюрьмы: её пугает мир за стенами Маршалси, она старается оправдать эгоизм и хвастовство своего отца, и ощущает на себе «тень тюремных стен»[109]:
Это значение символа как разрушения личности развивается в сюжетных линиях мисс Уэйд и Генри Гоуэна. Дом мисс Уэйд наделён признаками тюрьмы. Здесь присутствуют разлагающиеся, мёртвые предметы: позолоченный столик, «позолота на котором поблекла, как прошлогодние цветы»; трюмо, «такое мутное, точно в нём по волшебству застыли все дожди и туманы». Сама хозяйка также предстаёт как человек, скрывший за «вуалью» свою настоящую страстную сущность, которая угадывается, «как под покрывалом угадываются формы окутанного им предмета». Образ мисс Уэйд подчеркивает новый смысл в символе «тюрьма» — тюрьмой может стать сама натура, в силу страстей или ограниченности, мешающая человеку видеть истину и обрекающая на одиночество. Символ «тюрьма» относится и к образу Генри Гоуэна. Привыкший не думать о деньгах и жить как все Полипы, Генри Гоуэн, оказавшись в стеснённом положении, не считается с реальностью и чувствами других людей. Его эгоцентризм и неспособность мыслить самостоятельно мешают видеть зло, которое он причиняет другим и, в первую очередь, своей жене[110]. Проводя анализ его характера, писатель подчеркивает это, вводя образ неуютного дома Гоуэнов в Венеции[111]:

|
Под банком находилось помещение из нескольких комнат с железными решётками на окнах – ни дать, ни взять тюрьма для проштрафившихся крыс | 
|
Символическое значение приобретает тюрьма и в связи с Артуром Клэннемом. Выросший в доме без любви и тепла, герой по-прежнему чувствует на себе печать мрачного дома родителей. Все его мысли связаны с тайной его матери и тайной этого дома. Он постоянно сравнивается с узником, неспособным избавиться от этих мыслей[112]:
 Символика развивается также в линии миссис Кленнем. Сразу же обращает на себя внимание гнетущая, давящая атмосфера, её дома, где звучат те же мотивы разложения, что в описании Марсельской тюрьмы и Лондона[113]. Посещая дом миссис Кленнем, любой персонаж, уже подходя к дому, ощущает эту давящую обстановку, чему способствуют такие эпитеты как «плесневелые стены», « церковь без прихожан», « наглухо запертые ворота причалов и складов», «мутный поток реки» и, наконец, «одиноко стоящего в глубине двора особняка, покрытого чёрной копотью» — дом миссис Кленнем. Тюремная атмосфера, подчеркнутая лейтмотивами разложения, ощущается и внутри дома: тесный тёмный чулан, напоминающий Артуру преисподню, похожий на гроб поставец, зловещие часы, а после появляется сама миссис Кленнем и образ тюрьмы, который до этого передавался лишь через сходство в описании предметов, приобретает зримые формы. Миссис Кленнем, упрекая Артура за попытку выяснить секрет отца, восклицает[114]:«Но пусть он посмотрит на меня, находящуюся в тюрьме, в рабстве в этом месте!» (англ. But let him look at me, in prison and in bond here). Тюрьма становится отражением не только физической изоляции миссис Кленнем. С одной стороны, появляется идея замкнутости её души, невозможности проникнуть в чувства и мысли миссис Кленнем, отгороженные от окружающих, а с другой — идея ограниченности личности, изолировавшей себя от нормальных человеческих чувств и забот. Это ощущается во внешности героини, в которой сквозит неизменная холодность, на её лице постоянная маска суровости, создающая сходство с тюремными стенами[115].
Символика развивается также в линии миссис Кленнем. Сразу же обращает на себя внимание гнетущая, давящая атмосфера, её дома, где звучат те же мотивы разложения, что в описании Марсельской тюрьмы и Лондона[113]. Посещая дом миссис Кленнем, любой персонаж, уже подходя к дому, ощущает эту давящую обстановку, чему способствуют такие эпитеты как «плесневелые стены», « церковь без прихожан», « наглухо запертые ворота причалов и складов», «мутный поток реки» и, наконец, «одиноко стоящего в глубине двора особняка, покрытого чёрной копотью» — дом миссис Кленнем. Тюремная атмосфера, подчеркнутая лейтмотивами разложения, ощущается и внутри дома: тесный тёмный чулан, напоминающий Артуру преисподню, похожий на гроб поставец, зловещие часы, а после появляется сама миссис Кленнем и образ тюрьмы, который до этого передавался лишь через сходство в описании предметов, приобретает зримые формы. Миссис Кленнем, упрекая Артура за попытку выяснить секрет отца, восклицает[114]:«Но пусть он посмотрит на меня, находящуюся в тюрьме, в рабстве в этом месте!» (англ. But let him look at me, in prison and in bond here). Тюрьма становится отражением не только физической изоляции миссис Кленнем. С одной стороны, появляется идея замкнутости её души, невозможности проникнуть в чувства и мысли миссис Кленнем, отгороженные от окружающих, а с другой — идея ограниченности личности, изолировавшей себя от нормальных человеческих чувств и забот. Это ощущается во внешности героини, в которой сквозит неизменная холодность, на её лице постоянная маска суровости, создающая сходство с тюремными стенами[115].
Артур Кленнем ощущает «глухую стену» (англ. brazen wall), которая мешает ему понять мать и прийти ей на помощь. Идея изоляции от окружающего мира и, следовательно, от чувств и мыслей, волнующих обычных людей, роднит миссис Кленнем с мистером Дорритом, видящем в тюремном заключении преграду, охраняющую его от житейских неприятностей. Миссис Кленнем признаётся в одном из эпизодов[116]:
Таким образом, в символе «тюрьма» появляется мысль о некой искусственной философии, об особом мировоззрении, «охраняющих» человека от нежелательных реалий, как тюрьма охраняет узников от многообразия различных явлений. Поэтому крушение дома — тюрьмы миссис Кленнем — происходит лишь тогда, когда её жестокая философия всеми отвергнута и указывает на то, что истинной её тюрьмой была ложная догматическая, жестокая религия, служащая ей для оправдания собственных низменных страстей, которые она не в силах побороть. Как отмечает А. А. Елистратова: «Оно [крушение дома] символизирует крах себялюбивого мифа, который она создавала. И это крушение мнимых нравственных устоев сопровождается разрушением внешнего уклада её жизни».
В «тюрьму» заключены и другие второстепенные герои. Для банкира Мердла собственный дом напоминает тюремное заключение — не случайно Диккенс несколько раз акцентирует внимание читателя на золотой клетке попугая в доме Мердла. По сути дела Фредерик Доррит оказывается заточенным в оркестровой яме театра. Усадьба Миглозов — тюрьма для Тэттикорэм, которая, сбежав от хозяев, попадает под власть мисс Уэйд. Абсолютно схож с тюрьмой работный дом[К 5],, куда добровольно, чтобы не стать обузой для семьи, ушёл старик Плорниш[117].
Власть в романе рассматривается не только на государственном, но и на личном местном уровне[118]. Из воспоминаний Артура Клэннема известно, какой властью обладала миссис Клэннем над мужем и сыном. Её дом — целая цепочка властных тиранов. Флинтвинч оказывает влияние на пожилую хозяйку, вместе они терроризируют служанку Эффери. Для миссис Клэннем в некотором роде тюрьмой становится инвалидное кресло, а также дом, пределы которого она покинула только перед смертью.
Обращение к проблеме существования человека в системе властных отношений показывает, что Диккенс вовсе не был политически безучастен. Однако в своём произведение он обращается не к текущим политическим событиям. Его взгляд на общество и его составляющие, в том числе на семью и межличностные отношения, в «Крошке Доррит» усложнён особым вниманием к проблеме своего рода архетипа власти, её онтологических и аксиологических аспектов. При этом необходимо помнить, что писатель ставит и проблему бунта против подавляющей и уродующей человека власти. В контексте этой проблемы можно рассматривать образы Фанни Доррит, Генри Гоуэна, Тэттикорэм, мисс Уэйд, как бы ни был противоречив, а порой даже уродлив их протест. Несколько отличен от других комический бунт Панкса, выстригшего прядь волос у своего хозяина мистера Кэсби. Их можно отнести к бунтарям первого порядка. Совершенно очевиден, хотя и не всегда проявлен бунт Дойса, Фредерика Доррита, самого Артура и в определённой степени месье Каваллетто[119].
Деньги
Деньги — это важнейшая тема для всех реалистов XIX века и одна из главных во всём творчестве Диккенса[120]. В романе «Крошка Доррит» она приобрела ещё более глубокую трактовку. В этом произведение впервые с такой силой и убежденностью была показана непрочность буржуазного успеха, драма крушения, утраты иллюзий. Чувствуется глубокое разочарование Диккенса в обществе, неприязнь к Англии и Лондону, его гнетущие сомнения в смысле жизни[98]. Сам контраст в название книг — «Бедность» и «Богатство» — указывает на значение денег в повествование.
Рассмотреть влияние денег на судьбы героев романа можно на примере коммерсанта Мердла. Его внешне малозаметная фигура играет важную роль в повествовании. У всех на глазах этот персонаж — вылощённая посредственность и заурядность — превращается в великого человека, в опору нации и государства. Его прославляют, перед ним заискивают. «Нравственный недуг не менее прилипчив, чем недуг телесный…» — замечает автор в главе XIII «Эпидемия растёт» по поводу стремительного возвышения мистера Мердла. Даже в Подворье Кровоточащего Сердца «где каждый грош был рассчитан заранее» эта персона вызывала невероятный интерес, не пробудив при этом недоверия к его финансовым махинациям. Здесь на свой — весьма многозначительный — лад толковали финансовые возможности и форму предпринимательской деятельности мистера Мердла. Рассказывали, например, что он будто «хотел купить всё правительство, да рассчитал, что невыгодно: мне, говорит, больших прибылей не надо, но в убыток, говорит, я тоже покупать не могу». Это толкование простым людям реальных возможностей крупного финансиста передаёт действительную зависимость в буржуазном обществе государства от власти капитала и денег[99].
В «Крошке Доррит« идея о том, что деньги могут принести счастье и добро, ещё присутствующая в предшествующем романе «Холодный дом» окончательно разрушается. Эми Доррит не желает иметь деньги, можно сказать, боится их, — она специально путает завещание с пустой бумажкой. Она не хочет быть богатой, так как понимает, что Артур не женится на богатой наследнице. Счастье для героев Диккенса в ином: в труде на пользу другим[80].
Подворье Кровоточащего Сердца
 Подворье Кровоточащего Сердца — это небольшой квартал, населённый обездоленными и притесняемыми людьми. Этим образным наименованием Диккенс обозначает состояние жизни в квартале бедноты, где «не на чём отдохнуть хотя бы одному из пять человеческих чувств», и выражает своё отношение к этому тягостному социальному явлению. В существовании Подворья Кровоточащего Сердца повинно Министерство Волокиты, обязавшие его жителей непомерными банковскими счетами и налогами. Ту же параллель виновности можно провести в другом романе Диккенса того же периода — в «Холодном доме» (1853) — где трущобы Одинокий Том — порождение Канцелярского Суда. Домовладелиц квартала — мистер Кесби — рассматривает свои владения как источник хорошего дохода. Он выжимает из жильцов последние деньги, причём делает это не своими руками, а с помощью верного помощника Панкса[121].
Подворье Кровоточащего Сердца — это небольшой квартал, населённый обездоленными и притесняемыми людьми. Этим образным наименованием Диккенс обозначает состояние жизни в квартале бедноты, где «не на чём отдохнуть хотя бы одному из пять человеческих чувств», и выражает своё отношение к этому тягостному социальному явлению. В существовании Подворья Кровоточащего Сердца повинно Министерство Волокиты, обязавшие его жителей непомерными банковскими счетами и налогами. Ту же параллель виновности можно провести в другом романе Диккенса того же периода — в «Холодном доме» (1853) — где трущобы Одинокий Том — порождение Канцелярского Суда. Домовладелиц квартала — мистер Кесби — рассматривает свои владения как источник хорошего дохода. Он выжимает из жильцов последние деньги, причём делает это не своими руками, а с помощью верного помощника Панкса[121].
Подворье Кровоточащего сердца не был придуман Диккенсом, а действительно существовал в Великобритании викторианской эпохи. Жители квартала сталкивались с описанными в произведение проблемами[122]. В романе изложено несколько версий происхождения названия района[123]. Согласно одной из них, здесь когда-то было совершенно убийство, а по другой — в квартале жила девушка, которую отец подверг заточению за то, что та, храня верность своему возлюбленному, противилась браку с избранником отца. По словам легенды, эта девушка до смерти сидела у окна с решёткой и пела песнь о своем раненом сердце. Также есть версия, утверждающая, что кровоточащее сердце можно увидеть на гербе древнего рода, чьи владения некогда здесь находились. Однако существовал и другой вариант происхождения названия, который Диккенс не описал в книге. Согласно старой лондонской легенде, во времена Елизаветы Первой здесь проживал сэр Уильям Хэттон — знатный вельможа и лорд-канцлер — чья жена якобы продала душу Дьяволу. Князь Тьмы пришёл забрать долг прямо во время роскошного приёма, который давали супруги Хэттон. На глазах у перепуганных гостей, он схватил хозяйку дома, разорвал на куски и унёс с собой, оставив лежать на земле её кровоточащее ещё бьющееся сердце. В честь единственного уцелевшего органа и было названо это подворье[124].
Художественные особенности произведения
Галлюцинации миссис Флинтвинч
На протяжении всего романа Эффери Флинтвинч подвергается зрительным и слуховым галлюцинациям, которые выражаются в бессмысленных снах и шумах в доме миссис Клэннем. Её первый сон описан в четвёртой главе книги первой. Во сне она видит Иеремию и его двойника, который, выпив за здоровье некой дамы, уходит, унося с собой железный ящик[125]. В главе XXX «Слово джентльмена» загадка двойника поддерживается тем, что Риго принимает мистера Флинтвинча за кого-то другого[126]. В главе XV миссис Флинтвинч снова видит сон, в котором дан разговор матери Клэннема с Флинтвинчем о таинственном прошлом её мужа, а также об обстоятельствах жизни Крошки Доррит[127]. В последующем сновидение Эффери становится свидетельницей того, как миссис Клэннем проявляет искреннею заботу и внимание к Крошке Доррит, а в конце даже по-матерински целует её. Этим эпизодом автор наводит читателя на мысль о том, что опека мачехой Артура Эми Доррит вовсе не случайна. Роль всех этих видений становится понятной в развязке романа, когда Риго Бландуа грозится раскрыть тайну миссис Клэннем. Первой раскрывается тайна двойника. Выясняется, что под ним подразумевался брат мистера Флинтвинча, от которого он получил ящик с настоящим завещанием. Следом разрешается загадка о взаимоотношениях супругов Клэннем, а также о прошлом Клэннема-старшего[59]. Риго рассказывает «историю одного странного брака, одной странной матери». Флинтвинч пытается вмешаться, но его перебивает Эффери[128]:
Я слышала в своих снах об отце Артура и его дяде. Это было ещё до меня, но я слышала в своих снах, что отец Артура был жалкий, нерешительный, перепуганный малый, что у него с детства выели душу, что жену ему выбрал дядя, не спрашивая его желанья
 Риго продолжает рассказ и сообщает, что вскоре после свадьба супруга обличает мужа в измене и страшно мстит сопернице. Дядя отца Артура, умирая, раскаялся и оставил, говорит Риго, «тысячу гиней красотке, которую мы уморили… Тысячу гиней дочери её покровителя, если бы у пятидесятилетнего старика родилась дочь, или если бы не родилось, младшей дочери его брата». Подтверждается догадка Эффери о не случайности опеки мачехой Артура Крошки Доррит. Миссис Клэннем не выдаёт по праву принадлежащие ей деньги, но всё же покровительствует девушке[129]. Таким образом, автор через сны миссис Флинтвинч даёт читатели намёки, раскрывающие некоторые тайны. С помощью Эффери Диккенс преодолевает работу по утверждению первой части отрицательной параллели, то есть, того что «сон» был «явью». Эффери у Диккенса потом проделывает работу утверждения первой части отрицательной параллели, то есть, что «сон» был «явью». Сны это новая ироническая мотивировка взамен старого приёма подслушивания.
Риго продолжает рассказ и сообщает, что вскоре после свадьба супруга обличает мужа в измене и страшно мстит сопернице. Дядя отца Артура, умирая, раскаялся и оставил, говорит Риго, «тысячу гиней красотке, которую мы уморили… Тысячу гиней дочери её покровителя, если бы у пятидесятилетнего старика родилась дочь, или если бы не родилось, младшей дочери его брата». Подтверждается догадка Эффери о не случайности опеки мачехой Артура Крошки Доррит. Миссис Клэннем не выдаёт по праву принадлежащие ей деньги, но всё же покровительствует девушке[129]. Таким образом, автор через сны миссис Флинтвинч даёт читатели намёки, раскрывающие некоторые тайны. С помощью Эффери Диккенс преодолевает работу по утверждению первой части отрицательной параллели, то есть, того что «сон» был «явью». Эффери у Диккенса потом проделывает работу утверждения первой части отрицательной параллели, то есть, что «сон» был «явью». Сны это новая ироническая мотивировка взамен старого приёма подслушивания.
Другой пример галлюцинаций миссис Флинтвинч это непонятные звуки в доме миссис Клэннем. Впервые она услышала их в той же главе, в которой подверглась первому сновидению[130]:
Ей казалось, что точно такой шум испугал её на прошлой неделе, загадочный шум: шорох платья и быстрые торопливые шаги, затем толчок, от которого у неё замерло сердце, точно пол затрясся от этих шагов, и даже чья-то холодная рука дотронулась до неё.
Затем шум, если таковой был, прекратился. Повторно она подверглась галлюцинациям, когда в дом Клэннемов прибил Риго. Своим описанием шум напоминал «шелест, шорох падения, какого-то сухого вещества». Однако в этот раз его ощутила не только Эффери, но и Риго. В той же главе при попытке открыть дверь Эффери испытала затруднения, почувствовав, что кто-то удерживает её с другой стороны. Все эти события вызвали у старухи ложное предположение о том что «в доме кого-то прячут». В то же время данные ею техническое описание, например, словами «кто же… проводит линии на стенках?» указывают читателю на вполне реалистичное объяснение: дом оседает и грозит разрушиться, а под «линиями на стенах» имеются в виду трещины. Итак, сны и шумы в доме миссис Клэннем готовят читателя к развязке романа и дают ему раскрывающие истину догадки. Кроме этого, сны также демонстрируют результат издевательств Иеремии над женой: его деспотичная власть превращает жизнь Эффери в сон[131].
Три признака упадка страны
 Фронтиспис Хеболта Брауна к первому выпуску «Крошки Доррит» в журнале «Домашнее чтение» красноречиво представляет Британию. Она изображена здесь в окружение свиты, которой руководят два слепых старика. Толпа добирается до указательного столба, который направляет их в противоположном нужному им направлении. Позади виднеется колонна мужчин. Далее выступает Британия, которую сопровождает группа хорошо одетых господ с самодовольными улыбками. За фалды одного из них цепляется маленький человечек, на фалдах которого висят двое других, скорчившихся так, что напоминают животных. В конце процессии находятся группа нянек и детей — они символизируют новое поколение. Посреди этих людей на повозке восседает печальная фигура Британии с головой, опущенной на руку, которая в свою очередь опирается на щит, лежащий на её коленях вместе со слегка приподнятым трезубцем[132]. Так показана Британия в романе Диккенса, не как высокая женщина в шлеме с гордо поднятым трезубцем и щитом, правительница морей, а как несчастная сникшая особа, окруженная множеством бездарных и глупых людей.
Фронтиспис Хеболта Брауна к первому выпуску «Крошки Доррит» в журнале «Домашнее чтение» красноречиво представляет Британию. Она изображена здесь в окружение свиты, которой руководят два слепых старика. Толпа добирается до указательного столба, который направляет их в противоположном нужному им направлении. Позади виднеется колонна мужчин. Далее выступает Британия, которую сопровождает группа хорошо одетых господ с самодовольными улыбками. За фалды одного из них цепляется маленький человечек, на фалдах которого висят двое других, скорчившихся так, что напоминают животных. В конце процессии находятся группа нянек и детей — они символизируют новое поколение. Посреди этих людей на повозке восседает печальная фигура Британии с головой, опущенной на руку, которая в свою очередь опирается на щит, лежащий на её коленях вместе со слегка приподнятым трезубцем[132]. Так показана Британия в романе Диккенса, не как высокая женщина в шлеме с гордо поднятым трезубцем и щитом, правительница морей, а как несчастная сникшая особа, окруженная множеством бездарных и глупых людей.
В другом виде представлена Британия в XXIII главе книги второй. Артур приезжает навестить свою мать и сталкивается с Эффери, «которая, стоя с длинной вилкой в руке, напоминала собой аллегорическую фигуру, только в отличие от большинства подобных фигур, смысл аллегории был здесь совершенно понятен» (англ. who, with the kitchen toasting-fork in her hand, looked like a sort of allegorical personage, except that she had a considerable advantage over the general run of such personages, in point of significant emblematical purpose[133]). По мнению Питера Престона, это изображение, где доблестный трезубец превращается в вилку для тостов, объясняет читателю, что Эффери, одна из наименее сообразительных героинь романа, однако, догадывается о тайне дома миссис Клэннем, в то время как никто не обращает на неё ни малейшего внимания. Этот комический образ Британии служит Британии псевдогероической — жестокой миссис Клэннем, которая на иллюстрациях Физа выглядит невероятно чопорной в инвалидном кресле[134]. Таким образом, весь дом миссис Клэннем олицетворяет собой Великобританию, которая, как и он, готова обрушиться в любой момент[135].
Третий признак упадка страны отражён в беседе господина Миглза с Дэниела Дойса, который только вернулся из России, где его изобретение было признано по достоинству. По этому поводу мистер Миглз дал комментарий: «Англия в этом вопросе как собака на сене: сама не жалует своих верных сынов орденами и не позволяет им красоваться теми, что пожалованы в чужих краях» (англ. a Britannia in the Manger — won’t give her children such distinctions herself, and won’t allow them to be seen, when they are given by other countries)[136]. Питер Престон видит в этом отчаянный призыв Диккенса к родине, неспособной полностью использовать весь потенциал народа[137].
Религиозные мотивы
Мачеха Артура Клэннема — миссис Клэннем, невзирая на болезнь, которая приковала её к инвалидному креслу, обладает острым умом, железной волей и недюжинной деловой хваткой. Её жестокая религия извращает истинные религиозные понятия, за которыми она прячется. Будучи непреклонной моралисткой и ярой сторонницей доктрины о посмертном воздаянии за грехи, миссис Клэннем всё же поддаются искушению мести и прячет завещание, по которому Эми Доррит отходит 2000 гиней[138]. В глубине души она сама не может найти оправдание своему поступку, что подчеркивается состоянием её физического здоровья. Вначале повествования миссис Кленнем прикована к инвалидному креслу и только в кульминационный момент она обретает некоторую свободу, чтобы первый и единственный раз полностью выразив себя, попробовать убедить в своей правоте и получить оправдание своему поступку. «Слушайте меня!» (англ. Hear me!) — призывает она, приступая к своему рассказу, что ещё больше подчеркивает сходство с проповедником, зовущим за собой. От Крошки Доррит она получает прощение, но не оправдание. Это звучит как вынесение приговора. После этого «она никогда больше не могла поднять палец», то есть навсегда потеряла власть над живущими. Очевидную аллюзию с библейским судом подчеркивают образные детали, сопровождающие исповедь миссис Кленнем. Прежде всего, это предрешающая сцена, в которой Эффери обещает «так закричать, что мёртвые проснутся», что фактически и происходит, когда оживают прошлые тайны этого дома[139]. Характерно описание самой миссис Кленнем в момент, когда она поднимается со своего кресла: «Все трое чувствовали себя так, будто у них на глазах поднялся из могилы мертвец» (англ. All three of them felt as if they had got in front of the graves of the dead). Все эти элементы ярко проявляют типологический символизм в творчестве писателя и иллюстрируют идею «саморазрушающегося зла», проявившуюся в этот период. Катарский отмечал эту особенность[140]:
Теперь же, в романе зрелом зло лишь самоустраняется, его уничтожают последствия, им самим порождённые к жизни. В этом сказывается вера в высшую справедливость, отказ от веры в социальное воздаяние.
В образе миссис Клэннем, подпавшей под влияние негодяя Бландуа, Диккенс разоблачает свойственную кальвинистам веру в свою избранность, ведущую к непомерной гордыне и самообольщению. Истинные же христианские идеалы — любовь и забота о ближних — в «Крошке Доррит» дают человеку возможность избавиться от отрицательного воздействия тюрьмы и победить личности влияние обстоятельств, как это происходит с Эми Доррит и Артуром Клэннем[141].
Литературная характеристика
| “ | Я верю и намерен внушить людям веру в то, что на свете существует прекрасное, верю, невзирая на полное вырождение общества, нуждами которого пренебрегают… | ” |
| — Чарльз Диккенс | ||
Повествование в романе ведётся от третьего лица за исключением нескольких глав, в которых рассказ идёт от первого лица[К 6]. В «Крошке Доррит» Диккенс использует многочисленные литературные приёмы, например, такие как ирония, переходящая в сарказм, повторы, перекрещивания, параллелизмы, инверсия, пародия и стилизация. Все эти стилистические методы работают на создание фантасмагорической картины мира, отчуждающей человека от реальных проблем жизни. Главной жертвой этой общественной системы, управляемой властью имущих, становится «маленький человек», защитником которого и выступает Диккенс. В его время в литературе дебатировалась проблема героя. Господствующая тогда концепция писателя и философа Томаса Карлейля о культе сильного человека, всё больше уступала взглядам, в которых человек представлялся как предмет и способ размышлений о повседневных трудностях и заблуждениях. По мнению Роберта Браунинга, начала возникать одна из главных черт викторианского времени: героизация повседневности и незаметных людей. Это явление во многом было связано с распространением в Англии середины XIX века либерализма, вследствие чего основной акцент делался на индивидуальной свободе и ответственности каждого человека. Именно такой «маленький человек» был помещен Диккенсом в художественно-идейный центр романа «Крошка Доррит»[142]. В «Крошке Доррит», как уже было сказано выше, Диккенса использовал множество типичных для него литературных приёмов. К одному из них — сатирическому противопоставлению — автор прибегает при описании служащих Министерства Волокиты. Он называет глупость Полипов «величайшей мудростью» и даже «гениальность», их бездействие — «деятельность», а проявление полного равнодушия к интересам народа — «общественной службой»[143]. Также Диккенс при выборе имён для главных образов роман использовал популярный тогда приём «говорящих имён»: в английском варианте фамилии Полипов и Чванингов звучат как «Barnacles» и «Stiltstalkings», что буквально означает «неотвязные люди, прилипалы» и «гордо ходящие на ходулях». Слово «circumlocation», избранное Диккенсом для названия министерства, даже стало нарицательным[144]. Кроме всего этого описание картины современной Великобритании Диккенсом происходит с помощью системы контрастных образов. Сравнивая верхние и нижние слои британского общества, он раскрывает глубокие противоречия, характеризовавшие английское буржуазное «процветание»: Министерство Волокиты и трущобы Лондона; Подворье Кровоточащего Сердца и чванство высшего света; труд изобретателя и махинации банкира[145].
Кроме всего выше указанного, в качестве ещё одного стилистического приёма служащего для передачи атмосферы и переживания героев использовано описание природы и окружающего ландшафта. Автор пишет о современной городской жизни Лондона, отнюдь не смягчая красок. В ранних произведениях Диккенс город предстает в качестве новой природы XIX века, столь же неисчерпаемой, столь же плодотворной для фантазии художника по своим настроениям как подлинная природа лисов и полей. Автор говорит о дожде и его воздействие на город в таких выражения[146]:
В деревне дождь вызывает тысячи свежих ароматов и каждая капля его соединяется со светлым представлением о пркрасных формах жизни и её развитии. В городе он вызывает только усиленную вонь.
Интересно, что и итальянский ландшафт охарактеризован в мрачных красках: жалкие деревни с населением, гибнущим в нищете и целые города дворцов «населённых полчищами ленивых солдат шпионов и попов». Тема грязи уродства антиэстетичности современной жизни приобретает всё большее значение в «Крошке Доррит» Диккенса. Действительность предстает здесь как бы в загрязнённом, безнадёжно испорченном, обезображенном виде. Конечно, встречаются и комичные моменты, когда условная городская «природа» подвергается пародийному обыгрыванию, но в этом они составляют исключение. Сюда относится, например, образ Джона Чивери, сына тюремщика, влюблённого в Эми. Джон, получивший отказ, коротает часы безутешного горя сидя на стуле в крохотном дворике, посреди развешанного мокрого белья, которое заменяет ему деревья поэтической рощи[98].
В «Крошке Доррит» благополучие обрушивается на семью Доррит в середине романа. Этот неожиданный сюжетный ход чрезвычайно интересовал самого писателя, так как он ожидал от него большого эффекта. В самом начале работы над книгой Диккенс писал Форстеру[147]:
Я ещё не решил окончательно, но у меня грандиозная идея — осыпать семейство Доррит деньгами. Их поведение было бы очень занятным. Я надеюсь, что фигура Доррита будет одной из самых сильных в романе.
Ожидания автора оправдались. Изображение старого Доррита, сменившего снисходительного патриарха на заносчивую неприступность богача, так же как пышный расцвет отвратительных качеств Фанни и Типа обогатили все эти образы. Но особенно интересна перемена в Крошке Доррит. Вернее сказать, особенно интересно было то, что с ней не произошло никакой перемены. Она только силою обстоятельств оторванной от семьи, отчуждённой от неё. Крошка Доррит не может расстаться со своим стареньким платьем, со своей работой, со своими неизменными заботами обо всех больных и обиженных, об отце. Поэтому жизнь в довольствие, среди горничных и гувернанток, является для неё утратой её собственного существа[148]. Характерно, что во сне Крошка Доррит возвращается к прежним заботам и интересам[149]:
Мне снилось, например, что я иду вниз к миссис Дженерал в старом платье с заплатками, — том самом в котором я начинаю себя помнить. Снилось и много раз что я за обедом в Венеции, где у нас бывало много гостей в том самом траурном платьице, которое я носила после смерти матери <…> я оставалась маленькой девочкой и продолжала сидеть за столом и с беспокойством высчитывать, во что нам обойдется этот обед, как мы сведём концы с концами.
И во время путешествия Крошка Доррит останавливает взгляд не на роскошных дворцах, а на бедных хижинах, на нищих детях и стариках[150]:
…у почтовых станций и в других местах остановок эти жалкие создания казались ей единственными реальными явлениями из всего, что она видела; и нередко, раздав все свои деньги, она в своей праздности задумчиво смотрела на крошечную девочку, которая вела за руку седого отца, как будто это зрелище напоминало ей что-то знакомое из прошлых дней.
Здесь надо отметить, что сам автор, по-видимому, не считал излюбленные им покровительственные отношения дочери к отцу, внучки к дедушке чем-то исключительным, из ряда вон выходящим, если уж на проезжих дорогах Италия Эми может наблюдать их практически везде[151]. Итак, утрата бедности для диккенсовской героине означает утрату самой основы её существа. Именно жалкое состояние семьи ставило Крошку Доррит в положение «маменьки», которое и являлось её внутренней сущностью, а теперь, лишённая возможности такого самопожертвования, она чувствует себя вырванной от родной стихии. Поэтому Эми вновь обретает себя только тогда, когда оказывается снова нищей и может возвратиться в тюрьму, чтобы ухаживать за больным мистером Клэннемом[152].
 Это обстоятельство лучше всего другого выявляет известную схематичность любимого диккенсовского образа, который живёт лишь одной своей характерной чертой и требует одной определённой ситуации, в которой это черта могла бы беспрепятственно провялятся. Нечто аналогичное нам приходилось отмечать уже в другом случае — в случае с мистером Пиквиком которой, наоборот, был приспособлен только к веселью и беззаботности и совершенно терялся перед лицом суровых жизненных испытаний. Очутившись во Флитской тюрьме, мистер Пиквик вообще почти что перестает существовать как образ. Мучения Крошки Доррит среди роскоши и богатства её нового положения весьма показательны: пересаженная в иную, неприемлемую для неё среду, она становится «праздной», лишается всего своего внутреннего содержания[153].
Это обстоятельство лучше всего другого выявляет известную схематичность любимого диккенсовского образа, который живёт лишь одной своей характерной чертой и требует одной определённой ситуации, в которой это черта могла бы беспрепятственно провялятся. Нечто аналогичное нам приходилось отмечать уже в другом случае — в случае с мистером Пиквиком которой, наоборот, был приспособлен только к веселью и беззаботности и совершенно терялся перед лицом суровых жизненных испытаний. Очутившись во Флитской тюрьме, мистер Пиквик вообще почти что перестает существовать как образ. Мучения Крошки Доррит среди роскоши и богатства её нового положения весьма показательны: пересаженная в иную, неприемлемую для неё среду, она становится «праздной», лишается всего своего внутреннего содержания[153].
Как и во всех социальных романах Диккенса 1850-х годов в «Крошке Доррит» можно отметить излишнюю растянутость во второй части и авантюрно-социальные мотивы к концу книги. Начатая как остросатирический памфлет, она постепенно приобретает оттенки детектива, переключая внимание читателя с Министерства Волокиты на тайну госпожи Клэннем. Это связано с тем, что автор, поднявшись на большую высоту в обобщённом изображении действительности, столкнулся с проблемой поиска противопоставления для изобличаемого им социального зла. Единственное, что ему удалось использовать — это абстрактные призывы к альтруизму, в который сам писатель, однако, переставал верить. Следствием всего этого стала диспропорциональность между негативной и позитивной частями книги[148]
Роман построен на нескольких одновременных действиях, связь между которыми достигается путём участия действующих лиц одной линии в действии другой, и общим местом, где поселяются герои, так, Кленнэм живёт в Подворье Кровоточащего Сердца, тут же живёт мистер Кэсби и итальянец Батист. Основу фабулы произведения составляют любовь Эми Доррит и Артура Кленнэма, истории обогащения и разорения Дорритов и шантажа Риго, который грозит разоблачить миссис Кленнэм. Во время повествования Диккенс ставит перед читателем ряд тайн, которые идут через весь роман и раскрываются только в последних главах. Конечно, они расположены не в сплошную, между ними присутствую бытоописательные главы, не содержащие новых тайн. Техника романа тайн охватывает все формальные элементы произведения. Подчеркиванием загадки иногда заканчивается глава. Тайны в конце как бы гарантируют дальнейшее развитие сюжета, но при этом её разгадка, как правило, условна. Вот что об этом пишет Честертон[154]:
Мрачный дом, где Артур Кленнэм провёл детство, действует на нас самым угнетающим образом. Это поистине подлинный уголок ада, населённый детьми, жертвами того вида мучений, который теологи называют кальвинизмом, а просто христиане — культом Сатаны. В этом доме, по моему глубокому убеждению, совершилось ужасное преступление, кощунство или же человеческое жертвоприношение, наверное, гораздо более чудовищное, чем уничтожение какого-то глупого документа в ущерб интересам столь же глупого семейства Доррит.
Приём тайны распространён Диккенсом в «Крошке Доррит» на все композиционные части романа, даже явления, развитие которых происходит открыто, даны как тайна. Любовь мистера Клэннема к Бэби тоже дана не в простом описании, а в виде «тайны». Писатель не говорит об этой любви, а намекает на неё. В конце XVII главы «Ничей соперник» идёт ложное толкование поступка Кленнэма — он не влюблён, истинное же истолкование настроения дано через метафору дождя[155]:
Дождь лил упорно, барабанил по крыше, глухо ударял в размокшую землю, шумел в кустарнике, в оголённых ветвях деревьев. Дождь лил упорно, уныло. Ночь будто плакала.
Повествование завершается рассказом о сложном счастье Эми и Артура. Крошка Доррит, сохранив внутреннюю целостность, осталась счастлива, не задетая антигуманной социальной машиной. Артур, выжив как личность в деспотической обстановке дома матери, сумел выстоять и в столкновениях с уродующей социально-политической системой. Диккенсу важно убедить читателя в героизме своих протагонистов, источник которого — способность сохранять верность своей человеческой сути. Концовка романа также даёт основания предположить, что отношение автора на добро и зло значительно изменилось. Диккенс предупреждает об опасности расхождения интереса человека с интересами системы, которая существует лишь во имя самой себя. Вместе с тем писатель, благодаря сложному оптимизму концовки романа, убеждает читателя, что, когда внешний мир враждебен и/или равнодушен, уход вовнутрь себя не может гарантировать полное спасение. Вот почему он делает акцент на любовь, помогающую человеку не замкнуться в себе. Человек в «Крошке Доррит», все-таки, — социальное существо[156]
Место романа в творчестве Чарльза Диккенса
Роман «Крошка Доррит» вместе с «Холодным домом» и «Тяжёлыми временами» составляет грандиозную панораму жизни Великобритании викторианской эпохи. Эти произведения открывают зрелый период в творчестве Диккенса[157]. Символика, уже занявшая значимое место в «Холодном доме» и «Тяжёлых временах», приобретает здесь ещё большую роль. Она выступает как новая форма реалистической типизации, которую Диккенс сумел обрести лишь после создания больших социальных фресок. В «Крошке Доррит», как и в «Холодном доме», обнаруживается почти весь спектр специфических черт писателя, углубившееся понимание закономерностей жизни.
После романа «Тяжёлые времена» с его гнетущей атмосферой и схематичностью «Крошка Доррит» являлась возвращением к насыщенным жизнью произведениям широкого масштаба[158]. В «Крошке Доррит» Диккенс возвращается из выдуманного города Коктауна в реальный Лондон, описание которого, правда, явно изменилось со времён первых городских очерков Диккенса. В описаниях его улиц, мостов, магазинов нет прежней сентиментальной мягкости и уюта, свойственного Лондону ранних произведений писателя. В этом Лондоне многое осталось от неживого, страшного Коктауна, и былая живописность уступила место однообразию. Если сравнить его описание в «Крошке Доррит» и «Николасе Никльби», то обращает на себя внимание однотонность, эмоциональная одноцветность словесного материала: если там роскошь соседствует с нищетой, то здесь преобладают слова: мрачный, безобразный, меланхоличный. Далее: если в первом отрывке автор занимает позицию стороннего наблюдателя, любующегося — не без ужаса — открывшимся ему грандиозным и живописным зрелищем, то здесь никакого любования нет, а есть явственно звучащий социальный протест.
Схематичная конструкция «Тяжёлых временах» явилась косвенным показателем нового, более пессимистического отношения писателя к миру. Поэтому естественно что, возвратившись в Крошке Доррит к старым темам и мотивам, он уже не сумел вдохнуть в них былую жизнь, не смог обрести былого оптимистического подхода к действительности [159]. Городские ландшафты «Крошки Доррит» полны уныния и разочарованности. В них почти нет светлых пятен. Здесь нет уже наивной функции «роскошной жизни», которая имеется, в «Николасе Никльби», где богачи изображаются людьми, которые могут весело проводить время. Здесь всё одинаково безрадостно и безнадёжно. И если тюрьма Маршалси — отвратительное страшное место без воздуха и без света, — то не менее ужасен и отвратителен аристократический дом мистера Тита Полипа — дом, стоящий в глухом переулке, заваленном навозными кучами окружённый конюшнями и сараями. Фикция роскошной жизни, к которой могли стремиться бедняки, пропала из романов Диккенса. Жизни банкира и фабриканта в «Тяжёлых временах» — лишь обратная сторона жизни рабочих Коктауна. В «Крошке Доррит» происходит нечто подобное. Романтика рождественских рассказов, с их поэтическими жареными индюками, освещёнными магазинами, пылающими каминами, вся рождественская вакханалия — всё это ушло в далёкое прошлое. От условного мира домашней романтики остались только печальные воспоминания[160].
Как и в предыдущих романах Диккенса, в «Крошке Доррит» поставлена проблема, наиболее существенна для его реализма — проблема современного капитализма. Если сравнить друг с другом три последних социальных романа, то станет ясно, что в «Крошке Доррит» автор достигает какого-то более обобщённого и законченного взгляда на современность. Если по отношению к «Холодному дому» можно было говорить о том, что Диккенс только ставит некоторые проблемы, только намечает тайну капиталистического общества, которую ему так и, но удаётся разгадать, то здесь перед читателем уже более широкая, более всеобъемлющая концепция капитализма[161].
В сущности, в «Крошке Доррит» повторяется тема вины «Холодного дома», хотя и приобретает большие масштабы. То, что в Холодном доме только намечалось, получило теперь широкое синтетическое истолкование и вылилось в законченную художественную форму. В «Холодном доме» вина леди Дедлок перед мальчиком Джо была окутана тайной каких-то более широких опосредствований, но они так и не были до конца раскрыты[71].
Литературные приёмы, ситуации, в которых оказываются главные герои, способы разрешения проблемы — всё это схоже в «Крошке Доррит» с предыдущими работам Диккенса. Например, детективный сюжет, связанный с наследством часто встречается в его романах. В «Мартине Чезлвите», в «Николасе Никльби», в «Оливере Твисте», в «Холодном доме», в «Тяжёлых временах» и, конечно, в «Крошке Доррит» фигурируют всякого рода зловещие преступники, но в то же время ни одно из этих произведений не может быть безоговорочно названо детективным романом. Тайна, которая заключена в «Крошке Доррит», обволакивающая разноречивые и контрастные судьбы многих персонажей занимает читателя, побуждает следить за развитием фабулы[80]. Диккенс бережет и хранит эту тайне только затем, чтобы стала явной другая, гораздо более значительная тайна, которая содержит существенную и важную истину и которая для многих его персонажей остается сторонней и неразгаданной[148].
В новом романе Диккенс продолжает разрабатывать типовые фигуры главных героев. К моменту начала работы над «Крошкой Доррит» ему уже удалось создать реалистичный тип женщины викторианской Англии, но на этом он не остановился и продолжил работу по формированию образа идеальной женщины. Главная героиня произведения — Эми Доррит — описывается автором как безупречная женщина. Она попадает в тиски не только материальных трудностей, но и сложных моральных проблем, которые ей приходится решать самостоятельно. Её самоотверженная любовь к отцу служит для него крепкой опорой, помогает переносить тяжесть и горечь унизительного положения. Живущая только ради своего отца и семьи, Крошка Доррит в глубоком смысле великодушный и добрейшей души человек. Такие филологи и литературоведы как Михаил Котзин и Мария Шваченко, неоднократно сравнивали её со сказочным героем. К такому же типу идеальной девушки можно привести ряд женских образов, созданных Чарльзом Диккенсом. В романе «Лавка древности» образ главной героине Нелли в некоторой степени похож на фигуру Крошки Доррит. Они оби выросли в неполных семьях, обе испытывают большую любовь и привязанности к отцу, однако, их отличает целая череда различий: Нелли выросла на природе, окруженная лесами и кустарниками, а Крошка Доррит в мрачных стенах тюрьмы. Всю жизнь Нелли сопровождали интересные жизнерадостные люди, в то время как Эми проводила большую часть времени в обществе скучных, потерявших всякий смысл жизни должников. И, конечно, совершено противоположны итоги этих произведений: Крошка Доррит находит своё счастье, тогда как роман «Лавка древности» оканчивается трагической смертью Нелли[162]. Суинберн отмечал это сходство[163]:
Сама Крошка Доррит может быть определена как маленькая Нелли, ставшая взрослой… Но именно благодаря этому она более правдоподобна, более реальна и патетичная…
Образ сказочной героине сюжетно развёрнут здесь значительно больше чем в других работах. Обычно героиням этого типа так и не удаётся до конца произведения вырваться из своего забитого и унижённого состояния, так что счастливая перемена в их жизни может быть лишь самым схематичным образом в конце[164].
Отношение автора касательно межполовых связей представителей разных социальных групп в «Крошке Доррит», как и в «Больших надеждах» и «|Холодном доме» неоднозначно. К примеру, Диккенс всячески одобряет интерес Артура Клэннема — представителя высшего общества, к Эми Доррит — девушки, хоть и с высоким происхождением, но с простым образом жизни. Однако, в ситуации с обратными позициями, когда бедный человек испытывает любовные чувства к женщине, которая «выше» его, Диккенс тут же переходит на сторону среднего класса. Ему по душе викторианское понимание женщины, стоящей «выше» мужчины. Так Эми Доррит «выше» Джона Чивери, Пип чувствует, что Эстелла «выше» него, Эстер Саммерсон «выше» Гаппи, а Люси Мане «выше» Сиднея Картона[165].
В тяжёлых социальных условиях «Крошки Доррит», когда власть денег безгранична, а влиятельные связи решают всё, требуется персонаж, который, занимает высокое положение, но при этом на самом деле ведёт себя достойно. В ход идёт повторяющаяся фигура у Диккенса — добрый богатый человек. В «Крошке Доррит» им является мистер Миглз, в «Холодном доме» — Джон Джарднис, в «Дэвиде Копперфильде» — Бетси Тротвуд. В этом произведение Диккенсу удалось создать самый удачный образ трудовой семьи — семь Плорниш, — хотя в целом с персонажами такого типа ему не везёт.
Характерная для Диккенса оптимистичная концовка романа, весьма неоднозначна в «Крошке Доррит» и ряде других поздних произведений[84]. Автор оканчивает книгу фразой, которая как-бы отделает главных героев от внешнего мира[166]:
Они шли спокойно по шумным улицам, неразлучные и счастливые в солнечном свете и в тени, меж тем как мимо них стремились с обычным шумом, буйные и дерзкие, наглые и угрюмые, тщеславные, спесивые, злобные.
По мнению Тамары Сильман, Диккенс идёт на «утопическое разрешение конфликта, освобождая своих героев от груза материального мира»[81], его противоречий и необходимости бороться с ними. Автор отстраняет их от враждебного им мира, чтобы ещё раз показать насколько ужасна и антигуманна реальность. Таков финал не только «Крошки Доррит», но и «Тяжёлых времен» и «Холодного дома». В концовках этих романов ощущается пессимизм, крайне свойственный позднему Диккенсу[167].
Литературное влияние
Творчество Чарльза Диккенса и, в частности, «Крошка Доррит» оказало значительное влияние на классическую и современную литературу[168]. Исследователи, говоря о воздействие Диккенса на отечественную литературу, прежде всего, обращают внимания на Фёдора Михайловича Достоевского — продолжателя техники писателя, а также пользователя схожих литературных приёмов, — который, ставя «занимательность даже выше художественности», применял приём увлекательность композиции для расширения анализа поступков героя[169]. Для Достоевского Диккенс был вторым важнейшим ориентиром после Бальзака. Поэтому он брал его работы в социальной тематике за образец. Прежде всего, двух писателей объединяет тема «бедных людей» — жертв большого города, затерявшихся в нём, страдающих от бедности, беспомощности и всеобщего равнодушия[170]. Она ведущая в «Крошке Доррит» и других работах того периода и чуть ли не главная у раннего Достоевского. Большое внимание обращают также на сходство тем и мотивов, относительно которых не всегда можно уверенно определить являются ли они случайным совпадением творчества писателей или «прямым отзвуком впечатлений увлеченного читателя и почитателя произведений Диккенса»[171]. Характерные для Диккенса картины семейного тепла, уюта и покоя «Крошка Доррит», к которым он как к идеалу ведёт своих героев, противопоставлены достоевской бесприютности, дискомфорту и одиночеству. Атмосферу доброты и патриархальности в описание финальной сцены «Униженных и оскорблённых» и Ростанева в «Селе Степанчикове» явно заимствована у Диккенса[170].
Роман «Преступление и наказание» вышел через 11 лет после публикации «Крошки Доррит», ещё через 2 года — «Идиот», а в 1876 году Достоевский написал Повесть «Кроткая». Во всех трёх этих произведениях писатель использовал Эми Доррит как прообраз: сначала для Софьи Мармеладовой, затем — князя Мышкина[172], а после для Кроткой[173].
Диккенс постоянно называет Крошку Доррит робкой, несмелой, застенчивой. Эти определения вполне подходят и для Сони Мармеладовой[172]. Кроме особенностей характера, таких как вера, любовь и жажда жизни, этих героинь сближает и внешнее описание: маленькие, тихие, хрупкие для своего возраста. Обе девушки поражают самоотверженностью: Эма работает не покладая рук, чтобы обеспечить горделивого отца, капризную сестру и брата-тунеядца. Соня Мармеладова идет ещё на ещё большие жертвы: девушка вынуждена заняться проституцией, чтобы прокормить голодных детей мачехи. И Эми, и Соня готовы пожертвовать всем ради любимого человека: Крошка Доррит разделяет финансовые трудности Артура Клэннема; Соня следует за осуждённым Раскольниковым в Сибирь[173].
Диккенс назвает Крошку Доррит наивной, простоватой (англ. naive, simple), а это уже сближает Эми скорей с князем Мышкиным. Когда дело доходит до осмысления жизненных событий, в особенности, когда эти события достаточно быстро сменяют одно другое, Крошка Доррит почти не способна концентрироваться и чётко мыслить. В таких ситуациях ей начинает казаться, что за этими событиями на самом деле стоят какие-то другие события из её прежней жизни, и то же самое с новыми странами и природными ландшафтами[172]:
Они необыкновенно красивы, их вид изумляет меня, но я не способна собраться внутри себя, чтобы действительно получать удовольствие.
Её обучают языкам, но она не способна к их усвоению. Все эти признаки присутствуют и у князя Мышкина, который «по болезни не находил возможности учить». И так же как князь Мышкин, она обладает способностью предчувствовать надвигающуюся горе, например, смерть отца. В ней, несомненно, есть что-то «идиотическое», и именно в том плане, в каком описывает себя князь Мышкин, а то, что и она совершенно так же свободна от всех ограничений, накладываемых на человека обществом, ещё больше сближает этих героев[172]. В одном из своих последних произведений Фёдор Достоевский вновь обращается к Крошке Доррит. Главная героиня его одноимённой повести напоминает своим описанием Эми[173]:
Была она такая тоненькая, белокуренькая; со мной всегда мешковата, как будто конфузилась.
 В «Крошке Доррит» кроме Эми Фёдор Достоевский, в качестве прообраза, использовала и ряд других персонажей. Тихий незлобивый Девушкин, чиновник Горшков, лишившийся работы, — они и многие другие герои Достоевского сродни Фредерику Дорриту. Князь Валковский — красавец, аристократ, богач и притом отъявленный подлец — вызывает в памяти длинный ряд диккенсовских злодеев, из которого более всех на него походит Риго Бландуа, всё время приговаривавший «Я джентльмен и умру джентльменом», и, так же как и Валковский, идущий на любые подлости, чтобы разбогатеть, и даже доходящий даже до убийства жены. Однако, даже скопированные у Диккенса, образы Достоевского, как правило, сложней и парадоксальней, к примеру, в отличие от Достоевского, Диккенс не отправляет свою ангельски чистую Крошку Доррит на панель[172].
В «Крошке Доррит» кроме Эми Фёдор Достоевский, в качестве прообраза, использовала и ряд других персонажей. Тихий незлобивый Девушкин, чиновник Горшков, лишившийся работы, — они и многие другие герои Достоевского сродни Фредерику Дорриту. Князь Валковский — красавец, аристократ, богач и притом отъявленный подлец — вызывает в памяти длинный ряд диккенсовских злодеев, из которого более всех на него походит Риго Бландуа, всё время приговаривавший «Я джентльмен и умру джентльменом», и, так же как и Валковский, идущий на любые подлости, чтобы разбогатеть, и даже доходящий даже до убийства жены. Однако, даже скопированные у Диккенса, образы Достоевского, как правило, сложней и парадоксальней, к примеру, в отличие от Достоевского, Диккенс не отправляет свою ангельски чистую Крошку Доррит на панель[172].
Восприятие форм сатирической типизации используемой Диккенсом в «Крошке Доррит» с полным основанием ассоциируется со сходными приёмами в творчестве отечественного сатирика М. Е. Салтыкова-Щедрина. В цикле сатирических рассказов «Помпадура и помпадурши» писателем была создана галерея образов градоначальников — невежественных наглых жестоких, во многом сходных с высокопоставленными членами Министерства Волокиты. Притворяясь либералами разглагольствуя о реформах, они сразу же меняют свой облик, дорвавшись до власти[175]. Также как и в «Крошке Доррит» образы социально сатиры Щедрина имеют под собой вполне реальную основу. Так, город Глупов («История одного города») олицетворяет самодержавную Россию и является образным обобщением бессмысленности любой формы деспотизма. При описании города Щедрин-сатирик, подобно Диккенсу, обращается к гиперболизации и гротеску. Конечно, при выявлении подобных параллелей и общностей в творчестве двух писателей не следует забывать о различиях в их общественно-политических взглядах. Революционно-демократические убеждения Салтыкова-Щедрина проявлялись в его суждениях о необходимости скорейшего революционного ниспровержения несправедливого общественного строя. Диккенс же не был сторонником революционных преобразований общества. Однако и того и другого писателя глубоко волновал вопрос о положении народа и смысл своей литературной деятельности они видели в обличении существующей социальной несправедливости, что и порождало черты общности в их социальной сатире[176].
Меланхолическая концовка романа, отражающая одиночество человека, его затерянность в страшном мире и попытку уйти вместе с таким же одиноким затерянным существом от жестоких противоречий реальной жизни, стала классической в последующей традиции буржуазной литературы. Полнейшим одиночеством кончает герой романа С. Бетлера «Путь всякой плоти»[81]. Скорбным, трагическим одиночеством кончает герой романа Гарди «Джуд Незаметный». И даже когда речь идёт, как в «Крошке Доррит», о двух любящих, создающих путём ухода из мира своё личное счастье, такого рода концовка всегда звучит слабой утопической надеждой к доброму началу, которое ещё сохранилось в человеке в эпоху капитализма и за которое все же буржуазный герой не в силах бороться активно. Так говорит О. Генри в финале своего романа «Короли и капуста»[177]:
Ибо что может быть на свете лучше, чем двое, идущие рядом.
И так говорит на языке кино Чарльз Чаплин в свой картине «Новые времена», где в самом конце показаны эти «двое идущие рядом», — две беспомощные фигуры, уходящие вдаль, противопоставляющие «страшному миру» свою мечту о лучшем будущем, которое кажется им бесконечно далеким.
Также исследователи обращают внимание на Джоан Роулинг, у которой в цикле романов о Гарри Поттере присутствуют литературные аллюзии, реминисценции и отсылки к поздним работам Диккенса. Одним из примеров литературной связи с ним является перекличка образов Сириуса Блека у Роулинг и диккенсовским Артуром Клэннемом. Артур — выходец из влиятельной семьи, Сириус — потомок древнего благородного рода. Они оба ненавидят атмосферу родного дома, описание которых в двух произведениях почти полностью совпадает. Эти дома населены призраками, однако, в случаи с Артуром Клэннемом кажущимся, а с Гриммолд Плейс — реальными. Матери обоев героев, несмотря на физическую немощность, очень властные женщины. И Артур, и Сириус попадают в тюрьму: Артур — в Маршалси, Сириус — в Азкабан. Даже некоторые второстепенные герои находят двойников, к примеру, эльфа Кричера — копия Иеремии Флинтвинча[170].
Перевод и издание в России
В России перевод романа впервые печатался в журнале «Отечественные записки» (1856—1857) без указания имени переводчика. На русский язык роман переводили следующие переводчики: Энгельгардт, Борис Михайлович, Томашевский, Борис Викторович, Евгения Калашникова и Александра Николаевская. Первое полное издание на русском языке появилось в 1901 году и входило в сборник собраний сочинений Диккенса в 13 томах. Затем роман неоднократно переиздавался:
- Крошка Доррит (комплект из 2 книг), Лениздат, Серия: Библиотека школьника. Тираж: 40000 экземпляров, 1951 год[178].
- Крошка Доррит. В двух книгах, Минск, Издательство Академии наук БССР, 30000 экземпляров, 1955 год[179].
- Крошка Доррит (комплект из 2 книг), издательство «Правда», тираж 150000 экземпляров, 1957 год[180].
- Чарльз Диккенс. Собрание сочинений в тридцати томах. Том 20. Государственное издательство художественной литературы. Тираж: 495000 экземпляров. 1960 год[181].
- Крошка Доррит, издательство «Детская литература», тираж: 100000 экземпляров, 1986 год[182].
- Крошка Доррит, Собрание сочинений в десяти томах. Том 9. Издательство «Художественная литература». Тираж: 200000 экземпляров, 1986 год[183].
- Чарльз Диккенс. Собрание сочинений в 20 томах. Том 15. Крошка Доррит. Книга первая: Бедность. Терра-Книжный клуб, 2000 год. ISBN 5-300-03003-1, 5-300-02419-8[184].
- Крошка Доррит. АСТ, Транзиткнига. Серия: Мировая классика. Тираж: 2500 экземпляров, 2004 год. ISBN 5-9578-0692-7[185].
- Крошка Доррит. АСТ, Астрель. Серия: Золотая классика. Тираж: 2000 экземпляров, 2010 год. ISBN 978-5-17-068154-9, 978-5-271-30459-0, 978-985-16-9035-6[186].
- Чарльз Диккенс. Крошка Доррит. Эксмо. Серия: Полное собрание сочинений. Тираж: 3100 экз. ISBN 978-5-699-55356-3, 2012 год (март)[187].
Экранизация
Роман «Крошка Доррит» неоднократно экранизировался. Премьера первой киноверсии книги состоялась 29 июля 1913 года в США. Режиссёром картины выступил Джеймс Кирквуд, сценаристом — Теодор Марстон, а на главные роли были приглашены Хелен Бэджли, Мод Фили Уильям Расселл и Джеймс Круз[188]. Следующая экранизация состоялась на родине писателя в 1920 году. Продюсером фильма стал Фрэнк Е. Спринг, режиссёром — Сидни Морган. Главные роли исполнили Леди Три и Langhorn Burton[189]. После, в 1961 году, вышла канадская версия фильма под режиссёрством Пьера Бэдела. Фильм 1988 года был номинирован на две премии Оскар в номинациях лучшая мужская роль второго плана и лучший адаптированный сценарий[190]. Последняя экранизация состоялась в 2008 году в виде восьмисерийного телесериала. Главные роли в нём исполнили Клэр Фой (Эма Доррит) и Мэттью МакФейден (Артур Клэннем)[191]. Для перенесения на экран роман адаптировал сценарист Эндрю Дэвис, на счету которого также адаптация «Гордости и предубеждения». В 2009 году телесериал получил 9 премий «Эмми»[192].
Напишите отзыв о статье "Крошка Доррит"
Комментарии
- ↑ Макбет — герой трагедии Уильяма Шекспира Макбет, которому было предсказано, что он будет шотландским королём, решив убить короля Дункана, то есть колеблется, перед тем как осуществить своё намерение.
- ↑ Тимон — герой трагедии Уильяма Шекспира „Тимон Афинский“, который, разорившись, был предан своими лицемерными друзьями, стал человеконенавистником и жил в одиночестве в пещере
- ↑ Здесь и далее фрагменты романа приведены по переводу Евгении Калашниковой
- ↑ Параклет — человек, которого призывают на помощь, для утешения. Вероятно, сходен с образами адвоката и апологета. Термин в основном используется в теологической литературе, упоминается в Новом Завете и христианской литературе (латинской и византийской).
- ↑ работный дом — дом призрения для бедняков, существовавшие в Англии в середине XIX века и получившие печальную известность своим почти тюремным режимом)
- ↑ А именно — глава IV «Письмо Крошки Доррит», XI «Письмо Крошки Доррит», XXI «История одного самоистязания».
Примечания
- ↑ Пирсон, 1963, с. 508-509.
- ↑ [www.proza.ru/2010/01/19/277 Биография Чарльза Диккенса] на сайте Проза.ру (рус.)
- ↑ Джордж Оруэлл. Чарлз Диккенс. — 1950.
- ↑ Синопсис книги «Крошка Доррит» в переводе Евгении Калашниковой, 1896 год (рус.)
- ↑ Schlicke, 1999, с. 205.
- ↑ Davis, 1999, с. 215.
- ↑ Charles Dickens. Little Dorrit. — Oxford University Press, 1953. — 215 с. — ISBN 978-0-19-254512-1.
- ↑ 1 2 Philip Sherwood. 2000 Years of History. — Heathrow, Stroud, The History Press Ltd, 2009. — ISBN 0-7509-5086-2. (рус.)
- ↑ Пирсон, 1963, с. 295.
- ↑ 1 2 3 [www.biblioteka.by/05/DIKKENS/d29.html Чарльз Диккенс. Письма 1933—1854] (рус.)
- ↑ Пирсон, 1963, с. 117.
- ↑ Михальская, 1987, с. 83.
- ↑ [law.edu.ru/book/book.asp?bookID=53329 Патентное право Великобритании, унификация его с европейским патентным правом] (рус.)
- ↑ А. А. Аникст, В. В. Ивашев. Собрание сочинений в тридцати томах. Том 28/Чарльз Диккенс. Статьи и речи//Любопытная опечатка в «Эдинбургском обозрении». — Просвищение, 1959. — 127 с.
- ↑ Энгус Уилсон. Мир Чарльза Диккенса. — Прогресс, 1970. — 311 с.
- ↑ Уильям Сомерсет Моэм. Чарльз Диккенс и «Дэвид Копперфилд». — Прогресс, 1975. — 308 с.
- ↑ Наталья Ищенко «Крымская война» Чарльза Диккенса // Редакция журнала «Международная жизнь». — М., 2012.
- ↑ Frederick G. Kitton. = Charles Dickens by Pen and Pencil, Including Anecdotes and Reminiscences, Collected by His Friends and Companions. — Blackwood, 1890. — С. 261. — 319 с.
- ↑ Владимир Абаринов [www.sovsekretno.ru/articles/id/2176/ Дамское несчастье] // Совершенно секретно, No.5/240. — М., 2009.
- ↑ Диккенс, 1960, с. 242.
- ↑ Аненская, 1892, с. 51.
- ↑ Михальская, 1987, с. 104.
- ↑ Сильман, 1958, с. 321.
- ↑ 1 2 Михальская, 1987, с. 108.
- ↑ Диккенс, 1960, с. 127.
- ↑ 1 2 Сильман, 1958, с. 356.
- ↑ Анненская, 1892, с. 58.
- ↑ А. А. Аникста, В. В. Ивашева. Краткая летопись жизни и творчества Чарльза Диккенса. — М.: Государственное издательство художественной литературы, 1960. — 561 с. — ISBN 5-09-002630-0.
- ↑ Forster, 1976, с. 129.
- ↑ Некоторые из них приведены в книге Kitton’а The Novel of Charles Dickens — London, 1897, C. 151 и далее
- ↑ Анненская, 1892, с. 61.
- ↑ Анненская, 1892, с. 66.
- ↑ Пирсон, 1963, с. 308.
- ↑ Пирсон, 1963, с. 292.
- ↑ Предисловие автора / Крошка Доррит. Собрание сочинений Диккенса в 30 томах, т. 19. — М.: издательство художественной литературы.
- ↑ Jane Rabb Cohen. Charles Dickens and His Original Illustrators. — Columbus: Ohio University Press, 1980. — C. 117. — ISBN 0-8142-0284-5 (англ.)
- ↑ Charles Dickens, Lettre à Hablot K. Browne, 8 ноября 1856. (англ.)
- ↑ Charles Dickens, Lettre à Hablot K. Browne, 6 декабря 1856. (англ.)
- ↑ Schlicke, 1999, с. 345.
- ↑ Джон Форест, The Life of Charles Dickens, Londres, JM Dent & Sons, 1872—1874. (англ.)
- ↑ Комментарии. Марк Урнов / Крошка Доррит. Собрание сочинений Диккенса в 30 томах, т. 18. — М.: издательство худ. литературы. (рус.)
- ↑ Davis, 1999, с. 214-215.
- ↑ Davis, 1999, с. 199.
- ↑ Forster, 1976, с. 133.
- ↑ Schlicke, 1999, с. 347.
- ↑ Сильман, 1958, с. 341.
- ↑ Предисловие к Крошке Доррит
- ↑ 1 2 Сильман, 1958, с. 343.
- ↑ Пирсон, 1963, с. 309.
- ↑ Пирсон, 1963, с. 311.
- ↑ Algernon Charles Swinburn Charles Dickens «Quarterly Review», 1902, vol. 196, с. 29
- ↑ Dan H. Laurence et Martin Quin Shaw on Dickens, New York: Frederick Ungar Publishing Co., 1985, с. 51-64.
- ↑ Charles Dickens, Little Dorrit, Oxford, Oxford University Press, coll. « New Oxford Illustrated Dickens», 1953 ISBN 0-19-254512-4
- ↑ Schlicke, 1999, с. 348.
- ↑ Засурский, 1982, с. 216.
- ↑ Сильман, 1958, с. 306.
- ↑ Сильман, 1958, с. 312-317.
- ↑ Сильман, 1958, с. 332.
- ↑ 1 2 Сильман, 1958, с. 336.
- ↑ Сильман, 1958, с. 334.
- ↑ 1 2 Сильман, 1958, с. 339.
- ↑ Честертон, 1982, с. 157.
- ↑ Михальская, 1987, с. 109-111.
- ↑ 1 2 Сильман, 1958, с. 345.
- ↑ Сильман, 1958, с. 346-347.
- ↑ Сильман, 1958, с. 3047.
- ↑ Михальская, 1987, с. 114.
- ↑ J. W. Milley, Wilkie Collins and «Little Dorrit». «The Modern Language Review», vol. XXXIV, October 1939, № 4, С. 525—534
- ↑ Сильман, 1958, с. 361.
- ↑ George William Curtis, Dickens Reading from the Easy Chair, C. 47
- ↑ 1 2 Сильман, 1958, с. 335.
- ↑ Сильман, 1958, с. 338.
- ↑ Михальская, 1987, с. 117.
- ↑ Б. М. Энгельгардт «Диккенс и его роман» — предисловие к роману «Крошка Доррит», Ленгослитиздат, 1938
- ↑ Сильман, 1958, с. 344-346.
- ↑ Сильман, 1958, с. 346.
- ↑ T. A. Jackson Charles Dickens, the Progress of a Radical, London, 1936, c. 165
- ↑ Сильман, 1958, с. 342-345.
- ↑ Диккенс, 1960, с. 542.
- ↑ 1 2 3 Дмитриев, 1970, с. 209.
- ↑ 1 2 3 Сильман, 1958, с. 347.
- ↑ Диккенс, 1960, с. 311.
- ↑ Диккенс, 1960, с. 288.
- ↑ 1 2 Сильман, 1958, с. 348.
- ↑ Сильман, 1958, с. 337.
- ↑ Сильман, 1958, с. 325.
- ↑ Сильман, 1958, с. 349.
- ↑ Сильман, 1958, с. 351.
- ↑ Сильман, 1958, с. 352-353.
- ↑ Комментарии. М. Урнов / Холодный дом. Собрание сочинений Диккенса в 30 томах, т. 17. — М.: изд-во худ. лит-ры. — С. 769—771.
- ↑ Wordward F.B. The Age of Reform: 1815—1870. Oxford: Oxford University Press, 1962.C.556.
- ↑ [www.clubook.ru/encyclopaedia/ministerstvo_volokity_tzh._ministerstvo_okolichnostejj_the_circumlocution_office/?id=30963 «Министерство Волокиты» в Энциклопедии читателя] (рус.)
- ↑ Диккенс, 1960, с. 115.
- ↑ Михальская, 1987, с. 99-100.
- ↑ Михальская, 1987, с. 106.
- ↑ Михальская, 1987, с. 101-103.
- ↑ Сильман, 1958, с. 344.
- ↑ 1 2 3 Дмитриев, 1970, с. 207.
- ↑ 1 2 Предисловие. Марк Урнов / Крошка Доррит. Собрание сочинений Диккенса в 30 томах, т. 19. — М.: издательство художественной литературы (рус.)
- ↑ Диккенс, 1960, с. 309.
- ↑ Диккенс, 1960, с. 209.
- ↑ Шувалова, 2003, с. 90.
- ↑ Шувалова, 2003, с. 92-93.
- ↑ Диккенс, 1960, с. 56.
- ↑ Шувалова, 2003, с. 94.
- ↑ Диккенс, 1960, с. 97.
- ↑ Шувалова, 2003, с. 95.
- ↑ Диккенс, 1960, с. 61.
- ↑ Диккенс, 1960, с. 58.
- ↑ Шувалова, 2003, с. 98.
- ↑ Диккенс, 1960, с. 144.
- ↑ Диккенс, 1960, с. 93.
- ↑ Шувалова, 2003, с. 99.
- ↑ Диккенс, 1960, с. 365.
- ↑ Диккенс, 1960, с. 159.
- ↑ Диккенс, 1960, с. 166.
- ↑ Шувалова, 2003, с. 102.
- ↑ Шувалова, 2003, с. 104.
- ↑ Шувалова, 2003, с. 106.
- ↑ История зарубежной литературы ХIХ века / Под ред. Н. А. Соловьевой. М.: Высшая школа, 1991. С. 214
- ↑ Предисловии кд
- ↑ Екатерина Коути, Наталья Владимировна Харса „Суеверия викторианской Англии“, С. 6
- ↑ ссылка на страницы в кд
- ↑ Екатерина Коути, Наталья Владимировна Харса „Суеверия викторианской Англии“, С. 9
- ↑ страницы кд
- ↑ Диккенс, 1960, с. 192.
- ↑ Диккенс, 1960, с. 132-135.
- ↑ Диккенс, 1960, с. 175.
- ↑ Диккенс, 1960, с. 140-145.
- ↑ Диккенс, 1960, с. 238.
- ↑ Сильман, 1958, с. 340.
- ↑ Charles Dickens 2002, p. 664.
- ↑ Диккенс, 1960, с. 359.
- ↑ Charles Dickens 2002, с. 667
- ↑ Charles Dickens 2002, p. 669
- ↑ Диккенс, 1960, с. 392.
- ↑ Charles Dickens 2002, p. 670
- ↑ [www.clubook.ru/encyclopaedia/klennjem_artur_clennam/?id=41147 Артур Клэннем в Энциклопедии читателя]. (рус.)
- ↑ Катарский, 1966, с. 5322.
- ↑ Пирсон, 1963, с. 5337.
- ↑ Пирсон, 1963, с. 341.
- ↑ Клименко Е. И. Английская литература первой половины XIX века. Очерк развития.. — Издательство Ленинградского университета, 1971. — 229 с. (рус.)
- ↑ Дмитриев, 1970, с. 206.
- ↑ Засурский, 1982, с. 214-215.
- ↑ Дмитриев, 1970, с. 208-210.
- ↑ Диккенс, 1960, с. 498.
- ↑ Forster, 1976, с. 132.
- ↑ 1 2 3 Дмитриев, 1970, с. 211.
- ↑ Диккенс, 1960, с. 416.
- ↑ Диккенс, 1960, с. 431.
- ↑ Сильман, 1958, с. 329.
- ↑ Сильман, 1958, с. 331.
- ↑ Михальская, 1987, с. 109.
- ↑ Честертон, 1982, с. 167.
- ↑ Диккенс, 1960, с. 474.
- ↑ Прошкина Е. П. О внутреннем монологе в романе Чарльза Диккенса (рус.) // Вестник Ленинградского университета. — Ленинград, 1977. — Вып. 1. — № 2. — С. 8-9.
- ↑ [feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/ Чарльз Диккенс] в Литературной энциклопедии. (рус.)
- ↑ Сильман, 1958, с. 320.
- ↑ Сильман, 1958, с. 322.
- ↑ Сильман, 1958, с. 335-338.
- ↑ Сильман, 1958, с. 330.
- ↑ Мухаммедова Х. Э. Образы идеальных женщин в творчестве Чарльза Диккенса (рус.) // Молодой учёный. — М., 2012. — № 4. — С. 241-245.
- ↑ Alegarn Charles Swinburn Charles Dickens, «Quarterly review», 1902, vol. 196, с. 29.
- ↑ Сильман, 1958, с. 328.
- ↑ Михальская, 1987, с. 107.
- ↑ Диккенс, 1960, с. 598.
- ↑ Михальская, 1987, с. 113.
- ↑ Кондарина, Ирина Владимировна Рецепция романистики Ч. Диккенса в России в 1850—1950-х гг. Канд. дисс. М., 2004. С.3. (рус.)
- ↑ В.Б. Шкловский. Повести о прозе. Размышления и разборы (рус.). — Художественная литература, 1981.
- ↑ 1 2 3 Криницын А. Б. Творчество Достоевского в контексте европейской литературы. Автореферат. М., 2010 г. С.9. (рус.)
- ↑ Пирсон, 1963, с. 358.
- ↑ 1 2 3 4 5 Александр Суконик Условности и сентименты христианского романа — журнал «Иностранная литература» 2009, выпуск № 3 (рус.)
- ↑ 1 2 3 Исаченкова Н. В. Сравнительный анализ художественного текста на уроках литературы Санкт-Петербург 2003 ISBN 5-93437-168-1 (рус.)
- ↑ Назиров Р. Г. Исследования разных лет: сборник статей «Русская классическая литература: сравнительно-исторический подход». — Уфа: РИО БашГУ, 2005.
- ↑ Михальская, 1987, с. 102.
- ↑ Михальская, 1987, с. 103-105.
- ↑ [chukovskiy.lit-info.ru/chukovskiy/proza/koroli-i-kapusta/index.htm О. Генри. Собрание сочинений. Т. 1. М., 2006. С. 536. Примеч. А. Старцева]
- ↑ [fantlab.ru/edition62691 Крошка Доррит, 1951 г.], на сайте «Лаборатория фантастики». (рус.)
- ↑ [fantlab.ru/edition62701 Крошка Доррит, 1951 г.], на сайте «Лаборатория фантастики». (рус.)
- ↑ [fantlab.ru/edition62710 Крошка Доррит, 1957 г.], на сайте «Лаборатория фантастики». (рус.)
- ↑ [www.fantlab.ru/edition77045 Крошка Доррит, 1960 г.], на сайте «Лаборатория фантастики».
- ↑ [fantlab.ru/edition62734 Крошка Доррит, 1986 г.], на сайте «Лаборатория фантастики». (рус.)
- ↑ [fantlab.ru/edition80248 Крошка Доррит, 1986 г.], на сайте «Лаборатория фантастики». (рус.)
- ↑ [fantlab.ru/edition77047 Крошка Доррит, 2000 г.], на сайте «Лаборатория фантастики». (рус.)
- ↑ [fantlab.ru/edition62658 Крошка Доррит, 2004 г.], на сайте «Лаборатория фантастики». (рус.)
- ↑ [fantlab.ru/edition51634 Крошка Доррит, 2010 г.], на сайте «Лаборатория фантастики». (рус.)
- ↑ [fantlab.ru/edition81443 Крошка Доррит, 2012 г.], на сайте «Лаборатория фантастики». (рус.)
- ↑ [www.imdb.com/title/tt0490624/ Крошка Доррит (фильм, 1913)], на сайте Internet Movie Database. (англ.)
- ↑ [www.imdb.com/title/tt0011404/ Крошка Доррит (фильм, 1920)], на сайте Internet Movie Database. (англ.)
- ↑ [www.imdb.com/title/tt0095530/ Крошка Доррит (фильм, 1988)], на сайте Internet Movie Database. (рус.)
- ↑ [www.imdb.com/title/tt1178522/ Крошка Доррит (фильм, 2008)], на сайте Internet Movie Database. (англ.)
- ↑ [tvkultura.ru/brand/show/brand_id/27462 Крошка Доррит (телесериал, 2008)], на сайте телеканала «Культура» (рус.)
Литература
На русском языке:
- Хескет Пирсон. Чарльз Диккенс. — М.: Молодая гвардия, 1963. — 509 с. — (Жизнь замечательных людей).
- Михальская Н. П. Чарльз Диккенс. — Просвищение, 1987. — 127 с.
- Тамара Сильман. Диккенс. Очерк творчества. — Художественная литература, 1958. — 349 с.
- Шувалова О. О. Диссертация на соискание ученой степени «Структурообразующая роль лейтмотивов и символов в романах Ч. Диккенса». — Московский педагогический университет, 2003. — 226 с.
- Криницын А. Б. Автореферат диссертационной работы на соискание учёной степени «Творчество Достоевского в контексте европейской литературы». — 2010. — 34 с.
- Дмитриев А.С., Самарина Р. М. История зарубежной литературы. — Издательство московского университета, 1970. — 332 с.
- Честертон Т. К. Чарльз Диккенс. — Радуга, 1982. — 205 с.
- Катарский И. М. Диккенс в России. — Наука, 1966. — 428 с.
- Анненская А. Н. Ч. Диккенс. Его жизнь и литературная деятельность. Биографический очерк.. — Типография Ю. Н. Эрлих, 1892. — 79 с.
- Я. Н. Засурский, С. В. Тураева. История зарубежной литературы XIX века. — М. «Просвещение», 1892. — 319 с.
- Исаченкова Н.В. Сравнительный анализ художественного текста на уроках литературы. Методическое пособие. — М.: Паритет, 2003. — 192 с. — ISBN 5-93437-168-1.
- Чарльз Диккенс. Крошка Доррит. — Государственное издательство художественной литературы, 1960. — 607 с.
На английском языке:
- Paul Davis. Charles Dickens A to Z: The Essential Reference to His Life and Work. — Facts On File, Incorporated, 1999. — 432 с.
- John Forster. Life of Charles Dickens. — Everyman's Library, 1976. — 486 с.
- Paul Schlicke. Oxford Reader’s Companion to Dickens. — Издательство Оксфордского университета, 1999. — ISBN 978-0-19-866253-2.
|
|||||||||||||||||||
Отрывок, характеризующий Крошка Доррит
Все те прежние приемы, бывало, неизменно увенчиваемые успехом: и сосредоточение батарей на один пункт, и атака резервов для прорвания линии, и атака кавалерии des hommes de fer [железных людей], – все эти приемы уже были употреблены, и не только не было победы, но со всех сторон приходили одни и те же известия об убитых и раненых генералах, о необходимости подкреплений, о невозможности сбить русских и о расстройстве войск.Прежде после двух трех распоряжений, двух трех фраз скакали с поздравлениями и веселыми лицами маршалы и адъютанты, объявляя трофеями корпуса пленных, des faisceaux de drapeaux et d'aigles ennemis, [пуки неприятельских орлов и знамен,] и пушки, и обозы, и Мюрат просил только позволения пускать кавалерию для забрания обозов. Так было под Лоди, Маренго, Арколем, Иеной, Аустерлицем, Ваграмом и так далее, и так далее. Теперь же что то странное происходило с его войсками.
Несмотря на известие о взятии флешей, Наполеон видел, что это было не то, совсем не то, что было во всех его прежних сражениях. Он видел, что то же чувство, которое испытывал он, испытывали и все его окружающие люди, опытные в деле сражений. Все лица были печальны, все глаза избегали друг друга. Только один Боссе не мог понимать значения того, что совершалось. Наполеон же после своего долгого опыта войны знал хорошо, что значило в продолжение восьми часов, после всех употрсбленных усилий, невыигранное атакующим сражение. Он знал, что это было почти проигранное сражение и что малейшая случайность могла теперь – на той натянутой точке колебания, на которой стояло сражение, – погубить его и его войска.
Когда он перебирал в воображении всю эту странную русскую кампанию, в которой не было выиграно ни одного сраженья, в которой в два месяца не взято ни знамен, ни пушек, ни корпусов войск, когда глядел на скрытно печальные лица окружающих и слушал донесения о том, что русские всё стоят, – страшное чувство, подобное чувству, испытываемому в сновидениях, охватывало его, и ему приходили в голову все несчастные случайности, могущие погубить его. Русские могли напасть на его левое крыло, могли разорвать его середину, шальное ядро могло убить его самого. Все это было возможно. В прежних сражениях своих он обдумывал только случайности успеха, теперь же бесчисленное количество несчастных случайностей представлялось ему, и он ожидал их всех. Да, это было как во сне, когда человеку представляется наступающий на него злодей, и человек во сне размахнулся и ударил своего злодея с тем страшным усилием, которое, он знает, должно уничтожить его, и чувствует, что рука его, бессильная и мягкая, падает, как тряпка, и ужас неотразимой погибели обхватывает беспомощного человека.
Известие о том, что русские атакуют левый фланг французской армии, возбудило в Наполеоне этот ужас. Он молча сидел под курганом на складном стуле, опустив голову и положив локти на колена. Бертье подошел к нему и предложил проехаться по линии, чтобы убедиться, в каком положении находилось дело.
– Что? Что вы говорите? – сказал Наполеон. – Да, велите подать мне лошадь.
Он сел верхом и поехал к Семеновскому.
В медленно расходившемся пороховом дыме по всему тому пространству, по которому ехал Наполеон, – в лужах крови лежали лошади и люди, поодиночке и кучами. Подобного ужаса, такого количества убитых на таком малом пространстве никогда не видал еще и Наполеон, и никто из его генералов. Гул орудий, не перестававший десять часов сряду и измучивший ухо, придавал особенную значительность зрелищу (как музыка при живых картинах). Наполеон выехал на высоту Семеновского и сквозь дым увидал ряды людей в мундирах цветов, непривычных для его глаз. Это были русские.
Русские плотными рядами стояли позади Семеновского и кургана, и их орудия не переставая гудели и дымили по их линии. Сражения уже не было. Было продолжавшееся убийство, которое ни к чему не могло повести ни русских, ни французов. Наполеон остановил лошадь и впал опять в ту задумчивость, из которой вывел его Бертье; он не мог остановить того дела, которое делалось перед ним и вокруг него и которое считалось руководимым им и зависящим от него, и дело это ему в первый раз, вследствие неуспеха, представлялось ненужным и ужасным.
Один из генералов, подъехавших к Наполеону, позволил себе предложить ему ввести в дело старую гвардию. Ней и Бертье, стоявшие подле Наполеона, переглянулись между собой и презрительно улыбнулись на бессмысленное предложение этого генерала.
Наполеон опустил голову и долго молчал.
– A huit cent lieux de France je ne ferai pas demolir ma garde, [За три тысячи двести верст от Франции я не могу дать разгромить свою гвардию.] – сказал он и, повернув лошадь, поехал назад, к Шевардину.
Кутузов сидел, понурив седую голову и опустившись тяжелым телом, на покрытой ковром лавке, на том самом месте, на котором утром его видел Пьер. Он не делал никаких распоряжении, а только соглашался или не соглашался на то, что предлагали ему.
«Да, да, сделайте это, – отвечал он на различные предложения. – Да, да, съезди, голубчик, посмотри, – обращался он то к тому, то к другому из приближенных; или: – Нет, не надо, лучше подождем», – говорил он. Он выслушивал привозимые ему донесения, отдавал приказания, когда это требовалось подчиненным; но, выслушивая донесения, он, казалось, не интересовался смыслом слов того, что ему говорили, а что то другое в выражении лиц, в тоне речи доносивших интересовало его. Долголетним военным опытом он знал и старческим умом понимал, что руководить сотнями тысяч человек, борющихся с смертью, нельзя одному человеку, и знал, что решают участь сраженья не распоряжения главнокомандующего, не место, на котором стоят войска, не количество пушек и убитых людей, а та неуловимая сила, называемая духом войска, и он следил за этой силой и руководил ею, насколько это было в его власти.
Общее выражение лица Кутузова было сосредоточенное, спокойное внимание и напряжение, едва превозмогавшее усталость слабого и старого тела.
В одиннадцать часов утра ему привезли известие о том, что занятые французами флеши были опять отбиты, но что князь Багратион ранен. Кутузов ахнул и покачал головой.
– Поезжай к князю Петру Ивановичу и подробно узнай, что и как, – сказал он одному из адъютантов и вслед за тем обратился к принцу Виртембергскому, стоявшему позади него:
– Не угодно ли будет вашему высочеству принять командование первой армией.
Вскоре после отъезда принца, так скоро, что он еще не мог доехать до Семеновского, адъютант принца вернулся от него и доложил светлейшему, что принц просит войск.
Кутузов поморщился и послал Дохтурову приказание принять командование первой армией, а принца, без которого, как он сказал, он не может обойтись в эти важные минуты, просил вернуться к себе. Когда привезено было известие о взятии в плен Мюрата и штабные поздравляли Кутузова, он улыбнулся.
– Подождите, господа, – сказал он. – Сражение выиграно, и в пленении Мюрата нет ничего необыкновенного. Но лучше подождать радоваться. – Однако он послал адъютанта проехать по войскам с этим известием.
Когда с левого фланга прискакал Щербинин с донесением о занятии французами флешей и Семеновского, Кутузов, по звукам поля сражения и по лицу Щербинина угадав, что известия были нехорошие, встал, как бы разминая ноги, и, взяв под руку Щербинина, отвел его в сторону.
– Съезди, голубчик, – сказал он Ермолову, – посмотри, нельзя ли что сделать.
Кутузов был в Горках, в центре позиции русского войска. Направленная Наполеоном атака на наш левый фланг была несколько раз отбиваема. В центре французы не подвинулись далее Бородина. С левого фланга кавалерия Уварова заставила бежать французов.
В третьем часу атаки французов прекратились. На всех лицах, приезжавших с поля сражения, и на тех, которые стояли вокруг него, Кутузов читал выражение напряженности, дошедшей до высшей степени. Кутузов был доволен успехом дня сверх ожидания. Но физические силы оставляли старика. Несколько раз голова его низко опускалась, как бы падая, и он задремывал. Ему подали обедать.
Флигель адъютант Вольцоген, тот самый, который, проезжая мимо князя Андрея, говорил, что войну надо im Raum verlegon [перенести в пространство (нем.) ], и которого так ненавидел Багратион, во время обеда подъехал к Кутузову. Вольцоген приехал от Барклая с донесением о ходе дел на левом фланге. Благоразумный Барклай де Толли, видя толпы отбегающих раненых и расстроенные зады армии, взвесив все обстоятельства дела, решил, что сражение было проиграно, и с этим известием прислал к главнокомандующему своего любимца.
Кутузов с трудом жевал жареную курицу и сузившимися, повеселевшими глазами взглянул на Вольцогена.
Вольцоген, небрежно разминая ноги, с полупрезрительной улыбкой на губах, подошел к Кутузову, слегка дотронувшись до козырька рукою.
Вольцоген обращался с светлейшим с некоторой аффектированной небрежностью, имеющей целью показать, что он, как высокообразованный военный, предоставляет русским делать кумира из этого старого, бесполезного человека, а сам знает, с кем он имеет дело. «Der alte Herr (как называли Кутузова в своем кругу немцы) macht sich ganz bequem, [Старый господин покойно устроился (нем.) ] – подумал Вольцоген и, строго взглянув на тарелки, стоявшие перед Кутузовым, начал докладывать старому господину положение дел на левом фланге так, как приказал ему Барклай и как он сам его видел и понял.
– Все пункты нашей позиции в руках неприятеля и отбить нечем, потому что войск нет; они бегут, и нет возможности остановить их, – докладывал он.
Кутузов, остановившись жевать, удивленно, как будто не понимая того, что ему говорили, уставился на Вольцогена. Вольцоген, заметив волнение des alten Herrn, [старого господина (нем.) ] с улыбкой сказал:
– Я не считал себя вправе скрыть от вашей светлости того, что я видел… Войска в полном расстройстве…
– Вы видели? Вы видели?.. – нахмурившись, закричал Кутузов, быстро вставая и наступая на Вольцогена. – Как вы… как вы смеете!.. – делая угрожающие жесты трясущимися руками и захлебываясь, закричал он. – Как смоете вы, милостивый государь, говорить это мне. Вы ничего не знаете. Передайте от меня генералу Барклаю, что его сведения неверны и что настоящий ход сражения известен мне, главнокомандующему, лучше, чем ему.
Вольцоген хотел возразить что то, но Кутузов перебил его.
– Неприятель отбит на левом и поражен на правом фланге. Ежели вы плохо видели, милостивый государь, то не позволяйте себе говорить того, чего вы не знаете. Извольте ехать к генералу Барклаю и передать ему назавтра мое непременное намерение атаковать неприятеля, – строго сказал Кутузов. Все молчали, и слышно было одно тяжелое дыхание запыхавшегося старого генерала. – Отбиты везде, за что я благодарю бога и наше храброе войско. Неприятель побежден, и завтра погоним его из священной земли русской, – сказал Кутузов, крестясь; и вдруг всхлипнул от наступивших слез. Вольцоген, пожав плечами и скривив губы, молча отошел к стороне, удивляясь uber diese Eingenommenheit des alten Herrn. [на это самодурство старого господина. (нем.) ]
– Да, вот он, мой герой, – сказал Кутузов к полному красивому черноволосому генералу, который в это время входил на курган. Это был Раевский, проведший весь день на главном пункте Бородинского поля.
Раевский доносил, что войска твердо стоят на своих местах и что французы не смеют атаковать более. Выслушав его, Кутузов по французски сказал:
– Vous ne pensez donc pas comme lesautres que nous sommes obliges de nous retirer? [Вы, стало быть, не думаете, как другие, что мы должны отступить?]
– Au contraire, votre altesse, dans les affaires indecises c'est loujours le plus opiniatre qui reste victorieux, – отвечал Раевский, – et mon opinion… [Напротив, ваша светлость, в нерешительных делах остается победителем тот, кто упрямее, и мое мнение…]
– Кайсаров! – крикнул Кутузов своего адъютанта. – Садись пиши приказ на завтрашний день. А ты, – обратился он к другому, – поезжай по линии и объяви, что завтра мы атакуем.
Пока шел разговор с Раевским и диктовался приказ, Вольцоген вернулся от Барклая и доложил, что генерал Барклай де Толли желал бы иметь письменное подтверждение того приказа, который отдавал фельдмаршал.
Кутузов, не глядя на Вольцогена, приказал написать этот приказ, который, весьма основательно, для избежания личной ответственности, желал иметь бывший главнокомандующий.
И по неопределимой, таинственной связи, поддерживающей во всей армии одно и то же настроение, называемое духом армии и составляющее главный нерв войны, слова Кутузова, его приказ к сражению на завтрашний день, передались одновременно во все концы войска.
Далеко не самые слова, не самый приказ передавались в последней цепи этой связи. Даже ничего не было похожего в тех рассказах, которые передавали друг другу на разных концах армии, на то, что сказал Кутузов; но смысл его слов сообщился повсюду, потому что то, что сказал Кутузов, вытекало не из хитрых соображений, а из чувства, которое лежало в душе главнокомандующего, так же как и в душе каждого русского человека.
И узнав то, что назавтра мы атакуем неприятеля, из высших сфер армии услыхав подтверждение того, чему они хотели верить, измученные, колеблющиеся люди утешались и ободрялись.
Полк князя Андрея был в резервах, которые до второго часа стояли позади Семеновского в бездействии, под сильным огнем артиллерии. Во втором часу полк, потерявший уже более двухсот человек, был двинут вперед на стоптанное овсяное поле, на тот промежуток между Семеновским и курганной батареей, на котором в этот день были побиты тысячи людей и на который во втором часу дня был направлен усиленно сосредоточенный огонь из нескольких сот неприятельских орудий.
Не сходя с этого места и не выпустив ни одного заряда, полк потерял здесь еще третью часть своих людей. Спереди и в особенности с правой стороны, в нерасходившемся дыму, бубухали пушки и из таинственной области дыма, застилавшей всю местность впереди, не переставая, с шипящим быстрым свистом, вылетали ядра и медлительно свистевшие гранаты. Иногда, как бы давая отдых, проходило четверть часа, во время которых все ядра и гранаты перелетали, но иногда в продолжение минуты несколько человек вырывало из полка, и беспрестанно оттаскивали убитых и уносили раненых.
С каждым новым ударом все меньше и меньше случайностей жизни оставалось для тех, которые еще не были убиты. Полк стоял в батальонных колоннах на расстоянии трехсот шагов, но, несмотря на то, все люди полка находились под влиянием одного и того же настроения. Все люди полка одинаково были молчаливы и мрачны. Редко слышался между рядами говор, но говор этот замолкал всякий раз, как слышался попавший удар и крик: «Носилки!» Большую часть времени люди полка по приказанию начальства сидели на земле. Кто, сняв кивер, старательно распускал и опять собирал сборки; кто сухой глиной, распорошив ее в ладонях, начищал штык; кто разминал ремень и перетягивал пряжку перевязи; кто старательно расправлял и перегибал по новому подвертки и переобувался. Некоторые строили домики из калмыжек пашни или плели плетеночки из соломы жнивья. Все казались вполне погружены в эти занятия. Когда ранило и убивало людей, когда тянулись носилки, когда наши возвращались назад, когда виднелись сквозь дым большие массы неприятелей, никто не обращал никакого внимания на эти обстоятельства. Когда же вперед проезжала артиллерия, кавалерия, виднелись движения нашей пехоты, одобрительные замечания слышались со всех сторон. Но самое большое внимание заслуживали события совершенно посторонние, не имевшие никакого отношения к сражению. Как будто внимание этих нравственно измученных людей отдыхало на этих обычных, житейских событиях. Батарея артиллерии прошла пред фронтом полка. В одном из артиллерийских ящиков пристяжная заступила постромку. «Эй, пристяжную то!.. Выправь! Упадет… Эх, не видят!.. – по всему полку одинаково кричали из рядов. В другой раз общее внимание обратила небольшая коричневая собачонка с твердо поднятым хвостом, которая, бог знает откуда взявшись, озабоченной рысцой выбежала перед ряды и вдруг от близко ударившего ядра взвизгнула и, поджав хвост, бросилась в сторону. По всему полку раздалось гоготанье и взвизги. Но развлечения такого рода продолжались минуты, а люди уже более восьми часов стояли без еды и без дела под непроходящим ужасом смерти, и бледные и нахмуренные лица все более бледнели и хмурились.
Князь Андрей, точно так же как и все люди полка, нахмуренный и бледный, ходил взад и вперед по лугу подле овсяного поля от одной межи до другой, заложив назад руки и опустив голову. Делать и приказывать ему нечего было. Все делалось само собою. Убитых оттаскивали за фронт, раненых относили, ряды смыкались. Ежели отбегали солдаты, то они тотчас же поспешно возвращались. Сначала князь Андрей, считая своею обязанностью возбуждать мужество солдат и показывать им пример, прохаживался по рядам; но потом он убедился, что ему нечему и нечем учить их. Все силы его души, точно так же как и каждого солдата, были бессознательно направлены на то, чтобы удержаться только от созерцания ужаса того положения, в котором они были. Он ходил по лугу, волоча ноги, шаршавя траву и наблюдая пыль, которая покрывала его сапоги; то он шагал большими шагами, стараясь попадать в следы, оставленные косцами по лугу, то он, считая свои шаги, делал расчеты, сколько раз он должен пройти от межи до межи, чтобы сделать версту, то ошмурыгывал цветки полыни, растущие на меже, и растирал эти цветки в ладонях и принюхивался к душисто горькому, крепкому запаху. Изо всей вчерашней работы мысли не оставалось ничего. Он ни о чем не думал. Он прислушивался усталым слухом все к тем же звукам, различая свистенье полетов от гула выстрелов, посматривал на приглядевшиеся лица людей 1 го батальона и ждал. «Вот она… эта опять к нам! – думал он, прислушиваясь к приближавшемуся свисту чего то из закрытой области дыма. – Одна, другая! Еще! Попало… Он остановился и поглядел на ряды. „Нет, перенесло. А вот это попало“. И он опять принимался ходить, стараясь делать большие шаги, чтобы в шестнадцать шагов дойти до межи.
Свист и удар! В пяти шагах от него взрыло сухую землю и скрылось ядро. Невольный холод пробежал по его спине. Он опять поглядел на ряды. Вероятно, вырвало многих; большая толпа собралась у 2 го батальона.
– Господин адъютант, – прокричал он, – прикажите, чтобы не толпились. – Адъютант, исполнив приказание, подходил к князю Андрею. С другой стороны подъехал верхом командир батальона.
– Берегись! – послышался испуганный крик солдата, и, как свистящая на быстром полете, приседающая на землю птичка, в двух шагах от князя Андрея, подле лошади батальонного командира, негромко шлепнулась граната. Лошадь первая, не спрашивая того, хорошо или дурно было высказывать страх, фыркнула, взвилась, чуть не сронив майора, и отскакала в сторону. Ужас лошади сообщился людям.
– Ложись! – крикнул голос адъютанта, прилегшего к земле. Князь Андрей стоял в нерешительности. Граната, как волчок, дымясь, вертелась между ним и лежащим адъютантом, на краю пашни и луга, подле куста полыни.
«Неужели это смерть? – думал князь Андрей, совершенно новым, завистливым взглядом глядя на траву, на полынь и на струйку дыма, вьющуюся от вертящегося черного мячика. – Я не могу, я не хочу умереть, я люблю жизнь, люблю эту траву, землю, воздух… – Он думал это и вместе с тем помнил о том, что на него смотрят.
– Стыдно, господин офицер! – сказал он адъютанту. – Какой… – он не договорил. В одно и то же время послышался взрыв, свист осколков как бы разбитой рамы, душный запах пороха – и князь Андрей рванулся в сторону и, подняв кверху руку, упал на грудь.
Несколько офицеров подбежало к нему. С правой стороны живота расходилось по траве большое пятно крови.
Вызванные ополченцы с носилками остановились позади офицеров. Князь Андрей лежал на груди, опустившись лицом до травы, и, тяжело, всхрапывая, дышал.
– Ну что стали, подходи!
Мужики подошли и взяли его за плечи и ноги, но он жалобно застонал, и мужики, переглянувшись, опять отпустили его.
– Берись, клади, всё одно! – крикнул чей то голос. Его другой раз взяли за плечи и положили на носилки.
– Ах боже мой! Боже мой! Что ж это?.. Живот! Это конец! Ах боже мой! – слышались голоса между офицерами. – На волосок мимо уха прожужжала, – говорил адъютант. Мужики, приладивши носилки на плечах, поспешно тронулись по протоптанной ими дорожке к перевязочному пункту.
– В ногу идите… Э!.. мужичье! – крикнул офицер, за плечи останавливая неровно шедших и трясущих носилки мужиков.
– Подлаживай, что ль, Хведор, а Хведор, – говорил передний мужик.
– Вот так, важно, – радостно сказал задний, попав в ногу.
– Ваше сиятельство? А? Князь? – дрожащим голосом сказал подбежавший Тимохин, заглядывая в носилки.
Князь Андрей открыл глаза и посмотрел из за носилок, в которые глубоко ушла его голова, на того, кто говорил, и опять опустил веки.
Ополченцы принесли князя Андрея к лесу, где стояли фуры и где был перевязочный пункт. Перевязочный пункт состоял из трех раскинутых, с завороченными полами, палаток на краю березника. В березнике стояла фуры и лошади. Лошади в хребтугах ели овес, и воробьи слетали к ним и подбирали просыпанные зерна. Воронья, чуя кровь, нетерпеливо каркая, перелетали на березах. Вокруг палаток, больше чем на две десятины места, лежали, сидели, стояли окровавленные люди в различных одеждах. Вокруг раненых, с унылыми и внимательными лицами, стояли толпы солдат носильщиков, которых тщетно отгоняли от этого места распоряжавшиеся порядком офицеры. Не слушая офицеров, солдаты стояли, опираясь на носилки, и пристально, как будто пытаясь понять трудное значение зрелища, смотрели на то, что делалось перед ними. Из палаток слышались то громкие, злые вопли, то жалобные стенания. Изредка выбегали оттуда фельдшера за водой и указывали на тех, который надо было вносить. Раненые, ожидая у палатки своей очереди, хрипели, стонали, плакали, кричали, ругались, просили водки. Некоторые бредили. Князя Андрея, как полкового командира, шагая через неперевязанных раненых, пронесли ближе к одной из палаток и остановились, ожидая приказания. Князь Андрей открыл глаза и долго не мог понять того, что делалось вокруг него. Луг, полынь, пашня, черный крутящийся мячик и его страстный порыв любви к жизни вспомнились ему. В двух шагах от него, громко говоря и обращая на себя общее внимание, стоял, опершись на сук и с обвязанной головой, высокий, красивый, черноволосый унтер офицер. Он был ранен в голову и ногу пулями. Вокруг него, жадно слушая его речь, собралась толпа раненых и носильщиков.
– Мы его оттеда как долбанули, так все побросал, самого короля забрали! – блестя черными разгоряченными глазами и оглядываясь вокруг себя, кричал солдат. – Подойди только в тот самый раз лезервы, его б, братец ты мой, звания не осталось, потому верно тебе говорю…
Князь Андрей, так же как и все окружавшие рассказчика, блестящим взглядом смотрел на него и испытывал утешительное чувство. «Но разве не все равно теперь, – подумал он. – А что будет там и что такое было здесь? Отчего мне так жалко было расставаться с жизнью? Что то было в этой жизни, чего я не понимал и не понимаю».
Один из докторов, в окровавленном фартуке и с окровавленными небольшими руками, в одной из которых он между мизинцем и большим пальцем (чтобы не запачкать ее) держал сигару, вышел из палатки. Доктор этот поднял голову и стал смотреть по сторонам, но выше раненых. Он, очевидно, хотел отдохнуть немного. Поводив несколько времени головой вправо и влево, он вздохнул и опустил глаза.
– Ну, сейчас, – сказал он на слова фельдшера, указывавшего ему на князя Андрея, и велел нести его в палатку.
В толпе ожидавших раненых поднялся ропот.
– Видно, и на том свете господам одним жить, – проговорил один.
Князя Андрея внесли и положили на только что очистившийся стол, с которого фельдшер споласкивал что то. Князь Андрей не мог разобрать в отдельности того, что было в палатке. Жалобные стоны с разных сторон, мучительная боль бедра, живота и спины развлекали его. Все, что он видел вокруг себя, слилось для него в одно общее впечатление обнаженного, окровавленного человеческого тела, которое, казалось, наполняло всю низкую палатку, как несколько недель тому назад в этот жаркий, августовский день это же тело наполняло грязный пруд по Смоленской дороге. Да, это было то самое тело, та самая chair a canon [мясо для пушек], вид которой еще тогда, как бы предсказывая теперешнее, возбудил в нем ужас.
В палатке было три стола. Два были заняты, на третий положили князя Андрея. Несколько времени его оставили одного, и он невольно увидал то, что делалось на других двух столах. На ближнем столе сидел татарин, вероятно, казак – по мундиру, брошенному подле. Четверо солдат держали его. Доктор в очках что то резал в его коричневой, мускулистой спине.
– Ух, ух, ух!.. – как будто хрюкал татарин, и вдруг, подняв кверху свое скуластое черное курносое лицо, оскалив белые зубы, начинал рваться, дергаться и визжат ь пронзительно звенящим, протяжным визгом. На другом столе, около которого толпилось много народа, на спине лежал большой, полный человек с закинутой назад головой (вьющиеся волоса, их цвет и форма головы показались странно знакомы князю Андрею). Несколько человек фельдшеров навалились на грудь этому человеку и держали его. Белая большая полная нога быстро и часто, не переставая, дергалась лихорадочными трепетаниями. Человек этот судорожно рыдал и захлебывался. Два доктора молча – один был бледен и дрожал – что то делали над другой, красной ногой этого человека. Управившись с татарином, на которого накинули шинель, доктор в очках, обтирая руки, подошел к князю Андрею. Он взглянул в лицо князя Андрея и поспешно отвернулся.
– Раздеть! Что стоите? – крикнул он сердито на фельдшеров.
Самое первое далекое детство вспомнилось князю Андрею, когда фельдшер торопившимися засученными руками расстегивал ему пуговицы и снимал с него платье. Доктор низко нагнулся над раной, ощупал ее и тяжело вздохнул. Потом он сделал знак кому то. И мучительная боль внутри живота заставила князя Андрея потерять сознание. Когда он очнулся, разбитые кости бедра были вынуты, клоки мяса отрезаны, и рана перевязана. Ему прыскали в лицо водою. Как только князь Андрей открыл глаза, доктор нагнулся над ним, молча поцеловал его в губы и поспешно отошел.
После перенесенного страдания князь Андрей чувствовал блаженство, давно не испытанное им. Все лучшие, счастливейшие минуты в его жизни, в особенности самое дальнее детство, когда его раздевали и клали в кроватку, когда няня, убаюкивая, пела над ним, когда, зарывшись головой в подушки, он чувствовал себя счастливым одним сознанием жизни, – представлялись его воображению даже не как прошедшее, а как действительность.
Около того раненого, очертания головы которого казались знакомыми князю Андрею, суетились доктора; его поднимали и успокоивали.
– Покажите мне… Ооооо! о! ооооо! – слышался его прерываемый рыданиями, испуганный и покорившийся страданию стон. Слушая эти стоны, князь Андрей хотел плакать. Оттого ли, что он без славы умирал, оттого ли, что жалко ему было расставаться с жизнью, от этих ли невозвратимых детских воспоминаний, оттого ли, что он страдал, что другие страдали и так жалостно перед ним стонал этот человек, но ему хотелось плакать детскими, добрыми, почти радостными слезами.
Раненому показали в сапоге с запекшейся кровью отрезанную ногу.
– О! Ооооо! – зарыдал он, как женщина. Доктор, стоявший перед раненым, загораживая его лицо, отошел.
– Боже мой! Что это? Зачем он здесь? – сказал себе князь Андрей.
В несчастном, рыдающем, обессилевшем человеке, которому только что отняли ногу, он узнал Анатоля Курагина. Анатоля держали на руках и предлагали ему воду в стакане, края которого он не мог поймать дрожащими, распухшими губами. Анатоль тяжело всхлипывал. «Да, это он; да, этот человек чем то близко и тяжело связан со мною, – думал князь Андрей, не понимая еще ясно того, что было перед ним. – В чем состоит связь этого человека с моим детством, с моею жизнью? – спрашивал он себя, не находя ответа. И вдруг новое, неожиданное воспоминание из мира детского, чистого и любовного, представилось князю Андрею. Он вспомнил Наташу такою, какою он видел ее в первый раз на бале 1810 года, с тонкой шеей и тонкими рукамис готовым на восторг, испуганным, счастливым лицом, и любовь и нежность к ней, еще живее и сильнее, чем когда либо, проснулись в его душе. Он вспомнил теперь ту связь, которая существовала между им и этим человеком, сквозь слезы, наполнявшие распухшие глаза, мутно смотревшим на него. Князь Андрей вспомнил все, и восторженная жалость и любовь к этому человеку наполнили его счастливое сердце.
Князь Андрей не мог удерживаться более и заплакал нежными, любовными слезами над людьми, над собой и над их и своими заблуждениями.
«Сострадание, любовь к братьям, к любящим, любовь к ненавидящим нас, любовь к врагам – да, та любовь, которую проповедовал бог на земле, которой меня учила княжна Марья и которой я не понимал; вот отчего мне жалко было жизни, вот оно то, что еще оставалось мне, ежели бы я был жив. Но теперь уже поздно. Я знаю это!»
Страшный вид поля сражения, покрытого трупами и ранеными, в соединении с тяжестью головы и с известиями об убитых и раненых двадцати знакомых генералах и с сознанием бессильности своей прежде сильной руки произвели неожиданное впечатление на Наполеона, который обыкновенно любил рассматривать убитых и раненых, испытывая тем свою душевную силу (как он думал). В этот день ужасный вид поля сражения победил ту душевную силу, в которой он полагал свою заслугу и величие. Он поспешно уехал с поля сражения и возвратился к Шевардинскому кургану. Желтый, опухлый, тяжелый, с мутными глазами, красным носом и охриплым голосом, он сидел на складном стуле, невольно прислушиваясь к звукам пальбы и не поднимая глаз. Он с болезненной тоской ожидал конца того дела, которого он считал себя причиной, но которого он не мог остановить. Личное человеческое чувство на короткое мгновение взяло верх над тем искусственным призраком жизни, которому он служил так долго. Он на себя переносил те страдания и ту смерть, которые он видел на поле сражения. Тяжесть головы и груди напоминала ему о возможности и для себя страданий и смерти. Он в эту минуту не хотел для себя ни Москвы, ни победы, ни славы. (Какой нужно было ему еще славы?) Одно, чего он желал теперь, – отдыха, спокойствия и свободы. Но когда он был на Семеновской высоте, начальник артиллерии предложил ему выставить несколько батарей на эти высоты, для того чтобы усилить огонь по столпившимся перед Князьковым русским войскам. Наполеон согласился и приказал привезти ему известие о том, какое действие произведут эти батареи.
Адъютант приехал сказать, что по приказанию императора двести орудий направлены на русских, но что русские все так же стоят.
– Наш огонь рядами вырывает их, а они стоят, – сказал адъютант.
– Ils en veulent encore!.. [Им еще хочется!..] – сказал Наполеон охриплым голосом.
– Sire? [Государь?] – повторил не расслушавший адъютант.
– Ils en veulent encore, – нахмурившись, прохрипел Наполеон осиплым голосом, – donnez leur en. [Еще хочется, ну и задайте им.]
И без его приказания делалось то, чего он хотел, и он распорядился только потому, что думал, что от него ждали приказания. И он опять перенесся в свой прежний искусственный мир призраков какого то величия, и опять (как та лошадь, ходящая на покатом колесе привода, воображает себе, что она что то делает для себя) он покорно стал исполнять ту жестокую, печальную и тяжелую, нечеловеческую роль, которая ему была предназначена.
И не на один только этот час и день были помрачены ум и совесть этого человека, тяжеле всех других участников этого дела носившего на себе всю тяжесть совершавшегося; но и никогда, до конца жизни, не мог понимать он ни добра, ни красоты, ни истины, ни значения своих поступков, которые были слишком противоположны добру и правде, слишком далеки от всего человеческого, для того чтобы он мог понимать их значение. Он не мог отречься от своих поступков, восхваляемых половиной света, и потому должен был отречься от правды и добра и всего человеческого.
Не в один только этот день, объезжая поле сражения, уложенное мертвыми и изувеченными людьми (как он думал, по его воле), он, глядя на этих людей, считал, сколько приходится русских на одного француза, и, обманывая себя, находил причины радоваться, что на одного француза приходилось пять русских. Не в один только этот день он писал в письме в Париж, что le champ de bataille a ete superbe [поле сражения было великолепно], потому что на нем было пятьдесят тысяч трупов; но и на острове Св. Елены, в тиши уединения, где он говорил, что он намерен был посвятить свои досуги изложению великих дел, которые он сделал, он писал:
«La guerre de Russie eut du etre la plus populaire des temps modernes: c'etait celle du bon sens et des vrais interets, celle du repos et de la securite de tous; elle etait purement pacifique et conservatrice.
C'etait pour la grande cause, la fin des hasards elle commencement de la securite. Un nouvel horizon, de nouveaux travaux allaient se derouler, tout plein du bien etre et de la prosperite de tous. Le systeme europeen se trouvait fonde; il n'etait plus question que de l'organiser.
Satisfait sur ces grands points et tranquille partout, j'aurais eu aussi mon congres et ma sainte alliance. Ce sont des idees qu'on m'a volees. Dans cette reunion de grands souverains, nous eussions traites de nos interets en famille et compte de clerc a maitre avec les peuples.
L'Europe n'eut bientot fait de la sorte veritablement qu'un meme peuple, et chacun, en voyageant partout, se fut trouve toujours dans la patrie commune. Il eut demande toutes les rivieres navigables pour tous, la communaute des mers, et que les grandes armees permanentes fussent reduites desormais a la seule garde des souverains.
De retour en France, au sein de la patrie, grande, forte, magnifique, tranquille, glorieuse, j'eusse proclame ses limites immuables; toute guerre future, purement defensive; tout agrandissement nouveau antinational. J'eusse associe mon fils a l'Empire; ma dictature eut fini, et son regne constitutionnel eut commence…
Paris eut ete la capitale du monde, et les Francais l'envie des nations!..
Mes loisirs ensuite et mes vieux jours eussent ete consacres, en compagnie de l'imperatrice et durant l'apprentissage royal de mon fils, a visiter lentement et en vrai couple campagnard, avec nos propres chevaux, tous les recoins de l'Empire, recevant les plaintes, redressant les torts, semant de toutes parts et partout les monuments et les bienfaits.
Русская война должна бы была быть самая популярная в новейшие времена: это была война здравого смысла и настоящих выгод, война спокойствия и безопасности всех; она была чисто миролюбивая и консервативная.
Это было для великой цели, для конца случайностей и для начала спокойствия. Новый горизонт, новые труды открывались бы, полные благосостояния и благоденствия всех. Система европейская была бы основана, вопрос заключался бы уже только в ее учреждении.
Удовлетворенный в этих великих вопросах и везде спокойный, я бы тоже имел свой конгресс и свой священный союз. Это мысли, которые у меня украли. В этом собрании великих государей мы обсуживали бы наши интересы семейно и считались бы с народами, как писец с хозяином.
Европа действительно скоро составила бы таким образом один и тот же народ, и всякий, путешествуя где бы то ни было, находился бы всегда в общей родине.
Я бы выговорил, чтобы все реки были судоходны для всех, чтобы море было общее, чтобы постоянные, большие армии были уменьшены единственно до гвардии государей и т.д.
Возвратясь во Францию, на родину, великую, сильную, великолепную, спокойную, славную, я провозгласил бы границы ее неизменными; всякую будущую войну защитительной; всякое новое распространение – антинациональным; я присоединил бы своего сына к правлению империей; мое диктаторство кончилось бы, в началось бы его конституционное правление…
Париж был бы столицей мира и французы предметом зависти всех наций!..
Потом мои досуги и последние дни были бы посвящены, с помощью императрицы и во время царственного воспитывания моего сына, на то, чтобы мало помалу посещать, как настоящая деревенская чета, на собственных лошадях, все уголки государства, принимая жалобы, устраняя несправедливости, рассевая во все стороны и везде здания и благодеяния.]
Он, предназначенный провидением на печальную, несвободную роль палача народов, уверял себя, что цель его поступков была благо народов и что он мог руководить судьбами миллионов и путем власти делать благодеяния!
«Des 400000 hommes qui passerent la Vistule, – писал он дальше о русской войне, – la moitie etait Autrichiens, Prussiens, Saxons, Polonais, Bavarois, Wurtembergeois, Mecklembourgeois, Espagnols, Italiens, Napolitains. L'armee imperiale, proprement dite, etait pour un tiers composee de Hollandais, Belges, habitants des bords du Rhin, Piemontais, Suisses, Genevois, Toscans, Romains, habitants de la 32 e division militaire, Breme, Hambourg, etc.; elle comptait a peine 140000 hommes parlant francais. L'expedition do Russie couta moins de 50000 hommes a la France actuelle; l'armee russe dans la retraite de Wilna a Moscou, dans les differentes batailles, a perdu quatre fois plus que l'armee francaise; l'incendie de Moscou a coute la vie a 100000 Russes, morts de froid et de misere dans les bois; enfin dans sa marche de Moscou a l'Oder, l'armee russe fut aussi atteinte par, l'intemperie de la saison; elle ne comptait a son arrivee a Wilna que 50000 hommes, et a Kalisch moins de 18000».
[Из 400000 человек, которые перешли Вислу, половина была австрийцы, пруссаки, саксонцы, поляки, баварцы, виртембергцы, мекленбургцы, испанцы, итальянцы и неаполитанцы. Императорская армия, собственно сказать, была на треть составлена из голландцев, бельгийцев, жителей берегов Рейна, пьемонтцев, швейцарцев, женевцев, тосканцев, римлян, жителей 32 й военной дивизии, Бремена, Гамбурга и т.д.; в ней едва ли было 140000 человек, говорящих по французски. Русская экспедиция стоила собственно Франции менее 50000 человек; русская армия в отступлении из Вильны в Москву в различных сражениях потеряла в четыре раза более, чем французская армия; пожар Москвы стоил жизни 100000 русских, умерших от холода и нищеты в лесах; наконец во время своего перехода от Москвы к Одеру русская армия тоже пострадала от суровости времени года; по приходе в Вильну она состояла только из 50000 людей, а в Калише менее 18000.]
Он воображал себе, что по его воле произошла война с Россией, и ужас совершившегося не поражал его душу. Он смело принимал на себя всю ответственность события, и его помраченный ум видел оправдание в том, что в числе сотен тысяч погибших людей было меньше французов, чем гессенцев и баварцев.
Несколько десятков тысяч человек лежало мертвыми в разных положениях и мундирах на полях и лугах, принадлежавших господам Давыдовым и казенным крестьянам, на тех полях и лугах, на которых сотни лет одновременно сбирали урожаи и пасли скот крестьяне деревень Бородина, Горок, Шевардина и Семеновского. На перевязочных пунктах на десятину места трава и земля были пропитаны кровью. Толпы раненых и нераненых разных команд людей, с испуганными лицами, с одной стороны брели назад к Можайску, с другой стороны – назад к Валуеву. Другие толпы, измученные и голодные, ведомые начальниками, шли вперед. Третьи стояли на местах и продолжали стрелять.
Над всем полем, прежде столь весело красивым, с его блестками штыков и дымами в утреннем солнце, стояла теперь мгла сырости и дыма и пахло странной кислотой селитры и крови. Собрались тучки, и стал накрапывать дождик на убитых, на раненых, на испуганных, и на изнуренных, и на сомневающихся людей. Как будто он говорил: «Довольно, довольно, люди. Перестаньте… Опомнитесь. Что вы делаете?»
Измученным, без пищи и без отдыха, людям той и другой стороны начинало одинаково приходить сомнение о том, следует ли им еще истреблять друг друга, и на всех лицах было заметно колебанье, и в каждой душе одинаково поднимался вопрос: «Зачем, для кого мне убивать и быть убитому? Убивайте, кого хотите, делайте, что хотите, а я не хочу больше!» Мысль эта к вечеру одинаково созрела в душе каждого. Всякую минуту могли все эти люди ужаснуться того, что они делали, бросить всо и побежать куда попало.
Но хотя уже к концу сражения люди чувствовали весь ужас своего поступка, хотя они и рады бы были перестать, какая то непонятная, таинственная сила еще продолжала руководить ими, и, запотелые, в порохе и крови, оставшиеся по одному на три, артиллеристы, хотя и спотыкаясь и задыхаясь от усталости, приносили заряды, заряжали, наводили, прикладывали фитили; и ядра так же быстро и жестоко перелетали с обеих сторон и расплюскивали человеческое тело, и продолжало совершаться то страшное дело, которое совершается не по воле людей, а по воле того, кто руководит людьми и мирами.
Тот, кто посмотрел бы на расстроенные зады русской армии, сказал бы, что французам стоит сделать еще одно маленькое усилие, и русская армия исчезнет; и тот, кто посмотрел бы на зады французов, сказал бы, что русским стоит сделать еще одно маленькое усилие, и французы погибнут. Но ни французы, ни русские не делали этого усилия, и пламя сражения медленно догорало.
Русские не делали этого усилия, потому что не они атаковали французов. В начале сражения они только стояли по дороге в Москву, загораживая ее, и точно так же они продолжали стоять при конце сражения, как они стояли при начале его. Но ежели бы даже цель русских состояла бы в том, чтобы сбить французов, они не могли сделать это последнее усилие, потому что все войска русских были разбиты, не было ни одной части войск, не пострадавшей в сражении, и русские, оставаясь на своих местах, потеряли половину своего войска.
Французам, с воспоминанием всех прежних пятнадцатилетних побед, с уверенностью в непобедимости Наполеона, с сознанием того, что они завладели частью поля сраженья, что они потеряли только одну четверть людей и что у них еще есть двадцатитысячная нетронутая гвардия, легко было сделать это усилие. Французам, атаковавшим русскую армию с целью сбить ее с позиции, должно было сделать это усилие, потому что до тех пор, пока русские, точно так же как и до сражения, загораживали дорогу в Москву, цель французов не была достигнута и все их усилия и потери пропали даром. Но французы не сделали этого усилия. Некоторые историки говорят, что Наполеону стоило дать свою нетронутую старую гвардию для того, чтобы сражение было выиграно. Говорить о том, что бы было, если бы Наполеон дал свою гвардию, все равно что говорить о том, что бы было, если б осенью сделалась весна. Этого не могло быть. Не Наполеон не дал своей гвардии, потому что он не захотел этого, но этого нельзя было сделать. Все генералы, офицеры, солдаты французской армии знали, что этого нельзя было сделать, потому что упадший дух войска не позволял этого.
Не один Наполеон испытывал то похожее на сновиденье чувство, что страшный размах руки падает бессильно, но все генералы, все участвовавшие и не участвовавшие солдаты французской армии, после всех опытов прежних сражений (где после вдесятеро меньших усилий неприятель бежал), испытывали одинаковое чувство ужаса перед тем врагом, который, потеряв половину войска, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения. Нравственная сила французской, атакующей армии была истощена. Не та победа, которая определяется подхваченными кусками материи на палках, называемых знаменами, и тем пространством, на котором стояли и стоят войска, – а победа нравственная, та, которая убеждает противника в нравственном превосходстве своего врага и в своем бессилии, была одержана русскими под Бородиным. Французское нашествие, как разъяренный зверь, получивший в своем разбеге смертельную рану, чувствовало свою погибель; но оно не могло остановиться, так же как и не могло не отклониться вдвое слабейшее русское войско. После данного толчка французское войско еще могло докатиться до Москвы; но там, без новых усилий со стороны русского войска, оно должно было погибнуть, истекая кровью от смертельной, нанесенной при Бородине, раны. Прямым следствием Бородинского сражения было беспричинное бегство Наполеона из Москвы, возвращение по старой Смоленской дороге, погибель пятисоттысячного нашествия и погибель наполеоновской Франции, на которую в первый раз под Бородиным была наложена рука сильнейшего духом противника.
Для человеческого ума непонятна абсолютная непрерывность движения. Человеку становятся понятны законы какого бы то ни было движения только тогда, когда он рассматривает произвольно взятые единицы этого движения. Но вместе с тем из этого то произвольного деления непрерывного движения на прерывные единицы проистекает большая часть человеческих заблуждений.
Известен так называемый софизм древних, состоящий в том, что Ахиллес никогда не догонит впереди идущую черепаху, несмотря на то, что Ахиллес идет в десять раз скорее черепахи: как только Ахиллес пройдет пространство, отделяющее его от черепахи, черепаха пройдет впереди его одну десятую этого пространства; Ахиллес пройдет эту десятую, черепаха пройдет одну сотую и т. д. до бесконечности. Задача эта представлялась древним неразрешимою. Бессмысленность решения (что Ахиллес никогда не догонит черепаху) вытекала из того только, что произвольно были допущены прерывные единицы движения, тогда как движение и Ахиллеса и черепахи совершалось непрерывно.
Принимая все более и более мелкие единицы движения, мы только приближаемся к решению вопроса, но никогда не достигаем его. Только допустив бесконечно малую величину и восходящую от нее прогрессию до одной десятой и взяв сумму этой геометрической прогрессии, мы достигаем решения вопроса. Новая отрасль математики, достигнув искусства обращаться с бесконечно малыми величинами, и в других более сложных вопросах движения дает теперь ответы на вопросы, казавшиеся неразрешимыми.
Эта новая, неизвестная древним, отрасль математики, при рассмотрении вопросов движения, допуская бесконечно малые величины, то есть такие, при которых восстановляется главное условие движения (абсолютная непрерывность), тем самым исправляет ту неизбежную ошибку, которую ум человеческий не может не делать, рассматривая вместо непрерывного движения отдельные единицы движения.
В отыскании законов исторического движения происходит совершенно то же.
Движение человечества, вытекая из бесчисленного количества людских произволов, совершается непрерывно.
Постижение законов этого движения есть цель истории. Но для того, чтобы постигнуть законы непрерывного движения суммы всех произволов людей, ум человеческий допускает произвольные, прерывные единицы. Первый прием истории состоит в том, чтобы, взяв произвольный ряд непрерывных событий, рассматривать его отдельно от других, тогда как нет и не может быть начала никакого события, а всегда одно событие непрерывно вытекает из другого. Второй прием состоит в том, чтобы рассматривать действие одного человека, царя, полководца, как сумму произволов людей, тогда как сумма произволов людских никогда не выражается в деятельности одного исторического лица.
Историческая наука в движении своем постоянно принимает все меньшие и меньшие единицы для рассмотрения и этим путем стремится приблизиться к истине. Но как ни мелки единицы, которые принимает история, мы чувствуем, что допущение единицы, отделенной от другой, допущение начала какого нибудь явления и допущение того, что произволы всех людей выражаются в действиях одного исторического лица, ложны сами в себе.
Всякий вывод истории, без малейшего усилия со стороны критики, распадается, как прах, ничего не оставляя за собой, только вследствие того, что критика избирает за предмет наблюдения большую или меньшую прерывную единицу; на что она всегда имеет право, так как взятая историческая единица всегда произвольна.
Только допустив бесконечно малую единицу для наблюдения – дифференциал истории, то есть однородные влечения людей, и достигнув искусства интегрировать (брать суммы этих бесконечно малых), мы можем надеяться на постигновение законов истории.
Первые пятнадцать лет XIX столетия в Европе представляют необыкновенное движение миллионов людей. Люди оставляют свои обычные занятия, стремятся с одной стороны Европы в другую, грабят, убивают один другого, торжествуют и отчаиваются, и весь ход жизни на несколько лет изменяется и представляет усиленное движение, которое сначала идет возрастая, потом ослабевая. Какая причина этого движения или по каким законам происходило оно? – спрашивает ум человеческий.
Историки, отвечая на этот вопрос, излагают нам деяния и речи нескольких десятков людей в одном из зданий города Парижа, называя эти деяния и речи словом революция; потом дают подробную биографию Наполеона и некоторых сочувственных и враждебных ему лиц, рассказывают о влиянии одних из этих лиц на другие и говорят: вот отчего произошло это движение, и вот законы его.
Но ум человеческий не только отказывается верить в это объяснение, но прямо говорит, что прием объяснения не верен, потому что при этом объяснении слабейшее явление принимается за причину сильнейшего. Сумма людских произволов сделала и революцию и Наполеона, и только сумма этих произволов терпела их и уничтожила.
«Но всякий раз, когда были завоевания, были завоеватели; всякий раз, когда делались перевороты в государстве, были великие люди», – говорит история. Действительно, всякий раз, когда являлись завоеватели, были и войны, отвечает ум человеческий, но это не доказывает, чтобы завоеватели были причинами войн и чтобы возможно было найти законы войны в личной деятельности одного человека. Всякий раз, когда я, глядя на свои часы, вижу, что стрелка подошла к десяти, я слышу, что в соседней церкви начинается благовест, но из того, что всякий раз, что стрелка приходит на десять часов тогда, как начинается благовест, я не имею права заключить, что положение стрелки есть причина движения колоколов.
Всякий раз, как я вижу движение паровоза, я слышу звук свиста, вижу открытие клапана и движение колес; но из этого я не имею права заключить, что свист и движение колес суть причины движения паровоза.
Крестьяне говорят, что поздней весной дует холодный ветер, потому что почка дуба развертывается, и действительно, всякую весну дует холодный ветер, когда развертывается дуб. Но хотя причина дующего при развертыванье дуба холодного ветра мне неизвестна, я не могу согласиться с крестьянами в том, что причина холодного ветра есть раэвертыванье почки дуба, потому только, что сила ветра находится вне влияний почки. Я вижу только совпадение тех условий, которые бывают во всяком жизненном явлении, и вижу, что, сколько бы и как бы подробно я ни наблюдал стрелку часов, клапан и колеса паровоза и почку дуба, я не узнаю причину благовеста, движения паровоза и весеннего ветра. Для этого я должен изменить совершенно свою точку наблюдения и изучать законы движения пара, колокола и ветра. То же должна сделать история. И попытки этого уже были сделаны.
Для изучения законов истории мы должны изменить совершенно предмет наблюдения, оставить в покое царей, министров и генералов, а изучать однородные, бесконечно малые элементы, которые руководят массами. Никто не может сказать, насколько дано человеку достигнуть этим путем понимания законов истории; но очевидно, что на этом пути только лежит возможность уловления исторических законов и что на этом пути не положено еще умом человеческим одной миллионной доли тех усилий, которые положены историками на описание деяний различных царей, полководцев и министров и на изложение своих соображений по случаю этих деяний.
Силы двунадесяти языков Европы ворвались в Россию. Русское войско и население отступают, избегая столкновения, до Смоленска и от Смоленска до Бородина. Французское войско с постоянно увеличивающеюся силой стремительности несется к Москве, к цели своего движения. Сила стремительности его, приближаясь к цели, увеличивается подобно увеличению быстроты падающего тела по мере приближения его к земле. Назади тысяча верст голодной, враждебной страны; впереди десятки верст, отделяющие от цели. Это чувствует всякий солдат наполеоновской армии, и нашествие надвигается само собой, по одной силе стремительности.
В русском войске по мере отступления все более и более разгорается дух озлобления против врага: отступая назад, оно сосредоточивается и нарастает. Под Бородиным происходит столкновение. Ни то, ни другое войско не распадаются, но русское войско непосредственно после столкновения отступает так же необходимо, как необходимо откатывается шар, столкнувшись с другим, с большей стремительностью несущимся на него шаром; и так же необходимо (хотя и потерявший всю свою силу в столкновении) стремительно разбежавшийся шар нашествия прокатывается еще некоторое пространство.
Русские отступают за сто двадцать верст – за Москву, французы доходят до Москвы и там останавливаются. В продолжение пяти недель после этого нет ни одного сражения. Французы не двигаются. Подобно смертельно раненному зверю, который, истекая кровью, зализывает свои раны, они пять недель остаются в Москве, ничего не предпринимая, и вдруг, без всякой новой причины, бегут назад: бросаются на Калужскую дорогу (и после победы, так как опять поле сражения осталось за ними под Малоярославцем), не вступая ни в одно серьезное сражение, бегут еще быстрее назад в Смоленск, за Смоленск, за Вильну, за Березину и далее.
В вечер 26 го августа и Кутузов, и вся русская армия были уверены, что Бородинское сражение выиграно. Кутузов так и писал государю. Кутузов приказал готовиться на новый бой, чтобы добить неприятеля не потому, чтобы он хотел кого нибудь обманывать, но потому, что он знал, что враг побежден, так же как знал это каждый из участников сражения.
Но в тот же вечер и на другой день стали, одно за другим, приходить известия о потерях неслыханных, о потере половины армии, и новое сражение оказалось физически невозможным.
Нельзя было давать сражения, когда еще не собраны были сведения, не убраны раненые, не пополнены снаряды, не сочтены убитые, не назначены новые начальники на места убитых, не наелись и не выспались люди.
А вместе с тем сейчас же после сражения, на другое утро, французское войско (по той стремительной силе движения, увеличенного теперь как бы в обратном отношении квадратов расстояний) уже надвигалось само собой на русское войско. Кутузов хотел атаковать на другой день, и вся армия хотела этого. Но для того чтобы атаковать, недостаточно желания сделать это; нужно, чтоб была возможность это сделать, а возможности этой не было. Нельзя было не отступить на один переход, потом точно так же нельзя было не отступить на другой и на третий переход, и наконец 1 го сентября, – когда армия подошла к Москве, – несмотря на всю силу поднявшегося чувства в рядах войск, сила вещей требовала того, чтобы войска эти шли за Москву. И войска отступили ещо на один, на последний переход и отдали Москву неприятелю.
Для тех людей, которые привыкли думать, что планы войн и сражений составляются полководцами таким же образом, как каждый из нас, сидя в своем кабинете над картой, делает соображения о том, как и как бы он распорядился в таком то и таком то сражении, представляются вопросы, почему Кутузов при отступлении не поступил так то и так то, почему он не занял позиции прежде Филей, почему он не отступил сразу на Калужскую дорогу, оставил Москву, и т. д. Люди, привыкшие так думать, забывают или не знают тех неизбежных условий, в которых всегда происходит деятельность всякого главнокомандующего. Деятельность полководца не имеет ни малейшего подобия с тою деятельностью, которую мы воображаем себе, сидя свободно в кабинете, разбирая какую нибудь кампанию на карте с известным количеством войска, с той и с другой стороны, и в известной местности, и начиная наши соображения с какого нибудь известного момента. Главнокомандующий никогда не бывает в тех условиях начала какого нибудь события, в которых мы всегда рассматриваем событие. Главнокомандующий всегда находится в средине движущегося ряда событий, и так, что никогда, ни в какую минуту, он не бывает в состоянии обдумать все значение совершающегося события. Событие незаметно, мгновение за мгновением, вырезается в свое значение, и в каждый момент этого последовательного, непрерывного вырезывания события главнокомандующий находится в центре сложнейшей игры, интриг, забот, зависимости, власти, проектов, советов, угроз, обманов, находится постоянно в необходимости отвечать на бесчисленное количество предлагаемых ему, всегда противоречащих один другому, вопросов.
Нам пресерьезно говорят ученые военные, что Кутузов еще гораздо прежде Филей должен был двинуть войска на Калужскую дорогу, что даже кто то предлагал таковой проект. Но перед главнокомандующим, особенно в трудную минуту, бывает не один проект, а всегда десятки одновременно. И каждый из этих проектов, основанных на стратегии и тактике, противоречит один другому. Дело главнокомандующего, казалось бы, состоит только в том, чтобы выбрать один из этих проектов. Но и этого он не может сделать. События и время не ждут. Ему предлагают, положим, 28 го числа перейти на Калужскую дорогу, но в это время прискакивает адъютант от Милорадовича и спрашивает, завязывать ли сейчас дело с французами или отступить. Ему надо сейчас, сию минуту, отдать приказанье. А приказанье отступить сбивает нас с поворота на Калужскую дорогу. И вслед за адъютантом интендант спрашивает, куда везти провиант, а начальник госпиталей – куда везти раненых; а курьер из Петербурга привозит письмо государя, не допускающее возможности оставить Москву, а соперник главнокомандующего, тот, кто подкапывается под него (такие всегда есть, и не один, а несколько), предлагает новый проект, диаметрально противоположный плану выхода на Калужскую дорогу; а силы самого главнокомандующего требуют сна и подкрепления; а обойденный наградой почтенный генерал приходит жаловаться, а жители умоляют о защите; посланный офицер для осмотра местности приезжает и доносит совершенно противоположное тому, что говорил перед ним посланный офицер; а лазутчик, пленный и делавший рекогносцировку генерал – все описывают различно положение неприятельской армии. Люди, привыкшие не понимать или забывать эти необходимые условия деятельности всякого главнокомандующего, представляют нам, например, положение войск в Филях и при этом предполагают, что главнокомандующий мог 1 го сентября совершенно свободно разрешать вопрос об оставлении или защите Москвы, тогда как при положении русской армии в пяти верстах от Москвы вопроса этого не могло быть. Когда же решился этот вопрос? И под Дриссой, и под Смоленском, и ощутительнее всего 24 го под Шевардиным, и 26 го под Бородиным, и в каждый день, и час, и минуту отступления от Бородина до Филей.
Русские войска, отступив от Бородина, стояли у Филей. Ермолов, ездивший для осмотра позиции, подъехал к фельдмаршалу.
– Драться на этой позиции нет возможности, – сказал он. Кутузов удивленно посмотрел на него и заставил его повторить сказанные слова. Когда он проговорил, Кутузов протянул ему руку.
– Дай ка руку, – сказал он, и, повернув ее так, чтобы ощупать его пульс, он сказал: – Ты нездоров, голубчик. Подумай, что ты говоришь.
Кутузов на Поклонной горе, в шести верстах от Дорогомиловской заставы, вышел из экипажа и сел на лавку на краю дороги. Огромная толпа генералов собралась вокруг него. Граф Растопчин, приехав из Москвы, присоединился к ним. Все это блестящее общество, разбившись на несколько кружков, говорило между собой о выгодах и невыгодах позиции, о положении войск, о предполагаемых планах, о состоянии Москвы, вообще о вопросах военных. Все чувствовали, что хотя и не были призваны на то, что хотя это не было так названо, но что это был военный совет. Разговоры все держались в области общих вопросов. Ежели кто и сообщал или узнавал личные новости, то про это говорилось шепотом, и тотчас переходили опять к общим вопросам: ни шуток, ни смеха, ни улыбок даже не было заметно между всеми этими людьми. Все, очевидно, с усилием, старались держаться на высота положения. И все группы, разговаривая между собой, старались держаться в близости главнокомандующего (лавка которого составляла центр в этих кружках) и говорили так, чтобы он мог их слышать. Главнокомандующий слушал и иногда переспрашивал то, что говорили вокруг него, но сам не вступал в разговор и не выражал никакого мнения. Большей частью, послушав разговор какого нибудь кружка, он с видом разочарования, – как будто совсем не о том они говорили, что он желал знать, – отворачивался. Одни говорили о выбранной позиции, критикуя не столько самую позицию, сколько умственные способности тех, которые ее выбрали; другие доказывали, что ошибка была сделана прежде, что надо было принять сраженье еще третьего дня; третьи говорили о битве при Саламанке, про которую рассказывал только что приехавший француз Кросар в испанском мундире. (Француз этот вместе с одним из немецких принцев, служивших в русской армии, разбирал осаду Сарагоссы, предвидя возможность так же защищать Москву.) В четвертом кружке граф Растопчин говорил о том, что он с московской дружиной готов погибнуть под стенами столицы, но что все таки он не может не сожалеть о той неизвестности, в которой он был оставлен, и что, ежели бы он это знал прежде, было бы другое… Пятые, выказывая глубину своих стратегических соображений, говорили о том направлении, которое должны будут принять войска. Шестые говорили совершенную бессмыслицу. Лицо Кутузова становилось все озабоченнее и печальнее. Из всех разговоров этих Кутузов видел одно: защищать Москву не было никакой физической возможности в полном значении этих слов, то есть до такой степени не было возможности, что ежели бы какой нибудь безумный главнокомандующий отдал приказ о даче сражения, то произошла бы путаница и сражения все таки бы не было; не было бы потому, что все высшие начальники не только признавали эту позицию невозможной, но в разговорах своих обсуждали только то, что произойдет после несомненного оставления этой позиции. Как же могли начальники вести свои войска на поле сражения, которое они считали невозможным? Низшие начальники, даже солдаты (которые тоже рассуждают), также признавали позицию невозможной и потому не могли идти драться с уверенностью поражения. Ежели Бенигсен настаивал на защите этой позиции и другие еще обсуждали ее, то вопрос этот уже не имел значения сам по себе, а имел значение только как предлог для спора и интриги. Это понимал Кутузов.
Бенигсен, выбрав позицию, горячо выставляя свой русский патриотизм (которого не мог, не морщась, выслушивать Кутузов), настаивал на защите Москвы. Кутузов ясно как день видел цель Бенигсена: в случае неудачи защиты – свалить вину на Кутузова, доведшего войска без сражения до Воробьевых гор, а в случае успеха – себе приписать его; в случае же отказа – очистить себя в преступлении оставления Москвы. Но этот вопрос интриги не занимал теперь старого человека. Один страшный вопрос занимал его. И на вопрос этот он ни от кого не слышал ответа. Вопрос состоял для него теперь только в том: «Неужели это я допустил до Москвы Наполеона, и когда же я это сделал? Когда это решилось? Неужели вчера, когда я послал к Платову приказ отступить, или третьего дня вечером, когда я задремал и приказал Бенигсену распорядиться? Или еще прежде?.. но когда, когда же решилось это страшное дело? Москва должна быть оставлена. Войска должны отступить, и надо отдать это приказание». Отдать это страшное приказание казалось ему одно и то же, что отказаться от командования армией. А мало того, что он любил власть, привык к ней (почет, отдаваемый князю Прозоровскому, при котором он состоял в Турции, дразнил его), он был убежден, что ему было предназначено спасение России и что потому только, против воли государя и по воле народа, он был избрал главнокомандующим. Он был убежден, что он один и этих трудных условиях мог держаться во главе армии, что он один во всем мире был в состоянии без ужаса знать своим противником непобедимого Наполеона; и он ужасался мысли о том приказании, которое он должен был отдать. Но надо было решить что нибудь, надо было прекратить эти разговоры вокруг него, которые начинали принимать слишком свободный характер.
Он подозвал к себе старших генералов.
– Ma tete fut elle bonne ou mauvaise, n'a qu'a s'aider d'elle meme, [Хороша ли, плоха ли моя голова, а положиться больше не на кого,] – сказал он, вставая с лавки, и поехал в Фили, где стояли его экипажи.
В просторной, лучшей избе мужика Андрея Савостьянова в два часа собрался совет. Мужики, бабы и дети мужицкой большой семьи теснились в черной избе через сени. Одна только внучка Андрея, Малаша, шестилетняя девочка, которой светлейший, приласкав ее, дал за чаем кусок сахара, оставалась на печи в большой избе. Малаша робко и радостно смотрела с печи на лица, мундиры и кресты генералов, одного за другим входивших в избу и рассаживавшихся в красном углу, на широких лавках под образами. Сам дедушка, как внутренне называла Maлаша Кутузова, сидел от них особо, в темном углу за печкой. Он сидел, глубоко опустившись в складное кресло, и беспрестанно покряхтывал и расправлял воротник сюртука, который, хотя и расстегнутый, все как будто жал его шею. Входившие один за другим подходили к фельдмаршалу; некоторым он пожимал руку, некоторым кивал головой. Адъютант Кайсаров хотел было отдернуть занавеску в окне против Кутузова, но Кутузов сердито замахал ему рукой, и Кайсаров понял, что светлейший не хочет, чтобы видели его лицо.
Вокруг мужицкого елового стола, на котором лежали карты, планы, карандаши, бумаги, собралось так много народа, что денщики принесли еще лавку и поставили у стола. На лавку эту сели пришедшие: Ермолов, Кайсаров и Толь. Под самыми образами, на первом месте, сидел с Георгием на шее, с бледным болезненным лицом и с своим высоким лбом, сливающимся с голой головой, Барклай де Толли. Второй уже день он мучился лихорадкой, и в это самое время его знобило и ломало. Рядом с ним сидел Уваров и негромким голосом (как и все говорили) что то, быстро делая жесты, сообщал Барклаю. Маленький, кругленький Дохтуров, приподняв брови и сложив руки на животе, внимательно прислушивался. С другой стороны сидел, облокотивши на руку свою широкую, с смелыми чертами и блестящими глазами голову, граф Остерман Толстой и казался погруженным в свои мысли. Раевский с выражением нетерпения, привычным жестом наперед курчавя свои черные волосы на висках, поглядывал то на Кутузова, то на входную дверь. Твердое, красивое и доброе лицо Коновницына светилось нежной и хитрой улыбкой. Он встретил взгляд Малаши и глазами делал ей знаки, которые заставляли девочку улыбаться.
Все ждали Бенигсена, который доканчивал свой вкусный обед под предлогом нового осмотра позиции. Его ждали от четырех до шести часов, и во все это время не приступали к совещанию и тихими голосами вели посторонние разговоры.
Только когда в избу вошел Бенигсен, Кутузов выдвинулся из своего угла и подвинулся к столу, но настолько, что лицо его не было освещено поданными на стол свечами.
Бенигсен открыл совет вопросом: «Оставить ли без боя священную и древнюю столицу России или защищать ее?» Последовало долгое и общее молчание. Все лица нахмурились, и в тишине слышалось сердитое кряхтенье и покашливанье Кутузова. Все глаза смотрели на него. Малаша тоже смотрела на дедушку. Она ближе всех была к нему и видела, как лицо его сморщилось: он точно собрался плакать. Но это продолжалось недолго.
– Священную древнюю столицу России! – вдруг заговорил он, сердитым голосом повторяя слова Бенигсена и этим указывая на фальшивую ноту этих слов. – Позвольте вам сказать, ваше сиятельство, что вопрос этот не имеет смысла для русского человека. (Он перевалился вперед своим тяжелым телом.) Такой вопрос нельзя ставить, и такой вопрос не имеет смысла. Вопрос, для которого я просил собраться этих господ, это вопрос военный. Вопрос следующий: «Спасенье России в армии. Выгоднее ли рисковать потерею армии и Москвы, приняв сраженье, или отдать Москву без сражения? Вот на какой вопрос я желаю знать ваше мнение». (Он откачнулся назад на спинку кресла.)
Начались прения. Бенигсен не считал еще игру проигранною. Допуская мнение Барклая и других о невозможности принять оборонительное сражение под Филями, он, проникнувшись русским патриотизмом и любовью к Москве, предлагал перевести войска в ночи с правого на левый фланг и ударить на другой день на правое крыло французов. Мнения разделились, были споры в пользу и против этого мнения. Ермолов, Дохтуров и Раевский согласились с мнением Бенигсена. Руководимые ли чувством потребности жертвы пред оставлением столицы или другими личными соображениями, но эти генералы как бы не понимали того, что настоящий совет не мог изменить неизбежного хода дел и что Москва уже теперь оставлена. Остальные генералы понимали это и, оставляя в стороне вопрос о Москве, говорили о том направлении, которое в своем отступлении должно было принять войско. Малаша, которая, не спуская глаз, смотрела на то, что делалось перед ней, иначе понимала значение этого совета. Ей казалось, что дело было только в личной борьбе между «дедушкой» и «длиннополым», как она называла Бенигсена. Она видела, что они злились, когда говорили друг с другом, и в душе своей она держала сторону дедушки. В средине разговора она заметила быстрый лукавый взгляд, брошенный дедушкой на Бенигсена, и вслед за тем, к радости своей, заметила, что дедушка, сказав что то длиннополому, осадил его: Бенигсен вдруг покраснел и сердито прошелся по избе. Слова, так подействовавшие на Бенигсена, были спокойным и тихим голосом выраженное Кутузовым мнение о выгоде и невыгоде предложения Бенигсена: о переводе в ночи войск с правого на левый фланг для атаки правого крыла французов.
– Я, господа, – сказал Кутузов, – не могу одобрить плана графа. Передвижения войск в близком расстоянии от неприятеля всегда бывают опасны, и военная история подтверждает это соображение. Так, например… (Кутузов как будто задумался, приискивая пример и светлым, наивным взглядом глядя на Бенигсена.) Да вот хоть бы Фридландское сражение, которое, как я думаю, граф хорошо помнит, было… не вполне удачно только оттого, что войска наши перестроивались в слишком близком расстоянии от неприятеля… – Последовало, показавшееся всем очень продолжительным, минутное молчание.
Прения опять возобновились, но часто наступали перерывы, и чувствовалось, что говорить больше не о чем.
Во время одного из таких перерывов Кутузов тяжело вздохнул, как бы сбираясь говорить. Все оглянулись на него.
– Eh bien, messieurs! Je vois que c'est moi qui payerai les pots casses, [Итак, господа, стало быть, мне платить за перебитые горшки,] – сказал он. И, медленно приподнявшись, он подошел к столу. – Господа, я слышал ваши мнения. Некоторые будут несогласны со мной. Но я (он остановился) властью, врученной мне моим государем и отечеством, я – приказываю отступление.
Вслед за этим генералы стали расходиться с той же торжественной и молчаливой осторожностью, с которой расходятся после похорон.
Некоторые из генералов негромким голосом, совсем в другом диапазоне, чем когда они говорили на совете, передали кое что главнокомандующему.
Малаша, которую уже давно ждали ужинать, осторожно спустилась задом с полатей, цепляясь босыми ножонками за уступы печки, и, замешавшись между ног генералов, шмыгнула в дверь.
Отпустив генералов, Кутузов долго сидел, облокотившись на стол, и думал все о том же страшном вопросе: «Когда же, когда же наконец решилось то, что оставлена Москва? Когда было сделано то, что решило вопрос, и кто виноват в этом?»
– Этого, этого я не ждал, – сказал он вошедшему к нему, уже поздно ночью, адъютанту Шнейдеру, – этого я не ждал! Этого я не думал!
– Вам надо отдохнуть, ваша светлость, – сказал Шнейдер.
– Да нет же! Будут же они лошадиное мясо жрать, как турки, – не отвечая, прокричал Кутузов, ударяя пухлым кулаком по столу, – будут и они, только бы…
В противоположность Кутузову, в то же время, в событии еще более важнейшем, чем отступление армии без боя, в оставлении Москвы и сожжении ее, Растопчин, представляющийся нам руководителем этого события, действовал совершенно иначе.
Событие это – оставление Москвы и сожжение ее – было так же неизбежно, как и отступление войск без боя за Москву после Бородинского сражения.
Каждый русский человек, не на основании умозаключений, а на основании того чувства, которое лежит в нас и лежало в наших отцах, мог бы предсказать то, что совершилось.
Начиная от Смоленска, во всех городах и деревнях русской земли, без участия графа Растопчина и его афиш, происходило то же самое, что произошло в Москве. Народ с беспечностью ждал неприятеля, не бунтовал, не волновался, никого не раздирал на куски, а спокойно ждал своей судьбы, чувствуя в себе силы в самую трудную минуту найти то, что должно было сделать. И как только неприятель подходил, богатейшие элементы населения уходили, оставляя свое имущество; беднейшие оставались и зажигали и истребляли то, что осталось.
Сознание того, что это так будет, и всегда так будет, лежало и лежит в душе русского человека. И сознание это и, более того, предчувствие того, что Москва будет взята, лежало в русском московском обществе 12 го года. Те, которые стали выезжать из Москвы еще в июле и начале августа, показали, что они ждали этого. Те, которые выезжали с тем, что они могли захватить, оставляя дома и половину имущества, действовали так вследствие того скрытого (latent) патриотизма, который выражается не фразами, не убийством детей для спасения отечества и т. п. неестественными действиями, а который выражается незаметно, просто, органически и потому производит всегда самые сильные результаты.
«Стыдно бежать от опасности; только трусы бегут из Москвы», – говорили им. Растопчин в своих афишках внушал им, что уезжать из Москвы было позорно. Им совестно было получать наименование трусов, совестно было ехать, но они все таки ехали, зная, что так надо было. Зачем они ехали? Нельзя предположить, чтобы Растопчин напугал их ужасами, которые производил Наполеон в покоренных землях. Уезжали, и первые уехали богатые, образованные люди, знавшие очень хорошо, что Вена и Берлин остались целы и что там, во время занятия их Наполеоном, жители весело проводили время с обворожительными французами, которых так любили тогда русские мужчины и в особенности дамы.
Они ехали потому, что для русских людей не могло быть вопроса: хорошо ли или дурно будет под управлением французов в Москве. Под управлением французов нельзя было быть: это было хуже всего. Они уезжали и до Бородинского сражения, и еще быстрее после Бородинского сражения, невзирая на воззвания к защите, несмотря на заявления главнокомандующего Москвы о намерении его поднять Иверскую и идти драться, и на воздушные шары, которые должны были погубить французов, и несмотря на весь тот вздор, о котором нисал Растопчин в своих афишах. Они знали, что войско должно драться, и что ежели оно не может, то с барышнями и дворовыми людьми нельзя идти на Три Горы воевать с Наполеоном, а что надо уезжать, как ни жалко оставлять на погибель свое имущество. Они уезжали и не думали о величественном значении этой громадной, богатой столицы, оставленной жителями и, очевидно, сожженной (большой покинутый деревянный город необходимо должен был сгореть); они уезжали каждый для себя, а вместе с тем только вследствие того, что они уехали, и совершилось то величественное событие, которое навсегда останется лучшей славой русского народа. Та барыня, которая еще в июне месяце с своими арапами и шутихами поднималась из Москвы в саратовскую деревню, с смутным сознанием того, что она Бонапарту не слуга, и со страхом, чтобы ее не остановили по приказанию графа Растопчина, делала просто и истинно то великое дело, которое спасло Россию. Граф же Растопчин, который то стыдил тех, которые уезжали, то вывозил присутственные места, то выдавал никуда не годное оружие пьяному сброду, то поднимал образа, то запрещал Августину вывозить мощи и иконы, то захватывал все частные подводы, бывшие в Москве, то на ста тридцати шести подводах увозил делаемый Леппихом воздушный шар, то намекал на то, что он сожжет Москву, то рассказывал, как он сжег свой дом и написал прокламацию французам, где торжественно упрекал их, что они разорили его детский приют; то принимал славу сожжения Москвы, то отрекался от нее, то приказывал народу ловить всех шпионов и приводить к нему, то упрекал за это народ, то высылал всех французов из Москвы, то оставлял в городе г жу Обер Шальме, составлявшую центр всего французского московского населения, а без особой вины приказывал схватить и увезти в ссылку старого почтенного почт директора Ключарева; то сбирал народ на Три Горы, чтобы драться с французами, то, чтобы отделаться от этого народа, отдавал ему на убийство человека и сам уезжал в задние ворота; то говорил, что он не переживет несчастия Москвы, то писал в альбомы по французски стихи о своем участии в этом деле, – этот человек не понимал значения совершающегося события, а хотел только что то сделать сам, удивить кого то, что то совершить патриотически геройское и, как мальчик, резвился над величавым и неизбежным событием оставления и сожжения Москвы и старался своей маленькой рукой то поощрять, то задерживать течение громадного, уносившего его вместе с собой, народного потока.
Элен, возвратившись вместе с двором из Вильны в Петербург, находилась в затруднительном положении.
В Петербурге Элен пользовалась особым покровительством вельможи, занимавшего одну из высших должностей в государстве. В Вильне же она сблизилась с молодым иностранным принцем. Когда она возвратилась в Петербург, принц и вельможа были оба в Петербурге, оба заявляли свои права, и для Элен представилась новая еще в ее карьере задача: сохранить свою близость отношений с обоими, не оскорбив ни одного.
То, что показалось бы трудным и даже невозможным для другой женщины, ни разу не заставило задуматься графиню Безухову, недаром, видно, пользовавшуюся репутацией умнейшей женщины. Ежели бы она стала скрывать свои поступки, выпутываться хитростью из неловкого положения, она бы этим самым испортила свое дело, сознав себя виноватою; но Элен, напротив, сразу, как истинно великий человек, который может все то, что хочет, поставила себя в положение правоты, в которую она искренно верила, а всех других в положение виноватости.
В первый раз, как молодое иностранное лицо позволило себе делать ей упреки, она, гордо подняв свою красивую голову и вполуоборот повернувшись к нему, твердо сказала:
– Voila l'egoisme et la cruaute des hommes! Je ne m'attendais pas a autre chose. Za femme se sacrifie pour vous, elle souffre, et voila sa recompense. Quel droit avez vous, Monseigneur, de me demander compte de mes amities, de mes affections? C'est un homme qui a ete plus qu'un pere pour moi. [Вот эгоизм и жестокость мужчин! Я ничего лучшего и не ожидала. Женщина приносит себя в жертву вам; она страдает, и вот ей награда. Ваше высочество, какое имеете вы право требовать от меня отчета в моих привязанностях и дружеских чувствах? Это человек, бывший для меня больше чем отцом.]
Лицо хотело что то сказать. Элен перебила его.
– Eh bien, oui, – сказала она, – peut etre qu'il a pour moi d'autres sentiments que ceux d'un pere, mais ce n'est; pas une raison pour que je lui ferme ma porte. Je ne suis pas un homme pour etre ingrate. Sachez, Monseigneur, pour tout ce qui a rapport a mes sentiments intimes, je ne rends compte qu'a Dieu et a ma conscience, [Ну да, может быть, чувства, которые он питает ко мне, не совсем отеческие; но ведь из за этого не следует же мне отказывать ему от моего дома. Я не мужчина, чтобы платить неблагодарностью. Да будет известно вашему высочеству, что в моих задушевных чувствах я отдаю отчет только богу и моей совести.] – кончила она, дотрогиваясь рукой до высоко поднявшейся красивой груди и взглядывая на небо.
– Mais ecoutez moi, au nom de Dieu. [Но выслушайте меня, ради бога.]
– Epousez moi, et je serai votre esclave. [Женитесь на мне, и я буду вашею рабою.]
– Mais c'est impossible. [Но это невозможно.]
– Vous ne daignez pas descende jusqu'a moi, vous… [Вы не удостаиваете снизойти до брака со мною, вы…] – заплакав, сказала Элен.
Лицо стало утешать ее; Элен же сквозь слезы говорила (как бы забывшись), что ничто не может мешать ей выйти замуж, что есть примеры (тогда еще мало было примеров, но она назвала Наполеона и других высоких особ), что она никогда не была женою своего мужа, что она была принесена в жертву.
– Но законы, религия… – уже сдаваясь, говорило лицо.
– Законы, религия… На что бы они были выдуманы, ежели бы они не могли сделать этого! – сказала Элен.
Важное лицо было удивлено тем, что такое простое рассуждение могло не приходить ему в голову, и обратилось за советом к святым братьям Общества Иисусова, с которыми оно находилось в близких отношениях.
Через несколько дней после этого, на одном из обворожительных праздников, который давала Элен на своей даче на Каменном острову, ей был представлен немолодой, с белыми как снег волосами и черными блестящими глазами, обворожительный m r de Jobert, un jesuite a robe courte, [г н Жобер, иезуит в коротком платье,] который долго в саду, при свете иллюминации и при звуках музыки, беседовал с Элен о любви к богу, к Христу, к сердцу божьей матери и об утешениях, доставляемых в этой и в будущей жизни единою истинною католическою религией. Элен была тронута, и несколько раз у нее и у m r Jobert в глазах стояли слезы и дрожал голос. Танец, на который кавалер пришел звать Элен, расстроил ее беседу с ее будущим directeur de conscience [блюстителем совести]; но на другой день m r de Jobert пришел один вечером к Элен и с того времени часто стал бывать у нее.
В один день он сводил графиню в католический храм, где она стала на колени перед алтарем, к которому она была подведена. Немолодой обворожительный француз положил ей на голову руки, и, как она сама потом рассказывала, она почувствовала что то вроде дуновения свежего ветра, которое сошло ей в душу. Ей объяснили, что это была la grace [благодать].
Потом ей привели аббата a robe longue [в длинном платье], он исповедовал ее и отпустил ей грехи ее. На другой день ей принесли ящик, в котором было причастие, и оставили ей на дому для употребления. После нескольких дней Элен, к удовольствию своему, узнала, что она теперь вступила в истинную католическую церковь и что на днях сам папа узнает о ней и пришлет ей какую то бумагу.
Все, что делалось за это время вокруг нее и с нею, все это внимание, обращенное на нее столькими умными людьми и выражающееся в таких приятных, утонченных формах, и голубиная чистота, в которой она теперь находилась (она носила все это время белые платья с белыми лентами), – все это доставляло ей удовольствие; но из за этого удовольствия она ни на минуту не упускала своей цели. И как всегда бывает, что в деле хитрости глупый человек проводит более умных, она, поняв, что цель всех этих слов и хлопот состояла преимущественно в том, чтобы, обратив ее в католичество, взять с нее денег в пользу иезуитских учреждений {о чем ей делали намеки), Элен, прежде чем давать деньги, настаивала на том, чтобы над нею произвели те различные операции, которые бы освободили ее от мужа. В ее понятиях значение всякой религии состояло только в том, чтобы при удовлетворении человеческих желаний соблюдать известные приличия. И с этою целью она в одной из своих бесед с духовником настоятельно потребовала от него ответа на вопрос о том, в какой мере ее брак связывает ее.
Они сидели в гостиной у окна. Были сумерки. Из окна пахло цветами. Элен была в белом платье, просвечивающем на плечах и груди. Аббат, хорошо откормленный, а пухлой, гладко бритой бородой, приятным крепким ртом и белыми руками, сложенными кротко на коленях, сидел близко к Элен и с тонкой улыбкой на губах, мирно – восхищенным ее красотою взглядом смотрел изредка на ее лицо и излагал свой взгляд на занимавший их вопрос. Элен беспокойно улыбалась, глядела на его вьющиеся волоса, гладко выбритые чернеющие полные щеки и всякую минуту ждала нового оборота разговора. Но аббат, хотя, очевидно, и наслаждаясь красотой и близостью своей собеседницы, был увлечен мастерством своего дела.
Ход рассуждения руководителя совести был следующий. В неведении значения того, что вы предпринимали, вы дали обет брачной верности человеку, который, с своей стороны, вступив в брак и не веря в религиозное значение брака, совершил кощунство. Брак этот не имел двоякого значения, которое должен он иметь. Но несмотря на то, обет ваш связывал вас. Вы отступили от него. Что вы совершили этим? Peche veniel или peche mortel? [Грех простительный или грех смертный?] Peche veniel, потому что вы без дурного умысла совершили поступок. Ежели вы теперь, с целью иметь детей, вступили бы в новый брак, то грех ваш мог бы быть прощен. Но вопрос опять распадается надвое: первое…
– Но я думаю, – сказала вдруг соскучившаяся Элен с своей обворожительной улыбкой, – что я, вступив в истинную религию, не могу быть связана тем, что наложила на меня ложная религия.
Directeur de conscience [Блюститель совести] был изумлен этим постановленным перед ним с такою простотою Колумбовым яйцом. Он восхищен был неожиданной быстротой успехов своей ученицы, но не мог отказаться от своего трудами умственными построенного здания аргументов.
– Entendons nous, comtesse, [Разберем дело, графиня,] – сказал он с улыбкой и стал опровергать рассуждения своей духовной дочери.
Элен понимала, что дело было очень просто и легко с духовной точки зрения, но что ее руководители делали затруднения только потому, что они опасались, каким образом светская власть посмотрит на это дело.
И вследствие этого Элен решила, что надо было в обществе подготовить это дело. Она вызвала ревность старика вельможи и сказала ему то же, что первому искателю, то есть поставила вопрос так, что единственное средство получить права на нее состояло в том, чтобы жениться на ней. Старое важное лицо первую минуту было так же поражено этим предложением выйти замуж от живого мужа, как и первое молодое лицо; но непоколебимая уверенность Элен в том, что это так же просто и естественно, как и выход девушки замуж, подействовала и на него. Ежели бы заметны были хоть малейшие признаки колебания, стыда или скрытности в самой Элен, то дело бы ее, несомненно, было проиграно; но не только не было этих признаков скрытности и стыда, но, напротив, она с простотой и добродушной наивностью рассказывала своим близким друзьям (а это был весь Петербург), что ей сделали предложение и принц и вельможа и что она любит обоих и боится огорчить того и другого.
По Петербургу мгновенно распространился слух не о том, что Элен хочет развестись с своим мужем (ежели бы распространился этот слух, очень многие восстали бы против такого незаконного намерения), но прямо распространился слух о том, что несчастная, интересная Элен находится в недоуменье о том, за кого из двух ей выйти замуж. Вопрос уже не состоял в том, в какой степени это возможно, а только в том, какая партия выгоднее и как двор посмотрит на это. Были действительно некоторые закоснелые люди, не умевшие подняться на высоту вопроса и видевшие в этом замысле поругание таинства брака; но таких было мало, и они молчали, большинство же интересовалось вопросами о счастии, которое постигло Элен, и какой выбор лучше. О том же, хорошо ли или дурно выходить от живого мужа замуж, не говорили, потому что вопрос этот, очевидно, был уже решенный для людей поумнее нас с вами (как говорили) и усомниться в правильности решения вопроса значило рисковать выказать свою глупость и неумение жить в свете.
Одна только Марья Дмитриевна Ахросимова, приезжавшая в это лето в Петербург для свидания с одним из своих сыновей, позволила себе прямо выразить свое, противное общественному, мнение. Встретив Элен на бале, Марья Дмитриевна остановила ее посередине залы и при общем молчании своим грубым голосом сказала ей:
– У вас тут от живого мужа замуж выходить стали. Ты, может, думаешь, что ты это новенькое выдумала? Упредили, матушка. Уж давно выдумано. Во всех…… так то делают. – И с этими словами Марья Дмитриевна с привычным грозным жестом, засучивая свои широкие рукава и строго оглядываясь, прошла через комнату.
На Марью Дмитриевну, хотя и боялись ее, смотрели в Петербурге как на шутиху и потому из слов, сказанных ею, заметили только грубое слово и шепотом повторяли его друг другу, предполагая, что в этом слове заключалась вся соль сказанного.
Князь Василий, последнее время особенно часто забывавший то, что он говорил, и повторявший по сотне раз одно и то же, говорил всякий раз, когда ему случалось видеть свою дочь.
– Helene, j'ai un mot a vous dire, – говорил он ей, отводя ее в сторону и дергая вниз за руку. – J'ai eu vent de certains projets relatifs a… Vous savez. Eh bien, ma chere enfant, vous savez que mon c?ur de pere se rejouit do vous savoir… Vous avez tant souffert… Mais, chere enfant… ne consultez que votre c?ur. C'est tout ce que je vous dis. [Элен, мне надо тебе кое что сказать. Я прослышал о некоторых видах касательно… ты знаешь. Ну так, милое дитя мое, ты знаешь, что сердце отца твоего радуется тому, что ты… Ты столько терпела… Но, милое дитя… Поступай, как велит тебе сердце. Вот весь мой совет.] – И, скрывая всегда одинаковое волнение, он прижимал свою щеку к щеке дочери и отходил.
Билибин, не утративший репутации умнейшего человека и бывший бескорыстным другом Элен, одним из тех друзей, которые бывают всегда у блестящих женщин, друзей мужчин, никогда не могущих перейти в роль влюбленных, Билибин однажды в petit comite [маленьком интимном кружке] высказал своему другу Элен взгляд свой на все это дело.
– Ecoutez, Bilibine (Элен таких друзей, как Билибин, всегда называла по фамилии), – и она дотронулась своей белой в кольцах рукой до рукава его фрака. – Dites moi comme vous diriez a une s?ur, que dois je faire? Lequel des deux? [Послушайте, Билибин: скажите мне, как бы сказали вы сестре, что мне делать? Которого из двух?]
Билибин собрал кожу над бровями и с улыбкой на губах задумался.
– Vous ne me prenez pas en расплох, vous savez, – сказал он. – Comme veritable ami j'ai pense et repense a votre affaire. Voyez vous. Si vous epousez le prince (это был молодой человек), – он загнул палец, – vous perdez pour toujours la chance d'epouser l'autre, et puis vous mecontentez la Cour. (Comme vous savez, il y a une espece de parente.) Mais si vous epousez le vieux comte, vous faites le bonheur de ses derniers jours, et puis comme veuve du grand… le prince ne fait plus de mesalliance en vous epousant, [Вы меня не захватите врасплох, вы знаете. Как истинный друг, я долго обдумывал ваше дело. Вот видите: если выйти за принца, то вы навсегда лишаетесь возможности быть женою другого, и вдобавок двор будет недоволен. (Вы знаете, ведь тут замешано родство.) А если выйти за старого графа, то вы составите счастие последних дней его, и потом… принцу уже не будет унизительно жениться на вдове вельможи.] – и Билибин распустил кожу.
– Voila un veritable ami! – сказала просиявшая Элен, еще раз дотрогиваясь рукой до рукава Билибипа. – Mais c'est que j'aime l'un et l'autre, je ne voudrais pas leur faire de chagrin. Je donnerais ma vie pour leur bonheur a tous deux, [Вот истинный друг! Но ведь я люблю того и другого и не хотела бы огорчать никого. Для счастия обоих я готова бы пожертвовать жизнию.] – сказала она.
Билибин пожал плечами, выражая, что такому горю даже и он пособить уже не может.
«Une maitresse femme! Voila ce qui s'appelle poser carrement la question. Elle voudrait epouser tous les trois a la fois», [«Молодец женщина! Вот что называется твердо поставить вопрос. Она хотела бы быть женою всех троих в одно и то же время».] – подумал Билибин.
– Но скажите, как муж ваш посмотрит на это дело? – сказал он, вследствие твердости своей репутации не боясь уронить себя таким наивным вопросом. – Согласится ли он?
– Ah! Il m'aime tant! – сказала Элен, которой почему то казалось, что Пьер тоже ее любил. – Il fera tout pour moi. [Ах! он меня так любит! Он на все для меня готов.]
Билибин подобрал кожу, чтобы обозначить готовящийся mot.
– Meme le divorce, [Даже и на развод.] – сказал он.
Элен засмеялась.
В числе людей, которые позволяли себе сомневаться в законности предпринимаемого брака, была мать Элен, княгиня Курагина. Она постоянно мучилась завистью к своей дочери, и теперь, когда предмет зависти был самый близкий сердцу княгини, она не могла примириться с этой мыслью. Она советовалась с русским священником о том, в какой мере возможен развод и вступление в брак при живом муже, и священник сказал ей, что это невозможно, и, к радости ее, указал ей на евангельский текст, в котором (священнику казалось) прямо отвергается возможность вступления в брак от живого мужа.
Вооруженная этими аргументами, казавшимися ей неопровержимыми, княгиня рано утром, чтобы застать ее одну, поехала к своей дочери.
Выслушав возражения своей матери, Элен кротко и насмешливо улыбнулась.
– Да ведь прямо сказано: кто женится на разводной жене… – сказала старая княгиня.
– Ah, maman, ne dites pas de betises. Vous ne comprenez rien. Dans ma position j'ai des devoirs, [Ах, маменька, не говорите глупостей. Вы ничего не понимаете. В моем положении есть обязанности.] – заговорилa Элен, переводя разговор на французский с русского языка, на котором ей всегда казалась какая то неясность в ее деле.
– Но, мой друг…
– Ah, maman, comment est ce que vous ne comprenez pas que le Saint Pere, qui a le droit de donner des dispenses… [Ах, маменька, как вы не понимаете, что святой отец, имеющий власть отпущений…]
В это время дама компаньонка, жившая у Элен, вошла к ней доложить, что его высочество в зале и желает ее видеть.
– Non, dites lui que je ne veux pas le voir, que je suis furieuse contre lui, parce qu'il m'a manque parole. [Нет, скажите ему, что я не хочу его видеть, что я взбешена против него, потому что он мне не сдержал слова.]
– Comtesse a tout peche misericorde, [Графиня, милосердие всякому греху.] – сказал, входя, молодой белокурый человек с длинным лицом и носом.
Старая княгиня почтительно встала и присела. Вошедший молодой человек не обратил на нее внимания. Княгиня кивнула головой дочери и поплыла к двери.
«Нет, она права, – думала старая княгиня, все убеждения которой разрушились пред появлением его высочества. – Она права; но как это мы в нашу невозвратную молодость не знали этого? А это так было просто», – думала, садясь в карету, старая княгиня.
В начале августа дело Элен совершенно определилось, и она написала своему мужу (который ее очень любил, как она думала) письмо, в котором извещала его о своем намерении выйти замуж за NN и о том, что она вступила в единую истинную религию и что она просит его исполнить все те необходимые для развода формальности, о которых передаст ему податель сего письма.
«Sur ce je prie Dieu, mon ami, de vous avoir sous sa sainte et puissante garde. Votre amie Helene».
[«Затем молю бога, да будете вы, мой друг, под святым сильным его покровом. Друг ваш Елена»]
Это письмо было привезено в дом Пьера в то время, как он находился на Бородинском поле.
Во второй раз, уже в конце Бородинского сражения, сбежав с батареи Раевского, Пьер с толпами солдат направился по оврагу к Князькову, дошел до перевязочного пункта и, увидав кровь и услыхав крики и стоны, поспешно пошел дальше, замешавшись в толпы солдат.
Одно, чего желал теперь Пьер всеми силами своей души, было то, чтобы выйти поскорее из тех страшных впечатлений, в которых он жил этот день, вернуться к обычным условиям жизни и заснуть спокойно в комнате на своей постели. Только в обычных условиях жизни он чувствовал, что будет в состоянии понять самого себя и все то, что он видел и испытал. Но этих обычных условий жизни нигде не было.
Хотя ядра и пули не свистали здесь по дороге, по которой он шел, но со всех сторон было то же, что было там, на поле сражения. Те же были страдающие, измученные и иногда странно равнодушные лица, та же кровь, те же солдатские шинели, те же звуки стрельбы, хотя и отдаленной, но все еще наводящей ужас; кроме того, была духота и пыль.
Пройдя версты три по большой Можайской дороге, Пьер сел на краю ее.
Сумерки спустились на землю, и гул орудий затих. Пьер, облокотившись на руку, лег и лежал так долго, глядя на продвигавшиеся мимо него в темноте тени. Беспрестанно ему казалось, что с страшным свистом налетало на него ядро; он вздрагивал и приподнимался. Он не помнил, сколько времени он пробыл тут. В середине ночи трое солдат, притащив сучьев, поместились подле него и стали разводить огонь.
Солдаты, покосившись на Пьера, развели огонь, поставили на него котелок, накрошили в него сухарей и положили сала. Приятный запах съестного и жирного яства слился с запахом дыма. Пьер приподнялся и вздохнул. Солдаты (их было трое) ели, не обращая внимания на Пьера, и разговаривали между собой.
– Да ты из каких будешь? – вдруг обратился к Пьеру один из солдат, очевидно, под этим вопросом подразумевая то, что и думал Пьер, именно: ежели ты есть хочешь, мы дадим, только скажи, честный ли ты человек?
– Я? я?.. – сказал Пьер, чувствуя необходимость умалить как возможно свое общественное положение, чтобы быть ближе и понятнее для солдат. – Я по настоящему ополченный офицер, только моей дружины тут нет; я приезжал на сраженье и потерял своих.
– Вишь ты! – сказал один из солдат.
Другой солдат покачал головой.
– Что ж, поешь, коли хочешь, кавардачку! – сказал первый и подал Пьеру, облизав ее, деревянную ложку.
Пьер подсел к огню и стал есть кавардачок, то кушанье, которое было в котелке и которое ему казалось самым вкусным из всех кушаний, которые он когда либо ел. В то время как он жадно, нагнувшись над котелком, забирая большие ложки, пережевывал одну за другой и лицо его было видно в свете огня, солдаты молча смотрели на него.
– Тебе куды надо то? Ты скажи! – спросил опять один из них.
– Мне в Можайск.
– Ты, стало, барин?
– Да.
– А как звать?
– Петр Кириллович.
– Ну, Петр Кириллович, пойдем, мы тебя отведем. В совершенной темноте солдаты вместе с Пьером пошли к Можайску.
Уже петухи пели, когда они дошли до Можайска и стали подниматься на крутую городскую гору. Пьер шел вместе с солдатами, совершенно забыв, что его постоялый двор был внизу под горою и что он уже прошел его. Он бы не вспомнил этого (в таком он находился состоянии потерянности), ежели бы с ним не столкнулся на половине горы его берейтор, ходивший его отыскивать по городу и возвращавшийся назад к своему постоялому двору. Берейтор узнал Пьера по его шляпе, белевшей в темноте.
– Ваше сиятельство, – проговорил он, – а уж мы отчаялись. Что ж вы пешком? Куда же вы, пожалуйте!
– Ах да, – сказал Пьер.
Солдаты приостановились.
– Ну что, нашел своих? – сказал один из них.
– Ну, прощавай! Петр Кириллович, кажись? Прощавай, Петр Кириллович! – сказали другие голоса.
– Прощайте, – сказал Пьер и направился с своим берейтором к постоялому двору.
«Надо дать им!» – подумал Пьер, взявшись за карман. – «Нет, не надо», – сказал ему какой то голос.
В горницах постоялого двора не было места: все были заняты. Пьер прошел на двор и, укрывшись с головой, лег в свою коляску.
Едва Пьер прилег головой на подушку, как он почувствовал, что засыпает; но вдруг с ясностью почти действительности послышались бум, бум, бум выстрелов, послышались стоны, крики, шлепанье снарядов, запахло кровью и порохом, и чувство ужаса, страха смерти охватило его. Он испуганно открыл глаза и поднял голову из под шинели. Все было тихо на дворе. Только в воротах, разговаривая с дворником и шлепая по грязи, шел какой то денщик. Над головой Пьера, под темной изнанкой тесового навеса, встрепенулись голубки от движения, которое он сделал, приподнимаясь. По всему двору был разлит мирный, радостный для Пьера в эту минуту, крепкий запах постоялого двора, запах сена, навоза и дегтя. Между двумя черными навесами виднелось чистое звездное небо.
«Слава богу, что этого нет больше, – подумал Пьер, опять закрываясь с головой. – О, как ужасен страх и как позорно я отдался ему! А они… они все время, до конца были тверды, спокойны… – подумал он. Они в понятии Пьера были солдаты – те, которые были на батарее, и те, которые кормили его, и те, которые молились на икону. Они – эти странные, неведомые ему доселе они, ясно и резко отделялись в его мысли от всех других людей.
«Солдатом быть, просто солдатом! – думал Пьер, засыпая. – Войти в эту общую жизнь всем существом, проникнуться тем, что делает их такими. Но как скинуть с себя все это лишнее, дьявольское, все бремя этого внешнего человека? Одно время я мог быть этим. Я мог бежать от отца, как я хотел. Я мог еще после дуэли с Долоховым быть послан солдатом». И в воображении Пьера мелькнул обед в клубе, на котором он вызвал Долохова, и благодетель в Торжке. И вот Пьеру представляется торжественная столовая ложа. Ложа эта происходит в Английском клубе. И кто то знакомый, близкий, дорогой, сидит в конце стола. Да это он! Это благодетель. «Да ведь он умер? – подумал Пьер. – Да, умер; но я не знал, что он жив. И как мне жаль, что он умер, и как я рад, что он жив опять!» С одной стороны стола сидели Анатоль, Долохов, Несвицкий, Денисов и другие такие же (категория этих людей так же ясно была во сне определена в душе Пьера, как и категория тех людей, которых он называл они), и эти люди, Анатоль, Долохов громко кричали, пели; но из за их крика слышен был голос благодетеля, неумолкаемо говоривший, и звук его слов был так же значителен и непрерывен, как гул поля сраженья, но он был приятен и утешителен. Пьер не понимал того, что говорил благодетель, но он знал (категория мыслей так же ясна была во сне), что благодетель говорил о добре, о возможности быть тем, чем были они. И они со всех сторон, с своими простыми, добрыми, твердыми лицами, окружали благодетеля. Но они хотя и были добры, они не смотрели на Пьера, не знали его. Пьер захотел обратить на себя их внимание и сказать. Он привстал, но в то же мгновенье ноги его похолодели и обнажились.
Ему стало стыдно, и он рукой закрыл свои ноги, с которых действительно свалилась шинель. На мгновение Пьер, поправляя шинель, открыл глаза и увидал те же навесы, столбы, двор, но все это было теперь синевато, светло и подернуто блестками росы или мороза.
«Рассветает, – подумал Пьер. – Но это не то. Мне надо дослушать и понять слова благодетеля». Он опять укрылся шинелью, но ни столовой ложи, ни благодетеля уже не было. Были только мысли, ясно выражаемые словами, мысли, которые кто то говорил или сам передумывал Пьер.
Пьер, вспоминая потом эти мысли, несмотря на то, что они были вызваны впечатлениями этого дня, был убежден, что кто то вне его говорил их ему. Никогда, как ему казалось, он наяву не был в состоянии так думать и выражать свои мысли.
«Война есть наитруднейшее подчинение свободы человека законам бога, – говорил голос. – Простота есть покорность богу; от него не уйдешь. И они просты. Они, не говорят, но делают. Сказанное слово серебряное, а несказанное – золотое. Ничем не может владеть человек, пока он боится смерти. А кто не боится ее, тому принадлежит все. Ежели бы не было страдания, человек не знал бы границ себе, не знал бы себя самого. Самое трудное (продолжал во сне думать или слышать Пьер) состоит в том, чтобы уметь соединять в душе своей значение всего. Все соединить? – сказал себе Пьер. – Нет, не соединить. Нельзя соединять мысли, а сопрягать все эти мысли – вот что нужно! Да, сопрягать надо, сопрягать надо! – с внутренним восторгом повторил себе Пьер, чувствуя, что этими именно, и только этими словами выражается то, что он хочет выразить, и разрешается весь мучащий его вопрос.
– Да, сопрягать надо, пора сопрягать.
– Запрягать надо, пора запрягать, ваше сиятельство! Ваше сиятельство, – повторил какой то голос, – запрягать надо, пора запрягать…
Это был голос берейтора, будившего Пьера. Солнце било прямо в лицо Пьера. Он взглянул на грязный постоялый двор, в середине которого у колодца солдаты поили худых лошадей, из которого в ворота выезжали подводы. Пьер с отвращением отвернулся и, закрыв глаза, поспешно повалился опять на сиденье коляски. «Нет, я не хочу этого, не хочу этого видеть и понимать, я хочу понять то, что открывалось мне во время сна. Еще одна секунда, и я все понял бы. Да что же мне делать? Сопрягать, но как сопрягать всё?» И Пьер с ужасом почувствовал, что все значение того, что он видел и думал во сне, было разрушено.
Берейтор, кучер и дворник рассказывали Пьеру, что приезжал офицер с известием, что французы подвинулись под Можайск и что наши уходят.
Пьер встал и, велев закладывать и догонять себя, пошел пешком через город.
Войска выходили и оставляли около десяти тысяч раненых. Раненые эти виднелись в дворах и в окнах домов и толпились на улицах. На улицах около телег, которые должны были увозить раненых, слышны были крики, ругательства и удары. Пьер отдал догнавшую его коляску знакомому раненому генералу и с ним вместе поехал до Москвы. Доро гой Пьер узнал про смерть своего шурина и про смерть князя Андрея.
Х
30 го числа Пьер вернулся в Москву. Почти у заставы ему встретился адъютант графа Растопчина.
– А мы вас везде ищем, – сказал адъютант. – Графу вас непременно нужно видеть. Он просит вас сейчас же приехать к нему по очень важному делу.
Пьер, не заезжая домой, взял извозчика и поехал к главнокомандующему.
Граф Растопчин только в это утро приехал в город с своей загородной дачи в Сокольниках. Прихожая и приемная в доме графа были полны чиновников, явившихся по требованию его или за приказаниями. Васильчиков и Платов уже виделись с графом и объяснили ему, что защищать Москву невозможно и что она будет сдана. Известия эти хотя и скрывались от жителей, но чиновники, начальники различных управлений знали, что Москва будет в руках неприятеля, так же, как и знал это граф Растопчин; и все они, чтобы сложить с себя ответственность, пришли к главнокомандующему с вопросами, как им поступать с вверенными им частями.
В то время как Пьер входил в приемную, курьер, приезжавший из армии, выходил от графа.
Курьер безнадежно махнул рукой на вопросы, с которыми обратились к нему, и прошел через залу.
Дожидаясь в приемной, Пьер усталыми глазами оглядывал различных, старых и молодых, военных и статских, важных и неважных чиновников, бывших в комнате. Все казались недовольными и беспокойными. Пьер подошел к одной группе чиновников, в которой один был его знакомый. Поздоровавшись с Пьером, они продолжали свой разговор.
– Как выслать да опять вернуть, беды не будет; а в таком положении ни за что нельзя отвечать.
– Да ведь вот, он пишет, – говорил другой, указывая на печатную бумагу, которую он держал в руке.
– Это другое дело. Для народа это нужно, – сказал первый.
– Что это? – спросил Пьер.
– А вот новая афиша.
Пьер взял ее в руки и стал читать:
«Светлейший князь, чтобы скорей соединиться с войсками, которые идут к нему, перешел Можайск и стал на крепком месте, где неприятель не вдруг на него пойдет. К нему отправлено отсюда сорок восемь пушек с снарядами, и светлейший говорит, что Москву до последней капли крови защищать будет и готов хоть в улицах драться. Вы, братцы, не смотрите на то, что присутственные места закрыли: дела прибрать надобно, а мы своим судом с злодеем разберемся! Когда до чего дойдет, мне надобно молодцов и городских и деревенских. Я клич кликну дня за два, а теперь не надо, я и молчу. Хорошо с топором, недурно с рогатиной, а всего лучше вилы тройчатки: француз не тяжеле снопа ржаного. Завтра, после обеда, я поднимаю Иверскую в Екатерининскую гошпиталь, к раненым. Там воду освятим: они скорее выздоровеют; и я теперь здоров: у меня болел глаз, а теперь смотрю в оба».
– А мне говорили военные люди, – сказал Пьер, – что в городе никак нельзя сражаться и что позиция…
– Ну да, про то то мы и говорим, – сказал первый чиновник.
– А что это значит: у меня болел глаз, а теперь смотрю в оба? – сказал Пьер.
– У графа был ячмень, – сказал адъютант, улыбаясь, – и он очень беспокоился, когда я ему сказал, что приходил народ спрашивать, что с ним. А что, граф, – сказал вдруг адъютант, с улыбкой обращаясь к Пьеру, – мы слышали, что у вас семейные тревоги? Что будто графиня, ваша супруга…
– Я ничего не слыхал, – равнодушно сказал Пьер. – А что вы слышали?
– Нет, знаете, ведь часто выдумывают. Я говорю, что слышал.
– Что же вы слышали?
– Да говорят, – опять с той же улыбкой сказал адъютант, – что графиня, ваша жена, собирается за границу. Вероятно, вздор…
– Может быть, – сказал Пьер, рассеянно оглядываясь вокруг себя. – А это кто? – спросил он, указывая на невысокого старого человека в чистой синей чуйке, с белою как снег большою бородой, такими же бровями и румяным лицом.
– Это? Это купец один, то есть он трактирщик, Верещагин. Вы слышали, может быть, эту историю о прокламации?
– Ах, так это Верещагин! – сказал Пьер, вглядываясь в твердое и спокойное лицо старого купца и отыскивая в нем выражение изменничества.
– Это не он самый. Это отец того, который написал прокламацию, – сказал адъютант. – Тот молодой, сидит в яме, и ему, кажется, плохо будет.
Один старичок, в звезде, и другой – чиновник немец, с крестом на шее, подошли к разговаривающим.
– Видите ли, – рассказывал адъютант, – это запутанная история. Явилась тогда, месяца два тому назад, эта прокламация. Графу донесли. Он приказал расследовать. Вот Гаврило Иваныч разыскивал, прокламация эта побывала ровно в шестидесяти трех руках. Приедет к одному: вы от кого имеете? – От того то. Он едет к тому: вы от кого? и т. д. добрались до Верещагина… недоученный купчик, знаете, купчик голубчик, – улыбаясь, сказал адъютант. – Спрашивают у него: ты от кого имеешь? И главное, что мы знаем, от кого он имеет. Ему больше не от кого иметь, как от почт директора. Но уж, видно, там между ними стачка была. Говорит: ни от кого, я сам сочинил. И грозили и просили, стал на том: сам сочинил. Так и доложили графу. Граф велел призвать его. «От кого у тебя прокламация?» – «Сам сочинил». Ну, вы знаете графа! – с гордой и веселой улыбкой сказал адъютант. – Он ужасно вспылил, да и подумайте: этакая наглость, ложь и упорство!..
– А! Графу нужно было, чтобы он указал на Ключарева, понимаю! – сказал Пьер.
– Совсем не нужно», – испуганно сказал адъютант. – За Ключаревым и без этого были грешки, за что он и сослан. Но дело в том, что граф очень был возмущен. «Как же ты мог сочинить? – говорит граф. Взял со стола эту „Гамбургскую газету“. – Вот она. Ты не сочинил, а перевел, и перевел то скверно, потому что ты и по французски, дурак, не знаешь». Что же вы думаете? «Нет, говорит, я никаких газет не читал, я сочинил». – «А коли так, то ты изменник, и я тебя предам суду, и тебя повесят. Говори, от кого получил?» – «Я никаких газет не видал, а сочинил». Так и осталось. Граф и отца призывал: стоит на своем. И отдали под суд, и приговорили, кажется, к каторжной работе. Теперь отец пришел просить за него. Но дрянной мальчишка! Знаете, эдакой купеческий сынишка, франтик, соблазнитель, слушал где то лекции и уж думает, что ему черт не брат. Ведь это какой молодчик! У отца его трактир тут у Каменного моста, так в трактире, знаете, большой образ бога вседержителя и представлен в одной руке скипетр, в другой держава; так он взял этот образ домой на несколько дней и что же сделал! Нашел мерзавца живописца…
В середине этого нового рассказа Пьера позвали к главнокомандующему.
Пьер вошел в кабинет графа Растопчина. Растопчин, сморщившись, потирал лоб и глаза рукой, в то время как вошел Пьер. Невысокий человек говорил что то и, как только вошел Пьер, замолчал и вышел.
– А! здравствуйте, воин великий, – сказал Растопчин, как только вышел этот человек. – Слышали про ваши prouesses [достославные подвиги]! Но не в том дело. Mon cher, entre nous, [Между нами, мой милый,] вы масон? – сказал граф Растопчин строгим тоном, как будто было что то дурное в этом, но что он намерен был простить. Пьер молчал. – Mon cher, je suis bien informe, [Мне, любезнейший, все хорошо известно,] но я знаю, что есть масоны и масоны, и надеюсь, что вы не принадлежите к тем, которые под видом спасенья рода человеческого хотят погубить Россию.
– Да, я масон, – отвечал Пьер.
– Ну вот видите ли, мой милый. Вам, я думаю, не безызвестно, что господа Сперанский и Магницкий отправлены куда следует; то же сделано с господином Ключаревым, то же и с другими, которые под видом сооружения храма Соломона старались разрушить храм своего отечества. Вы можете понимать, что на это есть причины и что я не мог бы сослать здешнего почт директора, ежели бы он не был вредный человек. Теперь мне известно, что вы послали ему свой. экипаж для подъема из города и даже что вы приняли от него бумаги для хранения. Я вас люблю и не желаю вам зла, и как вы в два раза моложе меня, то я, как отец, советую вам прекратить всякое сношение с такого рода людьми и самому уезжать отсюда как можно скорее.
– Но в чем же, граф, вина Ключарева? – спросил Пьер.
– Это мое дело знать и не ваше меня спрашивать, – вскрикнул Растопчин.
– Ежели его обвиняют в том, что он распространял прокламации Наполеона, то ведь это не доказано, – сказал Пьер (не глядя на Растопчина), – и Верещагина…
– Nous y voila, [Так и есть,] – вдруг нахмурившись, перебивая Пьера, еще громче прежнего вскрикнул Растопчин. – Верещагин изменник и предатель, который получит заслуженную казнь, – сказал Растопчин с тем жаром злобы, с которым говорят люди при воспоминании об оскорблении. – Но я не призвал вас для того, чтобы обсуждать мои дела, а для того, чтобы дать вам совет или приказание, ежели вы этого хотите. Прошу вас прекратить сношения с такими господами, как Ключарев, и ехать отсюда. А я дурь выбью, в ком бы она ни была. – И, вероятно, спохватившись, что он как будто кричал на Безухова, который еще ни в чем не был виноват, он прибавил, дружески взяв за руку Пьера: – Nous sommes a la veille d'un desastre publique, et je n'ai pas le temps de dire des gentillesses a tous ceux qui ont affaire a moi. Голова иногда кругом идет! Eh! bien, mon cher, qu'est ce que vous faites, vous personnellement? [Мы накануне общего бедствия, и мне некогда быть любезным со всеми, с кем у меня есть дело. Итак, любезнейший, что вы предпринимаете, вы лично?]
– Mais rien, [Да ничего,] – отвечал Пьер, все не поднимая глаз и не изменяя выражения задумчивого лица.
Граф нахмурился.
– Un conseil d'ami, mon cher. Decampez et au plutot, c'est tout ce que je vous dis. A bon entendeur salut! Прощайте, мой милый. Ах, да, – прокричал он ему из двери, – правда ли, что графиня попалась в лапки des saints peres de la Societe de Jesus? [Дружеский совет. Выбирайтесь скорее, вот что я вам скажу. Блажен, кто умеет слушаться!.. святых отцов Общества Иисусова?]
Пьер ничего не ответил и, нахмуренный и сердитый, каким его никогда не видали, вышел от Растопчина.
Когда он приехал домой, уже смеркалось. Человек восемь разных людей побывало у него в этот вечер. Секретарь комитета, полковник его батальона, управляющий, дворецкий и разные просители. У всех были дела до Пьера, которые он должен был разрешить. Пьер ничего не понимал, не интересовался этими делами и давал на все вопросы только такие ответы, которые бы освободили его от этих людей. Наконец, оставшись один, он распечатал и прочел письмо жены.
«Они – солдаты на батарее, князь Андрей убит… старик… Простота есть покорность богу. Страдать надо… значение всего… сопрягать надо… жена идет замуж… Забыть и понять надо…» И он, подойдя к постели, не раздеваясь повалился на нее и тотчас же заснул.
Когда он проснулся на другой день утром, дворецкий пришел доложить, что от графа Растопчина пришел нарочно посланный полицейский чиновник – узнать, уехал ли или уезжает ли граф Безухов.
Человек десять разных людей, имеющих дело до Пьера, ждали его в гостиной. Пьер поспешно оделся, и, вместо того чтобы идти к тем, которые ожидали его, он пошел на заднее крыльцо и оттуда вышел в ворота.
С тех пор и до конца московского разорения никто из домашних Безуховых, несмотря на все поиски, не видал больше Пьера и не знал, где он находился.
Ростовы до 1 го сентября, то есть до кануна вступления неприятеля в Москву, оставались в городе.
После поступления Пети в полк казаков Оболенского и отъезда его в Белую Церковь, где формировался этот полк, на графиню нашел страх. Мысль о том, что оба ее сына находятся на войне, что оба они ушли из под ее крыла, что нынче или завтра каждый из них, а может быть, и оба вместе, как три сына одной ее знакомой, могут быть убиты, в первый раз теперь, в это лето, с жестокой ясностью пришла ей в голову. Она пыталась вытребовать к себе Николая, хотела сама ехать к Пете, определить его куда нибудь в Петербурге, но и то и другое оказывалось невозможным. Петя не мог быть возвращен иначе, как вместе с полком или посредством перевода в другой действующий полк. Николай находился где то в армии и после своего последнего письма, в котором подробно описывал свою встречу с княжной Марьей, не давал о себе слуха. Графиня не спала ночей и, когда засыпала, видела во сне убитых сыновей. После многих советов и переговоров граф придумал наконец средство для успокоения графини. Он перевел Петю из полка Оболенского в полк Безухова, который формировался под Москвою. Хотя Петя и оставался в военной службе, но при этом переводе графиня имела утешенье видеть хотя одного сына у себя под крылышком и надеялась устроить своего Петю так, чтобы больше не выпускать его и записывать всегда в такие места службы, где бы он никак не мог попасть в сражение. Пока один Nicolas был в опасности, графине казалось (и она даже каялась в этом), что она любит старшего больше всех остальных детей; но когда меньшой, шалун, дурно учившийся, все ломавший в доме и всем надоевший Петя, этот курносый Петя, с своими веселыми черными глазами, свежим румянцем и чуть пробивающимся пушком на щеках, попал туда, к этим большим, страшным, жестоким мужчинам, которые там что то сражаются и что то в этом находят радостного, – тогда матери показалось, что его то она любила больше, гораздо больше всех своих детей. Чем ближе подходило то время, когда должен был вернуться в Москву ожидаемый Петя, тем более увеличивалось беспокойство графини. Она думала уже, что никогда не дождется этого счастия. Присутствие не только Сони, но и любимой Наташи, даже мужа, раздражало графиню. «Что мне за дело до них, мне никого не нужно, кроме Пети!» – думала она.
В последних числах августа Ростовы получили второе письмо от Николая. Он писал из Воронежской губернии, куда он был послан за лошадьми. Письмо это не успокоило графиню. Зная одного сына вне опасности, она еще сильнее стала тревожиться за Петю.
Несмотря на то, что уже с 20 го числа августа почти все знакомые Ростовых повыехали из Москвы, несмотря на то, что все уговаривали графиню уезжать как можно скорее, она ничего не хотела слышать об отъезде до тех пор, пока не вернется ее сокровище, обожаемый Петя. 28 августа приехал Петя. Болезненно страстная нежность, с которою мать встретила его, не понравилась шестнадцатилетнему офицеру. Несмотря на то, что мать скрыла от него свое намеренье не выпускать его теперь из под своего крылышка, Петя понял ее замыслы и, инстинктивно боясь того, чтобы с матерью не разнежничаться, не обабиться (так он думал сам с собой), он холодно обошелся с ней, избегал ее и во время своего пребывания в Москве исключительно держался общества Наташи, к которой он всегда имел особенную, почти влюбленную братскую нежность.
По обычной беспечности графа, 28 августа ничто еще не было готово для отъезда, и ожидаемые из рязанской и московской деревень подводы для подъема из дома всего имущества пришли только 30 го.
С 28 по 31 августа вся Москва была в хлопотах и движении. Каждый день в Дорогомиловскую заставу ввозили и развозили по Москве тысячи раненых в Бородинском сражении, и тысячи подвод, с жителями и имуществом, выезжали в другие заставы. Несмотря на афишки Растопчина, или независимо от них, или вследствие их, самые противоречащие и странные новости передавались по городу. Кто говорил о том, что не велено никому выезжать; кто, напротив, рассказывал, что подняли все иконы из церквей и что всех высылают насильно; кто говорил, что было еще сраженье после Бородинского, в котором разбиты французы; кто говорил, напротив, что все русское войско уничтожено; кто говорил о московском ополчении, которое пойдет с духовенством впереди на Три Горы; кто потихоньку рассказывал, что Августину не ведено выезжать, что пойманы изменники, что мужики бунтуют и грабят тех, кто выезжает, и т. п., и т. п. Но это только говорили, а в сущности, и те, которые ехали, и те, которые оставались (несмотря на то, что еще не было совета в Филях, на котором решено было оставить Москву), – все чувствовали, хотя и не выказывали этого, что Москва непременно сдана будет и что надо как можно скорее убираться самим и спасать свое имущество. Чувствовалось, что все вдруг должно разорваться и измениться, но до 1 го числа ничто еще не изменялось. Как преступник, которого ведут на казнь, знает, что вот вот он должен погибнуть, но все еще приглядывается вокруг себя и поправляет дурно надетую шапку, так и Москва невольно продолжала свою обычную жизнь, хотя знала, что близко то время погибели, когда разорвутся все те условные отношения жизни, которым привыкли покоряться.
В продолжение этих трех дней, предшествовавших пленению Москвы, все семейство Ростовых находилось в различных житейских хлопотах. Глава семейства, граф Илья Андреич, беспрестанно ездил по городу, собирая со всех сторон ходившие слухи, и дома делал общие поверхностные и торопливые распоряжения о приготовлениях к отъезду.
Графиня следила за уборкой вещей, всем была недовольна и ходила за беспрестанно убегавшим от нее Петей, ревнуя его к Наташе, с которой он проводил все время. Соня одна распоряжалась практической стороной дела: укладываньем вещей. Но Соня была особенно грустна и молчалива все это последнее время. Письмо Nicolas, в котором он упоминал о княжне Марье, вызвало в ее присутствии радостные рассуждения графини о том, как во встрече княжны Марьи с Nicolas она видела промысл божий.
– Я никогда не радовалась тогда, – сказала графиня, – когда Болконский был женихом Наташи, а я всегда желала, и у меня есть предчувствие, что Николинька женится на княжне. И как бы это хорошо было!
Соня чувствовала, что это была правда, что единственная возможность поправления дел Ростовых была женитьба на богатой и что княжна была хорошая партия. Но ей было это очень горько. Несмотря на свое горе или, может быть, именно вследствие своего горя, она на себя взяла все трудные заботы распоряжений об уборке и укладке вещей и целые дни была занята. Граф и графиня обращались к ней, когда им что нибудь нужно было приказывать. Петя и Наташа, напротив, не только не помогали родителям, но большею частью всем в доме надоедали и мешали. И целый день почти слышны были в доме их беготня, крики и беспричинный хохот. Они смеялись и радовались вовсе не оттого, что была причина их смеху; но им на душе было радостно и весело, и потому все, что ни случалось, было для них причиной радости и смеха. Пете было весело оттого, что, уехав из дома мальчиком, он вернулся (как ему говорили все) молодцом мужчиной; весело было оттого, что он дома, оттого, что он из Белой Церкви, где не скоро была надежда попасть в сраженье, попал в Москву, где на днях будут драться; и главное, весело оттого, что Наташа, настроению духа которой он всегда покорялся, была весела. Наташа же была весела потому, что она слишком долго была грустна, и теперь ничто не напоминало ей причину ее грусти, и она была здорова. Еще она была весела потому, что был человек, который ею восхищался (восхищение других была та мазь колес, которая была необходима для того, чтоб ее машина совершенно свободно двигалась), и Петя восхищался ею. Главное же, веселы они были потому, что война была под Москвой, что будут сражаться у заставы, что раздают оружие, что все бегут, уезжают куда то, что вообще происходит что то необычайное, что всегда радостно для человека, в особенности для молодого.
31 го августа, в субботу, в доме Ростовых все казалось перевернутым вверх дном. Все двери были растворены, вся мебель вынесена или переставлена, зеркала, картины сняты. В комнатах стояли сундуки, валялось сено, оберточная бумага и веревки. Мужики и дворовые, выносившие вещи, тяжелыми шагами ходили по паркету. На дворе теснились мужицкие телеги, некоторые уже уложенные верхом и увязанные, некоторые еще пустые.
Голоса и шаги огромной дворни и приехавших с подводами мужиков звучали, перекликиваясь, на дворе и в доме. Граф с утра выехал куда то. Графиня, у которой разболелась голова от суеты и шума, лежала в новой диванной с уксусными повязками на голове. Пети не было дома (он пошел к товарищу, с которым намеревался из ополченцев перейти в действующую армию). Соня присутствовала в зале при укладке хрусталя и фарфора. Наташа сидела в своей разоренной комнате на полу, между разбросанными платьями, лентами, шарфами, и, неподвижно глядя на пол, держала в руках старое бальное платье, то самое (уже старое по моде) платье, в котором она в первый раз была на петербургском бале.
Наташе совестно было ничего не делать в доме, тогда как все были так заняты, и она несколько раз с утра еще пробовала приняться за дело; но душа ее не лежала к этому делу; а она не могла и не умела делать что нибудь не от всей души, не изо всех своих сил. Она постояла над Соней при укладке фарфора, хотела помочь, но тотчас же бросила и пошла к себе укладывать свои вещи. Сначала ее веселило то, что она раздавала свои платья и ленты горничным, но потом, когда остальные все таки надо было укладывать, ей это показалось скучным.
– Дуняша, ты уложишь, голубушка? Да? Да?
И когда Дуняша охотно обещалась ей все сделать, Наташа села на пол, взяла в руки старое бальное платье и задумалась совсем не о том, что бы должно было занимать ее теперь. Из задумчивости, в которой находилась Наташа, вывел ее говор девушек в соседней девичьей и звуки их поспешных шагов из девичьей на заднее крыльцо. Наташа встала и посмотрела в окно. На улице остановился огромный поезд раненых.
Девушки, лакеи, ключница, няня, повар, кучера, форейторы, поваренки стояли у ворот, глядя на раненых.
Наташа, накинув белый носовой платок на волосы и придерживая его обеими руками за кончики, вышла на улицу.
Бывшая ключница, старушка Мавра Кузминишна, отделилась от толпы, стоявшей у ворот, и, подойдя к телеге, на которой была рогожная кибиточка, разговаривала с лежавшим в этой телеге молодым бледным офицером. Наташа подвинулась на несколько шагов и робко остановилась, продолжая придерживать свой платок и слушая то, что говорила ключница.
– Что ж, у вас, значит, никого и нет в Москве? – говорила Мавра Кузминишна. – Вам бы покойнее где на квартире… Вот бы хоть к нам. Господа уезжают.
– Не знаю, позволят ли, – слабым голосом сказал офицер. – Вон начальник… спросите, – и он указал на толстого майора, который возвращался назад по улице по ряду телег.
Наташа испуганными глазами заглянула в лицо раненого офицера и тотчас же пошла навстречу майору.
– Можно раненым у нас в доме остановиться? – спросила она.
Майор с улыбкой приложил руку к козырьку.
– Кого вам угодно, мамзель? – сказал он, суживая глаза и улыбаясь.
Наташа спокойно повторила свой вопрос, и лицо и вся манера ее, несмотря на то, что она продолжала держать свой платок за кончики, были так серьезны, что майор перестал улыбаться и, сначала задумавшись, как бы спрашивая себя, в какой степени это можно, ответил ей утвердительно.
– О, да, отчего ж, можно, – сказал он.
Наташа слегка наклонила голову и быстрыми шагами вернулась к Мавре Кузминишне, стоявшей над офицером и с жалобным участием разговаривавшей с ним.
– Можно, он сказал, можно! – шепотом сказала Наташа.
Офицер в кибиточке завернул во двор Ростовых, и десятки телег с ранеными стали, по приглашениям городских жителей, заворачивать в дворы и подъезжать к подъездам домов Поварской улицы. Наташе, видимо, поправились эти, вне обычных условий жизни, отношения с новыми людьми. Она вместе с Маврой Кузминишной старалась заворотить на свой двор как можно больше раненых.
– Надо все таки папаше доложить, – сказала Мавра Кузминишна.
– Ничего, ничего, разве не все равно! На один день мы в гостиную перейдем. Можно всю нашу половину им отдать.
– Ну, уж вы, барышня, придумаете! Да хоть и в флигеля, в холостую, к нянюшке, и то спросить надо.
– Ну, я спрошу.
Наташа побежала в дом и на цыпочках вошла в полуотворенную дверь диванной, из которой пахло уксусом и гофманскими каплями.
– Вы спите, мама?
– Ах, какой сон! – сказала, пробуждаясь, только что задремавшая графиня.
– Мама, голубчик, – сказала Наташа, становясь на колени перед матерью и близко приставляя свое лицо к ее лицу. – Виновата, простите, никогда не буду, я вас разбудила. Меня Мавра Кузминишна послала, тут раненых привезли, офицеров, позволите? А им некуда деваться; я знаю, что вы позволите… – говорила она быстро, не переводя духа.
– Какие офицеры? Кого привезли? Ничего не понимаю, – сказала графиня.
Наташа засмеялась, графиня тоже слабо улыбалась.
– Я знала, что вы позволите… так я так и скажу. – И Наташа, поцеловав мать, встала и пошла к двери.
В зале она встретила отца, с дурными известиями возвратившегося домой.
– Досиделись мы! – с невольной досадой сказал граф. – И клуб закрыт, и полиция выходит.
– Папа, ничего, что я раненых пригласила в дом? – сказала ему Наташа.
– Разумеется, ничего, – рассеянно сказал граф. – Не в том дело, а теперь прошу, чтобы пустяками не заниматься, а помогать укладывать и ехать, ехать, ехать завтра… – И граф передал дворецкому и людям то же приказание. За обедом вернувшийся Петя рассказывал свои новости.
Он говорил, что нынче народ разбирал оружие в Кремле, что в афише Растопчина хотя и сказано, что он клич кликнет дня за два, но что уж сделано распоряжение наверное о том, чтобы завтра весь народ шел на Три Горы с оружием, и что там будет большое сражение.
Графиня с робким ужасом посматривала на веселое, разгоряченное лицо своего сына в то время, как он говорил это. Она знала, что ежели она скажет слово о том, что она просит Петю не ходить на это сражение (она знала, что он радуется этому предстоящему сражению), то он скажет что нибудь о мужчинах, о чести, об отечестве, – что нибудь такое бессмысленное, мужское, упрямое, против чего нельзя возражать, и дело будет испорчено, и поэтому, надеясь устроить так, чтобы уехать до этого и взять с собой Петю, как защитника и покровителя, она ничего не сказала Пете, а после обеда призвала графа и со слезами умоляла его увезти ее скорее, в эту же ночь, если возможно. С женской, невольной хитростью любви, она, до сих пор выказывавшая совершенное бесстрашие, говорила, что она умрет от страха, ежели не уедут нынче ночью. Она, не притворяясь, боялась теперь всего.
M me Schoss, ходившая к своей дочери, еще болоо увеличила страх графини рассказами о том, что она видела на Мясницкой улице в питейной конторе. Возвращаясь по улице, она не могла пройти домой от пьяной толпы народа, бушевавшей у конторы. Она взяла извозчика и объехала переулком домой; и извозчик рассказывал ей, что народ разбивал бочки в питейной конторе, что так велено.
После обеда все домашние Ростовых с восторженной поспешностью принялись за дело укладки вещей и приготовлений к отъезду. Старый граф, вдруг принявшись за дело, всё после обеда не переставая ходил со двора в дом и обратно, бестолково крича на торопящихся людей и еще более торопя их. Петя распоряжался на дворе. Соня не знала, что делать под влиянием противоречивых приказаний графа, и совсем терялась. Люди, крича, споря и шумя, бегали по комнатам и двору. Наташа, с свойственной ей во всем страстностью, вдруг тоже принялась за дело. Сначала вмешательство ее в дело укладывания было встречено с недоверием. От нее всё ждали шутки и не хотели слушаться ее; но она с упорством и страстностью требовала себе покорности, сердилась, чуть не плакала, что ее не слушают, и, наконец, добилась того, что в нее поверили. Первый подвиг ее, стоивший ей огромных усилий и давший ей власть, была укладка ковров. У графа в доме были дорогие gobelins и персидские ковры. Когда Наташа взялась за дело, в зале стояли два ящика открытые: один почти доверху уложенный фарфором, другой с коврами. Фарфора было еще много наставлено на столах и еще всё несли из кладовой. Надо было начинать новый, третий ящик, и за ним пошли люди.