Кук, Фредерик
- Эта статья посвящена американскому полярнику Фредерику Куку. О знаменитом английском мореплавателе см. Кук, Джеймс
| Фредерик Альберт Кук | |
| англ. Frederick Albert Cook | |
 | |
| Род деятельности: |
Полярный путешественник, врач, бизнесмен |
|---|---|
| Дата рождения: | |
| Место рождения: | |
| Гражданство: | |
| Дата смерти: | |
| Место смерти: | |
| Отец: |
Теодор Кох |
| Мать: |
Маргарета Ланге |
| Супруга: |
1) Либби Форбс (в 1889—1890), |
| Дети: |
Рут Кук (падчерица), |
| Награды и премии: | |
| Сайт: |
[www.cookpolar.org/ kpolar.org] |
Фре́дерик А́льберт Кук (англ. Frederick Albert Cook; 10 июня 1865, Хортонвилл, Нью-Йорк — 5 августа 1940, Нью-Рошелл, Нью-Йорк) — американский врач, полярный путешественник и бизнесмен, заявивший, что первым в истории человечества достиг Северного полюса 21 апреля 1908 года, за год до Роберта Пири. Также утверждал, что 16 сентября 1906 года первым взошёл на вершину горы Мак-Кинли. В 1909 году Пири и некоторые сотрудники Кука обвинили его в фальсификации данных. Дискуссии продолжаются по сей день.
В 1894—1913 годах состоял действительным членом Арктического клуба, является одним из его основателей. В 1904 году стал одним из сооснователей Клуба Исследователей (en:The Explorers Club), в 1907—1908 годах Ф. Кук был избран его почётным президентом.
Содержание
Происхождение. Становление
Фредерик Альберт Кук родился 10 июня 1865 года в деревушке Хортонвилл округа Салливан штата Нью-Йорк и был четвёртым из шести детей[1]. Его родители были иммигрантами из Германии. Отец — Теодор Альбрехт Кох, врач по профессии, переселился в США, выехав из Ганновера после революции 1848 года. Человек либеральных взглядов, он отправился в Новый Свет вместе с Карлом Шурцем в поисках политической свободы. Во время гражданской войны в США он служил в федеральной армии врачом и здесь, устав от того, что новобранцы коверкают его имя каждый на свой лад, перевёл его на английский язык, превратившись в Теодора Кука (англ. Theodore Cook)[Прим 1]. Мать — урождённая Маргарета Ланге, была родом из Франкфурта-на-Майне. Несмотря на обширную практику, заработки главы семьи были скромны, так как небогатые пациенты предпочитали расплачиваться съестным — яйцами, молоком, куриным или говяжьим мясом. Небольшие деньги, которые удавалось добыть, полностью уходили на домашнее хозяйство, а также на ткань, из которой Маргарета Кук сама шила одежду для всей семьи. В 1870 году Теодор Кук умер от пневмонии, оставив вдову с пятью детьми (один ребёнок умер в раннем возрасте); во владении семьи была ферма площадью около 15 га[2]. В 1878 году они совершенно разорились и переехали в предместье Нью-Йорка — Порт-Джервис, где Маргарете Кук удалось найти работу. Юный Фредерик, которому было тогда 13 лет, начал свою карьеру на стекольной фабрике, затем сделался фонарщиком. По вечерам после школы ему полагалось вычищать, наполнять маслом и зажигать уличные фонари, а ранним утром, направляясь на учёбу, вновь гасить[3].
Год спустя семейство Куков обосновалось в Бруклине: мать работала швеёй, сыновья вынуждены были перебиваться любыми попадающимися заработками; в частности, Фредерик вместе с братом Уильямом торговал овощами на Фултонском рынке. Из-за того, что вставать приходилось в два часа ночи и оставаться на рынке до полудня, Фредерик посещал 37-ю муниципальную школу урывками, но благодаря прилежанию успевал наравне с другими учениками. Ко времени выпуска он окончательно решил стать врачом, как и его отец, и стал задумываться о дополнительном заработке, могущем обеспечить его деньгами на время учёбы. Вначале раздобыв старый печатный пресс, он стал штамповать рекламные листки и визитные карточки для местных торговцев. Дело оказалось прибыльным настолько, что в последний месяц перед Рождеством ему пришлось провести без сна несколько ночей, изготовляя поздравительные открытки[4].
Со временем три брата — Уильям, Теодор и Фредерик — основали фирму под названием «Братья Кук, молоко и сливки», которая развозила молоко по домам. Эта услуга была новой для того времени, ещё одним новшеством было использование для этой цели стеклянных бутылок вместимостью в одну кварту. Бизнес вновь оказался весьма успешным, так что новоявленному главе компании пришлось купить лошадь и фургон и нанять несколько возчиков, чтобы удовлетворить спрос. В результате для студента, едва поступившего на первый курс Школы медицины и хирургии, день строился следующим образом: подъём в час ночи, работа до 10 утра (причём Фредерик сам следил за получением молока на складе и при необходимости заменял заболевшего возчика), затем занятия до 4 часов дня, ещё 5 часов на выполнение домашних заданий (часто для экономии времени прямо в университетской аудитории) и наконец — дорога домой и сон в 9 часов вечера. В 1877 году, когда колледж сменил адрес, ему пришлось перевестись на медицинский факультет Колумбийского университета, чтобы не тратить слишком много времени на дорогу [5].
Зимой 1888 года во время «великого бурана», совершенно парализовавшего движение на улицах, ему пришлось на неделю отказаться от доставки молока. Весь район оказался на голодном пайке, но предприимчивый юноша поставил на салазки лодку, построенную братом Теодором для катания летом, и на ней развозил по домам уголь, также неплохо на этом заработав. К этому времени относится первая фотография Фредерика Кука и его лодки, сделанная уличным фотографом для одного из журналов Фрэнка Лесли[5].
Ещё во время обучения, весной 1889 года, Кук женился на Либби Форбс, которую встретил во время праздника во Второй Методистской церкви. Она была одной из первых в то время женщин-стенографисток и работала на обувной фабрике Шрайнера и Эрнера. Брак этот оказался недолгим, так как миссис Кук родила ребёнка, прожившего всего несколько часов, и умерла от перитонита неделю спустя[5].
В 1890 году Фредерик Кук закончил университет с дипломом врача[1] и, продав свою долю в молочном бизнесе брату Уильяму, вместе с сестрой и матерью перебрался на Манхеттен, где поселился по адресу: Западная 55-я улица, 338 и тогда же открыл частную практику в Бруклине[Прим 2]. Коротая время в ожидании пациентов, он увлёкся книгами об арктических путешествиях. Его любимыми авторами стали Илайша Кейн, корабельный врач на судне лейтенанта де Хейвена, и Чарльз Фрэнсис Холл, глава экспедиции на «Поларисе». Между обоими авторами и им самим было немало общего — Кейн также был врачом, а Холл как и сам Кук поднялся с самого дна, перепробовав в юности множество профессий[6][7].
По воспоминаниям Кука, переломный момент наступил, когда он от нечего делать листал страницы «Нью-Йорк Геральд» и случайно наткнулся на объявление о готовящейся гренландской экспедиции Пири. Позднее он вспоминал:
Мои чувства трудно описать. Словно бы раскрылась дверь тюремной камеры. Я впервые… ощутил тогда зов Севера[6].
Первые экспедиции
Гренландия, 1891—1892 годы
 Зимовочная экспедиция в Северной Гренландии, организованная Робертом Пири, изначально преследовала цель пересечь остров с запада на восток, но буквально в последний момент Пири узнал, что его в этом начинании уже опередил Нансен. Будущий начальник, впрочем, не пал духом, но немедленно изменил планы, собираясь теперь узнать насколько далеко простирается остров Гренландия на север. Также он собирался проверить, нельзя ли достичь полюса по суше. Пири, обладая тяжёлым и мстительным характером, в кругу друзей уверял, будто Нансен «его обскакал» и присвоил его собственные планы, однако благоразумно воздерживался от того, чтобы высказывать подобное мнение публично[8].
Зимовочная экспедиция в Северной Гренландии, организованная Робертом Пири, изначально преследовала цель пересечь остров с запада на восток, но буквально в последний момент Пири узнал, что его в этом начинании уже опередил Нансен. Будущий начальник, впрочем, не пал духом, но немедленно изменил планы, собираясь теперь узнать насколько далеко простирается остров Гренландия на север. Также он собирался проверить, нельзя ли достичь полюса по суше. Пири, обладая тяжёлым и мстительным характером, в кругу друзей уверял, будто Нансен «его обскакал» и присвоил его собственные планы, однако благоразумно воздерживался от того, чтобы высказывать подобное мнение публично[8].
Найдя объявление, в котором Роберт Пири приглашал врача для участия в этой экспедиции, Кук отозвался на предложение «скорее из любопытства, чем из честолюбия»[9]. Честно признавшись, что не имеет опыта и едва успел получить диплом, он предложил свои услуги безвозмездно, единственно за стол и кров. Решение Кука шокировало его друзей и близких, степень недоверия к затее Пири хорошо иллюстрируется фактом, что все компании, в которых Кук попытался застраховать свою жизнь, ответили ему отказом[10].
Экспедиция отправилась 6 июня 1891 года на баркентине «Кайт», причём в составе зимовочного отряда было всего семь человек, включая норвежца Эйвина Аструпа и супругу Пири — Джозефину Дибич. Кроме того, по настоянию филадельфийской Академии естественных наук, оплатившей начинание Пири, на том же корабле должны были следовать участники Западной Гренландской экспедиции (девять человек) во главе с профессором Анджело Хейлприном[11]. В их задачи входили изучение эскимосской культуры и покупка местных изделий, предназначавшихся для готовящейся Выставки достижений народов мира. Кук поднялся на борт, захватив с собой скромные пожитки и — в качестве предмета роскоши — несколько банок кетчупа, к которому успел пристраститься. Перед отъездом Пири заставил всех своих людей подписать контракт, согласно которому они обязаны были беспрекословно ему подчиняться и после возвращения воздерживаться от любых публикаций и газетных интервью в течение года, предоставляя таким образом своему начальнику полную монополию[11].
Плавание началось тяжело: большинство членов экспедиции сильно страдали от морской болезни и отлёживались в своих каютах. Первые остановки были сделаны в датских и эскимосских поселениях Южной Гренландии. Врач в этих местах был редкостью, и Кук неожиданно для себя оказался загружен работой разной степени сложности, вплоть до извлечения осколка кости из застарелого перелома. 1 июля корабль вошел в бухту Мелвилла и 6 июля был затёрт льдами, что привело к вынужденной остановке на неделю. Впрочем, команда, состоящая в основном из молодёжи, немедленно оживилась и устроила игру в снежки. Дни коротали, занимаясь подготовкой и проверкой снаряжения и сборного дома, удалось также подстрелить белого медведя, случайно оказавшегося неподалёку[12][13]. После того как корабль, наконец, смог двигаться, в ледяной шторм 11 июня Пири сломал лодыжку[14]. Джозефина Пири с благодарностью вспоминала, что «доктор Кук был сама забота… ночи напролёт он проводил возле мистера Пири»[12].
Команду высадили на Земле Прадхо в бухте Мак-Кормик (77° 40’ с. ш., 40° 40’ з. д.) 26 июня. Здесь был собран походный дом, получивший имя Редклифф, из-за нависших над бухтой красно-коричневых скал. Пири при этом был не в состоянии самостоятельно передвигаться и оправился только к октябрю[14]. Куку удалось наладить добрые отношения с эскимосами, жившими неподалёку, заслужив у них репутацию «доктора-шамана», и даже научиться их языку. Посему вначале одна, затем ещё несколько эскимосских семей обосновались рядом с Редклиффом, в обмен на иглы, ножи и иные европейские товары изготовляя для исследователей снаряжение и одежду из шкур, оказавшуюся для защиты от холодов куда эффективнее, чем европейское платье. Доктор позаботился также, чтобы экспедиция на всё время полярной зимы была в изобилии снабжена свежей пищей, богатой витаминами. В результате всех усилий цинга — бич полярных исследователей — не затронула зимовщиков. Существовала, однако, иная опасность — постоянное вынужденное проживание в одном помещении и однообразие занятий вели к раздражению и ссорам по любому пустяку. Так, аристократичная миссис Пири, привычная к светским манерам и речам, высоко ценила заботливость Кука к пациентам, его добросердечие и желание постоянно прийти на помощь («уж не знаю какой он врач»), в то же время тяготилась неотёсанностью «этого мужлана и бывшего развозчика молока», еле-еле получившего образование. Её шокировало, что Кук неспособен написать пары строк без орфографических ошибок, объявляя, например, что у пациента «проблемы с жевотом» (так в оригинале), и может с прямотой медика, для которого нет запретных тем, рассуждать за столом о кишечных газах, заявляться к завтраку в несвежей сорочке и даже хвастаться тем, «что расчёсывался в последний раз в воскресенье». Следует сказать, что миссис Пири не отличалась мягкостью характера; если Кук достаточно спокойно воспринимал любые выпады в свой адрес, полагая, что работа и чтение — лучшее лекарство «от ерунды», другой участник экспедиции — Джон Верхоефф — с самого начала жестоко рассорился с миссис Пири, вплоть до того, что предложил её мужу «вложить в дело ещё 500 долларов, если тот отправит её назад с первым кораблём». Эти ссоры привели в конечном итоге к трагедии.
Первые маршрутные вылазки начались только в феврале 1892 года, и Кук принимал в них деятельное участие. Вместе с Пири и Аструпом они начали освоение технологии строительства иглу — временных снежных убежищ по эскимосскому образцу, но поначалу успеха не добились[15]. Крыша, в основание которой были положены палки от лыж, во время неожиданно начавшегося бурана обрушилась под тяжестью мокрого снега, что едва не стоило исследователям жизни. Аструпа пришлось буквально выгребать из-под снежного завала, после чего ночь напролёт Пири своим телом согревал полузамёрзшего Кука. Доктор также вызывал постоянные шутки своих попутчиков тем, что мог расстрелять обойму, прежде чем попасть в моржа или оленя. Впрочем, стрелять он, наконец, научился, так как Пири оставил в своём дневнике шутливую запись, что «доктор… наконец реабилитировал себя, уложив сразу пять северных оленей». Кук охотно и быстро учился, строил нарты, ходил на лыжах с Эйвином Аструпом.
Во время длительного похода на север, предпринятого Пири и Аструпом, Кук был оставлен исполняющим обязанности начальника на базе[16]. О своём участии в экспедиции Пири 1891—1892 годов сам Кук ничего не написал, как не проявил особых качеств исследователя. Отношения между Пири и Куком сложились удачно, Пири высоко оценил Кука как медика и этнографа[17]. После возвращения в Нью-Йорк Кук прочитал несколько лекций об эскимосах и особенностях медицины в полярных странах, но по просьбе Пири прекратил эту деятельность[18].
Самостоятельные походы
В 1893 году при поддержке Йельского университета Кук совершил трёхмесячное плавание вдоль побережья Гренландии на яхте Zeta, достигнув Упернавика, хотя собирался покорить мыс Йорк. В 1894 году Кук решил организовать собственную экспедицию в Антарктиду, в чём его поддержал Герберт Бриджмен — владелец газеты Brooklyn Standard Union. Достаточного количества денег (бюджет оценивался в 50 000 долларов) собрать не удалось, поэтому летом 1894 года Кук зафрахтовал 1158-тонный пароход Miranda, на который погрузились 52 пассажира — преимущественно студенты колледжей Восточного побережья США. За участие в плавании они платили по 500 долларов каждый. Этот поход проходил на редкость неудачно: сначала у побережья Лабрадора судно столкнулось с айсбергом и было отбуксировано в Сент-Джонс для ремонта[19]. Посетив после ремонта Суккертоппен, 7 августа пароход налетел на подводный риф. В сложившейся ситуации Кук на открытой лодке проплыл 100 миль к северу — в Хольстейнборг, приведя 20 августа спасательное судно. 5 сентября пассажиры вернулись в Канаду, причём многие из них занялись во время вынужденной стоянки научными исследованиями[20]. Кук был вынужден отказаться от планов собственной экспедиции, однако откликнулся на предложение бельгийского барона Адриена де Жерлаша, организовывавшего экспедицию в Антарктиду. В это же время он заключил помолвку с Анной Форбс — сестрой покойной жены, которая резко возражала против его планов. А. Форбс скончалась во время пребывания Кука в Антарктиде[18].
Антарктида
Экспедиция А. де Жерлаша должна была провести первую в истории человечества зимовку в высоких широтах Южного полушария. Команда должна была работать в два сезона: в первый предполагались исследования в Море Уэдделла, затем должна была быть высажена партия из трёх зимовщиков, а корабль отбыть в Мельбурн и вернуться на следующий год[21]. Экспедиционное судно — норвежский паровой барк «Бельжика» — имело машину в 150 л. с., им командовал гидрограф Жорж Лекуан. Штурманом шёл норвежец Руаль Амундсен. Команда была интернациональной: в её состав входили бельгийский магнитолог — лейтенант Эмиль Данко, румынский биолог Эмиль Раковица, поляки — метеоролог А. Добровольский и геолог Г. Арктовский[22]. По воспоминаниям Кука, в кают-компании офицеры общались между собой по-французски, учёные в лаборатории — по-немецки, а матросам, набранным со всей Европы, отдавались приказы на смеси английского, немецкого, французского и норвежского языков[23].
Получив по телеграфу согласие начальника экспедиции, Кук взошёл на борт экспедиционного судна «Бельжика» в Рио-де-Жанейро 22 октября 1897 года. При этом Кук отказался от жалованья, хотя был единственным человеком на борту, обладающим реальным полярным опытом[24].
Неверно избранный маршрут привёл к тому, что 4 марта 1898 года «Бельжика», не дойдя до материкового побережья, была остановлена паковыми льдами: предстояла незапланированная зимовка. Команда не была к ней подготовлена, по воспоминаниям штурмана Р. Амундсена, недоставало провианта, топлива, тёплая одежда имелась только для четверых участников зимовочной партии, даже керосиновых ламп не хватало на каждую каюту[25]. Дрейф продолжался 13 месяцев и проходил в районах моря Беллинсгаузена, которые до того не посещались людьми из-за крайне тяжёлой ледовой обстановки. Скорость дрейфа была довольно велика — от 5 до 10 миль в сутки. Глубины в этих местах превышали 1500 м, так что лот не достигал дна[26].
На борту «Бельжики» Кук близко сошёлся с Руалем Амундсеном, с которым поддерживал отношения до самой гибели последнего. Позднее Амундсен писал:
|
Цинга стала главной проблемой экипажа с наступлением полярной ночи. Амундсен и Кук развернули охоту на тюленей и пингвинов и не ограничивали себя в пище, при взвешивании в мае Амундсен поставил рекорд — 87,5 кг[28]. Вместе с Куком они также экспериментировали с полярным снаряжением, на практике проверив свойства спальных мешков конструкции Пири, Аструпа и Нансена[Прим 3]. Кук был для Амундсена одновременно наставником и соучеником, однако остальные члены команды относились к этим экспериментам без всякого энтузиазма[29]. 5 июня 1898 года скончался от цинги и осложнений на сердце магнитолог Э. Данко; вскоре матрос-норвежец Толефсен сошёл с ума и попытался пешком уйти в Норвегию[30]. Впрочем, обстановка на борту не была вовсе беспросветной: старший помощник Лекуан провёл «Большой конкурс женской красоты»[31] и издавал непристойный рукописный журнал[32].
 К окончанию полярной ночи (она длилась с 16 мая по 21 июля 1898 года) Кук возглавил разведочный отряд, исследующий состояние льда. Признаков образования полыней не было. Только после наступления нового, 1899 года, лёд стал трескаться на расстоянии около 900 м от судна. Кук заставил команду прорубить канал, чтобы провести «Бельжику» на чистую воду. 14 марта 1899 года экспедиция покинула зону паковых льдов. В Пунта-Аренас команда была 27 марта. На этом плавание закончилось: денег для продолжения исследований у де Жерлаша не было, поссорившийся с ним Амундсен отбыл в Норвегию за собственный счёт[30].
К окончанию полярной ночи (она длилась с 16 мая по 21 июля 1898 года) Кук возглавил разведочный отряд, исследующий состояние льда. Признаков образования полыней не было. Только после наступления нового, 1899 года, лёд стал трескаться на расстоянии около 900 м от судна. Кук заставил команду прорубить канал, чтобы провести «Бельжику» на чистую воду. 14 марта 1899 года экспедиция покинула зону паковых льдов. В Пунта-Аренас команда была 27 марта. На этом плавание закончилось: денег для продолжения исследований у де Жерлаша не было, поссорившийся с ним Амундсен отбыл в Норвегию за собственный счёт[30].
Прибыв в Бельгию, Кук был награждён Орденом Леопольда — высшей бельгийской наградой, удостоился золотых медалей от Географического общества Брюсселя и Королевской Академии наук. Бельгийское географическое общество присудило ему серебряную медаль; отдельно наградили американца городские власти Брюсселя. Кук принял участие и в научном отчёте экспедиции на «Бельжике», изданном в 11 томах. Кук был представлен в 10 томе статьями «Медицинский отчёт» и «Отчёт о племени она»[33]. О путешествии Кук написал популярную книгу «Впервые через антарктическую ночь», впервые изданную в Нью-Йорке в 1901 году[34].
Во время экспедиции произошёл следующий казус: при посещении Огненной Земли в январе 1898 года Кук забрал рукопись словаря языка племени ямана, составленного миссионером Томасом Бриджесом (1842—1898). В 1901 году словарь был выпущен под фамилией Кука на средства бельгийского правительства[35]. Р. Брюс впоследствии заявил, что казус произошёл вследствие технической ошибки при печати тиража, опираясь на показания редактора словаря, данные в Конгрессе США[36]. Тем не менее, это сильно повредило репутации Кука.
Деятельность Кука в 1901—1907 годы
Гренландия
Вернувшись в США, Кук получил предложение Г. Бриджмена — секретаря Арктического клуба Пири — совершить плавание в Гренландию. Пири находился там с 1898 года, надлежало доставить зимовочной партии дополнительные запасы, а также оценить состояние здоровья начальника экспедиции, лишившегося из-за отморожения восьми пальцев на ногах. Бриджмен собирался идти в Гренландию сам, но не обладал необходимым полярным опытом; в качестве эксперта он и пригласил Кука. Команда Арктического клуба отплыла на транспорте «Эрик» и летом 1901 года в проливе Смит обнаружила Пири. Встреча Кука и Пири прошла сдержанно, в отчёте своей экспедиции Пири о ней не упоминал. Объяснялось это тем, что Пири не мог представить своим спасителям никакой сенсационной информации. Тот факт, что Пири достиг крайней северной точки Гренландии — мыса Морис-Джесуп, будет установлен Кнудом Расмуссеном только в 1926 году, после смерти Пири[37]. Пири находился в плохом физическом состоянии: очень истощён, культи на ногах заживали плохо, особо были отмечены симптомы цинги и аритмии. Кук настаивал на возвращении в Нью-Йорк, Пири категорически отказывался и остался на очередную зимовку[37]. Весной 1902 года Пири попытался покорить Северный полюс, но в тот раз достиг 84° 17’ с. ш.[38]
Первая экспедиция на Аляску
 В 1902 году в день своего рождения 37-летний Кук женился на вдове одного из своих друзей — Мэри Фидель Хант (Кук дал свою фамилию и её пятилетней дочери от первого брака Рут). Мэри была весьма состоятельной женщиной, после женитьбы Кук смог вновь открыть врачебную практику в Бруклине, в частности, обзаведясь одним из первых в Нью-Йорке рентгеновских аппаратов[39].
В 1902 году в день своего рождения 37-летний Кук женился на вдове одного из своих друзей — Мэри Фидель Хант (Кук дал свою фамилию и её пятилетней дочери от первого брака Рут). Мэри была весьма состоятельной женщиной, после женитьбы Кук смог вновь открыть врачебную практику в Бруклине, в частности, обзаведясь одним из первых в Нью-Йорке рентгеновских аппаратов[39].
Размеренная жизнь не устраивала Кука, и в 1903 году при поддержке журнала Harper's Monthly magazine он организовал экспедицию на Аляскинский хребет, намереваясь покорить высочайшую вершину Северной Америки — Мак-Кинли. В экспедиции участвовали шесть человек, ни один из которых не обладал альпинистским опытом. 24 июня 1903 года команда прибыла в посёлок Тайонек в Заливе Кука и далее двинулась на север — к леднику Питерса, имея 15 вьючных лошадей. 28 августа они разбили лагерь на высоте 3300 м, а за следующие двое суток поднялись ещё на 400 м по высоте. Резко возросла лавинная опасность, надо было возвращаться, причём по уже пройденному маршруту это было невозможно. Куку удалось миновать долину ледника Гарвей и организовать сплав по реке Чулитна (приток Суситны). 26 сентября 1903 года экспедиция без потерь вернулась в Тайонек, пройдя более 1000 км в экстремальных условиях[40].
Хотя экспедиция была неудачна со спортивной точки зрения, но её высоко оценили профессиональные географы (в частности, тогдашний президент Клуба исследователей — Адольф Грили): Кук обследовал более 5000 км² территорий Аляскинского хребта, определил истоки реки Чулитны, открыл неизвестный ранее перевал и несколько ледников[41]. Однако участник экспедиции — журналист Р. Данн — написал книгу, содержащую его собственную версию событий. Он признавал Кука неважным руководителем и даже «неудачником»[42]. Это не помешало Куку представить три доклада на Международной географической конференции в Вашингтоне, проводившейся в 1904 году[43].
Экспедиция 1906 года
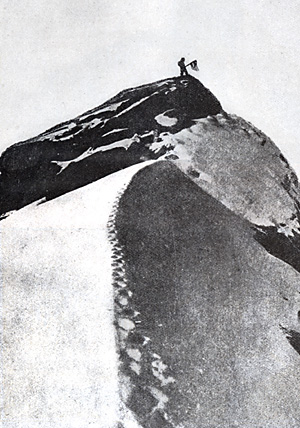 В экспедиции 1906 года участвовали три человека из прежней команды (включая самого Кука, а также У. Миллера и Ф. Принса), художник Б. Браун, Х. Паркер[en] — преподаватель Колумбийского университета, Э. Баррил — горный проводник, Р. Портер (геодезист) и другие. Начало экспедиции было неудачным, поскольку два месяца ушли на поиски подступов к горе с южной стороны. В августе, когда сезон подходил к концу, Кук направил Миллера, Брауна и Принса для заготовки дичи и пополнения зооботанических коллекций[44].
В экспедиции 1906 года участвовали три человека из прежней команды (включая самого Кука, а также У. Миллера и Ф. Принса), художник Б. Браун, Х. Паркер[en] — преподаватель Колумбийского университета, Э. Баррил — горный проводник, Р. Портер (геодезист) и другие. Начало экспедиции было неудачным, поскольку два месяца ушли на поиски подступов к горе с южной стороны. В августе, когда сезон подходил к концу, Кук направил Миллера, Брауна и Принса для заготовки дичи и пополнения зооботанических коллекций[44].
8 сентября 1906 года Кук и Баррил отправились по леднику Рут, открытому Куком за три года до этого. До 10 сентября они преодолели 30 км через проход Грейт Годж, расположенный на высоте 2500 м[45]. Дальнейшая интерпретация сообщений Кука чрезвычайно затруднительна из-за отсутствия карт местности (они будут созданы спустя полвека), поэтому опорных ориентиров маршрута, признаваемых всеми исследователями, не существует[44]. Тем не менее известно, что Кук направился обходным путём к северному подножью горы. По его заявлению, вершины горы он достиг в 10:00 по местному времени 16 сентября, но из-за сильного мороза пробыл там всего 20 минут. Телеграмма об этом достижении была доставлена Г. Бриджмену 27 сентября[46]. В 1908 году вышла книга о восхождении «На крыше континента» (англ. At the Top of the Continent), Кука к тому времени уже год не было в США.
Сомнения в достижении Кука были высказаны ещё в 1906 году, первым был Б. Браун, оставленный в базовом лагере. Однако претензии стали высказывать только три года спустя, когда начался великий спор с Пири относительно первенства в достижении Северного полюса. Сторонники Пири объявили заявление Кука о достижении вершины Мак-Кинли мошенничеством. В этой ситуации неблаговидную роль сыграл проводник Э. Баррил, единственный спутник Кука. Во время судебных разбирательств 1909 года Баррил под присягой отрицал факт достижения вершины, хотя уже через месяц заявил обратное. Даже для современников не было тайной, что Баррил получил 5000 долларов от сторонников Пири[47][48][36].
Пири оплатил экспедицию Брауна и Паркера, которые в 1910 году попытались повторить маршрут Кука. Вернувшись с Аляски, они заявили, что описанным Куком маршрутом к горе выйти вообще невозможно, тогда же Браун заявил, что изображение Кука на вершине горы, опубликованное в его книге, относится к совершенно другой вершине[48].
Проверкой сообщений Кука занялся известный американский альпинист Брэдфорд Вашбёрн (1910—2007). Начиная с 1956 года он выпустил ряд статей, в которых провёл отождествление объектов, запечатлённых на фотографиях Кука 1906 года, с ныне существующими на Мак-Кинли и в её окрестностях, и пришёл к выводу, что утверждения Кука не соответствовали реальности. Аналогичную работу проводил и Брайан Оконек[49]. Вашбёрну не удалось отождествить местность, где была сделана фотография пика, так как ландшафт с 1906 года сильно изменился[50]. В реальности фотография была сделана на высоте 1627 метров[51]. В 1979 году геодезист и историк-любитель Ханс Ваале восстановил по дневниковым записям Кука возможный маршрут к вершине Мак-Кинли, который соответствовал описанию местности в дневнике, однако, по утверждению Вашбёрна, Кук не имел времени и снаряжения, которые позволили бы пройти этим сложным обходным путём[52]. Напротив, известный российский путешественник Д. Шпаро доказывал истинность достижения Ф. Кука[53]. В 2006 году российские альпинисты поднялись на Мак-Кинли по реконструированному маршруту Кука, в поле опровергнув некоторые идеи Х. Ваале.
Великий спор с Пири
- Примечание: Фактическая информация о походе Кука к Северному полюсу извлечена из его отчёта.
Охотничья экспедиция Брэдли
Идея достижения Северного полюса возникла у Кука летом 1907 года после знакомства с миллионером Джоном Брэдли. Брэдли намеревался поохотиться в экстремальных условиях. Экспедиция организовывалась спонтанно: на её подготовку ушёл месяц; отправляясь из Нью-Йорка, Кук, по его собственным словам, не имел никаких определённых планов[54]. По воспоминаниям Брэдли, уже находясь в Арктике, Кук предложил ему дойти до Полюса, заявив, что это заветная мечта его жизни; ассистировать им должны были два эскимоса[55].
3 июля 1907 года шхуна «Джон Брэдли» под командованием Мозеса Бартлетта — родственника Роберта Абрама Бартлетта, служившего Пири, — отплыла из порта Глостер в Массачусетсе. Команда посетила Годхавн, при этом никаких разговоров о полюсе с его губернатором не вели ни Кук, ни Брэдли[56]. В Заливе Мелвилл Брэдли при помощи местных эскимосов развернул охоту на моржей. 24 августа судно пришло в эскимосское становище Анноаток на гренландском побережье пролива Смита (78° 33’ с. ш., в 24 км к северу от Иита — базы Пири). В летний сезон 1907 года в Анноатоке было много эскимосских мужчин и несколько сотен ездовых лаек; всё это привело Кука к мысли, что поселение является отличной базой для похода к полюсу. Брэдли не испытывал энтузиазма по поводу новых намерений своего спутника, но передал ему часть провианта и топлива со шхуны[57]. 3 сентября 1907 года «Джон Брэдли» покинул Анноаток. Вместе с Куком на зимовку остался Рудольф Франке, образованный немец, ранее работавший у Брэдли[57].
Зимовка
 До наступления полярной ночи Куку и Франке предстояло построить зимовочную хижину, которую они возвели из упаковочных ящиков. Остатки постройки обнаружил в 1952 году французский этнограф Жан Маллори, её площадь составляла всего 3×4 м. Щели были забиты обёрточной бумагой, стены обшили досками. Крыша была набрана из крышек ящиков, сверху её изолировали дёрном[58]. Помимо тесноты, было ещё одно неудобство: Кук писал, что когда топилась печь, на полу поддерживалась температура −20 °F (−29 °C), а под крышей +105 °F (+40,5 °C)[59].
До наступления полярной ночи Куку и Франке предстояло построить зимовочную хижину, которую они возвели из упаковочных ящиков. Остатки постройки обнаружил в 1952 году французский этнограф Жан Маллори, её площадь составляла всего 3×4 м. Щели были забиты обёрточной бумагой, стены обшили досками. Крыша была набрана из крышек ящиков, сверху её изолировали дёрном[58]. Помимо тесноты, было ещё одно неудобство: Кук писал, что когда топилась печь, на полу поддерживалась температура −20 °F (−29 °C), а под крышей +105 °F (+40,5 °C)[59].
Полярная ночь началась 24 октября. Видимо, на зимовке Кук решил не использовать «американский путь» (от мыса Колумбия на о. Элсмир), чтобы не раздражать Пири, который данный маршрут к полюсу считал своей монополией. Т. Райт (без ссылок на источник) утверждал, что пересечение острова Элсмир Кук обсуждал ещё с Брэдли. Преимущество маршрута Кука было в том, что внутренние районы о. Элсмир богаты дичью — пищей для людей и ездовых собак[60].
Ещё до наступления зимы Кук и Франке успели заготовить множество куропаток, зайцев и северных оленей, изготовили пеммикан из моржового мяса[61]. Кук писал, что ему удалось передать свой энтузиазм эскимосам Анноатока, после чего они охотно снабжали его мясом, добывали зайцев и песцов, чьи шкурки шли на изготовление унтят и рукавиц. Эскимосы сшили полярную одежду и спальные мешки из оленьих шкур, ветронепроницаемую верхнюю одежду сделали из шкур тюленя. Из оставленных Брэдли пиломатериалов (гикори) эскимосы изготовили для Кука нарты[62].
Не дожидаясь начала полярного дня, в январе 1908 года Кук начал разведку ледовой обстановки. В конце января к фьорду Флагнер-Бэй удалось доставить груз на четырёх нартах, мороз при этом достигал −47 °C. 5 февраля 1908 года туда доставили ещё 8 гружёных нарт[60].
Поход к Северному полюсу
Кук выступил из Анноатока 19 февраля 1908 года на 11 нартах, гружённых 4000 фунтов (1814 кг) запасов для перехода по паковым льдам и 2000 фунтов (907 кг) моржового мяса и жира для немедленного употребления. Нартами управляли 9 эскимосов, Кук и Франке. Ездовых собак было 103[63]. 25 февраля началось пересечение о. Элсмир, морозы при этом достигали −62 °F (−52 °C) при полном безветрии[64]. Команде предстояло миновать водораздел между проливом Юрика и морем Баффина. Всего на пересечение гористого острова на экстремальном морозе потребовалось 4 дня. Спустя 60 лет тем же маршрутом прошёл известный британский полярник Уолли Герберт, которому на этот же путь потребовалось 4 недели[65]. Успешной была и охота: при выходе к проливу Юрика удалось добыть 20 овцебыков и медведя, а на полуострове Шай 27 овцебыков и 24 зайца. Известный российский полярник — гляциолог В. С. Корякин — отмечал, что это редкостный случай в истории полярных экспедиций, как правило, страдавших от недостатка, а не избытка пищи[65].
К началу марта Кук отошёл на 400 миль (643 км) от Анноатока, до полюса оставалось 520 миль (836 км). Отправной точкой стал мыс Свартенвог, расположенный на 81° 20’ с. ш. В. С. Корякин, комментируя дневниковые записи Кука о том, что взятые на нартах запасы оставались нетронутыми, а люди, несмотря на морозы и штормы, пребывали в отличной физической форме, писал:Продолжительный переход от Анноатока стал для них необходимой тренировкой, позволив втянуться в трудности маршрута, испытать снаряжение и приобрести необходимый опыт. При этом не было потеряно время, чему способствовал ранний выход с зимовочной базы в Анноатоке. Свежая мясная пища давала возможность людям полностью восполнять затраты энергии, уходившей на длительные переходы в условиях сильных морозов. <…> Кук со своей идеей использования местных ресурсов явно предвосхитил идею «гостеприимной Арктики» Вильялмура Стефанссона[65].
На мысе Свартенвог Кук принял решение максимально сократить груз и команду. С собой он брал двух 20-летних эскимосов Авелу (Ahwelah) и Этукишука (Etukishook). Снаряжение было рассчитано на 80 дней пути: 935 фунтов пеммикана (424 кг), 50 фунтов мяса овцебыка (22,6 кг), 25 фунтов сахара (11 кг), 40 фунтов сухого молока (18 кг), 10 фунтов концентрата горохового супа (4,5 кг), 40 фунтов бензина для примуса, 2 фунта древесного спирта для разжигания огня, фунт спичек. У экспедиционеров были два нарезных ружья с боекомплектом в 110 патронов к каждому и разборный каяк. Навигационное оборудование включало два компаса, астролябию, секстант, три карманных хронометра, шагомер, три термометра и барометр, фотоаппарат. Всё это было погружено в двое нарт, запряжённых 26 псами[66].
 Команда отправилась 18 марта 1908 года, первые 63 мили её сопровождали ещё два эскимоса. С ними Кук отправил письмо Франке с указанием ждать его до 5 июня в Анноатоке[66][Прим 4]. Уже 22 марта путь преградили разводья, при температуре −44 °C было немыслимо пользоваться каяком. Астрономические наблюдения в тот день показали 83° 31’ с. ш. при 96° 27’ з. д.[67]. Во время шторма 25 марта ледяное поле раскололось, трещина прошла через иглу (из-за сильных морозов экспедиционеры не пользовались палаткой). Кук в спальном мешке оказался в воде при −48 °F (−45 °C)[68]. Аналогичная история повторилась спустя три дня. 30 марта Кук написал в дневнике, что в 50 милях к западу от его маршрута видит признаки покрытой льдом пустынной земли. Кук назвал её «Землёй Брэдли» и сделал панорамную фотографию, но уже на следующий день не смог обнаружить никаких признаков суши[69].
Команда отправилась 18 марта 1908 года, первые 63 мили её сопровождали ещё два эскимоса. С ними Кук отправил письмо Франке с указанием ждать его до 5 июня в Анноатоке[66][Прим 4]. Уже 22 марта путь преградили разводья, при температуре −44 °C было немыслимо пользоваться каяком. Астрономические наблюдения в тот день показали 83° 31’ с. ш. при 96° 27’ з. д.[67]. Во время шторма 25 марта ледяное поле раскололось, трещина прошла через иглу (из-за сильных морозов экспедиционеры не пользовались палаткой). Кук в спальном мешке оказался в воде при −48 °F (−45 °C)[68]. Аналогичная история повторилась спустя три дня. 30 марта Кук написал в дневнике, что в 50 милях к западу от его маршрута видит признаки покрытой льдом пустынной земли. Кук назвал её «Землёй Брэдли» и сделал панорамную фотографию, но уже на следующий день не смог обнаружить никаких признаков суши[69].
13 апреля у измученных работой эскимосов произошёл нервный срыв: Авела рыдал, лёжа ничком на нартах, Этукишук собирался отправиться на юг. До предела измотанному Куку уговорами удалось вернуть своим спутникам мужество[70]. 14 апреля Кук определил координаты: 88° 21’ с. ш. при 95° 52’ з. д. Команда уже столкнулась с недостатком пищи, пришлось начать забой ездовых собак[71]. По вычислениям Кука, 19 апреля они находились в 29 милях от полюса. По его описанию, Авела и Этукишук взяли бинокль и влезли на торос, «попытавшись отыскать земную ось!»[72]. Полюса Кук и эскимосы достигли, по его заявлению, в полдень по местному времени 21 апреля 1908 года[73] и пробыли там двое суток. В. С. Корякин утверждал, что приведённые Куком приблизительные данные наблюдений свидетельствуют, что имеющиеся у него инструменты давали погрешность не более 10 морских миль, что, с точки зрения географа, непринципиально для проблемы достижения полюса[74].
Возвращение с полюса
 Возвращаться Кук решил вдоль 100-го меридиана; малое количество запасов заставляло его тщательно отмечать дневные переходы: 24 апреля — 16 миль; 25 апреля — 15 миль; 26, 27 и 28 — по 14 миль[75]. Однако 30 апреля Кук зафиксировал, что его со всевозрастающей скоростью сносит на восток. Ухудшились и ледовые условия: к первой декаде мая команда проходила в среднем 10 миль в день. Продовольствие иссякло к концу мая. К 13 июня команда оказалась в проливе Пири, более чем в 150 милях к югу от мыса Свартенвог. По предположению В. С. Корякина, Кук 11 июня прошёл по припаю острова Миен, который был открыт только в 1916 году; на карте Свердрупа, которой Кук пользовался, его не было[76]. Физическое состояние людей было плачевным, а снаряжение оказалось сильно изношено. Кук пришёл к выводу, что в середине лета он не сможет вернуться в Анноаток, предстояло зимовать на островах Канадского арктического архипелага. 4 июля 1908 года началось пересечение о. Девон, 7 июля показался пролив Джонс. Дальше передвижение было возможно только по морю, но Кук не смог убить оставшихся собак (как это сделал в своё время Нансен), их бросили на острове. Дальше команда пошла на парусиновом каяке[77].
Возвращаться Кук решил вдоль 100-го меридиана; малое количество запасов заставляло его тщательно отмечать дневные переходы: 24 апреля — 16 миль; 25 апреля — 15 миль; 26, 27 и 28 — по 14 миль[75]. Однако 30 апреля Кук зафиксировал, что его со всевозрастающей скоростью сносит на восток. Ухудшились и ледовые условия: к первой декаде мая команда проходила в среднем 10 миль в день. Продовольствие иссякло к концу мая. К 13 июня команда оказалась в проливе Пири, более чем в 150 милях к югу от мыса Свартенвог. По предположению В. С. Корякина, Кук 11 июня прошёл по припаю острова Миен, который был открыт только в 1916 году; на карте Свердрупа, которой Кук пользовался, его не было[76]. Физическое состояние людей было плачевным, а снаряжение оказалось сильно изношено. Кук пришёл к выводу, что в середине лета он не сможет вернуться в Анноаток, предстояло зимовать на островах Канадского арктического архипелага. 4 июля 1908 года началось пересечение о. Девон, 7 июля показался пролив Джонс. Дальше передвижение было возможно только по морю, но Кук не смог убить оставшихся собак (как это сделал в своё время Нансен), их бросили на острове. Дальше команда пошла на парусиновом каяке[77].
В начале сентября команда достигла мыса Спарбо, откуда до Анноатока оставалось более 300 миль. На мысе было заброшенное эскимосское поселение, одно из каменных иглу неплохо сохранилось и нуждалось лишь в ремонте крыши[78]. Следовало заготовить побольше съестных припасов. Кук, Авела и Этукишук охотились, как первобытные люди, с помощью самодельных копий и гарпунов. Так удалось забить нескольких моржей и множество овцебыков. Их мясо стало основой рациона во время 7-месячной зимовки[79].
Полярная ночь на этой широте началась 3 ноября и продолжалась до 11 февраля 1909 года. Кук установил жёсткий распорядок дня: каждый член команды выстаивал 6-часовую вахту, чтобы поддерживать огонь в иглу и отгонять медведей от запасов мяса[80]. Кук так описывал зимовку:У нас не было ни сахара, ни кофе, ни крупинки цивилизованной пищи. Мы располагали вполне добротным, полноценным питанием — мясом и жиром. Однако наши желудки устали от этой плотоядной пищи. Тёмная пещера с её стенами, увешанными мехами и костями животных, и полом, вымощенным льдинами, не давала повода для радостных ощущений. Безумия, презренного сумасшествия можно было избежать, только заполнив время физическим трудом и долгим сном. В этом подземном убежище, как мне кажется, мы вели жизнь людей каменного века. Внутри было холодно, сыро и темно, хотя постоянно теплились жалкие огоньки наших светильников. В верхней части жилища температура была сносной, однако на полу — ниже нуля. Наша постель представляла собой сложенную из камней платформу, достаточно широкую, чтобы на ней могли разместиться трое мужчин. Край постели служил местом для сидения, когда мы бодрствовали. Перед постелью было углубление в полу, которое позволяло нам поодиночке встать во весь рост. Там по очереди мы одевались и время от времени просто стояли, чтобы расправить наши онемевшие руки и ноги. По обе стороны от этого пространства мы расположили по половинке оловянной тарелки, в которых сжигали жир мускусного быка. Фитилями нам служил мох. У нас было мало спичек, и из страха перед темнотой мы холили и лелеяли эти огоньки, поддерживая их денно и нощно. Это был тщедушный, почти неощущаемый источник тепла и света. Мы могли различать лица, только вплотную приблизившись друг к другу. Мы питались дважды в сутки, но это не доставляло нам удовольствия. У нас не было иной пищи, кроме мяса и жира. В основном, мы поедали мясо в сыром замороженном виде. Ночью и утром из небольшой порции мяса мы варили бульон, однако у нас не было соли. Я находил некоторое облегчение в этом ужасном существовании, обрабатывая свои неразборчивые записи, сделанные во время путешествия[81].
 18 февраля зимовщики оставили своё убежище и потратили 8 дней, чтобы достигнуть мыса Теннисон (так Кук именовал мыс Эдуарда VII). Продвижение сильно затруднялось отсутствием собак, в сутки удавалось пройти не более 7 миль[82]. 25 марта Кук добрался до мыса Фарадей, где застрелил медведя (Кук специально сохранил 4 патрона на крайний случай, если придётся покончить жизнь самоубийством или убить кого-то)[83]. Добравшись до мыса Сабин, Кук обнаружил там тюленя, оставленного год назад отцом Этукишука как неприкосновенный запас. Однако протухшего тюленьего мяса не хватало, и путешественники съели обувь и ремни из тюленьей кожи. Сильно ослабевшая команда прибыла в Анноаток 18 апреля в буквальном смысле на четвереньках[84]. Первым человеком, который встретил Кука, был охотник Гарри Уитни. Он прибыл в Анноаток вместе с Пири и там зазимовал[85].
18 февраля зимовщики оставили своё убежище и потратили 8 дней, чтобы достигнуть мыса Теннисон (так Кук именовал мыс Эдуарда VII). Продвижение сильно затруднялось отсутствием собак, в сутки удавалось пройти не более 7 миль[82]. 25 марта Кук добрался до мыса Фарадей, где застрелил медведя (Кук специально сохранил 4 патрона на крайний случай, если придётся покончить жизнь самоубийством или убить кого-то)[83]. Добравшись до мыса Сабин, Кук обнаружил там тюленя, оставленного год назад отцом Этукишука как неприкосновенный запас. Однако протухшего тюленьего мяса не хватало, и путешественники съели обувь и ремни из тюленьей кожи. Сильно ослабевшая команда прибыла в Анноаток 18 апреля в буквальном смысле на четвереньках[84]. Первым человеком, который встретил Кука, был охотник Гарри Уитни. Он прибыл в Анноаток вместе с Пири и там зазимовал[85].
После возвращения
 В Анноатоке Кук пробыл всего трое суток — до 21 апреля 1909 года. Узнав, что местные эскимосы собираются откочевать на юг, он решил последовать за ними. До Упернавика, откуда ходили рейсовые пароходы в Данию, было 700 миль пути, поэтому Кук (как он заявил позднее) решил оставить Уитни свои навигационные инструменты, американский флаг и журнал полевых наблюдений[86]. В Гренландию Кук прибыл 20 мая, но вынужден был дожидаться датского парохода, который прибыл только 20 июня. В начале июня в Упернавик прибыл китобоец «Морнинг», капитан которого Адамс поведал Куку о неудачной попытке Шеклтона достигнуть Южного полюса. Через две недели прибыл датский рейсовый пароход «Ханс Эгеде», следующий в Копенгаген; на него Кук и погрузился. Во время плавания вдоль побережья Гренландии (пароход заходил в Уманак и Эгедесминде) Кук познакомился с Кнудом Расмуссеном, который предупредил его, что столкновение с Пири неизбежно[86].
В Анноатоке Кук пробыл всего трое суток — до 21 апреля 1909 года. Узнав, что местные эскимосы собираются откочевать на юг, он решил последовать за ними. До Упернавика, откуда ходили рейсовые пароходы в Данию, было 700 миль пути, поэтому Кук (как он заявил позднее) решил оставить Уитни свои навигационные инструменты, американский флаг и журнал полевых наблюдений[86]. В Гренландию Кук прибыл 20 мая, но вынужден был дожидаться датского парохода, который прибыл только 20 июня. В начале июня в Упернавик прибыл китобоец «Морнинг», капитан которого Адамс поведал Куку о неудачной попытке Шеклтона достигнуть Южного полюса. Через две недели прибыл датский рейсовый пароход «Ханс Эгеде», следующий в Копенгаген; на него Кук и погрузился. Во время плавания вдоль побережья Гренландии (пароход заходил в Уманак и Эгедесминде) Кук познакомился с Кнудом Расмуссеном, который предупредил его, что столкновение с Пири неизбежно[86].
Отправившись в Копенгаген, Кук был совершенно нищим: одежду ему одолжил губернатор Упернавика Кроль, а телеграмму о своём достижении пришлось отправлять в долг[87]. Телеграмма была отправлена из Леруика 1 сентября, в Данию Кук прибыл 4 сентября. В Копенгагене Кука встречала огромная толпа. Среди поздравительных телеграмм выделялись послания Руаля Амундсена и Гордона Беннета, владельца газеты The New York Herald. Беннет приобрёл самый первый отчёт Кука о достижении полюса за 3000 долларов — это решало все финансовые проблемы полярника[88].
Пири прибыл на мыс Сабин 8 августа, где и получил известия, что Кук якобы опередил его в покорении полюса на год[89]. 17 августа Пири взял на борт Гарри Уитни[90]. Получив подробности об экспедиции Кука от Г. Уитни, Пири и его ассистент Боруп предприняли допрос сопровождавших Кука эскимосов Авелы и Этукишука; этот эпизод в официальном отчёте Пири отсутствует. Дознание проводил Боруп, который, плохо владея гренландским языком, строил вопросы так, чтобы эскимосы давали однозначный ответ «да» или «нет». Интересно, что он вёл протокол допроса, опубликованный впоследствии[91]. По мнению В. С. Корякина, Пири интересовало, использовал ли Кук его систему организации перевозок и какова эскимосская топонимика о. Элсмир и Северной Гренландии. Эти данные впоследствии были использованы в процессе против Ф. Кука[92]. Впрочем, Т. Райт писал, что только на Лабрадоре Пири узнал подробности об экспедиции Кука, вероятно, от капитана китобойного судна «Морнинг» Адамса[91]. 8 сентября в Нью-Йорк ушла телеграмма следующего содержания:
Вбил звёзды и полосы в Северный полюс. Ошибки быть не может. Не принимайте версию Кука всерьёз. Сопровождавшие его эскимосы говорили, что он не ушёл далеко на север от материка. Их соплеменники подтверждают это. Пири[90].
Первый публичный доклад Кук сделал в Копенгагене 7 сентября в Датском географическом обществе в присутствии короля Фредерика VIII; всего на докладе было 1500 человек. Церемония началась торжественным вручением Куку Золотой медали за достижение Северного полюса. На банкете, устроенном газетой «Политикен», была оглашена и первая телеграмма Пири. На расспросы журналистов Кук ответил: «Могу сказать, что не испытываю ни ревности, ни сожаления… Славы хватит на двоих»[93]. Категорически на сторону Кука встал Отто Свердруп, который публично заявил, что «Пири напрасно 26 лет[Прим 5] искал Северный полюс»[94]. Руаль Амундсен, строивший планы достижения Северного полюса, прибыл в Копенгаген 8 сентября. Ещё 2 сентября, когда его просили прокомментировать заявление Кука, Амундсен сказал: «Кук сделал завершающий шаг в полярных исследованиях». Отношения между ними совершенно не изменились, хотя Амундсену, обременённому огромными долгами, пришлось быстро менять собственные планы и организовывать экспедицию к Южному полюсу[95].
21 сентября 1909 года Кук вернулся в Нью-Йорк, причём во встрече принимало участие более 100 тысяч человек, включая членов Арктического клуба. Предприимчивый Кук при этом требовал по 10 долларов за автограф[96]. Вскоре прошла первая публичная лекция Кука в Карнеги-холл[97]. 24 сентября с Куком связался Г. Уитни и сообщил, что порученное ему имущество осталось в Анноатоке. Куку нечего было противопоставить нападкам Пири и вопросам скептиков: с собой у него были только записи полевых наблюдений с 18 марта по 13 июня 1908 года[98]. Роберт Бартлетт и Уитни в 1910 году посетили Анноаток, причём Бартлетт после возвращения заявил, что никаких записей среди вещей, порученных Уитни, не было. Сохранился секстант и некоторое количество одежды. Вопрос о том, существовали ли записи всех полевых наблюдений Кука, остался совершенно неразрешимым. Сторонники Кука позднее заявляли о похищении этих материалов, но документов так никто и никогда не видел[99].
Атаку на Кука начал ещё 6 сентября участник экспедиции на Мак-Кинли Ф. Принс, опубликовавший в газете «Нью-Йорк сан» разоблачительную статью о событиях 1906 года. Журнал Национального географического общества в сентябре вышел с редакционной статьей, в которой особо подчёркивалось, что Северного полюса достигли оба полярника. Однако уже 13 октября Арктический клуб Пири в целом ряде периодических изданий распространил возмущённое заявление. Там, в частности, говорилось, что эскимосы, сопровождавшие Кука, заявили, что во время всего путешествия были в пределах видимости земли[100]. Репутация Кука была ещё больше поколеблена публикацией в «Нью-Йорк таймс» 21 мая 1910 года, в которой речь шла о словаре Бриджеса, ошибочно опубликованном под именем Кука в 1901 году. Автор статьи — Ч. Таунсенд — обвинял Кука в похищении материалов миссионера[101].
 В создавшейся ситуации Кук попытался фальсифицировать расчёты, поручив астрономические вычисления двум газетчикам — Данклу и Лузу, представившимся моряками. Полученная от Кука расписка за гонорар (250 долларов) стала очередным «гвоздём в гроб первопроходца», так как была тут же опубликована, это произошло 9 декабря 1909 года[36][102]. Кук не смог удовлетворительно объяснить этот эпизод и в своей книге 1911 года, которая вообще была написана очень эмоционально[101]. В конце 1909 года комиссия Копенгагенского университета, изучив материалы Кука, заявила, что не представлено никаких наблюдений, которые бы свидетельствовали о достижении Северного полюса[103][Прим 6]. Имя Кука не было включено в списки награждённых Золотой медалью Королевского датского географического общества, хотя медаль вручили ему ещё в сентябре[104]. Кук в тот период организовал длительное лекционное турне по странам Европы и Южной Америки и вернулся в Нью-Йорк в декабре 1910 года[105].
В создавшейся ситуации Кук попытался фальсифицировать расчёты, поручив астрономические вычисления двум газетчикам — Данклу и Лузу, представившимся моряками. Полученная от Кука расписка за гонорар (250 долларов) стала очередным «гвоздём в гроб первопроходца», так как была тут же опубликована, это произошло 9 декабря 1909 года[36][102]. Кук не смог удовлетворительно объяснить этот эпизод и в своей книге 1911 года, которая вообще была написана очень эмоционально[101]. В конце 1909 года комиссия Копенгагенского университета, изучив материалы Кука, заявила, что не представлено никаких наблюдений, которые бы свидетельствовали о достижении Северного полюса[103][Прим 6]. Имя Кука не было включено в списки награждённых Золотой медалью Королевского датского географического общества, хотя медаль вручили ему ещё в сентябре[104]. Кук в тот период организовал длительное лекционное турне по странам Европы и Южной Америки и вернулся в Нью-Йорк в декабре 1910 года[105].
Последующая деятельность
«Моё достижение полюса»
До 1911 года Кук не мог примириться с поражением в споре с Пири, друзья Кука даже обратились в Конгресс США. В результате постановлением Конгресса официальным первооткрывателем Северного полюса был признан Пири[106]. На заседание Конгресса Кук не явился, что широкой публикой было воспринято негативно. В 1911 году вышла его книга «Моё достижение полюса». Характерно, что ни одно издательство не приняло рукописи Кука, и ему пришлось основать собственную Polar Publishing Company. Для продвижения книги он совершил рекламную поездку на Американский Запад. Книга продавалась плохо, как из-за нападок рецензентов, обвинявших Кука в напыщенности стиля и ошибках, так и из-за высокой стоимости — 3 доллара (62 доллара 2012 года)[107]. В 1912 году было выпущено дешёвое издание с некоторыми поправками. Кук в тот период зарабатывал на жизнь популярными лекциями (англ. Chautauqua) и периодически устраивал гастрольные поездки: выступал в инсценировках своего путешествия к полюсу с демонстрацией диапозитивов. Его лекции имели успех, особенно на Среднем Западе и Тихоокеанском побережье США. Третье издание книги «Моё достижение полюса» в 1913 году разошлось тиражом 60 000 экземпляров[108].
В 1916 году Кук попытался обратиться в Конгресс во второй раз: его интересы представлял Генри Хельгесен (конгрессмен от Южной Дакоты), все речи для Хельгесена писал лоббист Э. Рост. К середине 1916 года Кук и Рост поссорились, ибо полярник сильно задолжал своему лоббисту. 4 сентября 1916 года в Congressional Record[Прим 7] была опубликована речь Хельгесена «Доктор Кук и Северный полюс: Дополнение к выступлению» — 28 страниц мелкой печати. Э. Рост подробно проанализировал содержание книги Кука с целью доказать, что большая часть изложенных там фактов — творческая обработка рассказов других лиц[Прим 8]. Рост отметил ошибки в описании лунных фаз, отсутствие наблюдений магнитного склонения и крайнюю небрежность в определении географических координат, обвинив Кука в том, что он плохой штурман. Рост критиковал Кука за то, что в его книге упоминается только Рудольф Франке, тогда как Брэдли сопровождала большая команда. Рост обнаружил, что тени на фотографиях, якобы сделанных Куком на полюсе, не соответствуют той картине, которая должна была там наблюдаться. Рост даже усомнился в сроках пребывания Кука в Анноатоке после возвращения, основываясь на мемуарах Гарри Уитни (Кук, согласно его мнению, повернул обратно уже через неделю и скрывался на островах Арктического архипелага). Выводы были категорическими: «Доктор Кук никогда не достигал и даже не приближался на достаточное расстояние к Северному полюсу»[109]. Впрочем, уже в 1917 году Томас Холл признал все аргументы Кука «безупречными».
Уже во второй половине ХХ века мало кто из профессиональных полярников сомневался в факте, что Ф. Кук побывал в околополюсном районе. Сторонники Кука приводят следующие аргументы: как раз те сообщения, которые подвергались в начале ХХ в. сомнению, после более глубокого исследования Арктики стали являться доказательствами истинности отчёта Кука. В частности, Кук верно охарактеризовал распределение льдов в Центральной Арктике. Он, например, отмечает, что между 83-м и 84-м градусами северной широты его отряд встретил огромное пространство открытой воды. По современным данным, над континентальным шельфом располагается почти не замерзающая полынья. В 1908—1909 годах об этом не было известно. Описывая переходы от 87-й до 88-й параллели, Кук сообщает, что передвигался по старому льду без следов сжатий или торосов. Волнистая поверхность без каких-либо торосов характерна для ледяных островов — осколков ледников Земли Элсмира. В 1908 году о существовании ледяных островов никто не знал; они были открыты значительно позже. Как и описывает Кук, размеры их достигают десятков и даже сотен квадратных километров. Советский лётчик Илья Павлович Мазурук открыл, например, в 1948 году ледяной остров площадью 28 × 32 км[110]. Современные оппоненты Кука утверждают, что описания подобных островов он мог позаимствовать из трудов Фритьофа Нансена и Роберта Пири[111].
Кругосветное путешествие
В 1915 году Кук объявил о попытке первого восхождения на Эверест, которое должно было сопровождаться съёмками документального фильма. Однако, добравшись до Индии, он не смог договориться с британскими властями, которые не пустили его на Тибет. Потерпев неудачу с гималайской экспедицией, он отправился на Борнео, где занимался исследованием местных племён «охотников за головами» — даяков. Оттуда Кук через Россию и Северную Европу вернулся в США, прибыв в Нью-Йорк в январе 1916 года. На Борнео Кук снял документальный фильм «To the Antipodes» (с англ. — «К антиподам»), но в коммерческом отношении фильм оказался неудачным[112]. Ни одной его копии не найдено[113].
Нефтяной бизнес и тюремное заключение
В 1916 году Кук радикально сменил род деятельности: он отправился в Вайоминг для проведения геологической разведки на перспективных нефтеносных землях. Где и когда он получил геологическое образование и как обратил на себя внимание деловых кругов — неизвестно. Ему удалось объединить две мелкие нефтяные компании под общим названием Cook Oil Company. В 1919 году он заинтересовался месторождениями Техаса и даже приобрёл компанию Texas Eagle Oil Company, деятельность которой распространялась даже на Мексику. Послевоенное падение цен на нефть не позволяло развиваться малым компаниям. Кук пришёл к выводу, что более выгодной будет инвестиционная деятельность: 1 марта 1922 года была создана Ассоциация по производству бензина под патронажем правительства штата[114]. С октября 1922 года было пробурено 12 глубоких и 43 мелкие скважины, был выявлен ряд перспективных месторождений. Работы Кук вёл на собственные деньги, но рассчитывал после акционирования предприятия начать торговлю акциями по почте. Почтовая служба США уже в апреле 1923 года обвинила его в обмане потенциальных инвесторов, 20 апреля работы были остановлены. Судебное разбирательство «США против Фредерика Кука» началось 15 октября и длилось до 20 ноября 1923 года. Примечательно, что на суде Куку припомнили Мак-Кинли и Северный полюс, хотя к разбираемому делу они не имели отношения. Впоследствии в Обществе Фредерика Кука подсчитали, что только за период 1934—1990 годов на землях, разведанных Куком, было добыто 180 млн баррелей нефти[115]. В этот период Кук развёлся с женой[116].
В результате долгого процесса Кук в 1924 году был признан виновным и приговорён к 14 годам и 9 месяцам тюремного заключения и денежному штрафу. Отбывать наказание он должен был в тюрьме Форт-Ливенворт близ Канзас-Сити. Единственным другом, который навестил Кука в тюрьме, был Руаль Амундсен. Визит 1925 года сто́ил Амундсену срыва выступлений в Соединённых Штатах. Воспоминания Кука об этой встрече были опубликованы в 1995 году[117].
Кук к тому времени был тяжело больным человеком: он страдал от гипотонии и нарушений сердечной деятельности. 20 февраля 1928 года Кук обратился к президенту Кулиджу с прошением о помиловании. К тому времени уже было известно об открытых Куком месторождениях, но 22 марта 1929 года апелляция Кука была отклонена. Всё его состояние ушло на оплату штрафа, остались 50 долларов в тюремной кассе. В Ливенворте Кук работал ночным санитаром тюремной больницы, поскольку сохранил членство в Американском обществе врачей[118]. В тюрьме Кук разработал метод лечения заключённых-наркоманов и помогал в обучении неграмотных. Он даже публиковал статьи в тюремной газете «The New Era», которую сам и редактировал, иногда выступал с лекциями о своих путешествиях[119].
Последние годы жизни
Поскольку к 1930 году стало известно, что нефтеносные земли, которые открыл Кук, оказались прибыльными, 30 марта 1930 года он был освобождён, проведя за решёткой 4 года и 11 месяцев. Освобождение Кука было негативно встречено сторонниками Пири[120]. Первые пять лет после освобождения Кук жил в Чикаго, где ассистировал одному из своих друзей — доктору Томпсону[Прим 9], работавшему офтальмологом[119]. Когда состояние здоровья не позволило ему работать, Кук поселился в Нью-Йорке у дочери Хелен (родившейся в 1905 году), периодически бывая в Томс Ривер (штат Нью-Джерси) у сестры — Лилиан Мёрфи. Хелен заботилась об архивах и переписке своего отца и с 1956 года возглавила кампанию по признанию его заслуг[121].
В 1930-е годы Кук безуспешно пытался восстановить свой приоритет в судебном порядке. Много сил отняло у него написание книги «Возвращение с полюса», впервые опубликованной только в 1951 году. 3 мая 1940 года его поразил инсульт, в тот день Кук был у своего соратника по экспедиции на Мак-Кинли — Ральфа Шейнвальда фон Алефельдта. Уже 4 мая Р. Шейнвальд обратился к президенту Рузвельту, 16 мая Кук был реабилитирован по всем пунктам обвинения. В начале августа Кук перенёс повторный инсульт и скончался 5 августа 1940 года в возрасте 75 лет[122].
Память
После смерти Кука Р. Шейнвальд основал Cook Arctic Club, Inc. — организацию, призванную восстановить доброе имя Кука и подтвердить его приоритет в достижении Северного полюса. В 1940 году Арктический клуб Кука попытался спонсировать воздушную экспедицию в Арктику, чтобы подтвердить наблюдения 1908 года, но планам помешала война. В конце 1956 года при деятельном участии Хелен Кук было создано «Общество Фредерика Кука». В 1976 году Общество было преобразовано в некоммерческую образовательную организацию. Хелен Кук скончалась в 1977 году[123].
Первую биографию Ф. Кука опубликовал в 1961 году Эндрю Фримэн[Прим 10] — «The Case for Dr. Cook», она вызвала интерес к личности полярника и способствовала сбору новых материалов о его жизни[124]. В 1983 году по телевидению был продемонстрирован фильм производства CBS «Кук и Пири: гонка к полюсу». В роли Кука — Ричард Чемберлен, Пири — Род Стайгер[123].
В 1989 году скончалась внучка Кука — Джанет Веттер, перед смертью она передала бумаги и дневники своего деда в Библиотеку Конгресса. На основе этих материалов Роберт Брюс в 1997 году опубликовал исследование «Cook and Peary, the Polar Controversy, Resolved», в котором доказывал, что заявления Кука о покорении Мак-Кинли и достижении Северного полюса были ложными. В рецензии на книгу, опубликованной в «Нью-Йорк таймс», утверждалось, что дискуссия об истинности утверждений Кука закрыта[125]. Общество Фредерика Кука восприняло эту публикацию негативно, как и любые критические высказывания на эту тему. В 1998 и 2000 годах были выпущены два документальных фильма, авторы которых отрицали достижения Кука[124]. В 2002 году был опубликован исторический роман У. Джонсона «Штурман из Нью-Йорка» (англ. The navigator of New York)[126].
В России ещё в 1910 году издательством И. Д. Сытина была выпущена подборка материалов Кука и Пири, озаглавленная «Открытие таинственного полюса». Однако впервые книга Кука «Моё обретение полюса» была опубликована на русском языке в 1987 году с обширным предисловием гляциолога и историка полярных путешествий В. С. Корякина. В 2002 году В. С. Корякин опубликовал биографию Кука, в которой всячески подчёркивает его приоритет в достижении Северного полюса и вершины Мак-Кинли[127].
Позиция У. Герберта
Сэр Уолли Герберт, известный британский полярник, совершил 476-дневный санный переход на собачьих упряжках через всю Арктику, достигнув Северного полюса 6 апреля 1969 года. В рамках подготовки к экспедиции Герберт вместе с Алланом Джиллом и Роджером Тафтом прошёл 1400-мильный начальный отрезок пути Кука из Гренландии на о. Элсмир через остров Аксель-Хейберг. Признавая опыт и авторитет Ф. Кука, Герберт, однако, писал: «Наши догадки относительно того, как далеко ушёл Кук от северной оконечности острова Аксель-Хейберг, не более обоснованы, чем другие»[128]. В то же время Герберт прямо называет Кука человеком, совершившим первое восхождение на Мак-Кинли[129]. В 1989 году У. Герберт написал биографию Пири, в которой доказывал, что тот не дошёл до полюса примерно 50 миль (80 км)[106], однако приоритета Кука Герберт никогда не признавал.
Моделирование восхождения Кука на Мак-Кинли
 В сентябре 2005 года российские альпинисты Олег Банарь и Виктор Афанасьев попытались совершить восхождение на вершину Южного пика Мак-Кинли по предполагаемому маршруту Кука, восстановленному Х. Ваале. Поход начался 1 сентября, его участники возвратились в Москву 10 октября. Восхождение совершить не удалось, поскольку на 28 походных дней было всего 4 дня с благоприятной погодой. Путешественники прошли от верховий ледника Рут до ледника Тралейка в условиях непрерывных снегопадов и циклонов. Дневные температуры колебались от +10 °С до −25 °С[130].
В сентябре 2005 года российские альпинисты Олег Банарь и Виктор Афанасьев попытались совершить восхождение на вершину Южного пика Мак-Кинли по предполагаемому маршруту Кука, восстановленному Х. Ваале. Поход начался 1 сентября, его участники возвратились в Москву 10 октября. Восхождение совершить не удалось, поскольку на 28 походных дней было всего 4 дня с благоприятной погодой. Путешественники прошли от верховий ледника Рут до ледника Тралейка в условиях непрерывных снегопадов и циклонов. Дневные температуры колебались от +10 °С до −25 °С[130].
В 2006 году Олег Банарь (руководитель команды), Виктор Афанасьев и Валерий Багов решили повторить попытку восхождения. Экспедиция проводилась под патронатом Общества Фредерика Кука, целями её были реконструкция его маршрута 1906 года и доказательство приоритета восхождения на величайшую вершину Северной Америки. Ещё при планировании был отвергнут восточный маршрут. Восхождение началось 23 мая 2006 года и было приурочено к столетию возможного достижения Кука. Исследователи опровергли предположения Х. Ваале и Д. Шпаро о трассе Кука, проходящей через хребет Пионер, основываясь на данных собственных наблюдений в поле. Группа О. Банаря достигла вершины Мак-Кинли в 10:00 2 июня 2006 года. Участники восхождения заявили, что версию Х. Ваале следует откорректировать: Кук и Баррил в 1906 году шли по хребту Карстенс, а не через хребет Пионер. Банарь, Афанасьев и Багов проделали вероятный путь Кука в обе стороны и нашли его приемлемым для двойки в связке, имеющей ледорубы и верёвку. Скорость движения Кука и Баррила — им везло с погодой — не вызывает сомнений. Российские альпинисты, не соревнуясь с Куком в скорости, прошли маршрут примерно за то же время, что описано в дневниках Кука, если исключить дни, потраченные на разведку и пережидание непогоды. Участники экспедиции заявляют, что всё увиденное вполне совпадает с описаниями доктора Кука, следовательно, его приоритет в покорении Мак-Кинли может считаться доказанным[131][132].
Напишите отзыв о статье "Кук, Фредерик"
Комментарии
- ↑ По другим сведениям, подобным образом его имя записал полковой писарь, но Теодору Коху идея пришлась по вкусу.
- ↑ По собственным воспоминаниям Кука, слишком молодой врач не пользовался доверием — за полгода практики к нему обратились только 3 человека, и это несмотря на то, что он отпустил бороду для солидности.
- ↑ Мешок Нансена — двух- или трёхместный, в нём люди согревают друг друга, а весит он при этом меньше, чем несколько одноместных мешков. Мешок Аструпа имеет входное отверстие посередине, которое закрывается крючками и пуговицами(Буманн-Ларсен Т. Амундсен. — М.: Молодая гвардия, 2005. — С. 44.). Пири поначалу использовал спальный мешок с рукавами, придуманный им во время охоты на медведей. Однако после 1892 года Пири вовсе отказался от спальных мешков, его люди спали на привалах, не раздеваясь, заворачивались в оленьи шкуры (Пири Р. Северный полюс. — М.: Мысль, 1972. — С. 97, 135.).
- ↑ Франке, прождав Кука до указанного срока, отправился из Анноатока в становище Эта. Пири в конце лета 1908 года отправил его в США: Франке к тому времени страдал цингой (Пири Р. Северный полюс. — М.: Мысль, 1972. — С. 55.). О его дальнейшей судьбе ничего не известно.
- ↑ Сам Пири утверждал, что потратил на покорение полюса 23 года, из которых 18 лет провёл в Арктике.
- ↑ Многие профессиональные полярники, например Уолли Герберт и А. Ф. Трёшников, полагали, что ни Кук, ни Пири не смогли добраться до Северного полюса, хотя и побывали в околополюсном районе.
- ↑ Официальное издание Конгресса США, содержащее стенограммы прений и документы, относящиеся к существу рассматриваемых вопросов; основано в 1873 году. Во время сессий Конгресса выходит ежедневно. Издается Управлением правительственной печати (Government Printing Office).
- ↑ В частности, утверждалось, что эпизод с разрушением иглу был заимствован Куком из книги Пири «Northward Over the „Great Ice“» ([humbug.polarhist.com/glacial.html The Glacial Island]).
- ↑ Томпсон помогал Куку ещё в тюрьме, оформляя документы на помилование. После освобождения Кука Томпсон обязался, по американским законам, в течение пяти лет оповещать начальство Ливенвортской тюрьмы, чем занимается их бывший подопечный и на какие средства существует (Корякин В. С. Фредерик Кук. — М.: Наука, 2002. — С. 208.).
- ↑ В доме Фримэна Кук после освобождения прожил около полутора месяцев (Корякин В. С. Фредерик Кук. — М.: Наука, 2002. — С. 210.).
Примечания
- ↑ 1 2 [www.humbug.polarhist.com/biography.html Biography: Who was Dr. Frederick A. Cook?]
- ↑ Корякин, 2002, с. 12—13.
- ↑ Freeman, 1961, p. 15—16.
- ↑ Freeman, 1961, p. 16—17.
- ↑ 1 2 3 Freeman, 1961, p. 17.
- ↑ 1 2 Freeman, 1961, p. 18.
- ↑ Корякин, 2002, с. 15.
- ↑ Bryce, 1997, p. 23.
- ↑ Райт, 1973, с. 61.
- ↑ Bryce, 1997, p. 28.
- ↑ 1 2 Bryce, 1997, p. 27.
- ↑ 1 2 Bryce, 1997, p. 32—33.
- ↑ Freeman, 1961, p. 21.
- ↑ 1 2 Корякин, 2002, с. 20, 26.
- ↑ Корякин, 2002, с. 29.
- ↑ Корякин, 2002, с. 33.
- ↑ Mills, 2002, p. 153—154.
- ↑ 1 2 Корякин, 2002, с. 37.
- ↑ Mills, 2002, p. 154—155.
- ↑ Mills, 2002, p. 155.
- ↑ Белов, 1969, с. 49.
- ↑ Корякин, 2002, с. 40.
- ↑ Cook, Frederick A. [www.archive.org/details/throughfirstanta00cookrich Through the first Antarctic night, 1898—1899: A narrative of the voyage of the «Belgica» among newly discovered lands and over an unknown sea about the South pole]. — New York: Doubleday, Page & company, 1909. — Р. 4—5.
- ↑ Корякин, 2002, с. 38, 40.
- ↑ Амундсен5, 1937, с. 23—25.
- ↑ Корякин, 2002, с. 48.
- ↑ Амундсен5, 1937, с. 26.
- ↑ Буманн-Ларсен, 2005, с. 44.
- ↑ Корякин, 2002, с. 49—50.
- ↑ 1 2 Корякин, 2002, с. 51.
- ↑ Корякин, 2002, с. 50.
- ↑ Huntford, 1999, p. 87.
- ↑ Корякин, 2002, с. 59.
- ↑ Cook F. Through the First Antarctic Night. — N. Y.: Doubleday & McClure Co. — xxiv, 478 p.
- ↑ Bridges, E. L. (1948) The Uttermost Part of the Earth Republished 2008, Overlook Press ISBN 978-1-58567-956-0, Appendix II
- ↑ 1 2 3 Bryce, Robert M. (1997). Cook & Peary: The Polar Controversy, Resolved. Stackpole Books. ISBN 0-8117-0317-7. OCLC 35280718.
- ↑ 1 2 Корякин, 2002, с. 63.
- ↑ Mills, 2003, p. 512—514.
- ↑ Корякин, 2002, с. 64.
- ↑ Корякин, 2002, с. 65—70.
- ↑ Корякин, 2002, с. 70.
- ↑ Dunn, Robert. [www.archive.org/details/shamelessdiaryof00dunn The Shameless Diary of an Explorer]. — Kessinger Publishing, 1906.
- ↑ [humbug.polarhist.com/1903.html 1903—1906 Mount McKinley]
- ↑ 1 2 Корякин, 2002, с. 71.
- ↑ Корякин, 2002, с. 72.
- ↑ Корякин, 2002, с. 77.
- ↑ [www.dioi.org/vols/w93.pdf DIO], volume 9, number 3, page 129, note 18
- ↑ 1 2 Корякин, 2002, с. 189.
- ↑ [www.dioi.org/vols/w93.pdf Bryce (1999) DIO], volume 9, number 3, p. 116
- ↑ [www.dioi.org/vols/w73.pdf Bryce (1997) DIO], volume 7, number 2, p. 43
- ↑ [www.dioi.org/vols/w73.pdf Bryce (1997) DIO], volume 7, number 2, p. 50
- ↑ [www.dioi.org/vols/w73.pdf Bryce (1997) DIO], volume 7, number 2, p. 73
- ↑ Шпаро Д. [www.vokrugsveta.ru/vs/article/1251/ Белые пятна Мак-Кинли] // «Вокруг света». — 2005. — № 9.
- ↑ Кук, 1987, с. 39.
- ↑ Райт, 1973, с. 110.
- ↑ Корякин, 2002, с. 99—100.
- ↑ 1 2 Кук, 1987, с. 65—66.
- ↑ Корякин, 2002, с. 101.
- ↑ Кук, 1987, с. 110.
- ↑ 1 2 Корякин, 2002, с. 102.
- ↑ Кук, 1987, с. 76, 110.
- ↑ Кук, 1987, с. 76, 84.
- ↑ Кук, 1987, с. 118—119.
- ↑ Кук, 1987, с. 123—124.
- ↑ 1 2 3 Корякин, 2002, с. 108.
- ↑ 1 2 Корякин, 2002, с. 114.
- ↑ Корякин, 2002, с. 119.
- ↑ Кук, 1987, с. 166.
- ↑ Кук, 1987, с. 174—177.
- ↑ Кук, 1987, с. 192—193.
- ↑ Корякин, 2002, с. 126.
- ↑ Кук, 1987, с. 199.
- ↑ Кук, 1987, с. 203.
- ↑ Корякин, 2002, с. 130.
- ↑ Кук, 1987, с. 224.
- ↑ Корякин, 2002, с. 137—138.
- ↑ Корякин, 2002, с. 140—144.
- ↑ Кук, 1987, с. 266—267.
- ↑ Кук, 1987, с. 272—273.
- ↑ Кук, 1987, с. 283.
- ↑ Кук, 1987, с. 287—288.
- ↑ Кук, 1987, с. 294.
- ↑ Кук, 1987, с. 297.
- ↑ Кук, 1987, с. 300.
- ↑ Корякин, 2002, с. 153—154.
- ↑ 1 2 Кук, 1987, с. 310.
- ↑ Корякин, 2002, с. 174—175.
- ↑ Корякин, 2002, с. 175—176.
- ↑ Пири, 1972, с. 223.
- ↑ 1 2 Корякин, 2002, с. 171.
- ↑ 1 2 Райт, 1973, с. 195.
- ↑ Корякин, 2002, с. 170.
- ↑ Корякин, 2002, с. 179, 181.
- ↑ Буманн-Ларсен, 2005, с. 116.
- ↑ Корякин, 2002, с. 181—182.
- ↑ Корякин, 2002, с. 182—183.
- ↑ [humbug.polarhist.com/return.html Cook’s Return to America]
- ↑ Корякин, 2002, с. 185.
- ↑ Корякин, 2002, с. 192—193.
- ↑ Райт, 1973, с. 204—206.
- ↑ 1 2 Корякин, 2002, с. 190.
- ↑ Райт, 1973, с. 218.
- ↑ Корякин, 2002, с. 190—191.
- ↑ [humbug.polarhist.com/copenhagen.html The Copenhagen Decision]
- ↑ [humbug.polarhist.com/confession.html Dr. Cook Confession]
- ↑ 1 2 Mills, 2003, p. 516.
- ↑ [humbug.polarhist.com/comeback.html Comeback]
- ↑ [humbug.polarhist.com/stage.html At the front of the Stage]
- ↑ [humbug.polarhist.com/attacked.html Cook’s Story Attacked]
- ↑ Н. Волков, председатель Полярной комиссии Географического общества СССР, кандидат географических наук. [www.vokrugsveta.ru/vs/article/2428/ Большой приз] // «Вокруг света». — 1982. — № 3.
- ↑ [humbug.polarhist.com/glacial.html The Glacial Island]
- ↑ [www.humbug.polarhist.com/world.html Around the World]
- ↑ [humbug.polarhist.com/film.html Films]
- ↑ Корякин, 2002, с. 198—199.
- ↑ Корякин, 2002, с. 199—200.
- ↑ [www.tshaonline.org/handbook/online/articles/fcoax William R. Hunt. COOK, FREDERICK ALBERT // Handbook of Texas Online ]
- ↑ Корякин, 2002, с. 201.
- ↑ Корякин, 2002, с. 206—207.
- ↑ 1 2 [humbug.polarhist.com/leavenworth.html Cook at Leavenworth]
- ↑ Корякин, 2002, с. 208.
- ↑ [library.osu.edu/finding-aids/fredrick-a-cook/writhvc.htm Writings and Notes in the Helene Cook Vetter Papers]
- ↑ Корякин, 2002, с. 210—212.
- ↑ 1 2 [library.osu.edu/find/collections/byrd-polar-archives/cook/frederick-a-cook-society-information/ Organizational Sketch and History of the Frederick A. Cook Society]
- ↑ 1 2 [humbug.polarhist.com/pm.html Post-Mortem]
- ↑ [cookandpeary.polarhist.com/articles.html Cook and Peary, the Polar Controversy, Resolved]
- ↑ [www.worldcat.org/title/navigator-of-new-york-a-novel/oclc/049820837 The navigator of New York: a novel]
- ↑ [geo.1september.ru/2003/23/29.htm А. Агранат. По страницам полярных драм.]
- ↑ Херберт, 1972, с. 23—24.
- ↑ Херберт, 1972, с. 23.
- ↑ [www.vvv.ru/papers/textview.php3?paper=496 О. Банарь. По следам Кука на Мак-Кинли]
- ↑ Дмитрий Шпаро, Олег Банарь. [www.vokrugsveta.ru/vs/article/2884/ Возвращение на вершину] // «Вокруг света». — 2006. — № 10
- ↑ [www.risk.ru/blog/208768?utm_source=riskru&utm_medium=email&utm_campaign=digest Кесарю кесарево, а Фредерику Куку — славу первовосходителя на Мак-Кинли!]
Литература
- Амундсен Р. Собрание сочинений. — Л.: Изд-во Главсевморпути, 1937. — Т. 5: [lib.ru/ALPINISM/AMUNDSEN/ Моя жизнь].
- Белов М. И. История исследований // Атлас Антарктики. — Л.: Гидрометеоиздат, 1969. — Т. II.
- Корякин В. С. Фредерик Альберт Кук. — М.: Наука, 2002.
- Кук Ф. Моё обретение полюса. — М.: Мысль, 1987.
- Нобиле У. Крылья над полюсом / Пер. А. А. Чернова, Э. А. Черновой. — М.: Мысль, 1984.
- Пири Р. Северный полюс / Пер. В. А. Смирнова. — М.: Мысль, 1972.
- Райт Т. Большой гвоздь / Пер. с англ. А. А. Алимова, А. Я. Миневича, А. А. Стависского. — Л.: Гидрометеоиздат, 1973.
- Самойлович Р. Л. Путь к полюсу. — Л.: Изд-во Всесоюзного Арктического ин-та, 1933.
- Саннес Т. Б. [www.norway-live.ru/library/fram-priklyucheniya-polyarnih-ekspediciy.html «Фрам»: приключения полярных экспедиций]. — Л.: Судостроение, 1991.
- Трешников А. Ф. Роберт Пири и покорение Северного полюса // Пири Р. Северный полюс / Пер. В. А. Смирнова. — М.: Мысль, 1972. — С. 225—242.
- Херберт У. Пешком через Ледовитый океан / Пер. с англ. — М.: Мысль, 1972.
- Anderson H. S. Exploring the Polar Regions, Revised Edition. — N. Y.: Chelsea House An imprint of Infobase Publishing, 2010.
- Bryce Robert M. Cook & Peary: The Polar Controversy, Resolved. — N. Y.: Stackpole Books, 1997.
- Discovery of the Pole: Peary's Own Pictures Records His Greatest Exploit. // Life. — 1951, 14 May. — P. 77—82, 87.
- Freeman, Andrew A. The Case for Doctor Cook. — N. Y.: Coward-McCann, 1961.
- Mills W. J. Exploring polar frontiers: a historical encyclopedia in 2 vols. — Santa Barbara etc.: ABC-CLIO, Inc, 2003.
- Schweikart L. Polar Revisionism and the Peary Claim: The Diary of Robert E. Peary. // The Historian. — 1986. — Т. XLVIII, № 3. — P. 341—358. — ISSN [www.sigla.ru/table.jsp?f=8&t=3&v0=0018-2370&f=1003&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&bf=4&b=&d=0&ys=&ye=&lng=&ft=&mt=&dt=&vol=&pt=&iss=&ps=&pe=&tr=&tro=&cc=UNION&i=1&v=tagged&s=0&ss=0&st=0&i18n=ru&rlf=&psz=20&bs=20&ce=hJfuypee8JzzufeGmImYYIpZKRJeeOeeWGJIZRrRRrdmtdeee88NJJJJpeeefTJ3peKJJ3UWWPtzzzzzzzzzzzzzzzzzbzzvzzpy5zzjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzztzzzzzzzbzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzvzzzzzzyeyTjkDnyHzTuueKZePz9decyzzLzzzL*.c8.NzrGJJvufeeeeeJheeyzjeeeeJh*peeeeKJJJJJJJJJJmjHvOJJJJJJJJJfeeeieeeeSJJJJJSJJJ3TeIJJJJ3..E.UEAcyhxD.eeeeeuzzzLJJJJ5.e8JJJheeeeeeeeeeeeyeeK3JJJJJJJJ*s7defeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeSJJJJJJJJZIJJzzz1..6LJJJJJJtJJZ4....EK*&debug=false 0018-2370].
Дополнительная литература
- Корякин В. С. Был ли Ф. Кук на Северном полюсе? // Природа. — 1975. — № 7. — С. 74—83.
- Кук Ф. А., Пири Р. Э. Открытие таинственного полюса / Сост. В. Розов-Цветков. — М.: Типография И. Д. Сытина, 1910.
- Berton, Pierre. The Arctic Grail. — Anchor Canada, 2001 (originally published 1988). — ISBN 0-385-65845-1. — OCLC 46661513.
- Bryce, Robert M. [www.dioi.org/vols/w73.pdf. The Fake Peak revisited] // DIO. — 1997. — 7 (3). — P. 41—76. — OCLC 18798426. — ISSN 1041-5440.
- Dunn, Robert. [www.archive.org/details/shamelessdiaryof00dunn The Shameless Diary of an Explorer]. — Kessinger Publishing, 1906.
- Henderson, Bruce. True North: Peary, Cook, and the Race to the Pole. — W. W. Norton and Company, 2005. — ISBN 0-393-32738-8. — OCLC 63397177.
- Osczevski, Randall J. Frederick Cook and the Forgotten Pole // Arctic. — 2003. — 56 (2). — P. 207—217. — OCLC 108412472. — ISSN 0004-0843.
- Rawlins, Dennis. Peary at the North Pole, Fact or Fiction? — Luce, 1973. — ISBN 0-88331-042-2.
- Robinson, Michael. The Coldest Crucible: Arctic Exploration and American Culture. — Chicago: University of Chicago Press, 2006. — ISBN 978-0-226-72184-2
Труды Фредерика Кука
- Cook, Frederick A. [www.archive.org/details/totopofcontinent00cook To the top of the continent: Discovery, exploration and adventure in sub-arctic Alaska. The first ascent of Mt. McKinley, 1903—1906]. — New York: Doubleday, Page & company, 1908.
- Cook, Frederick A. [www.archive.org/details/throughfirstanta00cookrich Through the first Antarctic night, 1898—1899: A narrative of the voyage of the «Belgica» among newly discovered lands and over an unknown sea about the South pole]. — New York: Doubleday, Page & company, 1909.
- Cook, Frederick A. [www.archive.org/details/poleattainment00cookrich My attainment of the Pole: Being the record of the expedition that first reached the boreal center, 1907—1909]. — New York: The Polar publishing company, 1911.
Ссылки
- [humbug.polarhist.com Frederick A. Cook: from Hero to Humbug]
- [lcweb2.loc.gov/service/mss/eadxmlmss/eadpdfmss/2001/ms001011.pdf Frederick Albert Cook. A Register of His Papers in the Library of Congress]
- [www.cookpolar.org/ Frederick A. Cook Society]
- Bruce Henderson. [www.smithsonianmag.com/history-archaeology/Cook-vs-Peary.html?c=y&page=1 Who Discovered the North Pole?] // Smithsonian magazine. — April 2009.
- [www.humbug.polarhist.com/sound.html Записи голоса Кука, сделанные в 1909 и 1937 годах]
- [humbug.polarhist.com/film.html Кинохроника прибытия Кука в Копенгаген (1909) и игровой фильм 1911 года «The Truth about the Pole»]
- [www.vvv.ru/papers/textview.php3?paper=496 О. Банарь По следам Кука на Мак-Кинли]
- Шпаро Д. [www.vokrugsveta.ru/vs/article/1251/ Белые пятна Мак-Кинли] // «Вокруг света». — 2005. — № 9.
- Дмитрий Шпаро, Олег Банарь. [www.vokrugsveta.ru/vs/article/2884/ Возвращение на вершину] // «Вокруг света». — 2006. — № 10.
- В. Корякин. [www.nkj.ru/archive/articles/11028/ Достижение Северного Полюса — интригующий детектив XX века] // Наука и жизнь. — 2007. — №7.
| Эта статья входит в число хороших статей русскоязычного раздела Википедии. |
| Статья содержит короткие («гарвардские») ссылки на публикации, не указанные или неправильно описанные в библиографическом разделе. Список неработающих ссылок: Буманн-Ларсен, 2005, Huntford, 1999, Mills, 2002 Пожалуйста, исправьте ссылки согласно инструкции к шаблону {{sfn}} и дополните библиографический раздел корректными описаниями цитируемых публикаций, следуя руководствам ВП:Сноски и ВП:Ссылки на источники.
|
Отрывок, характеризующий Кук, Фредерик
– А! Никита Иваныч, – сказал Николай, учтиво вставая. И, как бы желая, чтобы Никита Иваныч принял участие в его шутках, он начал и ему сообщать свое намерение похитить одну блондинку.Муж улыбался угрюмо, жена весело. Добрая губернаторша с неодобрительным видом подошла к ним.
– Анна Игнатьевна хочет тебя видеть, Nicolas, – сказала она, таким голосом выговаривая слова: Анна Игнатьевна, что Ростову сейчас стало понятно, что Анна Игнатьевна очень важная дама. – Пойдем, Nicolas. Ведь ты позволил мне так называть тебя?
– О да, ma tante. Кто же это?
– Анна Игнатьевна Мальвинцева. Она слышала о тебе от своей племянницы, как ты спас ее… Угадаешь?..
– Мало ли я их там спасал! – сказал Николай.
– Ее племянницу, княжну Болконскую. Она здесь, в Воронеже, с теткой. Ого! как покраснел! Что, или?..
– И не думал, полноте, ma tante.
– Ну хорошо, хорошо. О! какой ты!
Губернаторша подводила его к высокой и очень толстой старухе в голубом токе, только что кончившей свою карточную партию с самыми важными лицами в городе. Это была Мальвинцева, тетка княжны Марьи по матери, богатая бездетная вдова, жившая всегда в Воронеже. Она стояла, рассчитываясь за карты, когда Ростов подошел к ней. Она строго и важно прищурилась, взглянула на него и продолжала бранить генерала, выигравшего у нее.
– Очень рада, мой милый, – сказала она, протянув ему руку. – Милости прошу ко мне.
Поговорив о княжне Марье и покойнике ее отце, которого, видимо, не любила Мальвинцева, и расспросив о том, что Николай знал о князе Андрее, который тоже, видимо, не пользовался ее милостями, важная старуха отпустила его, повторив приглашение быть у нее.
Николай обещал и опять покраснел, когда откланивался Мальвинцевой. При упоминании о княжне Марье Ростов испытывал непонятное для него самого чувство застенчивости, даже страха.
Отходя от Мальвинцевой, Ростов хотел вернуться к танцам, но маленькая губернаторша положила свою пухленькую ручку на рукав Николая и, сказав, что ей нужно поговорить с ним, повела его в диванную, из которой бывшие в ней вышли тотчас же, чтобы не мешать губернаторше.
– Знаешь, mon cher, – сказала губернаторша с серьезным выражением маленького доброго лица, – вот это тебе точно партия; хочешь, я тебя сосватаю?
– Кого, ma tante? – спросил Николай.
– Княжну сосватаю. Катерина Петровна говорит, что Лили, а по моему, нет, – княжна. Хочешь? Я уверена, твоя maman благодарить будет. Право, какая девушка, прелесть! И она совсем не так дурна.
– Совсем нет, – как бы обидевшись, сказал Николай. – Я, ma tante, как следует солдату, никуда не напрашиваюсь и ни от чего не отказываюсь, – сказал Ростов прежде, чем он успел подумать о том, что он говорит.
– Так помни же: это не шутка.
– Какая шутка!
– Да, да, – как бы сама с собою говоря, сказала губернаторша. – А вот что еще, mon cher, entre autres. Vous etes trop assidu aupres de l'autre, la blonde. [мой друг. Ты слишком ухаживаешь за той, за белокурой.] Муж уж жалок, право…
– Ах нет, мы с ним друзья, – в простоте душевной сказал Николай: ему и в голову не приходило, чтобы такое веселое для него препровождение времени могло бы быть для кого нибудь не весело.
«Что я за глупость сказал, однако, губернаторше! – вдруг за ужином вспомнилось Николаю. – Она точно сватать начнет, а Соня?..» И, прощаясь с губернаторшей, когда она, улыбаясь, еще раз сказала ему: «Ну, так помни же», – он отвел ее в сторону:
– Но вот что, по правде вам сказать, ma tante…
– Что, что, мой друг; пойдем вот тут сядем.
Николай вдруг почувствовал желание и необходимость рассказать все свои задушевные мысли (такие, которые и не рассказал бы матери, сестре, другу) этой почти чужой женщине. Николаю потом, когда он вспоминал об этом порыве ничем не вызванной, необъяснимой откровенности, которая имела, однако, для него очень важные последствия, казалось (как это и кажется всегда людям), что так, глупый стих нашел; а между тем этот порыв откровенности, вместе с другими мелкими событиями, имел для него и для всей семьи огромные последствия.
– Вот что, ma tante. Maman меня давно женить хочет на богатой, но мне мысль одна эта противна, жениться из за денег.
– О да, понимаю, – сказала губернаторша.
– Но княжна Болконская, это другое дело; во первых, я вам правду скажу, она мне очень нравится, она по сердцу мне, и потом, после того как я ее встретил в таком положении, так странно, мне часто в голову приходило что это судьба. Особенно подумайте: maman давно об этом думала, но прежде мне ее не случалось встречать, как то все так случалось: не встречались. И во время, когда Наташа была невестой ее брата, ведь тогда мне бы нельзя было думать жениться на ней. Надо же, чтобы я ее встретил именно тогда, когда Наташина свадьба расстроилась, ну и потом всё… Да, вот что. Я никому не говорил этого и не скажу. А вам только.
Губернаторша пожала его благодарно за локоть.
– Вы знаете Софи, кузину? Я люблю ее, я обещал жениться и женюсь на ней… Поэтому вы видите, что про это не может быть и речи, – нескладно и краснея говорил Николай.
– Mon cher, mon cher, как же ты судишь? Да ведь у Софи ничего нет, а ты сам говорил, что дела твоего папа очень плохи. А твоя maman? Это убьет ее, раз. Потом Софи, ежели она девушка с сердцем, какая жизнь для нее будет? Мать в отчаянии, дела расстроены… Нет, mon cher, ты и Софи должны понять это.
Николай молчал. Ему приятно было слышать эти выводы.
– Все таки, ma tante, этого не может быть, – со вздохом сказал он, помолчав немного. – Да пойдет ли еще за меня княжна? и опять, она теперь в трауре. Разве можно об этом думать?
– Да разве ты думаешь, что я тебя сейчас и женю. Il y a maniere et maniere, [На все есть манера.] – сказала губернаторша.
– Какая вы сваха, ma tante… – сказал Nicolas, целуя ее пухлую ручку.
Приехав в Москву после своей встречи с Ростовым, княжна Марья нашла там своего племянника с гувернером и письмо от князя Андрея, который предписывал им их маршрут в Воронеж, к тетушке Мальвинцевой. Заботы о переезде, беспокойство о брате, устройство жизни в новом доме, новые лица, воспитание племянника – все это заглушило в душе княжны Марьи то чувство как будто искушения, которое мучило ее во время болезни и после кончины ее отца и в особенности после встречи с Ростовым. Она была печальна. Впечатление потери отца, соединявшееся в ее душе с погибелью России, теперь, после месяца, прошедшего с тех пор в условиях покойной жизни, все сильнее и сильнее чувствовалось ей. Она была тревожна: мысль об опасностях, которым подвергался ее брат – единственный близкий человек, оставшийся у нее, мучила ее беспрестанно. Она была озабочена воспитанием племянника, для которого она чувствовала себя постоянно неспособной; но в глубине души ее было согласие с самой собою, вытекавшее из сознания того, что она задавила в себе поднявшиеся было, связанные с появлением Ростова, личные мечтания и надежды.
Когда на другой день после своего вечера губернаторша приехала к Мальвинцевой и, переговорив с теткой о своих планах (сделав оговорку о том, что, хотя при теперешних обстоятельствах нельзя и думать о формальном сватовстве, все таки можно свести молодых людей, дать им узнать друг друга), и когда, получив одобрение тетки, губернаторша при княжне Марье заговорила о Ростове, хваля его и рассказывая, как он покраснел при упоминании о княжне, – княжна Марья испытала не радостное, но болезненное чувство: внутреннее согласие ее не существовало более, и опять поднялись желания, сомнения, упреки и надежды.
В те два дня, которые прошли со времени этого известия и до посещения Ростова, княжна Марья не переставая думала о том, как ей должно держать себя в отношении Ростова. То она решала, что она не выйдет в гостиную, когда он приедет к тетке, что ей, в ее глубоком трауре, неприлично принимать гостей; то она думала, что это будет грубо после того, что он сделал для нее; то ей приходило в голову, что ее тетка и губернаторша имеют какие то виды на нее и Ростова (их взгляды и слова иногда, казалось, подтверждали это предположение); то она говорила себе, что только она с своей порочностью могла думать это про них: не могли они не помнить, что в ее положении, когда еще она не сняла плерезы, такое сватовство было бы оскорбительно и ей, и памяти ее отца. Предполагая, что она выйдет к нему, княжна Марья придумывала те слова, которые он скажет ей и которые она скажет ему; и то слова эти казались ей незаслуженно холодными, то имеющими слишком большое значение. Больше же всего она при свидании с ним боялась за смущение, которое, она чувствовала, должно было овладеть ею и выдать ее, как скоро она его увидит.
Но когда, в воскресенье после обедни, лакей доложил в гостиной, что приехал граф Ростов, княжна не выказала смущения; только легкий румянец выступил ей на щеки, и глаза осветились новым, лучистым светом.
– Вы его видели, тетушка? – сказала княжна Марья спокойным голосом, сама не зная, как это она могла быть так наружно спокойна и естественна.
Когда Ростов вошел в комнату, княжна опустила на мгновенье голову, как бы предоставляя время гостю поздороваться с теткой, и потом, в самое то время, как Николай обратился к ней, она подняла голову и блестящими глазами встретила его взгляд. Полным достоинства и грации движением она с радостной улыбкой приподнялась, протянула ему свою тонкую, нежную руку и заговорила голосом, в котором в первый раз звучали новые, женские грудные звуки. M lle Bourienne, бывшая в гостиной, с недоумевающим удивлением смотрела на княжну Марью. Самая искусная кокетка, она сама не могла бы лучше маневрировать при встрече с человеком, которому надо было понравиться.
«Или ей черное так к лицу, или действительно она так похорошела, и я не заметила. И главное – этот такт и грация!» – думала m lle Bourienne.
Ежели бы княжна Марья в состоянии была думать в эту минуту, она еще более, чем m lle Bourienne, удивилась бы перемене, происшедшей в ней. С той минуты как она увидала это милое, любимое лицо, какая то новая сила жизни овладела ею и заставляла ее, помимо ее воли, говорить и действовать. Лицо ее, с того времени как вошел Ростов, вдруг преобразилось. Как вдруг с неожиданной поражающей красотой выступает на стенках расписного и резного фонаря та сложная искусная художественная работа, казавшаяся прежде грубою, темною и бессмысленною, когда зажигается свет внутри: так вдруг преобразилось лицо княжны Марьи. В первый раз вся та чистая духовная внутренняя работа, которою она жила до сих пор, выступила наружу. Вся ее внутренняя, недовольная собой работа, ее страдания, стремление к добру, покорность, любовь, самопожертвование – все это светилось теперь в этих лучистых глазах, в тонкой улыбке, в каждой черте ее нежного лица.
Ростов увидал все это так же ясно, как будто он знал всю ее жизнь. Он чувствовал, что существо, бывшее перед ним, было совсем другое, лучшее, чем все те, которые он встречал до сих пор, и лучшее, главное, чем он сам.
Разговор был самый простой и незначительный. Они говорили о войне, невольно, как и все, преувеличивая свою печаль об этом событии, говорили о последней встрече, причем Николай старался отклонять разговор на другой предмет, говорили о доброй губернаторше, о родных Николая и княжны Марьи.
Княжна Марья не говорила о брате, отвлекая разговор на другой предмет, как только тетка ее заговаривала об Андрее. Видно было, что о несчастиях России она могла говорить притворно, но брат ее был предмет, слишком близкий ее сердцу, и она не хотела и не могла слегка говорить о нем. Николай заметил это, как он вообще с несвойственной ему проницательной наблюдательностью замечал все оттенки характера княжны Марьи, которые все только подтверждали его убеждение, что она была совсем особенное и необыкновенное существо. Николай, точно так же, как и княжна Марья, краснел и смущался, когда ему говорили про княжну и даже когда он думал о ней, но в ее присутствии чувствовал себя совершенно свободным и говорил совсем не то, что он приготавливал, а то, что мгновенно и всегда кстати приходило ему в голову.
Во время короткого визита Николая, как и всегда, где есть дети, в минуту молчания Николай прибег к маленькому сыну князя Андрея, лаская его и спрашивая, хочет ли он быть гусаром? Он взял на руки мальчика, весело стал вертеть его и оглянулся на княжну Марью. Умиленный, счастливый и робкий взгляд следил за любимым ею мальчиком на руках любимого человека. Николай заметил и этот взгляд и, как бы поняв его значение, покраснел от удовольствия и добродушно весело стал целовать мальчика.
Княжна Марья не выезжала по случаю траура, а Николай не считал приличным бывать у них; но губернаторша все таки продолжала свое дело сватовства и, передав Николаю то лестное, что сказала про него княжна Марья, и обратно, настаивала на том, чтобы Ростов объяснился с княжной Марьей. Для этого объяснения она устроила свиданье между молодыми людьми у архиерея перед обедней.
Хотя Ростов и сказал губернаторше, что он не будет иметь никакого объяснения с княжной Марьей, но он обещался приехать.
Как в Тильзите Ростов не позволил себе усомниться в том, хорошо ли то, что признано всеми хорошим, точно так же и теперь, после короткой, но искренней борьбы между попыткой устроить свою жизнь по своему разуму и смиренным подчинением обстоятельствам, он выбрал последнее и предоставил себя той власти, которая его (он чувствовал) непреодолимо влекла куда то. Он знал, что, обещав Соне, высказать свои чувства княжне Марье было бы то, что он называл подлость. И он знал, что подлости никогда не сделает. Но он знал тоже (и не то, что знал, а в глубине души чувствовал), что, отдаваясь теперь во власть обстоятельств и людей, руководивших им, он не только не делает ничего дурного, но делает что то очень, очень важное, такое важное, чего он еще никогда не делал в жизни.
После его свиданья с княжной Марьей, хотя образ жизни его наружно оставался тот же, но все прежние удовольствия потеряли для него свою прелесть, и он часто думал о княжне Марье; но он никогда не думал о ней так, как он без исключения думал о всех барышнях, встречавшихся ему в свете, не так, как он долго и когда то с восторгом думал о Соне. О всех барышнях, как и почти всякий честный молодой человек, он думал как о будущей жене, примеривал в своем воображении к ним все условия супружеской жизни: белый капот, жена за самоваром, женина карета, ребятишки, maman и papa, их отношения с ней и т. д., и т. д., и эти представления будущего доставляли ему удовольствие; но когда он думал о княжне Марье, на которой его сватали, он никогда не мог ничего представить себе из будущей супружеской жизни. Ежели он и пытался, то все выходило нескладно и фальшиво. Ему только становилось жутко.
Страшное известие о Бородинском сражении, о наших потерях убитыми и ранеными, а еще более страшное известие о потере Москвы были получены в Воронеже в половине сентября. Княжна Марья, узнав только из газет о ране брата и не имея о нем никаких определенных сведений, собралась ехать отыскивать князя Андрея, как слышал Николай (сам же он не видал ее).
Получив известие о Бородинском сражении и об оставлении Москвы, Ростов не то чтобы испытывал отчаяние, злобу или месть и тому подобные чувства, но ему вдруг все стало скучно, досадно в Воронеже, все как то совестно и неловко. Ему казались притворными все разговоры, которые он слышал; он не знал, как судить про все это, и чувствовал, что только в полку все ему опять станет ясно. Он торопился окончанием покупки лошадей и часто несправедливо приходил в горячность с своим слугой и вахмистром.
Несколько дней перед отъездом Ростова в соборе было назначено молебствие по случаю победы, одержанной русскими войсками, и Николай поехал к обедне. Он стал несколько позади губернатора и с служебной степенностью, размышляя о самых разнообразных предметах, выстоял службу. Когда молебствие кончилось, губернаторша подозвала его к себе.
– Ты видел княжну? – сказала она, головой указывая на даму в черном, стоявшую за клиросом.
Николай тотчас же узнал княжну Марью не столько по профилю ее, который виднелся из под шляпы, сколько по тому чувству осторожности, страха и жалости, которое тотчас же охватило его. Княжна Марья, очевидно погруженная в свои мысли, делала последние кресты перед выходом из церкви.
Николай с удивлением смотрел на ее лицо. Это было то же лицо, которое он видел прежде, то же было в нем общее выражение тонкой, внутренней, духовной работы; но теперь оно было совершенно иначе освещено. Трогательное выражение печали, мольбы и надежды было на нем. Как и прежде бывало с Николаем в ее присутствии, он, не дожидаясь совета губернаторши подойти к ней, не спрашивая себя, хорошо ли, прилично ли или нет будет его обращение к ней здесь, в церкви, подошел к ней и сказал, что он слышал о ее горе и всей душой соболезнует ему. Едва только она услыхала его голос, как вдруг яркий свет загорелся в ее лице, освещая в одно и то же время и печаль ее, и радость.
– Я одно хотел вам сказать, княжна, – сказал Ростов, – это то, что ежели бы князь Андрей Николаевич не был бы жив, то, как полковой командир, в газетах это сейчас было бы объявлено.
Княжна смотрела на него, не понимая его слов, но радуясь выражению сочувствующего страдания, которое было в его лице.
– И я столько примеров знаю, что рана осколком (в газетах сказано гранатой) бывает или смертельна сейчас же, или, напротив, очень легкая, – говорил Николай. – Надо надеяться на лучшее, и я уверен…
Княжна Марья перебила его.
– О, это было бы так ужа… – начала она и, не договорив от волнения, грациозным движением (как и все, что она делала при нем) наклонив голову и благодарно взглянув на него, пошла за теткой.
Вечером этого дня Николай никуда не поехал в гости и остался дома, с тем чтобы покончить некоторые счеты с продавцами лошадей. Когда он покончил дела, было уже поздно, чтобы ехать куда нибудь, но было еще рано, чтобы ложиться спать, и Николай долго один ходил взад и вперед по комнате, обдумывая свою жизнь, что с ним редко случалось.
Княжна Марья произвела на него приятное впечатление под Смоленском. То, что он встретил ее тогда в таких особенных условиях, и то, что именно на нее одно время его мать указывала ему как на богатую партию, сделали то, что он обратил на нее особенное внимание. В Воронеже, во время его посещения, впечатление это было не только приятное, но сильное. Николай был поражен той особенной, нравственной красотой, которую он в этот раз заметил в ней. Однако он собирался уезжать, и ему в голову не приходило пожалеть о том, что уезжая из Воронежа, он лишается случая видеть княжну. Но нынешняя встреча с княжной Марьей в церкви (Николай чувствовал это) засела ему глубже в сердце, чем он это предвидел, и глубже, чем он желал для своего спокойствия. Это бледное, тонкое, печальное лицо, этот лучистый взгляд, эти тихие, грациозные движения и главное – эта глубокая и нежная печаль, выражавшаяся во всех чертах ее, тревожили его и требовали его участия. В мужчинах Ростов терпеть не мог видеть выражение высшей, духовной жизни (оттого он не любил князя Андрея), он презрительно называл это философией, мечтательностью; но в княжне Марье, именно в этой печали, выказывавшей всю глубину этого чуждого для Николая духовного мира, он чувствовал неотразимую привлекательность.
«Чудная должна быть девушка! Вот именно ангел! – говорил он сам с собою. – Отчего я не свободен, отчего я поторопился с Соней?» И невольно ему представилось сравнение между двумя: бедность в одной и богатство в другой тех духовных даров, которых не имел Николай и которые потому он так высоко ценил. Он попробовал себе представить, что бы было, если б он был свободен. Каким образом он сделал бы ей предложение и она стала бы его женою? Нет, он не мог себе представить этого. Ему делалось жутко, и никакие ясные образы не представлялись ему. С Соней он давно уже составил себе будущую картину, и все это было просто и ясно, именно потому, что все это было выдумано, и он знал все, что было в Соне; но с княжной Марьей нельзя было себе представить будущей жизни, потому что он не понимал ее, а только любил.
Мечтания о Соне имели в себе что то веселое, игрушечное. Но думать о княжне Марье всегда было трудно и немного страшно.
«Как она молилась! – вспомнил он. – Видно было, что вся душа ее была в молитве. Да, это та молитва, которая сдвигает горы, и я уверен, что молитва ее будет исполнена. Отчего я не молюсь о том, что мне нужно? – вспомнил он. – Что мне нужно? Свободы, развязки с Соней. Она правду говорила, – вспомнил он слова губернаторши, – кроме несчастья, ничего не будет из того, что я женюсь на ней. Путаница, горе maman… дела… путаница, страшная путаница! Да я и не люблю ее. Да, не так люблю, как надо. Боже мой! выведи меня из этого ужасного, безвыходного положения! – начал он вдруг молиться. – Да, молитва сдвинет гору, но надо верить и не так молиться, как мы детьми молились с Наташей о том, чтобы снег сделался сахаром, и выбегали на двор пробовать, делается ли из снегу сахар. Нет, но я не о пустяках молюсь теперь», – сказал он, ставя в угол трубку и, сложив руки, становясь перед образом. И, умиленный воспоминанием о княжне Марье, он начал молиться так, как он давно не молился. Слезы у него были на глазах и в горле, когда в дверь вошел Лаврушка с какими то бумагами.
– Дурак! что лезешь, когда тебя не спрашивают! – сказал Николай, быстро переменяя положение.
– От губернатора, – заспанным голосом сказал Лаврушка, – кульер приехал, письмо вам.
– Ну, хорошо, спасибо, ступай!
Николай взял два письма. Одно было от матери, другое от Сони. Он узнал их по почеркам и распечатал первое письмо Сони. Не успел он прочесть нескольких строк, как лицо его побледнело и глаза его испуганно и радостно раскрылись.
– Нет, это не может быть! – проговорил он вслух. Не в силах сидеть на месте, он с письмом в руках, читая его. стал ходить по комнате. Он пробежал письмо, потом прочел его раз, другой, и, подняв плечи и разведя руками, он остановился посреди комнаты с открытым ртом и остановившимися глазами. То, о чем он только что молился, с уверенностью, что бог исполнит его молитву, было исполнено; но Николай был удивлен этим так, как будто это было что то необыкновенное, и как будто он никогда не ожидал этого, и как будто именно то, что это так быстро совершилось, доказывало то, что это происходило не от бога, которого он просил, а от обыкновенной случайности.
Тот, казавшийся неразрешимым, узел, который связывал свободу Ростова, был разрешен этим неожиданным (как казалось Николаю), ничем не вызванным письмом Сони. Она писала, что последние несчастные обстоятельства, потеря почти всего имущества Ростовых в Москве, и не раз высказываемые желания графини о том, чтобы Николай женился на княжне Болконской, и его молчание и холодность за последнее время – все это вместе заставило ее решиться отречься от его обещаний и дать ему полную свободу.
«Мне слишком тяжело было думать, что я могу быть причиной горя или раздора в семействе, которое меня облагодетельствовало, – писала она, – и любовь моя имеет одною целью счастье тех, кого я люблю; и потому я умоляю вас, Nicolas, считать себя свободным и знать, что несмотря ни на что, никто сильнее не может вас любить, как ваша Соня».
Оба письма были из Троицы. Другое письмо было от графини. В письме этом описывались последние дни в Москве, выезд, пожар и погибель всего состояния. В письме этом, между прочим, графиня писала о том, что князь Андрей в числе раненых ехал вместе с ними. Положение его было очень опасно, но теперь доктор говорит, что есть больше надежды. Соня и Наташа, как сиделки, ухаживают за ним.
С этим письмом на другой день Николай поехал к княжне Марье. Ни Николай, ни княжна Марья ни слова не сказали о том, что могли означать слова: «Наташа ухаживает за ним»; но благодаря этому письму Николай вдруг сблизился с княжной в почти родственные отношения.
На другой день Ростов проводил княжну Марью в Ярославль и через несколько дней сам уехал в полк.
Письмо Сони к Николаю, бывшее осуществлением его молитвы, было написано из Троицы. Вот чем оно было вызвано. Мысль о женитьбе Николая на богатой невесте все больше и больше занимала старую графиню. Она знала, что Соня была главным препятствием для этого. И жизнь Сони последнее время, в особенности после письма Николая, описывавшего свою встречу в Богучарове с княжной Марьей, становилась тяжелее и тяжелее в доме графини. Графиня не пропускала ни одного случая для оскорбительного или жестокого намека Соне.
Но несколько дней перед выездом из Москвы, растроганная и взволнованная всем тем, что происходило, графиня, призвав к себе Соню, вместо упреков и требований, со слезами обратилась к ней с мольбой о том, чтобы она, пожертвовав собою, отплатила бы за все, что было для нее сделано, тем, чтобы разорвала свои связи с Николаем.
– Я не буду покойна до тех пор, пока ты мне не дашь этого обещания.
Соня разрыдалась истерически, отвечала сквозь рыдания, что она сделает все, что она на все готова, но не дала прямого обещания и в душе своей не могла решиться на то, чего от нее требовали. Надо было жертвовать собой для счастья семьи, которая вскормила и воспитала ее. Жертвовать собой для счастья других было привычкой Сони. Ее положение в доме было таково, что только на пути жертвованья она могла выказывать свои достоинства, и она привыкла и любила жертвовать собой. Но прежде во всех действиях самопожертвованья она с радостью сознавала, что она, жертвуя собой, этим самым возвышает себе цену в глазах себя и других и становится более достойною Nicolas, которого она любила больше всего в жизни; но теперь жертва ее должна была состоять в том, чтобы отказаться от того, что для нее составляло всю награду жертвы, весь смысл жизни. И в первый раз в жизни она почувствовала горечь к тем людям, которые облагодетельствовали ее для того, чтобы больнее замучить; почувствовала зависть к Наташе, никогда не испытывавшей ничего подобного, никогда не нуждавшейся в жертвах и заставлявшей других жертвовать себе и все таки всеми любимой. И в первый раз Соня почувствовала, как из ее тихой, чистой любви к Nicolas вдруг начинало вырастать страстное чувство, которое стояло выше и правил, и добродетели, и религии; и под влиянием этого чувства Соня невольно, выученная своею зависимою жизнью скрытности, в общих неопределенных словах ответив графине, избегала с ней разговоров и решилась ждать свидания с Николаем с тем, чтобы в этом свидании не освободить, но, напротив, навсегда связать себя с ним.
Хлопоты и ужас последних дней пребывания Ростовых в Москве заглушили в Соне тяготившие ее мрачные мысли. Она рада была находить спасение от них в практической деятельности. Но когда она узнала о присутствии в их доме князя Андрея, несмотря на всю искреннюю жалость, которую она испытала к нему и к Наташе, радостное и суеверное чувство того, что бог не хочет того, чтобы она была разлучена с Nicolas, охватило ее. Она знала, что Наташа любила одного князя Андрея и не переставала любить его. Она знала, что теперь, сведенные вместе в таких страшных условиях, они снова полюбят друг друга и что тогда Николаю вследствие родства, которое будет между ними, нельзя будет жениться на княжне Марье. Несмотря на весь ужас всего происходившего в последние дни и во время первых дней путешествия, это чувство, это сознание вмешательства провидения в ее личные дела радовало Соню.
В Троицкой лавре Ростовы сделали первую дневку в своем путешествии.
В гостинице лавры Ростовым были отведены три большие комнаты, из которых одну занимал князь Андрей. Раненому было в этот день гораздо лучше. Наташа сидела с ним. В соседней комнате сидели граф и графиня, почтительно беседуя с настоятелем, посетившим своих давнишних знакомых и вкладчиков. Соня сидела тут же, и ее мучило любопытство о том, о чем говорили князь Андрей с Наташей. Она из за двери слушала звуки их голосов. Дверь комнаты князя Андрея отворилась. Наташа с взволнованным лицом вышла оттуда и, не замечая приподнявшегося ей навстречу и взявшегося за широкий рукав правой руки монаха, подошла к Соне и взяла ее за руку.
– Наташа, что ты? Поди сюда, – сказала графиня.
Наташа подошла под благословенье, и настоятель посоветовал обратиться за помощью к богу и его угоднику.
Тотчас после ухода настоятеля Нашата взяла за руку свою подругу и пошла с ней в пустую комнату.
– Соня, да? он будет жив? – сказала она. – Соня, как я счастлива и как я несчастна! Соня, голубчик, – все по старому. Только бы он был жив. Он не может… потому что, потому… что… – И Наташа расплакалась.
– Так! Я знала это! Слава богу, – проговорила Соня. – Он будет жив!
Соня была взволнована не меньше своей подруги – и ее страхом и горем, и своими личными, никому не высказанными мыслями. Она, рыдая, целовала, утешала Наташу. «Только бы он был жив!» – думала она. Поплакав, поговорив и отерев слезы, обе подруги подошли к двери князя Андрея. Наташа, осторожно отворив двери, заглянула в комнату. Соня рядом с ней стояла у полуотворенной двери.
Князь Андрей лежал высоко на трех подушках. Бледное лицо его было покойно, глаза закрыты, и видно было, как он ровно дышал.
– Ах, Наташа! – вдруг почти вскрикнула Соня, хватаясь за руку своей кузины и отступая от двери.
– Что? что? – спросила Наташа.
– Это то, то, вот… – сказала Соня с бледным лицом и дрожащими губами.
Наташа тихо затворила дверь и отошла с Соней к окну, не понимая еще того, что ей говорили.
– Помнишь ты, – с испуганным и торжественным лицом говорила Соня, – помнишь, когда я за тебя в зеркало смотрела… В Отрадном, на святках… Помнишь, что я видела?..
– Да, да! – широко раскрывая глаза, сказала Наташа, смутно вспоминая, что тогда Соня сказала что то о князе Андрее, которого она видела лежащим.
– Помнишь? – продолжала Соня. – Я видела тогда и сказала всем, и тебе, и Дуняше. Я видела, что он лежит на постели, – говорила она, при каждой подробности делая жест рукою с поднятым пальцем, – и что он закрыл глаза, и что он покрыт именно розовым одеялом, и что он сложил руки, – говорила Соня, убеждаясь, по мере того как она описывала виденные ею сейчас подробности, что эти самые подробности она видела тогда. Тогда она ничего не видела, но рассказала, что видела то, что ей пришло в голову; но то, что она придумала тогда, представлялось ей столь же действительным, как и всякое другое воспоминание. То, что она тогда сказала, что он оглянулся на нее и улыбнулся и был покрыт чем то красным, она не только помнила, но твердо была убеждена, что еще тогда она сказала и видела, что он был покрыт розовым, именно розовым одеялом, и что глаза его были закрыты.
– Да, да, именно розовым, – сказала Наташа, которая тоже теперь, казалось, помнила, что было сказано розовым, и в этом самом видела главную необычайность и таинственность предсказания.
– Но что же это значит? – задумчиво сказала Наташа.
– Ах, я не знаю, как все это необычайно! – сказала Соня, хватаясь за голову.
Через несколько минут князь Андрей позвонил, и Наташа вошла к нему; а Соня, испытывая редко испытанное ею волнение и умиление, осталась у окна, обдумывая всю необычайность случившегося.
В этот день был случай отправить письма в армию, и графиня писала письмо сыну.
– Соня, – сказала графиня, поднимая голову от письма, когда племянница проходила мимо нее. – Соня, ты не напишешь Николеньке? – сказала графиня тихим, дрогнувшим голосом, и во взгляде ее усталых, смотревших через очки глаз Соня прочла все, что разумела графиня этими словами. В этом взгляде выражались и мольба, и страх отказа, и стыд за то, что надо было просить, и готовность на непримиримую ненависть в случае отказа.
Соня подошла к графине и, став на колени, поцеловала ее руку.
– Я напишу, maman, – сказала она.
Соня была размягчена, взволнована и умилена всем тем, что происходило в этот день, в особенности тем таинственным совершением гаданья, которое она сейчас видела. Теперь, когда она знала, что по случаю возобновления отношений Наташи с князем Андреем Николай не мог жениться на княжне Марье, она с радостью почувствовала возвращение того настроения самопожертвования, в котором она любила и привыкла жить. И со слезами на глазах и с радостью сознания совершения великодушного поступка она, несколько раз прерываясь от слез, которые отуманивали ее бархатные черные глаза, написала то трогательное письмо, получение которого так поразило Николая.
На гауптвахте, куда был отведен Пьер, офицер и солдаты, взявшие его, обращались с ним враждебно, но вместе с тем и уважительно. Еще чувствовалось в их отношении к нему и сомнение о том, кто он такой (не очень ли важный человек), и враждебность вследствие еще свежей их личной борьбы с ним.
Но когда, в утро другого дня, пришла смена, то Пьер почувствовал, что для нового караула – для офицеров и солдат – он уже не имел того смысла, который имел для тех, которые его взяли. И действительно, в этом большом, толстом человеке в мужицком кафтане караульные другого дня уже не видели того живого человека, который так отчаянно дрался с мародером и с конвойными солдатами и сказал торжественную фразу о спасении ребенка, а видели только семнадцатого из содержащихся зачем то, по приказанию высшего начальства, взятых русских. Ежели и было что нибудь особенное в Пьере, то только его неробкий, сосредоточенно задумчивый вид и французский язык, на котором он, удивительно для французов, хорошо изъяснялся. Несмотря на то, в тот же день Пьера соединили с другими взятыми подозрительными, так как отдельная комната, которую он занимал, понадобилась офицеру.
Все русские, содержавшиеся с Пьером, были люди самого низкого звания. И все они, узнав в Пьере барина, чуждались его, тем более что он говорил по французски. Пьер с грустью слышал над собою насмешки.
На другой день вечером Пьер узнал, что все эти содержащиеся (и, вероятно, он в том же числе) должны были быть судимы за поджигательство. На третий день Пьера водили с другими в какой то дом, где сидели французский генерал с белыми усами, два полковника и другие французы с шарфами на руках. Пьеру, наравне с другими, делали с той, мнимо превышающею человеческие слабости, точностью и определительностью, с которой обыкновенно обращаются с подсудимыми, вопросы о том, кто он? где он был? с какою целью? и т. п.
Вопросы эти, оставляя в стороне сущность жизненного дела и исключая возможность раскрытия этой сущности, как и все вопросы, делаемые на судах, имели целью только подставление того желобка, по которому судящие желали, чтобы потекли ответы подсудимого и привели его к желаемой цели, то есть к обвинению. Как только он начинал говорить что нибудь такое, что не удовлетворяло цели обвинения, так принимали желобок, и вода могла течь куда ей угодно. Кроме того, Пьер испытал то же, что во всех судах испытывает подсудимый: недоумение, для чего делали ему все эти вопросы. Ему чувствовалось, что только из снисходительности или как бы из учтивости употреблялась эта уловка подставляемого желобка. Он знал, что находился во власти этих людей, что только власть привела его сюда, что только власть давала им право требовать ответы на вопросы, что единственная цель этого собрания состояла в том, чтоб обвинить его. И поэтому, так как была власть и было желание обвинить, то не нужно было и уловки вопросов и суда. Очевидно было, что все ответы должны были привести к виновности. На вопрос, что он делал, когда его взяли, Пьер отвечал с некоторою трагичностью, что он нес к родителям ребенка, qu'il avait sauve des flammes [которого он спас из пламени]. – Для чего он дрался с мародером? Пьер отвечал, что он защищал женщину, что защита оскорбляемой женщины есть обязанность каждого человека, что… Его остановили: это не шло к делу. Для чего он был на дворе загоревшегося дома, на котором его видели свидетели? Он отвечал, что шел посмотреть, что делалось в Москве. Его опять остановили: у него не спрашивали, куда он шел, а для чего он находился подле пожара? Кто он? повторили ему первый вопрос, на который он сказал, что не хочет отвечать. Опять он отвечал, что не может сказать этого.
– Запишите, это нехорошо. Очень нехорошо, – строго сказал ему генерал с белыми усами и красным, румяным лицом.
На четвертый день пожары начались на Зубовском валу.
Пьера с тринадцатью другими отвели на Крымский Брод, в каретный сарай купеческого дома. Проходя по улицам, Пьер задыхался от дыма, который, казалось, стоял над всем городом. С разных сторон виднелись пожары. Пьер тогда еще не понимал значения сожженной Москвы и с ужасом смотрел на эти пожары.
В каретном сарае одного дома у Крымского Брода Пьер пробыл еще четыре дня и во время этих дней из разговора французских солдат узнал, что все содержащиеся здесь ожидали с каждым днем решения маршала. Какого маршала, Пьер не мог узнать от солдат. Для солдата, очевидно, маршал представлялся высшим и несколько таинственным звеном власти.
Эти первые дни, до 8 го сентября, – дня, в который пленных повели на вторичный допрос, были самые тяжелые для Пьера.
Х
8 го сентября в сарай к пленным вошел очень важный офицер, судя по почтительности, с которой с ним обращались караульные. Офицер этот, вероятно, штабный, с списком в руках, сделал перекличку всем русским, назвав Пьера: celui qui n'avoue pas son nom [тот, который не говорит своего имени]. И, равнодушно и лениво оглядев всех пленных, он приказал караульному офицеру прилично одеть и прибрать их, прежде чем вести к маршалу. Через час прибыла рота солдат, и Пьера с другими тринадцатью повели на Девичье поле. День был ясный, солнечный после дождя, и воздух был необыкновенно чист. Дым не стлался низом, как в тот день, когда Пьера вывели из гауптвахты Зубовского вала; дым поднимался столбами в чистом воздухе. Огня пожаров нигде не было видно, но со всех сторон поднимались столбы дыма, и вся Москва, все, что только мог видеть Пьер, было одно пожарище. Со всех сторон виднелись пустыри с печами и трубами и изредка обгорелые стены каменных домов. Пьер приглядывался к пожарищам и не узнавал знакомых кварталов города. Кое где виднелись уцелевшие церкви. Кремль, неразрушенный, белел издалека с своими башнями и Иваном Великим. Вблизи весело блестел купол Ново Девичьего монастыря, и особенно звонко слышался оттуда благовест. Благовест этот напомнил Пьеру, что было воскресенье и праздник рождества богородицы. Но казалось, некому было праздновать этот праздник: везде было разоренье пожарища, и из русского народа встречались только изредка оборванные, испуганные люди, которые прятались при виде французов.
Очевидно, русское гнездо было разорено и уничтожено; но за уничтожением этого русского порядка жизни Пьер бессознательно чувствовал, что над этим разоренным гнездом установился свой, совсем другой, но твердый французский порядок. Он чувствовал это по виду тех, бодро и весело, правильными рядами шедших солдат, которые конвоировали его с другими преступниками; он чувствовал это по виду какого то важного французского чиновника в парной коляске, управляемой солдатом, проехавшего ему навстречу. Он это чувствовал по веселым звукам полковой музыки, доносившимся с левой стороны поля, и в особенности он чувствовал и понимал это по тому списку, который, перекликая пленных, прочел нынче утром приезжавший французский офицер. Пьер был взят одними солдатами, отведен в одно, в другое место с десятками других людей; казалось, они могли бы забыть про него, смешать его с другими. Но нет: ответы его, данные на допросе, вернулись к нему в форме наименования его: celui qui n'avoue pas son nom. И под этим названием, которое страшно было Пьеру, его теперь вели куда то, с несомненной уверенностью, написанною на их лицах, что все остальные пленные и он были те самые, которых нужно, и что их ведут туда, куда нужно. Пьер чувствовал себя ничтожной щепкой, попавшей в колеса неизвестной ему, но правильно действующей машины.
Пьера с другими преступниками привели на правую сторону Девичьего поля, недалеко от монастыря, к большому белому дому с огромным садом. Это был дом князя Щербатова, в котором Пьер часто прежде бывал у хозяина и в котором теперь, как он узнал из разговора солдат, стоял маршал, герцог Экмюльский.
Их подвели к крыльцу и по одному стали вводить в дом. Пьера ввели шестым. Через стеклянную галерею, сени, переднюю, знакомые Пьеру, его ввели в длинный низкий кабинет, у дверей которого стоял адъютант.
Даву сидел на конце комнаты над столом, с очками на носу. Пьер близко подошел к нему. Даву, не поднимая глаз, видимо справлялся с какой то бумагой, лежавшей перед ним. Не поднимая же глаз, он тихо спросил:
– Qui etes vous? [Кто вы такой?]
Пьер молчал оттого, что не в силах был выговорить слова. Даву для Пьера не был просто французский генерал; для Пьера Даву был известный своей жестокостью человек. Глядя на холодное лицо Даву, который, как строгий учитель, соглашался до времени иметь терпение и ждать ответа, Пьер чувствовал, что всякая секунда промедления могла стоить ему жизни; но он не знал, что сказать. Сказать то же, что он говорил на первом допросе, он не решался; открыть свое звание и положение было и опасно и стыдно. Пьер молчал. Но прежде чем Пьер успел на что нибудь решиться, Даву приподнял голову, приподнял очки на лоб, прищурил глаза и пристально посмотрел на Пьера.
– Я знаю этого человека, – мерным, холодным голосом, очевидно рассчитанным для того, чтобы испугать Пьера, сказал он. Холод, пробежавший прежде по спине Пьера, охватил его голову, как тисками.
– Mon general, vous ne pouvez pas me connaitre, je ne vous ai jamais vu… [Вы не могли меня знать, генерал, я никогда не видал вас.]
– C'est un espion russe, [Это русский шпион,] – перебил его Даву, обращаясь к другому генералу, бывшему в комнате и которого не заметил Пьер. И Даву отвернулся. С неожиданным раскатом в голосе Пьер вдруг быстро заговорил.
– Non, Monseigneur, – сказал он, неожиданно вспомнив, что Даву был герцог. – Non, Monseigneur, vous n'avez pas pu me connaitre. Je suis un officier militionnaire et je n'ai pas quitte Moscou. [Нет, ваше высочество… Нет, ваше высочество, вы не могли меня знать. Я офицер милиции, и я не выезжал из Москвы.]
– Votre nom? [Ваше имя?] – повторил Даву.
– Besouhof. [Безухов.]
– Qu'est ce qui me prouvera que vous ne mentez pas? [Кто мне докажет, что вы не лжете?]
– Monseigneur! [Ваше высочество!] – вскрикнул Пьер не обиженным, но умоляющим голосом.
Даву поднял глаза и пристально посмотрел на Пьера. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и этот взгляд спас Пьера. В этом взгляде, помимо всех условий войны и суда, между этими двумя людьми установились человеческие отношения. Оба они в эту одну минуту смутно перечувствовали бесчисленное количество вещей и поняли, что они оба дети человечества, что они братья.
В первом взгляде для Даву, приподнявшего только голову от своего списка, где людские дела и жизнь назывались нумерами, Пьер был только обстоятельство; и, не взяв на совесть дурного поступка, Даву застрелил бы его; но теперь уже он видел в нем человека. Он задумался на мгновение.
– Comment me prouverez vous la verite de ce que vous me dites? [Чем вы докажете мне справедливость ваших слов?] – сказал Даву холодно.
Пьер вспомнил Рамбаля и назвал его полк, и фамилию, и улицу, на которой был дом.
– Vous n'etes pas ce que vous dites, [Вы не то, что вы говорите.] – опять сказал Даву.
Пьер дрожащим, прерывающимся голосом стал приводить доказательства справедливости своего показания.
Но в это время вошел адъютант и что то доложил Даву.
Даву вдруг просиял при известии, сообщенном адъютантом, и стал застегиваться. Он, видимо, совсем забыл о Пьере.
Когда адъютант напомнил ему о пленном, он, нахмурившись, кивнул в сторону Пьера и сказал, чтобы его вели. Но куда должны были его вести – Пьер не знал: назад в балаган или на приготовленное место казни, которое, проходя по Девичьему полю, ему показывали товарищи.
Он обернул голову и видел, что адъютант переспрашивал что то.
– Oui, sans doute! [Да, разумеется!] – сказал Даву, но что «да», Пьер не знал.
Пьер не помнил, как, долго ли он шел и куда. Он, в состоянии совершенного бессмыслия и отупления, ничего не видя вокруг себя, передвигал ногами вместе с другими до тех пор, пока все остановились, и он остановился. Одна мысль за все это время была в голове Пьера. Это была мысль о том: кто, кто же, наконец, приговорил его к казни. Это были не те люди, которые допрашивали его в комиссии: из них ни один не хотел и, очевидно, не мог этого сделать. Это был не Даву, который так человечески посмотрел на него. Еще бы одна минута, и Даву понял бы, что они делают дурно, но этой минуте помешал адъютант, который вошел. И адъютант этот, очевидно, не хотел ничего худого, но он мог бы не войти. Кто же это, наконец, казнил, убивал, лишал жизни его – Пьера со всеми его воспоминаниями, стремлениями, надеждами, мыслями? Кто делал это? И Пьер чувствовал, что это был никто.
Это был порядок, склад обстоятельств.
Порядок какой то убивал его – Пьера, лишал его жизни, всего, уничтожал его.
От дома князя Щербатова пленных повели прямо вниз по Девичьему полю, левее Девичьего монастыря и подвели к огороду, на котором стоял столб. За столбом была вырыта большая яма с свежевыкопанной землей, и около ямы и столба полукругом стояла большая толпа народа. Толпа состояла из малого числа русских и большого числа наполеоновских войск вне строя: немцев, итальянцев и французов в разнородных мундирах. Справа и слева столба стояли фронты французских войск в синих мундирах с красными эполетами, в штиблетах и киверах.
Преступников расставили по известному порядку, который был в списке (Пьер стоял шестым), и подвели к столбу. Несколько барабанов вдруг ударили с двух сторон, и Пьер почувствовал, что с этим звуком как будто оторвалась часть его души. Он потерял способность думать и соображать. Он только мог видеть и слышать. И только одно желание было у него – желание, чтобы поскорее сделалось что то страшное, что должно было быть сделано. Пьер оглядывался на своих товарищей и рассматривал их.
Два человека с края были бритые острожные. Один высокий, худой; другой черный, мохнатый, мускулистый, с приплюснутым носом. Третий был дворовый, лет сорока пяти, с седеющими волосами и полным, хорошо откормленным телом. Четвертый был мужик, очень красивый, с окладистой русой бородой и черными глазами. Пятый был фабричный, желтый, худой малый, лет восемнадцати, в халате.
Пьер слышал, что французы совещались, как стрелять – по одному или по два? «По два», – холодно спокойно отвечал старший офицер. Сделалось передвижение в рядах солдат, и заметно было, что все торопились, – и торопились не так, как торопятся, чтобы сделать понятное для всех дело, но так, как торопятся, чтобы окончить необходимое, но неприятное и непостижимое дело.
Чиновник француз в шарфе подошел к правой стороне шеренги преступников в прочел по русски и по французски приговор.
Потом две пары французов подошли к преступникам и взяли, по указанию офицера, двух острожных, стоявших с края. Острожные, подойдя к столбу, остановились и, пока принесли мешки, молча смотрели вокруг себя, как смотрит подбитый зверь на подходящего охотника. Один все крестился, другой чесал спину и делал губами движение, подобное улыбке. Солдаты, торопясь руками, стали завязывать им глаза, надевать мешки и привязывать к столбу.
Двенадцать человек стрелков с ружьями мерным, твердым шагом вышли из за рядов и остановились в восьми шагах от столба. Пьер отвернулся, чтобы не видать того, что будет. Вдруг послышался треск и грохот, показавшиеся Пьеру громче самых страшных ударов грома, и он оглянулся. Был дым, и французы с бледными лицами и дрожащими руками что то делали у ямы. Повели других двух. Так же, такими же глазами и эти двое смотрели на всех, тщетно, одними глазами, молча, прося защиты и, видимо, не понимая и не веря тому, что будет. Они не могли верить, потому что они одни знали, что такое была для них их жизнь, и потому не понимали и не верили, чтобы можно было отнять ее.
Пьер хотел не смотреть и опять отвернулся; но опять как будто ужасный взрыв поразил его слух, и вместе с этими звуками он увидал дым, чью то кровь и бледные испуганные лица французов, опять что то делавших у столба, дрожащими руками толкая друг друга. Пьер, тяжело дыша, оглядывался вокруг себя, как будто спрашивая: что это такое? Тот же вопрос был и во всех взглядах, которые встречались со взглядом Пьера.
На всех лицах русских, на лицах французских солдат, офицеров, всех без исключения, он читал такой же испуг, ужас и борьбу, какие были в его сердце. «Да кто жо это делает наконец? Они все страдают так же, как и я. Кто же? Кто же?» – на секунду блеснуло в душе Пьера.
– Tirailleurs du 86 me, en avant! [Стрелки 86 го, вперед!] – прокричал кто то. Повели пятого, стоявшего рядом с Пьером, – одного. Пьер не понял того, что он спасен, что он и все остальные были приведены сюда только для присутствия при казни. Он со все возраставшим ужасом, не ощущая ни радости, ни успокоения, смотрел на то, что делалось. Пятый был фабричный в халате. Только что до него дотронулись, как он в ужасе отпрыгнул и схватился за Пьера (Пьер вздрогнул и оторвался от него). Фабричный не мог идти. Его тащили под мышки, и он что то кричал. Когда его подвели к столбу, он вдруг замолк. Он как будто вдруг что то понял. То ли он понял, что напрасно кричать, или то, что невозможно, чтобы его убили люди, но он стал у столба, ожидая повязки вместе с другими и, как подстреленный зверь, оглядываясь вокруг себя блестящими глазами.
Пьер уже не мог взять на себя отвернуться и закрыть глаза. Любопытство и волнение его и всей толпы при этом пятом убийстве дошло до высшей степени. Так же как и другие, этот пятый казался спокоен: он запахивал халат и почесывал одной босой ногой о другую.
Когда ему стали завязывать глаза, он поправил сам узел на затылке, который резал ему; потом, когда прислонили его к окровавленному столбу, он завалился назад, и, так как ему в этом положении было неловко, он поправился и, ровно поставив ноги, покойно прислонился. Пьер не сводил с него глаз, не упуская ни малейшего движения.
Должно быть, послышалась команда, должно быть, после команды раздались выстрелы восьми ружей. Но Пьер, сколько он ни старался вспомнить потом, не слыхал ни малейшего звука от выстрелов. Он видел только, как почему то вдруг опустился на веревках фабричный, как показалась кровь в двух местах и как самые веревки, от тяжести повисшего тела, распустились и фабричный, неестественно опустив голову и подвернув ногу, сел. Пьер подбежал к столбу. Никто не удерживал его. Вокруг фабричного что то делали испуганные, бледные люди. У одного старого усатого француза тряслась нижняя челюсть, когда он отвязывал веревки. Тело спустилось. Солдаты неловко и торопливо потащили его за столб и стали сталкивать в яму.
Все, очевидно, несомненно знали, что они были преступники, которым надо было скорее скрыть следы своего преступления.
Пьер заглянул в яму и увидел, что фабричный лежал там коленами кверху, близко к голове, одно плечо выше другого. И это плечо судорожно, равномерно опускалось и поднималось. Но уже лопатины земли сыпались на все тело. Один из солдат сердито, злобно и болезненно крикнул на Пьера, чтобы он вернулся. Но Пьер не понял его и стоял у столба, и никто не отгонял его.
Когда уже яма была вся засыпана, послышалась команда. Пьера отвели на его место, и французские войска, стоявшие фронтами по обеим сторонам столба, сделали полуоборот и стали проходить мерным шагом мимо столба. Двадцать четыре человека стрелков с разряженными ружьями, стоявшие в середине круга, примыкали бегом к своим местам, в то время как роты проходили мимо них.
Пьер смотрел теперь бессмысленными глазами на этих стрелков, которые попарно выбегали из круга. Все, кроме одного, присоединились к ротам. Молодой солдат с мертво бледным лицом, в кивере, свалившемся назад, спустив ружье, все еще стоял против ямы на том месте, с которого он стрелял. Он, как пьяный, шатался, делая то вперед, то назад несколько шагов, чтобы поддержать свое падающее тело. Старый солдат, унтер офицер, выбежал из рядов и, схватив за плечо молодого солдата, втащил его в роту. Толпа русских и французов стала расходиться. Все шли молча, с опущенными головами.
– Ca leur apprendra a incendier, [Это их научит поджигать.] – сказал кто то из французов. Пьер оглянулся на говорившего и увидал, что это был солдат, который хотел утешиться чем нибудь в том, что было сделано, но не мог. Не договорив начатого, он махнул рукою и пошел прочь.
После казни Пьера отделили от других подсудимых и оставили одного в небольшой, разоренной и загаженной церкви.
Перед вечером караульный унтер офицер с двумя солдатами вошел в церковь и объявил Пьеру, что он прощен и поступает теперь в бараки военнопленных. Не понимая того, что ему говорили, Пьер встал и пошел с солдатами. Его привели к построенным вверху поля из обгорелых досок, бревен и тесу балаганам и ввели в один из них. В темноте человек двадцать различных людей окружили Пьера. Пьер смотрел на них, не понимая, кто такие эти люди, зачем они и чего хотят от него. Он слышал слова, которые ему говорили, но не делал из них никакого вывода и приложения: не понимал их значения. Он сам отвечал на то, что у него спрашивали, но не соображал того, кто слушает его и как поймут его ответы. Он смотрел на лица и фигуры, и все они казались ему одинаково бессмысленны.
С той минуты, как Пьер увидал это страшное убийство, совершенное людьми, не хотевшими этого делать, в душе его как будто вдруг выдернута была та пружина, на которой все держалось и представлялось живым, и все завалилось в кучу бессмысленного сора. В нем, хотя он и не отдавал себе отчета, уничтожилась вера и в благоустройство мира, и в человеческую, и в свою душу, и в бога. Это состояние было испытываемо Пьером прежде, но никогда с такою силой, как теперь. Прежде, когда на Пьера находили такого рода сомнения, – сомнения эти имели источником собственную вину. И в самой глубине души Пьер тогда чувствовал, что от того отчаяния и тех сомнений было спасение в самом себе. Но теперь он чувствовал, что не его вина была причиной того, что мир завалился в его глазах и остались одни бессмысленные развалины. Он чувствовал, что возвратиться к вере в жизнь – не в его власти.
Вокруг него в темноте стояли люди: верно, что то их очень занимало в нем. Ему рассказывали что то, расспрашивали о чем то, потом повели куда то, и он, наконец, очутился в углу балагана рядом с какими то людьми, переговаривавшимися с разных сторон, смеявшимися.
– И вот, братцы мои… тот самый принц, который (с особенным ударением на слове который)… – говорил чей то голос в противуположном углу балагана.
Молча и неподвижно сидя у стены на соломе, Пьер то открывал, то закрывал глаза. Но только что он закрывал глаза, он видел пред собой то же страшное, в особенности страшное своей простотой, лицо фабричного и еще более страшные своим беспокойством лица невольных убийц. И он опять открывал глаза и бессмысленно смотрел в темноте вокруг себя.
Рядом с ним сидел, согнувшись, какой то маленький человек, присутствие которого Пьер заметил сначала по крепкому запаху пота, который отделялся от него при всяком его движении. Человек этот что то делал в темноте с своими ногами, и, несмотря на то, что Пьер не видал его лица, он чувствовал, что человек этот беспрестанно взглядывал на него. Присмотревшись в темноте, Пьер понял, что человек этот разувался. И то, каким образом он это делал, заинтересовало Пьера.
Размотав бечевки, которыми была завязана одна нога, он аккуратно свернул бечевки и тотчас принялся за другую ногу, взглядывая на Пьера. Пока одна рука вешала бечевку, другая уже принималась разматывать другую ногу. Таким образом аккуратно, круглыми, спорыми, без замедления следовавшими одно за другим движеньями, разувшись, человек развесил свою обувь на колышки, вбитые у него над головами, достал ножик, обрезал что то, сложил ножик, положил под изголовье и, получше усевшись, обнял свои поднятые колени обеими руками и прямо уставился на Пьера. Пьеру чувствовалось что то приятное, успокоительное и круглое в этих спорых движениях, в этом благоустроенном в углу его хозяйстве, в запахе даже этого человека, и он, не спуская глаз, смотрел на него.
– А много вы нужды увидали, барин? А? – сказал вдруг маленький человек. И такое выражение ласки и простоты было в певучем голосе человека, что Пьер хотел отвечать, но у него задрожала челюсть, и он почувствовал слезы. Маленький человек в ту же секунду, не давая Пьеру времени выказать свое смущение, заговорил тем же приятным голосом.
– Э, соколик, не тужи, – сказал он с той нежно певучей лаской, с которой говорят старые русские бабы. – Не тужи, дружок: час терпеть, а век жить! Вот так то, милый мой. А живем тут, слава богу, обиды нет. Тоже люди и худые и добрые есть, – сказал он и, еще говоря, гибким движением перегнулся на колени, встал и, прокашливаясь, пошел куда то.
– Ишь, шельма, пришла! – услыхал Пьер в конце балагана тот же ласковый голос. – Пришла шельма, помнит! Ну, ну, буде. – И солдат, отталкивая от себя собачонку, прыгавшую к нему, вернулся к своему месту и сел. В руках у него было что то завернуто в тряпке.
– Вот, покушайте, барин, – сказал он, опять возвращаясь к прежнему почтительному тону и развертывая и подавая Пьеру несколько печеных картошек. – В обеде похлебка была. А картошки важнеющие!
Пьер не ел целый день, и запах картофеля показался ему необыкновенно приятным. Он поблагодарил солдата и стал есть.
– Что ж, так то? – улыбаясь, сказал солдат и взял одну из картошек. – А ты вот как. – Он достал опять складной ножик, разрезал на своей ладони картошку на равные две половины, посыпал соли из тряпки и поднес Пьеру.
– Картошки важнеющие, – повторил он. – Ты покушай вот так то.
Пьеру казалось, что он никогда не ел кушанья вкуснее этого.
– Нет, мне все ничего, – сказал Пьер, – но за что они расстреляли этих несчастных!.. Последний лет двадцати.
– Тц, тц… – сказал маленький человек. – Греха то, греха то… – быстро прибавил он, и, как будто слова его всегда были готовы во рту его и нечаянно вылетали из него, он продолжал: – Что ж это, барин, вы так в Москве то остались?
– Я не думал, что они так скоро придут. Я нечаянно остался, – сказал Пьер.
– Да как же они взяли тебя, соколик, из дома твоего?
– Нет, я пошел на пожар, и тут они схватили меня, судили за поджигателя.
– Где суд, там и неправда, – вставил маленький человек.
– А ты давно здесь? – спросил Пьер, дожевывая последнюю картошку.
– Я то? В то воскресенье меня взяли из гошпиталя в Москве.
– Ты кто же, солдат?
– Солдаты Апшеронского полка. От лихорадки умирал. Нам и не сказали ничего. Наших человек двадцать лежало. И не думали, не гадали.
– Что ж, тебе скучно здесь? – спросил Пьер.
– Как не скучно, соколик. Меня Платоном звать; Каратаевы прозвище, – прибавил он, видимо, с тем, чтобы облегчить Пьеру обращение к нему. – Соколиком на службе прозвали. Как не скучать, соколик! Москва, она городам мать. Как не скучать на это смотреть. Да червь капусту гложе, а сам прежде того пропадае: так то старички говаривали, – прибавил он быстро.
– Как, как это ты сказал? – спросил Пьер.
– Я то? – спросил Каратаев. – Я говорю: не нашим умом, а божьим судом, – сказал он, думая, что повторяет сказанное. И тотчас же продолжал: – Как же у вас, барин, и вотчины есть? И дом есть? Стало быть, полная чаша! И хозяйка есть? А старики родители живы? – спрашивал он, и хотя Пьер не видел в темноте, но чувствовал, что у солдата морщились губы сдержанною улыбкой ласки в то время, как он спрашивал это. Он, видимо, был огорчен тем, что у Пьера не было родителей, в особенности матери.
– Жена для совета, теща для привета, а нет милей родной матушки! – сказал он. – Ну, а детки есть? – продолжал он спрашивать. Отрицательный ответ Пьера опять, видимо, огорчил его, и он поспешил прибавить: – Что ж, люди молодые, еще даст бог, будут. Только бы в совете жить…
– Да теперь все равно, – невольно сказал Пьер.
– Эх, милый человек ты, – возразил Платон. – От сумы да от тюрьмы никогда не отказывайся. – Он уселся получше, прокашлялся, видимо приготовляясь к длинному рассказу. – Так то, друг мой любезный, жил я еще дома, – начал он. – Вотчина у нас богатая, земли много, хорошо живут мужики, и наш дом, слава тебе богу. Сам сем батюшка косить выходил. Жили хорошо. Христьяне настоящие были. Случилось… – И Платон Каратаев рассказал длинную историю о том, как он поехал в чужую рощу за лесом и попался сторожу, как его секли, судили и отдали ь солдаты. – Что ж соколик, – говорил он изменяющимся от улыбки голосом, – думали горе, ан радость! Брату бы идти, кабы не мой грех. А у брата меньшого сам пят ребят, – а у меня, гляди, одна солдатка осталась. Была девочка, да еще до солдатства бог прибрал. Пришел я на побывку, скажу я тебе. Гляжу – лучше прежнего живут. Животов полон двор, бабы дома, два брата на заработках. Один Михайло, меньшой, дома. Батюшка и говорит: «Мне, говорит, все детки равны: какой палец ни укуси, все больно. А кабы не Платона тогда забрили, Михайле бы идти». Позвал нас всех – веришь – поставил перед образа. Михайло, говорит, поди сюда, кланяйся ему в ноги, и ты, баба, кланяйся, и внучата кланяйтесь. Поняли? говорит. Так то, друг мой любезный. Рок головы ищет. А мы всё судим: то не хорошо, то не ладно. Наше счастье, дружок, как вода в бредне: тянешь – надулось, а вытащишь – ничего нету. Так то. – И Платон пересел на своей соломе.
Помолчав несколько времени, Платон встал.
– Что ж, я чай, спать хочешь? – сказал он и быстро начал креститься, приговаривая:
– Господи, Иисус Христос, Никола угодник, Фрола и Лавра, господи Иисус Христос, Никола угодник! Фрола и Лавра, господи Иисус Христос – помилуй и спаси нас! – заключил он, поклонился в землю, встал и, вздохнув, сел на свою солому. – Вот так то. Положи, боже, камушком, подними калачиком, – проговорил он и лег, натягивая на себя шинель.
– Какую это ты молитву читал? – спросил Пьер.
– Ась? – проговорил Платон (он уже было заснул). – Читал что? Богу молился. А ты рази не молишься?
– Нет, и я молюсь, – сказал Пьер. – Но что ты говорил: Фрола и Лавра?
– А как же, – быстро отвечал Платон, – лошадиный праздник. И скота жалеть надо, – сказал Каратаев. – Вишь, шельма, свернулась. Угрелась, сукина дочь, – сказал он, ощупав собаку у своих ног, и, повернувшись опять, тотчас же заснул.
Наружи слышались где то вдалеке плач и крики, и сквозь щели балагана виднелся огонь; но в балагане было тихо и темно. Пьер долго не спал и с открытыми глазами лежал в темноте на своем месте, прислушиваясь к мерному храпенью Платона, лежавшего подле него, и чувствовал, что прежде разрушенный мир теперь с новой красотой, на каких то новых и незыблемых основах, воздвигался в его душе.
В балагане, в который поступил Пьер и в котором он пробыл четыре недели, было двадцать три человека пленных солдат, три офицера и два чиновника.
Все они потом как в тумане представлялись Пьеру, но Платон Каратаев остался навсегда в душе Пьера самым сильным и дорогим воспоминанием и олицетворением всего русского, доброго и круглого. Когда на другой день, на рассвете, Пьер увидал своего соседа, первое впечатление чего то круглого подтвердилось вполне: вся фигура Платона в его подпоясанной веревкою французской шинели, в фуражке и лаптях, была круглая, голова была совершенно круглая, спина, грудь, плечи, даже руки, которые он носил, как бы всегда собираясь обнять что то, были круглые; приятная улыбка и большие карие нежные глаза были круглые.
Платону Каратаеву должно было быть за пятьдесят лет, судя по его рассказам о походах, в которых он участвовал давнишним солдатом. Он сам не знал и никак не мог определить, сколько ему было лет; но зубы его, ярко белые и крепкие, которые все выкатывались своими двумя полукругами, когда он смеялся (что он часто делал), были все хороши и целы; ни одного седого волоса не было в его бороде и волосах, и все тело его имело вид гибкости и в особенности твердости и сносливости.
Лицо его, несмотря на мелкие круглые морщинки, имело выражение невинности и юности; голос у него был приятный и певучий. Но главная особенность его речи состояла в непосредственности и спорости. Он, видимо, никогда не думал о том, что он сказал и что он скажет; и от этого в быстроте и верности его интонаций была особенная неотразимая убедительность.
Физические силы его и поворотливость были таковы первое время плена, что, казалось, он не понимал, что такое усталость и болезнь. Каждый день утром а вечером он, ложась, говорил: «Положи, господи, камушком, подними калачиком»; поутру, вставая, всегда одинаково пожимая плечами, говорил: «Лег – свернулся, встал – встряхнулся». И действительно, стоило ему лечь, чтобы тотчас же заснуть камнем, и стоило встряхнуться, чтобы тотчас же, без секунды промедления, взяться за какое нибудь дело, как дети, вставши, берутся за игрушки. Он все умел делать, не очень хорошо, но и не дурно. Он пек, парил, шил, строгал, тачал сапоги. Он всегда был занят и только по ночам позволял себе разговоры, которые он любил, и песни. Он пел песни, не так, как поют песенники, знающие, что их слушают, но пел, как поют птицы, очевидно, потому, что звуки эти ему было так же необходимо издавать, как необходимо бывает потянуться или расходиться; и звуки эти всегда бывали тонкие, нежные, почти женские, заунывные, и лицо его при этом бывало очень серьезно.
Попав в плен и обросши бородою, он, видимо, отбросил от себя все напущенное на него, чуждое, солдатское и невольно возвратился к прежнему, крестьянскому, народному складу.
– Солдат в отпуску – рубаха из порток, – говаривал он. Он неохотно говорил про свое солдатское время, хотя не жаловался, и часто повторял, что он всю службу ни разу бит не был. Когда он рассказывал, то преимущественно рассказывал из своих старых и, видимо, дорогих ему воспоминаний «христианского», как он выговаривал, крестьянского быта. Поговорки, которые наполняли его речь, не были те, большей частью неприличные и бойкие поговорки, которые говорят солдаты, но это были те народные изречения, которые кажутся столь незначительными, взятые отдельно, и которые получают вдруг значение глубокой мудрости, когда они сказаны кстати.
Часто он говорил совершенно противоположное тому, что он говорил прежде, но и то и другое было справедливо. Он любил говорить и говорил хорошо, украшая свою речь ласкательными и пословицами, которые, Пьеру казалось, он сам выдумывал; но главная прелесть его рассказов состояла в том, что в его речи события самые простые, иногда те самые, которые, не замечая их, видел Пьер, получали характер торжественного благообразия. Он любил слушать сказки, которые рассказывал по вечерам (всё одни и те же) один солдат, но больше всего он любил слушать рассказы о настоящей жизни. Он радостно улыбался, слушая такие рассказы, вставляя слова и делая вопросы, клонившиеся к тому, чтобы уяснить себе благообразие того, что ему рассказывали. Привязанностей, дружбы, любви, как понимал их Пьер, Каратаев не имел никаких; но он любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь, и в особенности с человеком – не с известным каким нибудь человеком, а с теми людьми, которые были перед его глазами. Он любил свою шавку, любил товарищей, французов, любил Пьера, который был его соседом; но Пьер чувствовал, что Каратаев, несмотря на всю свою ласковую нежность к нему (которою он невольно отдавал должное духовной жизни Пьера), ни на минуту не огорчился бы разлукой с ним. И Пьер то же чувство начинал испытывать к Каратаеву.
Платон Каратаев был для всех остальных пленных самым обыкновенным солдатом; его звали соколик или Платоша, добродушно трунили над ним, посылали его за посылками. Но для Пьера, каким он представился в первую ночь, непостижимым, круглым и вечным олицетворением духа простоты и правды, таким он и остался навсегда.
Платон Каратаев ничего не знал наизусть, кроме своей молитвы. Когда он говорил свои речи, он, начиная их, казалось, не знал, чем он их кончит.
Когда Пьер, иногда пораженный смыслом его речи, просил повторить сказанное, Платон не мог вспомнить того, что он сказал минуту тому назад, – так же, как он никак не мог словами сказать Пьеру свою любимую песню. Там было: «родимая, березанька и тошненько мне», но на словах не выходило никакого смысла. Он не понимал и не мог понять значения слов, отдельно взятых из речи. Каждое слово его и каждое действие было проявлением неизвестной ему деятельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал. Его слова и действия выливались из него так же равномерно, необходимо и непосредственно, как запах отделяется от цветка. Он не мог понять ни цены, ни значения отдельно взятого действия или слова.
Получив от Николая известие о том, что брат ее находится с Ростовыми, в Ярославле, княжна Марья, несмотря на отговариванья тетки, тотчас же собралась ехать, и не только одна, но с племянником. Трудно ли, нетрудно, возможно или невозможно это было, она не спрашивала и не хотела знать: ее обязанность была не только самой быть подле, может быть, умирающего брата, но и сделать все возможное для того, чтобы привезти ему сына, и она поднялась ехать. Если князь Андрей сам не уведомлял ее, то княжна Марья объясняла ото или тем, что он был слишком слаб, чтобы писать, или тем, что он считал для нее и для своего сына этот длинный переезд слишком трудным и опасным.
В несколько дней княжна Марья собралась в дорогу. Экипажи ее состояли из огромной княжеской кареты, в которой она приехала в Воронеж, брички и повозки. С ней ехали m lle Bourienne, Николушка с гувернером, старая няня, три девушки, Тихон, молодой лакей и гайдук, которого тетка отпустила с нею.
Ехать обыкновенным путем на Москву нельзя было и думать, и потому окольный путь, который должна была сделать княжна Марья: на Липецк, Рязань, Владимир, Шую, был очень длинен, по неимению везде почтовых лошадей, очень труден и около Рязани, где, как говорили, показывались французы, даже опасен.
Во время этого трудного путешествия m lle Bourienne, Десаль и прислуга княжны Марьи были удивлены ее твердостью духа и деятельностью. Она позже всех ложилась, раньше всех вставала, и никакие затруднения не могли остановить ее. Благодаря ее деятельности и энергии, возбуждавшим ее спутников, к концу второй недели они подъезжали к Ярославлю.




