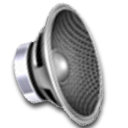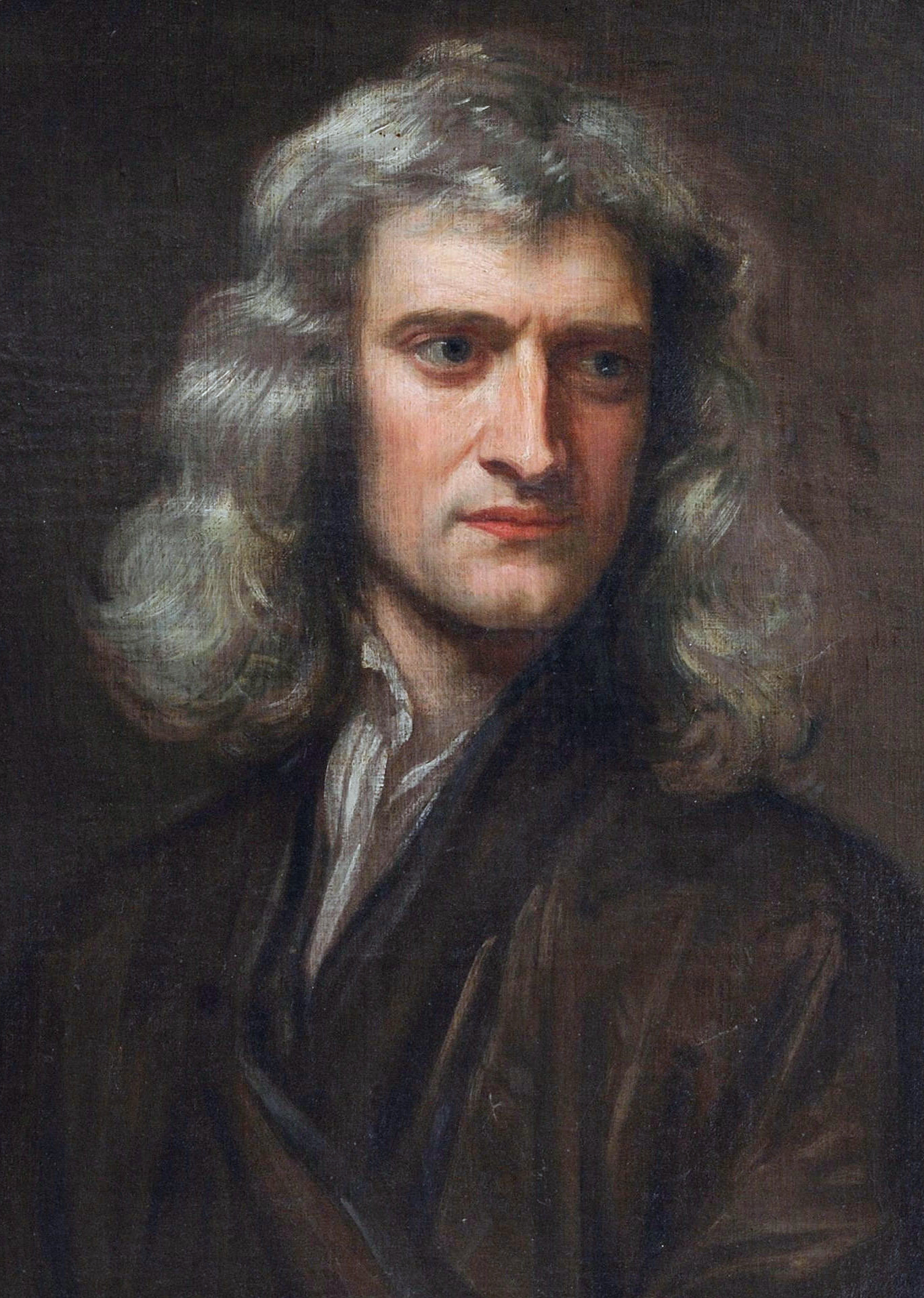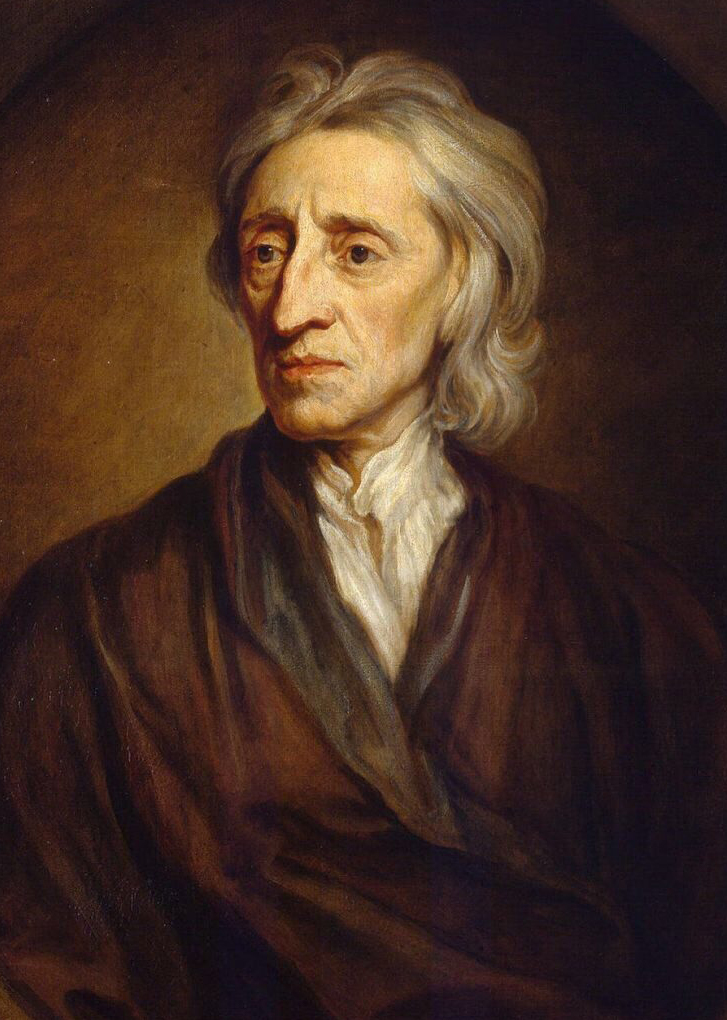Лейбниц, Готфрид Вильгельм
| Готфрид Вильгельм Лейбниц | |
| Gottfried Wilhelm Leibniz | |
 | |
| Научная сфера: |
философия, логика, математика, механика, физика, история, лингвистика |
|---|---|
| Альма-матер: |
Лейпцигский университет, |
| Известные ученики: | |
| Подпись: | |
Го́тфрид Ви́льгельм Ле́йбниц[1][2][3][4] (Gottfried Wilhelm Leibniz или нем. Gottfried Wilhelm von Leibniz, МФА: [ˈɡɔtfʁiːt ˈvɪlhɛlm fɔn ˈlaɪbnɪts][5] или [ˈlaɪpnɪts][6]; 21 июня (1 июля) 1646 — 14 ноября 1716) — саксонский философ, логик, математик, механик, физик, юрист, историк, дипломат, изобретатель и языковед[1][2][4]. Основатель и первый президент Берлинской Академии наук[2][7][8], иностранный член Французской Академии наук[9].
Важнейшие научные достижения:
- Лейбниц, независимо от Ньютона, создал математический анализ — дифференциальное и интегральное исчисления (см. исторический очерк), основанные на бесконечно малых[9].
- Лейбниц создал комбинаторику как науку[10].
- Он заложил основы математической логики[1][4].
- Описал двоичную систему счисления с цифрами 0 и 1[11].
- В механике ввёл понятие «живой силы» (прообраз современного понятия кинетической энергии) и сформулировал закон сохранения энергии[1].
- В психологии выдвинул понятие бессознательно «малых перцепций» и развил учение о бессознательной психической жизни[1].
Лейбниц также является завершителем философии XVII века и предшественником немецкой классической философии, создателем философской системы, получившей название монадология[12]. Он развил учение об анализе и синтезе[1][13], впервые сформулировал закон достаточного основания (которому, однако, придавал не только логический (относящийся к мышлению), но и онтологический (относящийся к бытию) смысл: «… ни одно явление не может оказаться истинным или действительным, ни одно утверждение справедливым, — без достаточного основания, почему именно дело обстоит так, а не иначе…»)[12][14]; Лейбниц является также автором современной формулировки закона тождества[1][4][13]; он ввёл термин «модель»[1], писал о возможности машинного моделирования функций человеческого мозга[15]. Лейбниц высказал идею о превращении одних видов энергии в другие[1], сформулировал один из важнейших вариационных принципов физики — «принцип наименьшего действия» — и сделал ряд открытий в специальных разделах физики[1][4].
Он первым обратился к вопросу о возникновении российской правящей династии[16], первым в немецкой историографии обратил внимание на взаимосвязь лингвистических проблем с генеалогией[16], создал теорию исторического происхождения языков и дал их генеалогическую классификацию, явился одним из создателей немецкого философского и научного лексикона[1][4].
Лейбниц также ввёл идею целостности органических систем, принцип несводимости органического к механическому и высказал мысль об эволюции Земли[1].
Содержание
Биография
Ранние годы
Готфрид Вильгельм родился 1 июля 1646 года[3][17] в семье профессора философии морали (этики) Лейпцигского университета Фридриха Лейбнюца (нем. Friedrich Leibnütz или нем. Friedrich Leibniz) (1597—1652) и Катерины Шмукк (нем. Catherina Schmuck), которая была дочерью выдающегося профессора юриспруденции[18][19][20][21][22][23][24]. Отец Лейбница был сербо-лужицкого происхождения[25][26]. По материнской линии Готфрид Вильгельм Лейбниц, по-видимому, имел чисто немецких предков[22].
Отец Лейбница очень рано заметил гениальность своего сына и старался развить в нём любознательность, часто рассказывая ему маленькие эпизоды из священной и светской истории; по словам самого Лейбница, эти рассказы глубоко запали ему в душу и были самыми сильными впечатлениями его раннего детства[22]. Лейбницу не было и семи лет, когда он потерял отца[К 1]; его отец умер, оставив после себя большую личную библиотеку. Лейбниц рассказывал[22]:
Когда я подрос, мне начало доставлять чрезвычайное наслаждение чтение всякого рода исторических рассказов. Немецкие книги, которые мне попадались под руку, я не выпускал из рук, пока не прочитывал их до конца. Латинским языком я занимался сначала только в школе и, без сомнения, я подвигался бы с обычной медленностью, если бы не случай, указавший мне совершенно своеобразный путь. В доме, где я жил, я наткнулся на две книги, оставленные одним студентом. Одна из них была сочинения Ливия, другая — хронологическая сокровищница Кальвизия. Как только эти книги попали мне в руки, я проглотил их.
Кальвизия Лейбниц понял без труда, потому что у него была немецкая книга по всеобщей истории, где говорилось приблизительно то же самое, но при чтении Ливия он постоянно попадал в тупик[22]. Лейбниц не имел понятия ни о жизни древних, ни об их манере писания; не привыкнув также к возвышенной риторике историографов, стоящей выше обыденного понимания, Лейбниц не понимал ни одной строки, но это издание было старинное, с гравюрами, поэтому он внимательно рассматривал гравюры, читал подписи и, мало заботясь о тёмных для него местах, попросту пропускал всё то, чего не мог понять[22]. Он повторял это несколько раз и перелистывал всю книгу; забегая, таким образом, вперёд, Лейбниц стал немного лучше понимать прежнее; в восторге от своего успеха подобным образом он продвигался дальше, без словаря, пока ему, наконец, не стала вполне ясной большая часть прочитанного[22].
Учитель Лейбница вскоре заметил, чем занимается его ученик, и, не долго думая, он отправился к лицам, которым мальчик был отдан на воспитание, требуя, чтобы они обратили внимание на «неуместные и преждевременные» занятия Лейбница; по его словам, эти занятия были только помехой учению Готфрида[22]. По его мнению, Ливий годился для Лейбница, как котурн для пигмея; он считал, что книги, годные для старшего возраста, надо отобрать у мальчика и дать ему «Orbis pictus» Коменского и «Краткий катехизис» Лютера[22][27]. Он убедил бы в этом воспитателей Лейбница, если бы случайным образом свидетелем этого разговора не оказался один живший по соседству учёный и много путешествовавший дворянин, друг хозяев дома; поражённый недоброжелательством и глупостью учителя, который мерил всех одной мерой, он стал, напротив, доказывать, как было бы нелепо и неуместно, если бы первые проблески развивающегося гения были подавлены суровостью и грубостью учителя[22]. Наоборот, он считал, что надо всеми средствами благоприятствовать этому мальчику, обещающему нечто необыкновенное; немедленно попросил он послать за Лейбницем, и когда, в ответ на его вопросы, Готфрид ответил толково, он до тех пор не отстал от родственников Лейбница, пока не заставил их дать обещание, что Готфрида допустят в библиотеку его отца, давно находившуюся под замком[22]. Лейбниц писал[22]:
Я торжествовал, как если бы нашёл клад, потому что сгорал от нетерпения увидеть древних, которых знал только по имени, — Цицерона и Квинтилиана, Сенеку и Плиния, Геродота, Ксенофонта и Платона, писателей Августова века и многих латинских и греческих отцов церкви. Всё это я стал читать, смотря по влечению, и наслаждался необычайным разнообразием предметов. Таким образом, не имея ещё двенадцати лет, я свободно понимал латынь и начал понимать по-гречески.
Этот рассказ Лейбница подтверждается и сторонними свидетельствами, доказывающими, что его выдающиеся способности были замечены и товарищами, и лучшими из преподавателей; Лейбниц особенно дружил в школе с двумя братьями Иттигами, которые были значительно старше его и считались в числе лучших учеников, а их отец был учителем физики, и Лейбниц любил его больше других учителей[22]. Лейбниц учился в знаменитой Лейпцигской школе Святого Фомы[28].
Библиотека отца позволила Лейбницу изучить широкий спектр передовых философских и теологических работ, к которым он мог бы иметь доступ только в студенческие годы[29]. К десяти годам Лейбниц изучил книги Цицерона, Плиния, Геродота, Ксенофана и Платона[30]. В возрасте 12 лет Лейбниц был уже знатоком латыни; в возрасте 13 лет у него проявился поэтический талант, которого в нём никто не подозревал[22]. В День Святой Троицы один ученик должен был прочесть праздничную речь по латыни, но он заболел, и никто из учеников не вызвался его заменить; друзья Лейбница знали, что он мастер писать стихи, и обратились к нему[22]. Лейбниц взялся за дело и за один день сочинил триста гекзаметров латинского стиха для этого мероприятия[22][31], причём на всякий случай специально постарался избежать хотя бы единого стечения гласных; его стихотворение вызвало одобрения учителей, которые признали Лейбница выдающимся поэтическим талантом[22].
Лейбниц также увлекался Вергилием; до глубокой старости он помнил наизусть чуть ли не всю «Энеиду»; в старших классах его особенно отличал Якоб Томазий, однажды сказавший мальчику, что рано или поздно он приобретёт славное имя в научном мире[22]. В четырнадцатилетнем возрасте Лейбниц также стал вдумываться в истинную задачу логики как классификации элементов человеческого мышления; он рассказывал об этом следующее[22]:
Я не только умел с необычайною лёгкостью применять правила к примерам, чем чрезвычайно изумлял учителей, так как никто из моих сверстников не мог сделать того же; но я уже тогда во многом усомнился и носился с новыми мыслями, которые записывал, чтобы не забыть. То, что я записал ещё в четырнадцатилетнем возрасте, я перечитывал значительно позднее, и это чтение всегда доставляло мне живейшее чувство удовольствия.
Лейбниц видел, что логика подразделяет простые понятия на известные разряды, так называемые предикаменты (на языке схоластики предикамент означал то же самое, что и категория), и его удивляло, почему таким же образом не подразделяют сложные понятия или даже суждения так, чтобы один член вытекал или выводился из другого[22]. Готфрид придумал собственные разряды, которые он тоже называл предикаментами суждений, образующими содержание или материал умозаключений, подобно тому, как обыкновенные предикаменты образуют материал суждений; когда он высказал эту мысль своим учителям, они не ответили ему ничего положительного, а лишь сказали, что «мальчику не годится вводить новшества в предметы, которыми он ещё недостаточно занимался»[22].
В школьные годы Лейбниц успел прочесть всё более или менее выдающееся, что было в то время в области схоластической логики; интересуясь богословскими трактатами, он прочёл сочинение Лютера, посвящённое критике свободы воли, а также многие полемические трактаты лютеран, реформатов, иезуитов, арминиан, томистов и янсенистов[22]. Эти новые занятия Готфрида встревожили его воспитателей, которые боялись, что он станет «хитроумным схоластиком»[22]. «Они не знали, — писал Лейбниц в своей автобиографии, — что мой дух не мог быть наполнен односторонним содержанием»[22].
Учёба в университетах
 В 1661 году, в возрасте четырнадцати лет[32] (по другим данным — в возрасте 15 лет)[33][34], Готфрид сам поступил в тот же Лейпцигский университет, где когда-то работал его отец[3]. По уровню подготовки Лейбниц значительно превосходил многих студентов старшего возраста[34]. В свою бытность студентом Готфрид Вильгельм познакомился с работами Кеплера, Галилея и других учёных[34]. Среди профессоров философии в Лейпциге был и Якоб Томазий, считавшийся человеком начитанным и имеющим выдающийся преподавательский талант[34]. Сам Лейбниц признавал, что Томазий в существенной мере способствовал систематизации его разнородных, но разрозненных знаний; Томазий читал лекции по истории философии в то время, как другие читали только лекции по истории философов, и в лекциях Томазия Лейбниц обнаружил не только новые сведения, но и новые обобщения и новые мысли; эти лекции в значительной степени содействовали быстрому ознакомлению Готфрида с великими идеями конца XVI и начала XVII веков[34].
В 1661 году, в возрасте четырнадцати лет[32] (по другим данным — в возрасте 15 лет)[33][34], Готфрид сам поступил в тот же Лейпцигский университет, где когда-то работал его отец[3]. По уровню подготовки Лейбниц значительно превосходил многих студентов старшего возраста[34]. В свою бытность студентом Готфрид Вильгельм познакомился с работами Кеплера, Галилея и других учёных[34]. Среди профессоров философии в Лейпциге был и Якоб Томазий, считавшийся человеком начитанным и имеющим выдающийся преподавательский талант[34]. Сам Лейбниц признавал, что Томазий в существенной мере способствовал систематизации его разнородных, но разрозненных знаний; Томазий читал лекции по истории философии в то время, как другие читали только лекции по истории философов, и в лекциях Томазия Лейбниц обнаружил не только новые сведения, но и новые обобщения и новые мысли; эти лекции в значительной степени содействовали быстрому ознакомлению Готфрида с великими идеями конца XVI и начала XVII веков[34].
Спустя 2 года Лейбниц перешёл в Йенский университет, где изучал математику. Лейбниц слушал в Йене лекции математика Вейгеля, а также лекции некоторых юристов и историка Бозиуса, который пригласил его на собрания учебного общества, состоявшего из профессоров и студентов и называвшегося «коллегия пытливых»[34]. Среди тетрадей Лейбница была одна переплетённая в четверть листа с надписью золотыми буквами: «Отчёты о занятиях коллегии», однако в эту тетрадь им было внесено немногое; главной целью Готфрида в тот период были занятия юриспруденцией[34]. О своих дальнейших занятиях Лейбниц рассказывал следующее[34]:
Я бросил всё остальное и занялся тем, от чего ожидал наиболее плодов (то есть юриспруденцией). Я замечал, однако, что мои прежние занятия историей и философией значительно облегчили мне понимание юридической науки. Я был в состоянии без труда понимать все законы, и поэтому не ограничился теорией, но посмотрел на неё сверху вниз, как на лёгкую работу, и жадно ухватился за юридическую практику. У меня был приятель в числе советников лейпцигского надворного суда. Он часто приглашал меня к себе, давал мне читать бумаги и показывал на примерах, как должно судить.
В 1663 году Лейбниц опубликовал свой первый трактат «О принципе индивидуации» («De principio individui»)[24][35], в котором защищал номиналистическое учение о реальности индивидуального[36], и получил степень бакалавра, а в 1664 году — степень магистра философии[7]. Лучшие из профессоров оценили Лейбница, а особенно высокого мнения о нём был Якоб Томазий, который так высоко оценил первую диссертацию Готфрида, что сам написал к ней предисловие, в котором публично заявил, что считает Лейбница вполне способным к «труднейшим и запутаннейшим прениям»[34]. Затем Лейбниц изучал в Лейпциге право, однако получить докторскую степень там не удалось. Расстроенный отказом, Лейбниц отправился в Альтдорфский университет в Альтдорф-Нюрнберге, где успешно и защитил диссертацию на соискание степени доктора права[7][37]. Диссертация была посвящена разбору вопроса о запутанных юридических делах и называлась «О запутанных судебных случаях» («De asibus perplexis injure»)[36]. Защита состоялась 5 ноября 1666 года; эрудиция, ясность изложения и ораторский талант Лейбница вызывали всеобщее восхищение; экзаменаторы были настолько восхищены красноречием Готфрида, что просили его остаться при университете[34], но Лейбниц отклонил это предложение, сказав, что «его мысли были обращены в совершенно ином направлении»[38]. В этом же году Лейбниц получил степень лиценциата[7].
Жизнь в Нюрнберге
После получения степени доктора права Лейбниц некоторое время жил в Нюрнберге, куда его привлекла информация о знаменитом Ордене розенкрейцеров, во главе которого тогда стоял проповедник Вёльфер[34]. Готфрид достал сочинения знаменитейших алхимиков и выписал из них самые тёмные, непонятные и даже варварски нелепые выражения и формулы, из которых он составил род учёной записки, в которой, по собственному признанию, сам ничего не мог понять[34]. Эту записку он преподнёс председателю алхимического общества с просьбой принять его сочинение как явное доказательство основательного знакомства с алхимическими тайнами; розенкрейцеры немедленно ввели Лейбница в свою лабораторию и сочли его по меньшей мере адептом[34]. Так Готфрид стал наёмным алхимиком, хотя и не имел должных знаний по этой дисциплине[39]. За определённое годовое жалованье ему было поручено вести протоколы общества, и Лейбниц в течение некоторого времени был секретарём общества, вёл протоколы, занимался алхимическими опытами[36], записывая их результаты, и делал выдержки из знаменитых алхимических книг; многие члены общества даже обращались к Лейбницу за сведениями, а он, в свою очередь, за очень короткое время усвоил всю необходимую информацию[34]. Готфрид никогда не сожалел о времени, проведённом в Ордене розенкрейцеров и много лет спустя писал[34]:
Я не раскаиваюсь в этом. Впоследствии я, не столько по собственному влечению, сколько по желанию монархов, не раз предпринимал алхимические опыты. Моя любознательность не уменьшилась, но я сдерживал её в пределах благоразумия. А сколь многие споткнулись на этом пути и сели на мель как раз в то время, когда воображали, что плывут при попутном ветре!
Политическая и публицистическая деятельность
В 1667 году Лейбниц поступил на службу к Майнцскому курфюрсту, в ведомство его министра Бойнебурга, где оставался до 1676 года, занимаясь политической и публицистической деятельностью, которая оставляла достаточное количество свободного времени для философских и научных исследований[36]. Работа Лейбница требовала разъездов по всей Европе; в ходе этих путешествий он подружился с Гюйгенсом[36], который согласился обучать его математике[40]. С 1672 по 1676 год Лейбниц был в Париже, где общался с Мальбраншем и Чирнгаузеном[36]. К путешествию во Францию Лейбница побудила надежда склонить Людовика XIV к завоеванию Египта, которое должно было отвлечь честолюбивые замыслы Франции от немецких земель и в то же время нанести удар турецкому могуществу[41]. В своём «египетском проекте» Готфрид Лейбниц писал следующее[42]:
Франция добивается гегемонии в христианском мире. Наилучшим средством для достижения этой цели является покорение Египта. Нет экспедиции более лёгкой, безопасной, своевременной и способной поднять выше морское и торговое могущество Франции. Французскому королю следует взять пример с походов Александра Македонского. С незапамятных времён Египет, древняя страна, полная чудес и мудрости, имела высокое мировое значение. Это значение обнаруживалось много раз в эпоху персидских, греческих, римских и арабских мировых войн. С именем Египта соединены имена величайших завоевателей: Камбиз, Александр, Помпей, Цезарь, Антоний, Август, Омар — все добивались обладания Нилом.
По пути из Парижа в Германию Готфрид Вильгельм Лейбниц встречался в Голландии со Спинозой[36][43]; там же он узнал и об открытиях Левенгука, которые сыграли важную роль в формировании его естественно-научных и философских воззрений[36]. Лейбниц внёс вклад в политическую теорию и в эстетику[44].
Научная деятельность
В 1666 году Готфрид Вильгельм Лейбниц написал одно из своих многочисленных сочинений — «Об искусстве комбинаторики» («De arte kombinatoria»)[36]. Опередив время на два века, 21-летний Лейбниц задумал проект математизации логики[1][4]. Будущую теорию (которую он так и не завершил) он называет «всеобщая характеристика». Она включала все логические операции, свойства которых он ясно представлял. Идеалом для Лейбница было создание такого языка науки, который позволил бы заменить содержательные рассуждения исчислением на основе арифметики и алгебры: «… с помощью таких средств можно достичь… удивительного искусства в открытиях и найти анализ, который в других областях даст нечто подобное тому, что алгебра дала в области чисел»[45]. Лейбниц многократно возвращался к задаче «математизации» формальной логики, пробуя применять при этом арифметику, геометрию и комбинаторику — область математики, основным создателем которой являлся он сам; материалом для этого ему служила традиционная силлогистика, достигшая к тому времени высокой степени совершенства[46].
Лейбниц изобрёл собственную конструкцию арифмометра, гораздо лучше паскалевской, — он умел выполнять умножение, деление, извлечение квадратных и кубических корней[42], а также возведение в степень[3]. Предложенные Готфридом ступенчатый валик и подвижная каретка легли в основу всех последующих арифмометров вплоть до XX столетия[30]. «Посредством машины Лейбница любой мальчик может производить труднейшие вычисления», — сказал об этом изобретении Готфрида один из французских учёных[42].
В 1673 году Лейбниц в Лондоне на заседании Королевского общества продемонстрировал свой арифмометр, и его избрали членом Общества[3]. От секретаря Общества Ольденбурга он получил изложение ньютоновских открытий: анализа бесконечно малых и теории бесконечных рядов. Сразу оценив мощь метода, он сам начал его развивать. В частности, он вывел первый ряд для числа <math>\pi</math>[47]:
- <math>\frac{\pi} {4} = 1 - \frac {1} {3} + \frac {1} {5} - \frac {1} {7} + \frac {1} {9} -</math> …
В 1675 году Лейбниц завершил свой вариант математического анализа, тщательно продумав его символику и терминологию, отражающую существо дела. Почти все его нововведения укоренились в науке, и только термин «интеграл» ввёл Якоб Бернулли (1690)[48], сам Лейбниц вначале называл его просто суммой[47].
По мере развития анализа выяснилось, что символика Лейбница, в отличие от ньютоновской, отлично подходит для обозначения многократного дифференцирования, частных производных и т. д. На пользу школе Лейбница шла и его открытость, массовая популяризация новых идей, что Ньютон делал крайне неохотно[3].
В 1676 году вскоре после смерти курфюрста Майнцского Лейбниц перешёл на службу к герцогу Эрнесту-Августу Брауншвейг-Люнебургскому (Ганновер)[36]. Он одновременно выполнял обязанности советника, историка, библиотекаря и дипломата; этот пост он не оставлял до конца жизни. По поручению герцога Лейбниц начал работать над историей рода Гвельфов-Брауншвейгов. Он трудился над ней более тридцати лет и успел довести её до «тёмных веков»[49].
В это время Лейбниц продолжил математические исследования, открыл «основную теорему анализа», обменивался с Ньютоном несколькими любезными письмами, в которых просил разъяснить неясные места в теории рядов. Уже в 1676 году Лейбниц в письмах изложил основы математического анализа[43]. Объём его переписки колоссален[9]: она достигала поистине астрономического числа — примерно 15 000 писем[50].
В 1682 году Лейбниц основал научный журнал «Acta Eruditorum», сыгравший значительную роль в распространении научных знаний в Европе. Готфрид Вильгельм поместил в этом журнале множество статей по всем отраслям знаний, преимущественно по юриспруденции, философии и математике[51]. Кроме того, он печатал в нём извлечения из разных редких книг, а также рефераты и рецензии на новые научные сочинения и всячески содействовал привлечению новых сотрудников и подписчиков[51]. Впервые «Acta Eruditorum» был опубликован в Лейпциге[52]. Лейбниц привлекал к исследованиям своих учеников — братьев Бернулли, Якоба и Иоганна[9][53].
В 1698 году умер герцог Брауншвейгский[41]. Его наследником стал Георг-Людвиг, будущий король Великобритании[41]. Он оставил Лейбница на службе, но относился к нему пренебрежительно[54].
В 1700 году Лейбниц, действуя главным образом через королеву Софию Шарлотту[55], основал Берлинскую Академию наук и стал её первым президентом[2][7][36]. Тогда же его избрали иностранным членом Французской Академии наук[9].
Лейбниц и Пётр I
В 1697 году во время путешествия по Европе русский царь Пётр I познакомился с Лейбницем[54]. Это была случайная встреча в ганноверском замке Коппенбрюк[54]. Позднее, после поражения русской армии при Нарве, Лейбниц сочинил в честь шведского короля стихотворение, в котором выразил надежду, что Карл XII победит Петра I и раздвинет шведскую границу «от Москвы до Амура»[56]. Во время торжеств в 1711 году, посвящённых свадьбе наследника престола Алексея Петровича с представительницей правящего ганноверского дома, принцессой Брауншвейгской Софией Христиной, состоялась их вторая встреча[54]. На этот раз встреча имела заметное влияние на императора[54]. В следующем году Лейбниц имел более продолжительные встречи с Петром, и, по его просьбе, сопровождал его в Теплице и Дрезден[54]. Это свидание было весьма важным и привело в дальнейшем к одобрению Петром создания Академии наук в Петербурге[36][41], что послужило началом развития научных исследований в России по западноевропейскому образцу. От Петра Лейбниц получил титул тайного советника юстиции[41] и пенсию в 2000 гульденов[54]. Лейбниц выдвинул идею распространения научных знаний в России[46][41], предложил проект научных исследований в России, связанных с её уникальным географическим положением, таких, как изучение магнитного поля Земли[54]. Также Лейбниц предложил проект движения за объединение церквей, которое должно было быть создано под эгидой русского императора. Лейбниц был очень доволен своими отношениями с Петром I. Он писал[54]:
Покровительство наукам всегда было моей главной целью, только недоставало великого монарха, который достаточно интересовался бы этим делом.
В последний раз Готфрид Вильгельм Лейбниц встретил Петра в 1716 году незадолго до своей смерти; об этом свидании он писал следующее[54]:
Я воспользовался несколькими днями, чтобы провести их с великим русским монархом; затем я поехал с ним в Герренгаузен подле Ганновера и был с ним там два дня. Удивляюсь в этом государе столько же его гуманности, сколько познаниям и острому суждению.
Спор между Лейбницем и Ньютоном
В 1708 году вспыхнул печально известный спор Лейбница с Ньютоном о научном приоритете открытия дифференциального исчисления. Известно, что Лейбниц и Ньютон работали над дифференциальным исчислением параллельно и что в Лондоне Лейбниц ознакомился с некоторыми неопубликованными работами и письмами Ньютона[3], но пришёл к тем же результатам самостоятельно[9]. Известно также, что Ньютон создал свою версию математического анализа, «метода флюксий» («флюксия» (англ. fluxion) — термин Ньютона; первоначально обозначалась точкой над величиной[57]; термин «флюксия» означает «производная»[58]), не позднее 1665 года, хотя и опубликовал свои результаты лишь много лет спустя; Лейбниц же первым сформулировал и опубликовал «исчисление бесконечно малых» и разработал символику, которая оказалась настолько удобной, что её используют и на сегодняшний день[3].
В 1693 году, когда Ньютон, наконец, опубликовал первое краткое изложение своей версии анализа, он обменялся с Лейбницем дружескими письмами. Ньютон сообщил[59]:
Наш Валлис присоединил к своей «Алгебре», только что появившейся, некоторые из писем, которые я писал к тебе в своё время. При этом он потребовал от меня, чтобы я изложил открыто тот метод, который я в то время скрыл от тебя переставлением букв; я сделал это коротко, насколько мог. Надеюсь, что я при этом не написал ничего, что было бы тебе неприятно, если же это случилось, то прошу сообщить, потому что друзья мне дороже математических открытий.
После появления первой подробной публикации анализа Ньютона (математическое приложение к «Оптике», 1704) в журнале Лейбница «Acta eruditorum» появилась анонимная рецензия с оскорбительными намёками в адрес Ньютона; рецензия ясно указывала, что автором нового исчисления является Лейбниц, но сам Лейбниц решительно отрицал, что рецензия составлена им, однако историки нашли черновик, написанный его почерком[60]. Ньютон проигнорировал статью Лейбница, но его ученики возмущённо ответили, после чего и разгорелась общеевропейская приоритетная война[61].
31 января 1713 года Королевское общество получило письмо от Лейбница, содержащее примирительную формулировку: он согласен, что Ньютон пришёл к анализу самостоятельно, «на общих принципах, подобных нашим»; Ньютон потребовал создать международную комиссию для прояснения научного приоритета. Лондонское королевское общество, рассмотрев дело, признало, что метод Лейбница в сущности тождествен методу Ньютона, и первенство было признано за английским математиком[54]. 24 апреля 1713 года был произнесён этот приговор, раздосадовавший Лейбница[54].
Лейбница поддерживали братья Бернулли и многие другие математики континента; в Англии, а частично и во Франции, поддерживали Ньютона[54]. Каролина Бранденбург-Ансбахская всеми силами, но безуспешно, пыталась примирить противников; она писала Лейбницу следующее[54]:
С настоящим прискорбием вижу, что люди такой научной величины, как Вы и Ньютон, не могут помириться. Мир бесконечно мог бы выиграть, если бы можно было вас сблизить, но великие люди подобны женщинам, которые ссорятся из-за любовников. Вот моё суждение о вашем споре, господа!
В своём следующем письме она писала[54]:
Удивляюсь, неужели, если Вы или Ньютон открыли одно и то же одновременно или один раньше, другой позднее, то из этого следует, чтобы вы растерзали друг друга! Вы оба — величайшие люди нашего времени. Доказывайте Вы нам, что мир не имеет нигде пустоты; Ньютон и Кларк пусть доказывают пустоту. Мы, графиня Бюккебург, Пёлльниц и я, будем присутствовать и изобразим в оригинале «Учёных женщин» Мольера.
В спор между Лейбницем и Ньютоном вмешивались разные третьестепенные учёные, из которых одни писали пасквили на Лейбница, а другие — на Ньютона[54]. С лета 1713 года Европу наводнили анонимные брошюры, которые отстаивали приоритет Лейбница и утверждали, что «Ньютон присваивает себе честь, принадлежащую другому»; брошюры также обвиняли Ньютона в краже результатов Гука и Флемстида[60]. Друзья Ньютона, со своей стороны, обвинили в плагиате самого Лейбница; по их версии, во время пребывания в Лондоне (1676) Лейбниц в Королевском обществе ознакомился с неопубликованными работами и письмами Ньютона, после чего изложенные там идеи Лейбниц опубликовал и выдал за свои[62].
Спор между Лейбницем и Ньютоном о научном приоритете стал известен как «наиболее постыдная склока во всей истории математики»[61]. Эта распря двух гениев дорого обошлась науке: английская математическая школа вскоре увяла на целый век[61], а европейская проигнорировала многие выдающиеся идеи Ньютона, переоткрыв их намного позднее[63].
Последние годы
 Последние годы жизни Лейбница прошли печально и беспокойно[41]. Сын Эрнста-Августа, Георг-Людвиг, наследовавший отцу в 1698 году, не любил Лейбница[41]. Он смотрел на него только как на своего придворного историографа, стоившего ему много лишних денег[41]. Их отношения охладели ещё сильнее, когда Георг-Людвиг под именем Георга I вступил на английский престол[41]. Лейбниц хотел быть приглашённым к лондонскому двору, однако он встретил упорное сопротивление английских учёных, поскольку печально известный спор, который он вёл с Ньютоном, очень повредил ему во взгляде англичан; Лейбниц безуспешно пытался примириться с королём и привлечь его на свою сторону[41]. Георг I постоянно делал Лейбницу выговоры за неаккуратное составление истории его династии; этот король обессмертил себя рескриптом на имя ганноверского правительства, где было официально выражено порицание Лейбницу, и знаменитый учёный публично был назван человеком, которому не следует верить[54]. На этот рескрипт Лейбниц ответил полным достоинства письмом, в котором писал[54]:
Последние годы жизни Лейбница прошли печально и беспокойно[41]. Сын Эрнста-Августа, Георг-Людвиг, наследовавший отцу в 1698 году, не любил Лейбница[41]. Он смотрел на него только как на своего придворного историографа, стоившего ему много лишних денег[41]. Их отношения охладели ещё сильнее, когда Георг-Людвиг под именем Георга I вступил на английский престол[41]. Лейбниц хотел быть приглашённым к лондонскому двору, однако он встретил упорное сопротивление английских учёных, поскольку печально известный спор, который он вёл с Ньютоном, очень повредил ему во взгляде англичан; Лейбниц безуспешно пытался примириться с королём и привлечь его на свою сторону[41]. Георг I постоянно делал Лейбницу выговоры за неаккуратное составление истории его династии; этот король обессмертил себя рескриптом на имя ганноверского правительства, где было официально выражено порицание Лейбницу, и знаменитый учёный публично был назван человеком, которому не следует верить[54]. На этот рескрипт Лейбниц ответил полным достоинства письмом, в котором писал[54]:
Никогда не думал, что первым моим актом по восшествии Вашего Величества на престол английский будет апология.Лейбниц написал девять десятых всего труда; он очень много работал, и его зрение страдало от архивных занятий, которые были ему не по возрасту[54]. Тем не менее, король утверждал, что Лейбниц ничего не делает и забывает свои обещания: его досадовало, что история не доведена до его собственного благополучного царствования[54].
Готфрид Вильгельм Лейбниц был окружён интригами придворных; его раздражали нападки ганноверского духовенства[41]. Последние два года жизни в Ганновере были для Лейбница особенно тяжёлыми, он находился в постоянных физических страданиях; «Ганновер — моя тюрьма», — сказал он однажды[54]. Приставленный к Лейбницу помощник, Георг Экгардт, при случае следил за Лейбницем в качестве шпиона, докладывая королю и его министру Бернсторфу, что Лейбниц по дряхлости недостаточно работает[54]. Когда Лейбниц заболел продолжительной болезнью, Экгардт писал: «Ничто более не поставит его на ноги, вот если царь и ещё дюжина монархов дадут ему надежду на новые пенсии, тогда сразу начнёт ходить»[54].
- 1716: в начале августа этого года Лейбницу стало лучше, и он решил наконец окончить брауншвейгскую историю[54]. Однако он простудился, у него был приступ подагры и ревматические боли в плечах; из всех лекарств Лейбниц доверял лишь одному, которое когда-то подарил ему один приятель, иезуит[54]. Но на этот раз Лейбниц принял слишком большую дозу и почувствовал себя плохо; прибывший врач счёл положение настолько опасным, что сам отправился в аптеку за лекарством, но во время его отсутствия Готфрид Вильгельм умер[54].
Никто из свиты ганноверского герцога не проводил Лейбница в последний путь[3][64], за гробом шёл только его личный секретарь[65][66]. Берлинская академия наук, основателем и первым президентом которой он был, не обратила внимания на его смерть, однако год спустя Б. Фонтенель произнёс известную речь в его память перед членами Парижской академии наук[3].
Оценки
В известной речи, произнесённой в память Лейбница перед членами Парижской академии наук, Бернар Ле Бовье де Фонтенель признал его одним из величайших учёных и философов всех времён[54].
«Он любил наблюдать, как расцветают в чужом саду растения, семена которых он предоставил сам» (Фонтенель)[67].
Позднейшие поколения английских философов и математиков воздали должное достижениям Лейбница, компенсировав тем самым сознательное пренебрежение его кончиной со стороны Королевского общества[3].
Дени Дидро в «Энциклопедии» отметил, что для Германии Лейбниц был тем, чем для Древней Греции были Платон, Аристотель и Архимед, вместе взятые[47]. Норберт Винер говорил, что, если бы ему предложили выбрать святого — покровителя кибернетики, то он выбрал бы Лейбница[47].
Личные качества
Умственные способности
Отличительной чертой Лейбница с самых ранних лет была его гениальность, которая не вписывалась в традиционные образовательные схемы. Трудные книги казались ему лёгкими, а лёгкие — трудными; если глубина изучаемого материала была недостаточна, то мысль Лейбница работала вхолостую, приводя к неэффективной растрате интеллекта[68]. Вспоминая о школе, Готфрид Вильгельм Лейбниц писал главным образом о том, чему научился не в ней, а за её стенами[69]. Он писал[22]:
Две вещи принесли мне огромную пользу, хотя обыкновенно они приносят вред. Во-первых, я был, собственно говоря, самоучкой, во-вторых, во всякой науке, как только я приобретал о ней первые понятия, я всегда искал новое, часто просто потому, что не успевал достаточно усвоить обыкновенное…
Лейбниц считается одним из самых всеобъемлющих гениев за всю историю человечества[41]. Его мысль внесла новое во многие существовавшие при нём отрасли знания[41]. Считается, что список существенных достижений Лейбница почти так же велик, как список его видов деятельности[44]. Однако в многосторонности Лейбница заключался источник и недостатков его деятельности: она была до некоторой степени отрывочна; он гораздо чаще открывал новые пути, чем проходил их до конца; смелости и богатству его планов не всегда отвечало их выполнение в подробностях[41]. Современников Лейбница поражали его фантастическая эрудиция, почти сверхъестественная память и удивительная работоспособность[30]. Он с необычайной лёгкостью усваивал иностранные языки[22]. Достаточно глубоко прослеживается влияние наследственности на умственные способности Лейбница: с обеих сторон — и с отцовской, и с материнской — у него были предки, более или менее выдающиеся по своему умственному развитию[22].
Черты характера
По мнению Бертрана Рассела, Лейбниц «был одним из выдающихся умов всех времён, но человеком он был неприятным»[70]. Рассел также писал, что «Лейбниц — скучный автор, и его влияние на немецкую философию сделало её педантичной и сухой»[71]. Однако, по характеристике Л. А. Петрушенко, Лейбниц производил в общем приятное впечатление[72], будучи по натуре миролюбивым, гуманным, мягким, великодушным, демократичным и доброжелательным человеком; обо всех людях он говорил только доброе и даже щадил своих врагов[73].
Душевное настроение Лейбница вполне гармонировало с его философским оптимизмом: он был почти всегда весел и оживлён; обо всех он отзывался хорошо, даже об Исааке Ньютоне до окончательной с ним ссоры[74]. По словам самого Лейбница, у него был недостаток «цензорского духа»: почти любая книга ему нравилась, он искал и запоминал в ней лишь самое лучшее[74]. Лейбниц обладал очарованием, хорошими манерами, чувством юмора и воображением[75][76][77]. Он часто смеялся, даже тогда, когда, по его словам, это был лишь наружный, а не внутренний смех; он был обидчив, но не мстителен, и в нём легко было возбудить чувство сострадания[74].
Лейбниц был вспыльчив, но его гнев легко прекращался, он любил весёлую беседу, охотно путешествовал, любил и умел говорить с людьми всех званий и профессий, любил детей, искал общества женщин, но не думал о женитьбе[74]. В 1696 году Лейбниц сделал предложение одной девушке, но она просила времени подумать[74]. Тем временем 50-летний Лейбниц раздумал жениться и сказал: «До сих пор я воображал, что всегда успею, а теперь оказывается, что опоздал»[74].
Готфрид Лейбниц был человеком разносторонних дарований и неутомимой энергии, он был весьма далёк от того типа уединённого мыслителя, какой представляли собой Декарт и Спиноза[36]. По своему складу он был ближе к английскому лорду-канцлеру Фрэнсису Бэкону — дипломату, политику и светскому человеку[36].
Ещё в двенадцатилетнем возрасте Готфрид Вильгельм Лейбниц любил отыскивать во всём «единство и гармонию»; он понял, что цель всех наук одна и та же и что наука существует для человека, а не человек для науки; он пришёл к мысли, что отдельному человеку должно казаться наилучшим то, что плодотворнее всего для всеобщего[22].
По мнению многих биографов, Лейбниц был скуп, хотя сам он отрицал в себе корыстолюбие[78]. Когда какая-нибудь фрейлина ганноверского двора выходила замуж, Лейбниц обычно преподносил ей то, что сам называл «свадебным подарком», состоящим из полезных правил, заканчивающихся советом не отказываться от умывания теперь, когда она заполучила мужа[79].
Внешний вид, здоровье, привычки и образ жизни
На первый взгляд Лейбниц производил впечатление довольно невзрачного человека[74]. Он был худощавым, среднего роста, с бледным лицом[74]. Цвет его лица казался ещё более бледным из-за контраста с огромным чёрным париком, который он носил по обычаю того времени[74].
До 50-летнего возраста Лейбниц редко болел[54]. От сидячего образа жизни и неправильного питания у него к этому времени развилась подагра[54]. Медицину он уважал в принципе, но тогдашнее врачебное искусство ценил низко; в одном из писем он после прочтения книжки врача Беренса «О достоверности и трудности врачебного искусства» сказал: «Дай Бог, чтобы достоверность была так же велика, как и трудность»[54].
Лейбниц очень любил сладкое, даже в вино он подмешивал сахар, но вообще пил мало вина[74]. Ел он с большим аппетитом без особенного разбора, мог одинаково довольствоваться и скверным обедом, который ему приносили из гостиницы, и изысканными придворными блюдами, причём ел он не в какое-либо определённое время, а когда придётся, и спал тоже как придётся[74]. Обыкновенно он ложился спать не раньше часу ночи и вставал не позднее семи часов утра; такой образ жизни Лейбниц вёл до глубокой старости, и часто случалось, что он засыпал в своём рабочем кресле от переутомления и так спал до самого утра[74]. Готфрид Вильгельм Лейбниц был человеком, способным как к размышлению в течение нескольких дней, сидя на одном и том же стуле, так и к размышлению во время путешествий по дорогам Европы летом и зимой[32]. Как писал Г. Крюгер, жизнь Лейбница протекала в неутомимой деятельности, но эта деятельность не была целеустремлённой, а жизнь его была «монадической», уединённой, вне сложившегося круга профессуры, однако Готфрид Вильгельм всегда был связан со многими исследователями[55]. Лейбниц писал свои работы только по какому-либо определённому поводу; это были немногие резюмирующие наброски и бесчисленные письма[55].
Философия Лейбница
В философии Лейбниц предпринял масштабную и плодотворную попытку «синтеза» античных, схоластических и картезианских идей на основе метода всеохватности и строгости рассуждений. В письме к Томазию Лейбниц писал: «…я не побоюсь сказать, что нахожу гораздо больше достоинств в книгах аристотелевской „Физики“, чем в размышлениях Декарта… Я осмелился бы даже прибавить, что можно сохранить все восемь книг аристотелевской физики без ущерба для новейшей философии…»; он также писал, что «большая часть того, что говорит Аристотель о материи, форме, …природе, месте, бесконечном, времени, движении, совершенно достоверно и доказано…»[80].
Философия Лейбница завершила философию XVII века и предваряла немецкую классическую философию. В ходе Лейбниц подверг критическому переосмыслению взгляды Демокрита, Платона, Августина, Декарта, Гоббса, Спинозы и других; формирование его философской системы завершилось к 1685 году после двадцатилетнего развития[12]. Хотя Лейбниц восхищался интеллектом Спинозы, он также был откровенно встревожен его заключениями[81][82][83], особенно когда они были несовместимы с христианской ортодоксальностьюК:Википедия:Статьи без источников (тип: не указан)[источник не указан 3097 дней]. Со слов самого Лейбница, он принимал многое из прочитанного, что, по мнению современных исследователей, подтверждает способности Лейбница к синтезу разнообразных идей в создании собственной метафизики[36]. Такой подход отличает Лейбница от Декарта: немецкий учёный не отказывался от схоластики, а, напротив, пытался совместить средневековые трактовки платонизма и аристотелизма с новыми научными методами — физикой, астрономией, геометрией, биологией. Платон, Аристотель, Плотин, Августин, Фома Аквинский и другие мыслители для Лейбница были не менее важны, чем Галилей, Кеплер, Кавальери, Валлис, Гюйгенс, Левенгук, Мальпиги и Сваммердам[36]. Философские взгляды Лейбница не раз претерпевали изменения, но при этом они шли в направлении создания законченной системы, примиряющей противоречия и стремящейся учесть все детали действительности[55].
Лейбниц был человеком, увлекающимся китайской философией; интерес Лейбница к китайской философии был обусловлен тем, что она была похожа на его собственную[84]. Историк Р. Хьюз полагает, что идеи Лейбница о «простой субстанции» и «предустановленной гармонии» возникли непосредственно под влиянием конфуцианства; на это указывает тот факт, что они возникли в тот период, когда он читал «Confucius Sinicus Philosophus»[84].
Философские принципы
Лейбниц считал слишком психологическим, и, следовательно, чрезмерно субъективным декартовский подход к истине — принцип очевидности, четкости и определённости идей. Вместо очевидности Декарта он предложил в качестве критерия истины и объективности использовать логическое доказательство[36]. Согласно Лейбницу, «критериями истинности суждений… являются правила обычной логики, какими пользуются и геометры: например, предписание принимать за достоверное лишь то, что подтверждено надёжным опытом или строгим доказательством»[85]. Ставя своей целью объективную истинность, Лейбниц частично принимал принцип очевидности, однако, в отличие от Декарта, отталкивался не от человеческого Я, а от Бога[36].
Важнейшими требованиями предложенной Лейбницем методологии были универсальность и строгость философских рассуждений; по Лейбницу, выполнимость этих требований обеспечивается наличием не зависящих от опыта «априорных» принципов бытия, к которым Лейбниц относил[12]:
- непротиворечивость всякого возможного или мыслимого бытия (закон противоречия);
- логический примат возможного перед действительным (существующим); возможность бесчисленного множества непротиворечивых «миров»;
- достаточную обоснованность того факта, что существует именно данный мир, а не какой-либо другой из возможных, что происходит именно данное событие, а не другое (закон достаточного основания, см. принцип достаточного основания);
- оптимальность (совершенство) данного мира как достаточное основание его существования.
Согласно Лейбницу, разнообразие существующих вещей и действий природы оптимальным образом соотносится с их упорядоченностью, и в этом причина совершенства действительного мира, заключающегося в «гармонии сущности и существования»[12]. Онтологический принцип «минимум средств при максимуме результата» влечёт за собой в качестве следствия и ряд других принципов: единообразие законов природы (всеобщая взаимосвязь), закон непрерывности, принцип тождества неразличимых, кроме того, принципы всеобщего изменения и развития, простоты и полноты[12]. По Лейбницу, существующий мир создан Богом как «наилучший из всех возможных миров»[9].
Монадология
Лейбниц — один из важнейших представителей новоевропейской метафизики, в центре внимания которой — вопрос о том, что такое субстанция. Лейбниц развивает систему, получившую название субстанциальный плюрализм, или монадология. Согласно Лейбницу, основаниями существующих явлений, или феноменов, служат простые субстанции, или монады (от греч. monados — единица)[86]. Все монады просты и не содержат частей[87]. Их бесконечно много[88]. Монады обладают качествами, которые отличают одну монаду от другой, двух абсолютно тождественных монад не существует[13]. Это обеспечивает бесконечное разнообразие мира феноменов. Идею, согласно которой в мире не существует абсолютно схожих монад или двух совершенно одинаковых вещей, Лейбниц сформулировал как принцип «всеобщего различия» и в то же время как тождество «неразличимых», выдвинув тем самым глубоко диалектическую идею[46]. Согласно Лейбницу, монады, саморазвёртывающие всё своё содержание благодаря самосознанию, являются самостоятельными и самодеятельными силами, которые приводят все материальные вещи в состояние движения[46]. По Лейбницу, монады образуют умопостигаемый мир, производным от которого выступает мир феноменальный (физический космос)[88].
Простые субстанции создаются Богом одномоментно, и каждая из них может быть уничтожена только вся сразу, за один момент, то есть простые субстанции могут получить начало только путём творения и погибнуть только через уничтожение, в то время как то, что сложно, начинается или кончается по частям[87]. Монады не могут претерпеть изменения в своём внутреннем состоянии от действия каких-либо внешних причин, кроме Бога. Лейбниц в своей одной из итоговых работ, «Монадологии» (1714)[4], использует следующее метафорическое определение автономности существования простых субстанций: «Монады вовсе не имеют окон и дверей, через которые что-либо могло бы войти туда или оттуда выйти»[87]. Монада способна к изменению своего состояния, и все естественные изменения монады исходят из её внутреннего принципа. Деятельность внутреннего принципа, которая производит изменение во внутренней жизни монады, называется стремлением[87].
Все монады способны к перцепции или восприятию своей внутренней жизни. Некоторые монады в ходе своего внутреннего развития достигают уровня осознанного восприятия, или апперцепции[87].
Для простых субстанций, имеющих только восприятие и стремление, достаточно общего имени монады или энтелехии. Монады, имеющие более отчётливые восприятия, сопровождающиеся памятью, Лейбниц называет душами. При этом, согласно Лейбницу, не существует совершенно неодушевлённой природы. Поскольку никакая субстанция не может погибнуть, то она не может окончательно лишиться какой-либо внутренней жизни. Лейбниц говорит о том, что монады, которые основывают явления «неодушевлённой» природы, на самом деле находятся в состоянии глубокого сна. Минералы и растения — это как бы спящие монады с бессознательными представлениями[55].
Разумные души, составляя особое Царство Духа, находятся на особом положении. Бесконечный прогресс всей совокупности монад как бы представлен в двух аспектах. Первый — это развитие царства природы, где главенствует механическая необходимость. Второй — это развитие царства духа, где основным законом является свобода. Под последней Лейбниц понимает, в духе новоевропейского рационализма, познание вечных истин. Души в системе Лейбница представляют, по его собственному выражению, «живые зеркала Вселенной»[13]. Однако разумные души представляют собой вместе с тем отображения самого Божества, или самого Творца природы[87].
В каждой монаде в потенциале свёрнута целая Вселенная. Лейбниц причудливо комбинирует атомизм Демокрита с различием актуального и потенциального у Аристотеля. Жизнь появляется тогда, когда атомы пробуждаются. Эти же монады могут достигать уровня самосознания (апперцепции). Разум человека — это тоже монада, а привычные атомы — это спящие монады. Монада обладает двумя характеристиками — стремлением и восприятием[87][88].
Лейбниц делает утверждение, что пространство и время субъективны — это способы восприятия, свойственные монадам. В этом Лейбниц повлиял на Иммануила Канта, в философской системе которого время рассматривается как априорная, то есть доопытная форма чувственного созерцания. Кант писал: «Время не есть эмпирическое понятие, выводимое из какого-нибудь опыта… Время есть чистая форма чувственного созерцания… Время есть не что иное, как форма внутреннего чувства, то есть созерцания нас самих и нашего внутреннего состояния… Время есть априорное формальное условие всех явлений вообще… Пространство и время, вместе взятые, суть чистые формы всякого чувственного созерцания, и именно благодаря этому возможны априорные синтетические положения»[89].
Лейбниц, раскрывая содержание понятия времени, использовал термин «феномен»; он объяснял, что пространство и время — не реальности, существующие сами по себе, а феномены, вытекающие из существования других реальностей; согласно Лейбницу, пространство представляет собой порядок размещения тел, то, посредством чего они, сосуществуя, обретают определённое местоположение относительно друг друга; время представляет собой аналогичный порядок, который относится уже к последовательности тел, и что, если бы не было живых созданий, пространство и время остались бы только в идеях Бога. Эта концепция была особенно чётко выражена в письмах Лейбница ньютонианцу С. Кларку[90]. Ю. Б. Молчанов предложил называть эту концепцию реляционной[91][92].
В концепции времени Лейбница определённую роль играют малые восприятия, характерные для отдельно взятой монады. Лейбниц писал[93]:
…действие …малых восприятий гораздо более значительно, чем это думают. Именно они образуют те, не поддающиеся определению вкусы, те образы чувственных качеств, ясных в совокупности, но не отчётливых в своих частях, те впечатления, которые производят на нас окружающие нас тела и которые заключают в себе бесконечность, — ту связь, в которой находится каждое существо со всей остальной Вселенной. Можно даже сказать, что в силу этих малых восприятий настоящее чревато будущим и обременено прошедшим, что всё находится во взаимном согласии… и что в ничтожнейшей из субстанций взор, столь же проницательный, как взор божества, мог бы прочесть всю историю Вселенной…
При жизни Лейбница «Монадология» не публиковалась[46]. Поскольку в авторском тексте работы названия не было, имеются публикации с различными названиями[46]. Впервые это сочинение было издано на немецком языке в переводе Г. Келера: «Lehrsätze über die Monadologie…», Frankf.-Lpz., 1720, и переиздано в 1740 году[46]. Затем вышел латинский перевод под названием «Principia philosophiae…» в «Acta eruditorum Lipsiae publicantur». Supplemente, t. 7, sect. 11, 1721[46]. Французский оригинал работы был издан Эрдманном вместе с «Новыми опытами» лишь в 1840 году («Opera philosophica…», Bd. 1—2, В.)[46]. Лучшие издания оригинала принадлежат Гюйо (1904) и Робине (1954)[46]. Лучшим немецким изданием считается издание 1956 года[46].
Опыты теодицеи
Работа «Опыты теодицеи» (слово «теодицея» (новолат. theodicea) означает «богооправдание»[94]) была попыткой Лейбница примирить его личную философскую систему с его интерпретацией догматов христианства[95]. Целью этой работы было намерение показать, что зло в мире не противоречит благости Бога, и что, действительно, несмотря на многие бедствия, этот мир является лучшим из всех возможных миров[94].
В своей работе «Опыты теодицеи» Лейбниц указывал следующее[96]:
Время будет состоять в совокупности точек зрения каждой монады на самое себя, как пространства — в совокупности точек зрения всех монад на Бога. Гармония производит связь как будущего с прошедшим, так и настоящего с отсутствующим. Первый вид связи объединяет времена, а второй — места. Эта вторая связь обнаруживается в единении души с телом, и вообще в связи истинных субстанций между собой. Но первая связь имеет место в преформации органических тел, или, лучше всех тел…
Лейбниц писал, что зло можно понимать метафизически, физически и морально; по Лейбницу, метафизическое зло состоит в простом несовершенстве, физическое зло — в страдании, а моральное — в грехе[97]. Лейбниц указывал, что Бог прежде всего желает блага, а затем — наилучшего; в отношении к сущности зла Бог совершенно не желает морального зла и вовсе не желает физического зла, или страданий[97]. Физического зла Бог часто желает лишь как должного наказания за вину, а также часто для предупреждения бо́льших зол и для достижения наибольших благ[97]. Лейбниц писал, что «наказание равным образом служит и в качестве примера, и в качестве устрашения, и зло часто ведёт к большему ощущению добра и иногда также приводит к большему совершенству того, кто его творит, как и посеянное семя при прорастании подвергается некоторого рода порче»[97]. Что касается морального зла, или греха, то очень часто случается, что оно может служить средством для приобретения блага или для прекращения другого зла, но это, однако, не делает его удовлетворительным объектом божественной воли; оно допустимо или позволительно лишь по той причине, чтобы человек, не желающий позволить кому-либо другому согрешить, мог предотвратить это, сам совершив моральное зло, подобно тому, как офицер, обязанный охранять важный пост, оставляет его, чтобы прекратить ссору в городе между двумя гарнизонными солдатами, готовыми убить друг друга[97]. Иными словами, в своей работе Лейбниц указывал, что, несмотря на идеальную божественную предусмотренность всего происходящего, в мире господствует абсолютная свобода воли, из-за чего возможно зло[98][99]. В то же время, согласно Лейбницу, Бог предопределил все закономерности мира, изначально установил необходимое и всеобщее соответствие душ и тел, свободы и необходимости, например, допустил зло, чтобы выразить добро, и, таким образом, создал «совершеннейший из всех возможных миров»[99]. Эта попытка Лейбница примирить фатализм с признанием свободы воли, объяснить наличие зла и дать ему оправдание в духе оптимизма была саркастически подвергнута критике Вольтером в его «Кандиде»[100].
Природу Лейбниц толковал как привычку Бога. В понимании Лейбница, Бог — это как бы актуальная бесконечность человеческого духа, полная реализация чистого познания, которая не осуществима для человека[101][102]. Бог представляет собой творческую монаду, обладающую свойством актуального абсолютного мышления[101][102]. Бог есть первомонада, все другие монады — её излучения[55]. Бог свободен от страдательных, то есть бессознательных, состояний; он является источником вечных истин и предустановленной мировой гармонии, залога совершенства мироздания[8]. Предустановленная гармония, как взаимно однозначное соответствие между монадами, была изначально установлена Богом, когда он избрал для существования «наилучший из возможных миров»[103]. В силу предустановленной гармонии, хотя ни одна монада не может влиять на другие, так как монады как субстанции не зависят друг от друга, тем не менее развитие каждой из них находится в полном соответствии с развитием других и всего мира в целом[103]. Это происходит благодаря заложенной Богом способности монад представлять все другие монады и весь мир[103].
С помощью понятия предустановленной гармонии Лейбниц в духе окказионализма разрешает столь трудную для рационализма XVII века проблему связи души и тела[8], восходящую к учению Декарта. Как теист, Готфрид Вильгельм Лейбниц допускал постоянное воздействие Бога на течение мировых процессов, но отвергал его влияние на изменения в сотворённых монадах и сближал в духе деизма «Бога-творца» с «сотворённым миром», отрицал личного человекообразного Бога[46]. Согласно Лейбницу, высшую монаду-бога не следует чрезмерно уподоблять низшей — духу человека[46].
Критика учения Локка о душе как «чистой доске»
В теории познания[К 2] и психологии рационалист Лейбниц подверг критике учение представителя эмпиризма Джона Локка о душе как «чистой доске» (лат. tabula rasa)[7][12], на которую лишь опыт наносит свои письмена[104]. Лейбниц пытался найти компромиссную позицию между декартовским рационализмом и локковским эмпиризмом и сенсуализмом[103]. В соответствии с представлениями Лейбница, душа ещё до всякого реального опыта имеет свои индивидуальные особенности, предрасположения, от которых зависит приём внешних впечатлений[7]. Тезису эмпиризма, согласно которому нет ничего в разуме, чего до этого не было бы в чувствах («nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu»)[105], он противопоставил утверждение: в разуме нет ничего, чего раньше не было бы в чувствах, кроме самого разума[106]. Лейбниц полагал, что ум обладает прирождённой способностью к познанию некоторых фундаментальных принципов, однако, в отличие от «врождённых идей» Декарта, эта способность не дана в готовом виде, но есть лишь задаток, «предрасположенность»[1][103]. Предметом подобного познания в области идей являются высшие бытийные категории, такие, как «Я», «тождество», «бытие», «восприятие», в сфере истин — всеобщие и необходимые логические и математические истины[1][103].
Восприятие идей Лейбница
Готфрид Вильгельм Лейбниц являл собой важнейший авторитет в германской философии докантовского периода. Ученику Лейбница Христиану фон Вольфу и его школе принадлежит большая заслуга в систематизации и популяризации в Германии лейбницевских философских идей[12][103]. Многие из этих идей получили свою рецепцию в немецкой классической философии[12][103]. В творчестве ряда философов-идеалистов XX столетия, относившихся к персонализму, а также некоторым другим школам (Эдмунд Гуссерль, Альфред Норт Уайтхед), развивались принципы «монадологии»[12][103].
Идеи Лейбница отразились на миросозерцании поэтов «Бури и натиска», на эстетических взглядах Лессинга, на мировоззрении Гёте и Шиллера[46]. Учение Лейбница об органическом единстве всех вещей мира и их развитии было воспринято Шеллингом и нашло своё выражение в его натурфилософии[46]. Существенные черты лейбницевского идеализма возродились в объективном идеализме Гегеля (деятельная, духовная монада Лейбница — это прообраз саморазвивающейся идеи Гегеля)[46]. Под воздействием идей Лейбница формировались также учения Гербарта, Бенеке, Лотце, Тейхмюллера, Вундта и Ренувье[8]. Фейербах высоко ценил учение Лейбница о деятельной силе самодвижения как основном и самом существенном определении субстанции и вместе с тем отметил, что теология извращает его лучшие мысли[107]. Высоко оценивал Лейбница как выдающегося мыслителя и Ломоносов, который, однако, резко критиковал его монадологию как «мистическое учение»[108]. Метафизика Лейбница возродилась в России в учениях А. А. Козлова, С. А. Аскольдова, Л. М. Лопатина, Н. О. Лосского и С. А. Левицкого[36].
Научная деятельность
Логика
В области логики Годфрид Вильгельм Лейбниц разрабатывал учение об анализе и синтезе[1][13]. Логику он понимал как науку о всех возможных мирах[13]. Лейбницу принадлежит первая в истории формулировка закона достаточного основания; он также является автором принятой в современной логике формы выражения закона тождества[1][4][13]. Закон тождества он считал высшим принципом логики[8]. «Природа истины вообще состоит в том, что она есть нечто тождественное»[109].
Сформулированный Лейбницем закон тождества в настоящее время используется в большинстве современных логико-математических исчислений[46]. С законом тождества связан принцип подстановки эквивалентных: «Если А есть В и В есть А, тогда А и В называются „тем же самым“. Или: А и В есть то же самое, если они могут быть подставлены один вместо другого»[110].
Для Лейбница принципы тождества, подстановки эквивалентных и противоречия — это основные средства всякого дедуктивного доказательства; опираясь на них, Лейбниц предпринял попытку доказать некоторые так называемые аксиомы[46]. Он считал, что аксиомы — это недоказуемые предложения, представляющие собой тождества, но в математике далеко не все положения, выдаваемые за аксиомы, представляют собой тождества, а потому их, с точки зрения Лейбница, необходимо доказывать[46]. Введённый Лейбницем критерий отождествления и различения имён соответствует в известной мере современному различению между смыслом и значением имён и выражений, например, широко известный пример с эквивалентностью выражений «сэр Вальтер Скотт» и «автор Веверлея», восходящий к Расселу, буквально повторяет эту мысль Лейбница[111].
Единой системы обозначений Лейбниц не выработал, наиболее разработано им исчисление «плюс — минус»[112]. Удачным оказалось предложенное Лейбницем для вывода правильных модусов силлогизмов представление суждений посредством параллельных отрезков или кругов («Опыт доказательной силлогистики» в книге «Opuscules et fragments inédits de Leibniz»)[113]. Важное место у Лейбница занимала защита объекта и метода формальной логики[46]. Он писал Г. Вагнеру следующее[114]:
… хотя г-н Арно в своём искусстве мышления утверждал, что люди редко ошибаются в форме, а почти исключительно в сути, в действительности дело обстоит совсем иначе и уже г-н Гюйгенс вместе со мной заметил, что обычно математические ошибки, называемые паралогизмами, вызываются неряшливостью формы. И, конечно, не пустяк то, что Аристотель вывел для этих форм строгие законы и тем самым оказался первым, кто вне математики писал математически.
Лейбниц выступил создателем наиболее полной для его времени классификации определений, кроме того, он разработал теорию генетических определений[1]. В своём труде «Об искусстве комбинаторики», написанном в 1666 году, Лейбниц предвосхитил некоторые моменты современной математической логики[1][4][13]. Комбинаторикой Лейбниц называл развитую им под влиянием Р. Луллия идею «великого искусства» открытия, которая, опираясь на очевидные «первые истины», позволяла бы логически вывести из них всю систему знания[8]. Эта тема стала у Лейбница одной из ключевых и на протяжении всей жизни он разрабатывал принципы «универсальной науки», от которой, по его словам, «в наибольшей степени зависит благополучие человечества»[115].
Готфриду Вильгельму Лейбницу принадлежит авторство идеи использования математической символики в логике и построений логических исчислений[1]. Он выдвинул задачу фундирования математических истин на общелогических принципах, а также предложил применить бинарную, то есть двоичную, систему счисления для целей вычислительной математики[1]. Лейбниц обосновал значение рациональной символики для логики и для эвристических заключений; он утверждал, что познание сводится к доказательствам утверждений, находить же доказательства необходимо по определённому методу[116]. Согласно Лейбницу, сам по себе математический метод не достаточен, чтобы открыть всё то, что мы ищем, но он предохраняет от ошибок[46]. Последнее объясняется тем, что в математике утверждения формулируют с помощью определённых знаков и действуют по определенным правилам, а проверка, возможная на каждом этапе, требует «только бумаги и чернил»[46]. Лейбниц также впервые высказал идею о возможности машинного моделирования человеческих функций, ему принадлежит и сам термин «модель»[1][4].
Лейбниц внёс большой вклад в разработку понятия «необходимость»[13]. Необходимость он понимал как то, что должно быть обязательно[13]. Согласно Лейбницу, самой первой необходимостью выступает метафизическая, абсолютная, а также логическая и геометрическая необходимость[13]. Она основывается на законах тождества и противоречия, поэтому допускает единственную возможность событий[13]. Лейбниц отмечал и другие особенности необходимости[13]. Он противопоставлял необходимость случайности, понимая её не как субъективную видимость, а как такую объективную связь явлений, которая зависит от свободных решений и от хода процессов во Вселенной[13]. Он понимал её как относительную случайность, носящую объективный характер и возникающую на пересечении определённых необходимых процессов[13].
В «Новых опытах» (книга 4) Лейбниц дал дедуктивный анализ традиционной логики, показав, что 2-я и 3-я фигуры силлогизма могут быть получены как следствие из модуса Barbara при помощи закона противоречия, а 4-я фигура — с использованием закона обращения; здесь же он дал новую классификацию модусов силлогизма[46].
Оригинальные логические идеи Лейбница, более всего ценимые сегодня, стали известны только в XX веке[3]. Результаты Лейбница пришлось переоткрывать заново, поскольку его собственный труд был похоронен в грудах рукописей королевской библиотеки в Ганновере[3].
Математика
Ряд приёмов решения задач на проведение касательных, отыскание экстремумов и вычисление квадратур был создан ещё до Лейбница, однако в работах его предшественников отсутствовал общий метод, позволяющий распространить исследования, ограниченные преимущественно целыми алгебраическими функциями, на любые дробные и иррациональные и особенно на трансцендентные функции[9]. В этих работах не были сколько-нибудь отчётливо выделены основные понятия анализа, а также не были установлены их взаимосвязи, не имелось развитой и единой символики[9]. Готфрид Лейбниц свёл частные и разрозненные приёмы в единую систему взаимно связанных понятий анализа, выраженных в обозначениях, позволяющих производить действия с бесконечно малыми по правилам определённого алгоритма[9].
- 1675: Лейбниц создал дифференциальное и интегральное исчисления и впоследствии издал главные результаты своего открытия, опередив Ньютона, который ещё раньше Лейбница пришёл к сходным результатам, но в то время ещё не публиковал их, хотя Лейбницу некоторые из них были известны в приватном порядке[4].
- 1684: Лейбниц опубликовал первую в мире крупную работу по дифференциальному исчислению: «Новый метод максимумов и минимумов», причём имя Ньютона в первой части даже не упоминается, а во второй заслуги Ньютона описаны не вполне ясно. Тогда Ньютон не обратил на это внимания. Его работы по анализу начали издаваться только с 1704 года[60]. Впоследствии на эту тему возник многолетний спор между Ньютоном и Лейбницем о приоритете открытия дифференциального исчисления[4].
В работе Лейбница излагаются основы дифференциального исчисления, правила дифференцирования выражений[9]. Используя геометрическое истолкование отношения dy/dx, он кратко разъясняет признаки возрастания и убывания, максимума и минимума, выпуклости и вогнутости (следовательно, и достаточные условия экстремума для простейшего случая), а также точки перегиба[9]. Попутно без каких-либо пояснений вводятся «разности разностей» (кратные дифференциалы), обозначаемые ddv. Лейбниц писал[117]:
То, что человек, сведущий в этом исчислении, может получить прямо в трёх строках, другие учёнейшие мужи принуждены были искать, следуя сложными обходными путями.
- 1686 Впервые в печати ввёл символ <math>\int</math> для интеграла (и указал, что эта операция обратна дифференцированию)[1].
- 1692: введено общее понятие огибающей однопараметрического семейства кривых, выведено её уравнение. Теорию огибающих семейства кривых Лейбниц разрабатывал одновременно с X. Гюйгенсом в 1692—1694 годах[9].
- 1693: Лейбниц рассматривал вопрос о разрешимости линейных систем; его результат фактически ввёл понятие определителя[9]. Но это открытие не вызвало тогда интереса, и линейная алгебра возникла только спустя полвека.
- 1695: Лейбниц ввёл показательную функцию в самом общем виде: <math>u^v</math>. Позже, в 1697 году, Иоганн Бернулли изучал исчисление показательной функции[118].
- 1702: совместно с Иоганном Бернулли Лейбниц открыл приём разложения рациональных дробей на сумму простейших. Это решило многие вопросы интегрирования рациональных дробей[1][9].
В подходе Лейбница к математическому анализу были некоторые особенности. Лейбниц мыслил высший анализ не кинематически, как Ньютон, а алгебраически. В первых работах он, похоже, понимал бесконечно малые как актуальные объекты, сравнимые между собой, только если они одного порядка. Возможно, он надеялся установить их связь со своей концепцией монад[43]. В конце жизни он высказывался скорее в пользу потенциально бесконечно малых, то есть переменных величин, хотя и не пояснял, что он под этим подразумевает. В общефилософском плане он рассматривал бесконечно малые как опору непрерывности в природе. Попытки Лейбница дать строгое обоснование анализа не увенчались успехом, он колебался между различными трактовками бесконечно малых, пытался иногда прибегнуть к неуточнённым идеям предела и непрерывности[9]. Взгляды Лейбница на природу бесконечно малых и на обоснование операций над ними вызвали критику ещё при его жизни, а удовлетворяющее современным научным требованиям обоснование анализа могло быть дано только в XIX веке[9].
 Силу своих общих методов Готфрид Вильгельм Лейбниц показал, решив с их помощью ряд трудных задач[9]. Например, в 1691 году он установил, что подвешенная за два конца тяжёлая гибкая однородная нить имеет форму цепной линии, и, наряду с Исааком Ньютоном, Якобом и Иоганном Бернулли, а также Лопиталем, в 1696 году решил задачу о брахистохроне[9].
Силу своих общих методов Готфрид Вильгельм Лейбниц показал, решив с их помощью ряд трудных задач[9]. Например, в 1691 году он установил, что подвешенная за два конца тяжёлая гибкая однородная нить имеет форму цепной линии, и, наряду с Исааком Ньютоном, Якобом и Иоганном Бернулли, а также Лопиталем, в 1696 году решил задачу о брахистохроне[9].
Большую роль в распространении идей Лейбница играла его обширная переписка[9]. Некоторые открытия были изложены Лейбницем лишь в письмах: начала теории определителей в 1693 году, обобщение понятия дифференциала на отрицательные и дробные показатели в 1695 году, признак сходимости знакочередующегося ряда (признак Лейбница, 1682), приёмы решения в квадратурах разных типов обыкновенных дифференциальных уравнений[9].
Лейбниц ввёл следующие термины: «дифференциал», «дифференциальное исчисление», «дифференциальное уравнение», «функция», «переменная», «постоянная», «координаты», «абсцисса», «алгебраические и трансцендентные кривые», «алгоритм» (в смысле, близком к современному)[1]. Хотя математическое понятие функции подразумевалось в тригонометрических и логарифмических таблицах, которые существовали в его время, Лейбниц был первым, кто использовал его явно для обозначения любого из нескольких геометрических понятий, производных от кривой, таких как абсцисса, ордината, тангенс, хорда и нормаль[119].
Лейбниц сформулировал понятия дифференциала как бесконечно малой разности двух бесконечно близких значений переменной величины и интеграла как суммы бесконечного числа дифференциалов и дал простейшие правила дифференцирования и интегрирования уже в своих парижских рукописных заметках, относящихся к октябрю и ноябрю 1675 года; здесь же у Лейбница впервые встречаются современные знаки дифференциала d и интеграла ∫[9]. Определение и знак дифференциала были даны Лейбницем в опубликованном в 1684 году первом мемуаре по дифференциальному исчислению «Новый метод максимумов и минимумов…»[9]. В этом же сочинении были приведены без доказательств правила дифференцирования суммы, разности, произведения, частного, любой постоянной степени, функции от функции (инвариантность первого дифференциала), а также правила отыскания и различения (с помощью второго дифференциала) максимумов и минимумов и отыскание точек перегиба[9]. Дифференциал функции был определён как отношение ординаты к подкасательной, умноженное на дифференциал аргумента, величина которого может быть взята произвольно; вместе с тем Лейбниц указал, что дифференциалы пропорциональны бесконечно малым приращениям величин и что на основании этого легко получить доказательства его правил[9].
За сочинением 1684 года последовал ряд других сочинений Лейбница, в своей совокупности охватывающих все базовые отделы дифференциального и интегрального исчислений[9]. В этих работах Готфрид Вильгельм Лейбниц дал определение и знак интеграла (1686), подчёркивая взаимно обратный характер обеих главных операций анализа, указал правила дифференцирования общей показательной функции и многократного дифференцирования произведения (формула Лейбница, 1695), а также положил начало интегрированию рациональных дробей (1702—1703)[1][9]. Кроме того, Лейбниц придавал принципиально важное значение применению бесконечных степенных рядов для изучения функций и решения дифференциальных уравнений (1693)[9].
По причине не только более ранних публикаций, но и существенно более удобных и прозрачных обозначений сочинения Лейбница о дифференциальном и интегральном исчислениях оказали на современников значительно большее влияние, чем теория Ньютона[47]. Даже соотечественники Ньютона, долгое время предпочитавшие метод флюксий, постепенно усвоили более удобные обозначения Лейбница[43].
Лейбниц также описал двоичную систему счисления с цифрами 0 и 1[11]. Современная двоичная система была полностью описана им в работе Explication de l’Arithmétique Binaire[11]. Как человек, увлекающийся китайской культурой, Лейбниц знал о Книге Перемен и заметил, что гексаграммы соответствуют двоичным числам от 0 до 111111; он восхищался тем, что это отображение является свидетельством крупных китайских достижений в философской математике того времени[120]. Лейбниц, возможно, был первым программистом и информационным теоретиком[121]. Он обнаружил, что если записывать определённые группы двоичных чисел одно под другим, то нули и единицы в вертикальных столбцах будут регулярно повторяться, и это открытие навело его на мысль, что существуют совершенно новые законы математики[49]. Лейбниц понял, что двоичный код оптимален для системы механики, которая может работать на основе перемежающихся активных и пассивных простых циклов[49]. Он пытался применить двоичный код в механике и даже сделал чертёж вычислительной машины, работавшей на основе его новой математики, но вскоре понял, что технологические возможности его времени не позволяют создать такую машину[49]. Проект вычислительной машины, работающей в двоичной системе, в которой использовался прообраз перфокарты, Лейбниц изложил в труде, написанном ещё в 1679 году (до того, как он подробно описал двоичную арифметику в трактате 1703 года Explication de l’Arithmétique Binaire)[122]. Единицы и нули в воображаемой машине были представлены соответственно открытыми или закрытыми отверстиями в перемещающейся банке, через которую предполагалось пропускать шарики, падающие в желоба под ней[122]. Лейбниц писал также о возможности машинного моделирования функций человеческого мозга[15].
Лейбниц также опубликовал идею той науки, что сейчас называют топологией (он называл её «геометрией положения», лат. analysis situs)[123].
Механика и физика
В области физики Лейбниц развивал доктрину, согласно которой пространство, время и движение обладают относительным характером[1]. Его заслугой является введение в механику количественной меры движения — произведения массы тела на квадрат скорости. Эта величина, названная им «живой силой», в противовес подходу Р. Декарта, считавшего мерой движения произведение массы на скорость («мёртвую силу», по определению Лейбница), получила позднее наименование кинетической энергии[1][4]. Важным примером зрелых физических взглядов Лейбница является его сочинение «Очерк динамики» («Specimen Dynamicum»), 1695[124][125][126][127].
Частично использовав результаты Х. Гюйгенса, Лейбниц открыл закон сохранения «живых сил», дав, таким образом, первую формулировку закона сохранения энергии[1]. Ему, кроме того, принадлежит идея о превращении одних видов энергии в другие[1].
Принимая за основу философский принцип оптимальности всех действий природы, Готфрид Вильгельм Лейбниц сформулировал один из важнейших вариационных принципов физики — «принцип наименьшего действия», названный впоследствии «принципом Мопертюи»[1][4]. Лейбниц также совершил ряд открытий в специальных разделах физики: в теории упругости, теории колебаний[1][4], в частности, вывел формулу для расчёта прочности балок (формула Лейбница)[1].
Подобно атомистам и картезианцам, Лейбниц не принимал идеи всемирного тяготения Исаака Ньютона[128]. По мнению Лейбница, «собственно притяжение тел является чудом для рассудка, так как оно необъяснимо их природой»; в соответствии с представлениями Лейбница, всякое изменение состояния тел, то есть переход их из состояния движения в состояние покоя и наоборот, должно быть обусловлено воздействием других тел, непосредственно соприкасающихся или сталкивающихся с данным телом[128]. Лейбниц говорил следующее[128]:
Было бы странным заблуждением, если бы всей материи придавали тяжесть и считали бы её действенной по отношению ко всякой другой материи, как если бы все тела взаимно притягивались в соответствии со своими массами и расстояниями, то есть обладали бы именно притяжениями в собственном смысле, которые нельзя сводить к результатам скрытого толчка тела. Тяготение чувственно воспринимаемых тел к центру Земли предполагает, напротив, движение какой-то среды в качестве причины. Это же относится и к другим видам тяготения, например, к тяготению планет к Солнцу и друг к другу. Тело естественным образом не может быть приведено в движение иначе, чем посредством другого тела, прикасающегося к нему и таким образом побуждающего его к движению, и после этого оно продолжает своё движение до тех пор, пока соприкосновение с другим телом не воспрепятствует этому. Всякое другое воздействие на тела должно быть рассматриваемо или как чудо, или как чистое воображение.
Тяжесть земных тел и тяготение небесных Готфрид Вильгельм Лейбниц объяснял с помощью движения среды, в частности эфирной, следуя в этом отношении за концепцией вихрей Декарта[128]. Ньютоновский принцип тяготения как действия тел на расстоянии Лейбниц квалифицировал как чудо или «нелепость вроде оккультных качеств схоластиков, которые теперь снова преподносятся нам под благовидным названием сил, но которые ведут нас обратно в царство тьмы»[128].
История
Готфрид Вильгельм Лейбниц первым обратился к вопросу о возникновении российской правящей династии, который связывался в первую очередь с проблемой образования Древнерусского государства[16]. Лейбниц начал свою работу с вопросов происхождения генеалогий[129].
В первую очередь Лейбница интересовали корни русской царской фамилии, и он понимал, что эти корни уходят в глубокую древность[16]. 26 июля 1697 года Лейбниц писал графу Палмиери[130]:
… Я желал бы узнать различные подробности как насчёт родословного происхождения царя, о чём у меня есть таблица, так и насчёт этнографического различия подвластных ему народов. Родословное древо, о котором я говорю, показывает, как Михаил Фёдорович, первый великий царь ныне царствующей ветви, происходит по прямой мужской линии от того же самого родоначальника, от которого происходила прекратившаяся теперь ветвь царей.
Вопрос о корнях русской правящей династии в представлении того времени был напрямую связан с вопросом об этническом происхождении Рюрика[16]. Готфрид Вильгельм Лейбниц собрал и систематизировал для этого большое количество материалов по древнерусской истории, оставив интересную переписку[16]. В своём письме от 15 апреля 1710 года к Ла-Крозу Лейбниц писал, что рассматривает область варягов как область Вагрия в окрестностях Любека[131]. Позднее эта область была подчинена норманнами и датчанами. По предположению Лейбница, само слово «варяг» представляет собой искажённое производное от названия Вагрия[132].
Несмотря на то что Лейбниц выводил Рюрика из области Вагрия, он называл его «благородным датским сеньором»[133] на том основании, что имя Рюрик «часто употребляется у датчан и других северных германцев»[132]. Это доказательство с современной точки зрения не кажется столь безупречным, потому что, если судить по именам, большинство нынешнего населения России — это греки и евреи, что не соответствует действительности, но в XVIII веке к древности относились иначе[16].
Лейбниц, возможно, подозревал и о существовании каких-то древних родословных, которые представляли Рюрика в ином свете[16]. Одно время он вёл переписку с бароном фон Урбихом, когда тот с 1707 по 1712 год был русским послом в Вене; через Урбиха Лейбниц наводил справки в баварских архивах для исследования истории брауншвейгского дома, однако все его попытки только вызвали подозрения в Вене, так как в то время Бавария управлялась австрийским наместником[16].
Интерес к вопросу о происхождении варягов вполне вписывался в общую направленность научных интересов Лейбница[16]. Лейбниц, изучая произведения греческих и латинских авторов, сформулировал задачу отыскать «origines populorum» (начало народов); он понимал этногенез как процесс формирования языка, поэтому для него генеалогическая схема развития языка вполне соответствовала схеме этнического развития[16]. О вендах, которые населяли Северную Германию, Лейбниц писал в письме генералу Брюсу от 23 ноября 1712 года[134].
Безусловная заслуга Готфрида Вильгельма Лейбница заключалась в том, что он первым в немецкой историографии обратил внимание на взаимосвязь лингвистических проблем с генеалогией[16]. Однако эта идея Лейбница далеко не сразу получила должное развитие[16].
После женитьбы царевича Алексея на Брауншвейг-Люнебургской принцессе немецкий историк И. Г. Экхарт начал возводить родословные к византийскому императору Константину Багрянородному[135]. Экхарт был сотрудником и помощником Лейбница[16]. В целом идеи об «устойчивой дружбе» между Российской и Германской империями позже были развиты в работе С. Трейера[16]. В 1734 году его публикация была переиздана в Петербургской Академии наук[136]. Вслед за Лейбницем он предполагал, что Рюрик вёл своё происхождение из гольштинской Вагрии[137].
Лингвистика
Вкладом Готфрида Вильгельма Лейбница в языкознание стала теория исторического происхождения языков и их генеалогическая классификация[1][4], а также развитие учения о происхождении названий[1]. Лейбниц отверг преобладавший в то время «библейский» взгляд на языковое многообразие, согласно которому все наречия восходят к древнееврейскому языку, кроме того, он обратил внимание на историческую близость между некоторыми языками (такими, как германские и славянские, финский и венгерский, тюркские языки)[46].
Лейбниц по праву считается одним из творцов немецкого философского и научного лексикона[1][4]. Готфрид Вильгельм Лейбниц писал на разных языках, в первую очередь на латинском (~40 %), французском (~30 %) и немецком (~15 %)[138].
Биология
В сфере биологии Лейбниц выдвинул идею об органических системах как о целостности, кроме того, он ввёл принцип несводимости органического к механическому[1].
Когда в июне 1692 года в каменоломне близ Тиде был найден огромный доисторический скелет, Лейбниц на основе зуба установил, что это скелет мамонта или морского слона[139].
Накопленный материал в области палеонтологии Готфрид Вильгельм Лейбниц обобщил в неопубликованной при жизни работе «Протогея» (1693), в которой также высказал тезис об эволюции Земли[1]. Эволюционная доктрина, отстаиваемая Лейбницем, трактовалась им, однако, в механистическом ключе[46], эволюция понималась как непрерывное развёртывание преформированных зародышей[1]. На основе принципа непрерывности Лейбниц дал одну из первых в новой философии формулировок идеи всеобщей связи сущего: «Всё во вселенной находится в такой связи, что настоящее всегда скрывает в своих недрах будущее, и всякое данное состояние объяснимо естественным образом только из непосредственно предшествовавшего ему»[140]. Основываясь на этом положении, Лейбниц пришёл к выводу об органическом родстве всех живых существ и о их связи с неорганической природой[46]. Этой постановкой вопроса Лейбниц, несмотря на ошибочность представления о существовании зоофитов, то есть животно-растений, сделал шаг к диалектическому пониманию природы, однако его концепция развития была метафизической в том смысле, что отрицала скачкообразность и абсолютизировала принцип непрерывности[46]. Согласно Лейбницу, развитие происходит только из первоначальных форм в «малых перцепциях» монады путём бесконечно малых изменений[46]. Готфрид Вильгельм выдвинул преформистское учение о постепенном развитии живой природы из вечно существующих зародышей и отрицал наличие скачков в её эволюции[46]. Он писал следующее: «Мы признаём, что через посредство одного только переместительного движения можно объяснить все остальные материальные явления»[141].
Психология
В области психологии вкладом Готфрида Вильгельма Лейбница явилось введение понятия о бессознательных «малых перцепциях» («малых восприятиях») и развитие доктрины бессознательной психической жизни[1]. В разработанной им концепции «малых перцепций» он разделил понятия психики и сознания, признавая, что существуют смутно осознаваемые и совсем не осознаваемые психические процессы[7]. По Лейбницу, бессознательные «малые восприятия» подобны дифференциалу: только бесконечно большее их число, будучи суммированным, даёт конечную, то есть различимую нами, величину, тогда как каждое малое восприятие, взятое в отдельности, не достигает порога сознания[36]. Создавая учение о бессознательной деятельности души, в том числе и души разумной, Готфрид Вильгельм пытался решить проблему, возникающую с допущением некоего подобия душ также и в неживой природе[36]. Теория бессознательных восприятий и влечений оказала влияние на дальнейшее развитие философской мысли — от Шеллинга до Шопенгауэра, Эдуарда Гартмана и 3игмунда Фрейда[36]. Лейбниц также ввёл в психологию понятие апперцепции, под которой он понимал форму активности души, проявляющуюся уже в процессе элементарных ощущений[7].
Лейбниц как дипломат и юрист
Готфрид Вильгельм Лейбниц был видным общественным деятелем Германии, отразившим взгляды прогрессивной, но нерешительной немецкой буржуазии, действовавшей в условиях феодальной раздробленности путём компромисса с «просвещённым» абсолютизмом немецких князей[46]. В качестве дипломата и юриста Лейбниц отстаивал принципы национального единства немецких государств и начала естественного права[46]. Готфрид пытался связать воедино правовое и полицейское государство, идеи демократии и абсолютизма[142]. Согласно Лейбницу, государство образуется путём общественного договора[142]. При этом субъектом власти выступает само государство, а не личность правителя[142]. Лейбниц близко подошёл к идее народного суверенитета[142]. Он различает три ступени естественного права или справедливости: строгое право, равенство, благочестие и праведность[142].
Лейбниц, занимаясь социальными вопросами, составил предложения о реформе податной системы, уничтожении барщины, крепостного права и введении общинного самоуправления[46]. Как мыслитель, он склонялся к компромиссу с официальной религиозной идеологией, одновременно выступая и против богословской ортодоксии, и против материализма и атеизма[46]. Ленин отмечал у Лейбница «…примирительные стремления в политике и религии»[46]. Лейбниц стремился примирить враждующие курфюршества и дворы, католическую и протестантскую церкви, религию и естествознание, идеализм и материализм (на базе объективного идеализма), а также априоризм с эмпиризмом[46].
Изобретения
В 1673 году, после знакомства с Христианом Гюйгенсом, Лейбниц создал механический калькулятор (арифмометр), выполняющий сложение, вычитание, умножение и деление чисел, а также извлечение корней и возведение в степень[3]. Машина была продемонстрирована во Французской академии наук и Лондонском королевском обществе[3].
Лейбниц подсказал Дени Папену конструкцию паровой машины (цилиндр и поршень)[46]. Сам Готфрид Лейбниц с переменным успехом пытался создать паровой насос на рубеже XVII и XVIII веков наряду с Христианом Гюйгенсом[143].
Лейбниц мог за неделю предложить с полдюжины гениальных идей: от подводной лодки до абсолютно новой формы часов, от новаторской модели фонарика до повозки, которая могла двигаться с такой же скоростью, как и современные автомобили (даже во времена, когда дороги представляли собой колейные пути), однако ни одно из этих изобретений так и не было завершено[49]. Как инженер, Лейбниц работал над вычислительными машинами, часами и даже над оборудованием для горнодобывающей промышленности[44]. Как библиотекарь, он более или менее изобрёл современное представление о каталогизации[44].
Среди изобретений Лейбница можно также отметить:
- проектирование оптических приборов и гидравлических машин[1];
- работу над созданием «пневматического двигателя»[1].
Почести
 Лейбниц стал первым гражданским лицом Германии, которому был воздвигнут памятник[67][122].
Лейбниц стал первым гражданским лицом Германии, которому был воздвигнут памятник[67][122].
Статуи Готфрида Вильгельма Лейбница:
- Göttingen-Auditorium-Leibniz.01.jpg
Статуя Лейбница в Гёттингене - 6 Burlington Gardens facade Leibniz.jpg
Статуя Лейбница в Лондоне - Gottfried Leibniz statue.jpg
Статуя Лейбница в Музее естественной истории Оксфордского университета
Монеты с изображением Готфрида Вильгельма Лейбница:
- Leibniz VS.JPG
Лицевая сторона немецкой памятной монеты 1966 года (5 марок), посвящённой 250-летию смерти Готфрида Вильгельма Лейбница - Leibniz RS.JPG
Обратная сторона немецкой памятной монеты 1966 года, посвящённой 250-летию смерти Готфрида Вильгельма Лейбница
Немецкие почтовые марки, посвящённые Лейбницу:
- DBP 1966 518 Gottfried Wilhelm Leibniz.jpg
(выпущена 24 августа 1966 года) - Leibnitz W.JPG
(выпущена в ФРГ в 1969 году)
В честь Лейбница получили название:
Теоремы
Формулы
- Формула Ньютона-Лейбница основная формула (теорема) математического анализа;
- Формула Лейбница дифференцирования интеграла с переменными пределами;
- Формула Лейбница кратного дифференцирования произведения двух функций;
- Формула Лейбница для медианы тетраэдра;
- Формула Лейбница для определителей.
Объекты
Прочее
- Печенье Leibniz;
- Лейбницева алгебра;
- Нотация Лейбница;
- Оператор Лейбница;
- Премия имени Лейбница;
- Ряд Лейбница для числа пи;
- Тождество Лейбница для дифференциальных операторов;
- Общество Лейбница;
- Род растений Лейбниция (лат. Leibnitzia) семейства Астровые[144].
Сочинения
Основные философские сочинения
- «Рассуждение о метафизике» (Discours de métaphysique)[145], 1685[1] или 1686[3][4], издание 1846[1][3].
- «Новая система природы и общения между субстанциями, а также о связи, существующей между душою и телом» (Système nouveau de la nature et de la communication des substances, aussi bien que de l’union qu’il y a entre l' âme et le corps), 1695[3].
- «Новые опыты о человеческом разуме» (Nouveaux essais sur l’entendement humain par l’auteur du système de l’harmonie préetablie), 1704, издание 1765[3].
- «Опыты теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале зла» (Essais de théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l’homme et l’origine du mal), 1710[3].
- «Монадология» (La Monadologie), 1714[3], издание 1720[1].
Основные математические сочинения
- «Об истинном отношении круга к квадрату» (1682)[1].
- «Новый метод максимумов и минимумов» (1684)[1].
- «О скрытой геометрии и анализе неделимых…» (1686)[1].
Основные сочинения по физике
- «Новая физическая гипотеза» (1671)[4].
- «Доказательство памятной ошибки Декарта» (1686)[1].
- «Очерк динамики» (1695)[1].
Политические и юридические сочинения
- «Трактат о праве…» (1667)[1].
- «Христианнейший Марс…» (1680)[1].
- «Кодекс международного дипломатического права» (1693)[1].
Другие сочинения
Переводы сочинений на русский язык
- Лейбниц Г. В. [www.i-text.narod.ru/lib-f.html Сочинения], в четырёх томах. Серия: Философское наследие. М.: Мысль.
- Том 1. Метафизика. «Монадология». 1982. — 636 стр.
- Том 2. «Новые опыты о человеческом разумении». 1983. — 686 стр.
- Том 3. Теория познания, методология, логика и общая теория науки. 1984. — 734 стр.
- Том 4. «Опыты теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале зла». 1989. — 560 стр.
- Лейбниц Г. В. О свободе от необходимости в выборе. Перевод и примечания О. М. Башкиной под редакцией В. Л. Иванова [einai.ru/2014-03-Leibniz.html // EINAI: Проблемы философии и теологии". Том 3, № 1/2 (5/6) 2014]
- Лейбниц, Г. В. Исповедание природы против атеистов, 1668. Перевод с нем. под ред Василия Преображенского, 1892 / См.: Лютер, Мартин. О свободе христианина. [Сборник]. Уфа: ARC, 2013. С. 193—203. ISBN 978-5-905551-05-5
- Лейбниц Г. В. Математические работы в переводе А. П. Юшкевича // Успехи Мат. Наук, т. 3, в. 1 (23).
- [vpn.int.ru/files-view-607.html О приумножении наук (архив)] (недоступная ссылка с 13-05-2013 (3991 день) — история).
- Лейбниц Г. В. Письма и эссе о китайской философии и двоичной системе исчисления. Предисловие, переводы и примечания В. М. Яковлева. М., 2005. — 404 с. ISBN 5-201-02133-6.
- Лейбниц Г. В. Труды по философии науки. — М.: Либроком, 2010. — 178 с. — (Из наследия мировой философской мысли. Философия науки). — ISBN 978-5-397-01388-8.
- [filosof.historic.ru/books/a0000_4.shtml Цифровая библиотека по философии.]
Напишите отзыв о статье "Лейбниц, Готфрид Вильгельм"
Комментарии
- ↑ Лейбниц родился в Лейпциге 21 июня (1 июля) 1646 года, протестанты считали в то время по старому стилю; его отец умер 5 сентября 1652 года.
- ↑ Гносеологические идеи Лейбница изложены в его работе «Новые опыты о человеческом разумении», название которой отсылает к сочинению Локка «Опыт о человеческом разумении».
Примечания
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Лейбниц Готфрид Вильгельм // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.</span>
- ↑ 1 2 3 4 Большой Энциклопедический словарь, 2000.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Энциклопедия Кольера, 2000.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 В. Лейбниц // Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2004.
- ↑ Duden-Aussprachewörterbuch (Duden Pronunciation Dictionary) / Max Mangold (ed.). — 7th. — Mannheim: Bibliographisches Institut GmbH, 2005. — ISBN 978-3-411-04066-7.
- ↑ Deutsches Aussprachewörterbuch (German Pronunciation Dictionary) / Eva-Maria Krech et al. (ed.). — 1st. — Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2010. — ISBN 978-3-11-018203-3.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 И. М. Кондаков. Психологический словарь. — 2000.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Новая философская энциклопедия: В 4 т. Под ред. В. С. Стёпина, 2001.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Математический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1988.
- ↑ Белл Э. Т. Творцы математики, 1979, с. 102.
- ↑ 1 2 3 www.leibniz-translations.com/binary.htm Explanation of binary arithmetic. (англ.)
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Философский энциклопедический словарь. Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов, 1983.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Блинников Л. В. Великие философы: учебный словарь-справочник, изд. 2. — М., 1997. — 432 с.
- ↑ Избранные философские сочинения. — М., 1908. — С. 347.
- ↑ 1 2 Энциклопедический словарь. — 2009.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Меркулов В.И. Откуда родом варяжские гости? (Генеалогическая реконструкция по немецким источникам). — М., 2010.
- ↑ [www.britannica.com/EBchecked/topic/335266/Gottfried-Wilhelm-Leibniz Encyclopædia Britannica: Gottfried Wilhelm Leibniz] (англ.)
- ↑ Brandon C. Look. [books.google.co.uk/books?id=PTmmjB3nDyoC&pg=PA4&lpg=PA4&dq=Friedrich+Leibniz&source=bl&ots=5Hwh0BHPZ6&sig=BXcaU_TQpev9N_3iqF-nzLugLSI&hl=en&sa=X&ei=CoohT82cOs_Lsgb37ezCBw&ved=0CCIQ6AEwATgU#v=onepage&q=Friedrich%20Leibniz&f=false The Continuum Companion to Leibniz]. — 528 pages Continuum International Publishing Group, 4 Aug 2011. ISBN 0-8264-2975-0. (англ.)
- ↑ (Professor Gregory Brown) — University of Houston. [www.gwleibniz.com/friedrich_leibniz/friedrich_leibniz.html Friedrich Leibniz]. — Leibniz Society of North America. (англ.)
- ↑ (Heinrich Schepers & Ronald Calinger) — Richard S. Westfall Department of History and Philosophy of Science Indiana University — The Galileo Project — Rice University [galileo.rice.edu/Catalog/NewFiles/leibniz.html edu-Catalogue] (англ.) Проверено 27 января 2012.
- ↑ Nicholas Jolley — [books.google.co.uk/books?id=SnRis5Gdi8gC&pg=PA18&lpg=PA18&dq=friedrich+leibniz&source=bl&ots=tK9TwgA94Q&sig=PwZL4DM-yuQns0Iqgg2_q567OGU&hl=en&sa=X&ei=HJkhT6z0GoP5sgaN3JmmBw&ved=0CDcQ6AEwAzgo#v=onepage&q=friedrich%20leibniz&f=false The Cambridge companion to Leibniz — 500 pages — DOI:10.1017/CCOL0521365880.002]. — Cambridge University Press, 1995. ISBN 0-521-36769-7. (англ.)
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Филиппов M. M. Готфрид Лейбниц. Его жизнь, общественная, научная и философская деятельность. — 1893, Глава I «Происхождение. — Суеверия XVII века. — Влияние отца. — Недальновидный учитель. — Чтение классиков и схоластов».
- ↑ Carl von Prantl: Gottfried Wilhelm Leibniz. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 18, Duncker & Humblot, Leipzig 1883, S. 172—209.
- ↑ 1 2 [plato.stanford.edu/entries/leibniz/ Stanford Encyclopedia of Philosophy: Gottfried Wilhelm Leibniz] (англ.)
- ↑ Comenius in England, Oxford University Press 1932, p. 6.
- ↑ [books.google.com/books?ei=RjwWTN3ZKaSlsQbR5L2yDA&ct=result&id=x54gAAAAMAAJ&dq=leibniz+sorb&q=+sorb#search_anchor Poland and Germany] Studies Centre on Polish-German Affairs, Greenwood press 1994, p. 30. (англ.)
- ↑ Robert Latta, M.A., Предисловие к изданию трудов Лейбница. CLARENDON PRESS, 1898 [www.ebooksread.com/authors-eng/gottfried-wilhelm-leibniz/the-monadology-and-other-philosophical-writings-microform-hci/1-the-monadology-and-other-philosophical-writings-microform-hci.shtml] (англ.)
- ↑ Ulrich Leisinger: Leibniz-Reflexe in der deutschen Musiktheorie des 18. Jahrhunderts. Königshausen & Neumann, Würzburg 1997, ISBN 3-88479-935-5, S. 8.
- ↑ Mackie, John Milton; Guhrauer, Gottschalk Eduard, 1845. Life of Godfrey William von Leibnitz. Gould, Kendall and Lincoln. p. 21.
- ↑ 1 2 3 [chernykh.net/content/view/439/650/ «История компьютера»: Готфрид Лейбниц и его арифметическая машина]
- ↑ Mackie, John Milton; Guhrauer, Gottschalk Eduard, 1845. Life of Godfrey William von Leibnitz. Gould, Kendall and Lincoln. p. 22.
- ↑ 1 2 [www-history.mcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Leibniz.html Biography of Gottfried Wilhelm von Leibniz] (англ.)
- ↑ Mackie, John Milton; Guhrauer, Gottschalk Eduard, 1845. Life of Godfrey William von Leibnitz. Gould, Kendall and Lincoln. p. 26.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Филиппов M. M. Готфрид Лейбниц. Его жизнь, общественная, научная и философская деятельность. — 1893, Глава II «Студенческие работы. — Полигистор. — Вейгель. — Томазий. — Интриги деканши. — Докторский экзамен. — Лейбниц в роли розенкрейцера».
- ↑ Leibniz, Gottfried Wilhelm von. i Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 16. Lee — Luvua / 7—78 (1912).
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Новая философская энциклопедия: В 4 т. Под редакцией В. С. Стёпина, 2001.
- ↑ [d-nb.info/gnd/118571249/about/html DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Gottfried Wilhelm Leibniz] (нем.)
- ↑ Mackie, John Milton; Guhrauer, Gottschalk Eduard, 1845. Life of Godfrey William von Leibnitz. Gould, Kendall and Lincoln. p. 40.
- ↑ Mackie, John Milton; Guhrauer, Gottschalk Eduard, 1845. Life of Godfrey William von Leibnitz. Gould, Kendall and Lincoln. p. 41—42.
- ↑ Никифоровский В. А. [publ.lib.ru/ARCHIVES/N/NIKIFOROVSKIY_Viktor_Arsen%27evich/Nikiforovskiy_V.A._Velikie_matematiki_Bernulli.(1984).%5Bdjv%5D.zip Великие математики Бернулли]. — М.: Наука, 1984. — 177 с. — (История науки и техники).
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон, 1890—1907.
- ↑ 1 2 3 Филиппов M. M. Готфрид Лейбниц. Его жизнь, общественная, научная и философская деятельность. — 1893, Глава III «Знакомство с Бойнебургом. — Майнцский курфюрст. — Полемика с Гоббсом и картезианцами. — Польская кандидатура. — Египетский проект. — Арифметическая машина. — Математические открытия».
- ↑ 1 2 3 4 Филиппов M. M. Готфрид Лейбниц. Его жизнь, общественная, научная и философская деятельность. — 1893, Глава IV «Открытие дифференциального исчисления. — Знакомство со Спинозой».
- ↑ 1 2 3 4 [www.iep.utm.edu/leib-met/ Internet Encyclopedia of Philosophy: «Leibniz: Metaphysics»] (англ.)
- ↑ Leibniz G. W. «Fragmente zur Logik», В., 1960, S. 15.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Философская Энциклопедия. В 5 т. Под редакцией Ф. В. Константинова, 1960—1970.
- ↑ 1 2 3 4 5 Котова А. Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646—1716) // Научно-популярный физико-математический журнал «Квант». — 1997. — № 5.
- ↑ [kvant.mirror1.mccme.ru/rub/9A.htm Научно-популярный физико-математический журнал «Квант»: Калейдоскоп «Кванта»: «Математические знаки» (PDF)]
- ↑ 1 2 3 4 5 [www.tin-vek.ru/filosofa-482.html Деятели философии. Жизнь и труды Лейбница]
- ↑ Математика XVII столетия // [ilib.mccme.ru/djvu/istoria/istmat2.htm История математики] / А.П. Юшкевич. — М.: Наука, 1970. — 300 с. — 7 200 экз.
- ↑ 1 2 Филиппов M. M. Готфрид Лейбниц. Его жизнь, общественная, научная и философская деятельность. — 1893, Глава V «Переселение в Ганновер. — Лейбниц пропагандирует открытие фосфора. — Пасквиль Бехера. — Горное дело. — Курфюрсты и фюрсты. — „Христианнейший Марс“. — „Ada Eruditorum“. — Спор о живой силе и количестве движения».
- ↑ [www.math.dartmouth.edu/~euler/publications/journals/ActaEruditorum.html Acta Eruditorum (Philosophical Transactions)] (англ.)
- ↑ А. П. Юшкевич. Биографическая справка в издании «О законе больших чисел». — 1986.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Филиппов M. M. Готфрид Лейбниц. Его жизнь, общественная, научная и философская деятельность. — 1893, Глава IX «Лейбниц и Петр Великий. — Последние годы жизни Лейбница».
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Философский энциклопедический словарь. — 2010.
- ↑ [ei1918.ru/monarxi/srazhenie-pod-narvoj.html Академия российской истории: Сражение под Нарвой]
- ↑ Универсальный англо-русский словарь. — Академик.ру, 2011.
- ↑ Новый большой англо-русский словарь. — 2001.
- ↑ Вавилов С. И. Исаак Ньютон. Глава 13.
- ↑ 1 2 3 Карцев В. П. Ньютон. — С. 340—348.
- ↑ 1 2 3 Белл Э. Т. Творцы математики, 1979, с. 97—98..
- ↑ Хал Хеллман. Ньютон против Лейбница: Битва титанов. — С. 78.
- ↑ История математики — Т. 2: Математика XVII столетия. — С. 220.
- ↑ Kuno Fischer: Geschichte der neuern Philosophie: Leibniz und seine Schule. Bd. 2, Friedrich Bassermann, Mannheim 1855, S. 22.
- ↑ Стиллвелл Д. Математика и её история. — Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2004. — С. 170.
- ↑ Hans Joachim Störig: Kleine Weltgeschichte der Wissenschaft. Zürich 1965, S. 252.
- ↑ 1 2 Имена и даты: краткие хронографические наблюдения. 1–3 июля // Независимая. — 1 июля 2011.
- ↑ Петрушенко Л. А. Лейбниц. Его жизнь и судьба. М.: Экономическая газета. 1999 — С. 116.
- ↑ Петрушенко Л. А. Лейбниц. Его жизнь и судьба. М.: Экономическая газета. 1999 — С. 73.
- ↑ Рассел Б. История Западной философии. М.: Издательство иностранной литературы. 1959. — С. 600.
- ↑ Рассел Б. История Западной философии. М.: Издательство иностранной литературы. 1959. — С. 614.
- ↑ Петрушенко Л. А. Лейбниц. Его жизнь и судьба. М.: Экономическая газета. 1999 — С. 118.
- ↑ Петрушенко Л. А. Лейбниц. Его жизнь и судьба. М.: Экономическая газета. 1999 — С. 120.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Филиппов M. M. Готфрид Лейбниц. Его жизнь, общественная, научная и философская деятельность. — 1893, Глава X «Наружность и характер Лейбница».
- ↑ Wiener, Philip, 1951. Leibniz: Selections. Scribner. IV.6.
- ↑ Loemker, Leroy, 1969 (1956). Leibniz: Philosophical Papers and Letters. Reidel. § 40.
- ↑ «Leibniz’s Philosophical Dream», first published by Bodemann in 1895 and translated on p. 253 of Morris, Mary, ed. and trans., 1934.
- ↑ Петрушенко Л. А. Лейбниц. Его жизнь и судьба. М.: Экономическая газета. 1999 — С. 131.
- ↑ Рассел Б. История Западной философии. М.: Издательство иностранной литературы. 1959. — С. 601.
- ↑ Лейбниц Г. Письмо к Якобу Томазию… // Соч. в 4-х томах. Т. 1. М., 1982. — С. 85—86.
- ↑ Ariew, R & D Garber, 1989. Leibniz: Philosophical Essays. Hackett. 272—84.
- ↑ Loemker, Leroy, 1969 (1956). Leibniz: Philosophical Papers and Letters. Reidel. § 14, § 20, § 21.
- ↑ Wiener, Philip, 1951. Leibniz: Selections. Scribner. III.8.
- ↑ 1 2 (1971) «Leibniz's Interpretation of Neo-Confucianism». Philosophy East and West 21 (1): 3–22. DOI:10.2307/1397760. (англ.)
- ↑ Hauptschriften zur Grundlegung der Philosophie, Bd. l, Lpz., 1904, S. 27—28.
- ↑ Платонов К. К. Структура и развитие личности. — М.: «Наука», 1986. — С. 10. — 256 с.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Готфрид Вильгельм Лейбниц. Сочинения в четырёх томах. Том 1. — М.: «Мысль», 1982. — С. 413—429.
- ↑ 1 2 3 Философский энциклопедический словарь, 1989.
- ↑ И. Кант. Критика чистого разума. — 1994, гл. II «О времени».
- ↑ Husserliana Bd. 11, c. 339 / Цит. по: М. Рубене. Субъективность, аффективность, время: к феноменологической реформе трансцендентализма // Феноменология в современном мире. Рига, 1991. — С. 441.
- ↑ Молчанов Ю. Б. Проблема времени в современной науке. — М., 1990.
- ↑ Молчанов Ю. Б. Четыре концепции времени в философии и физике. — М., 1977.
- ↑ Лейбниц Г. Новые опыты о человеческом разумении. Соч. в 4-х томах. Т. 4. М., 1983. — С. 54.
- ↑ 1 2 Kempf, Constantine. «Theodicy». The Catholic Encyclopedia. Vol. 14. New York: Robert Appleton Company, 1912.
- ↑ Magill, Frank (ed.). Masterpieces of World Philosophy. New York: Harper Collins (1990).
- ↑ Лейбниц Г. Опыты теодицеи. Соч. в 4-х томах. Т. 4. М., 1989. — С. 69.
- ↑ 1 2 3 4 5 Лейбниц Г. В. Опыты теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале зла. — М.: Мысль, 1989. — 560 с.
- ↑ «Essais de théodicée sur la bonté de Dieu». — 1710.
- ↑ 1 2 «Теодицея» // «Вера и разум». — 1887. — № 13. — С. 48.
- ↑ Вольтер. Избранные произведения. — М., 1947. — С. 41—129.
- ↑ 1 2 Новейший философский словарь / Сост. А. А. Грицанов, 1998.
- ↑ 1 2 История философии. — 2008.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Философия: Энциклопедический словарь. Под ред. А. А. Ивина, 2004.
- ↑ [www.asf.ru/Publ/kabanov_filosofy/glava4_1.html Кабанов П. Г. Философия. Учебник].
- ↑ Лейбниц Г. В. Новые опыты о человеческом разуме. — M.–Л., 1936. — С. 100—101.
- ↑ Мареев С.Н., Мареева Е.В. История философии (общий курс). — М.: Академический Проект, 2004. — 880 с.
- ↑ Избранные философские произведения, М., 1955, С. 144—146.
- ↑ Полное собрание сочинений, т. 1, 1950, С. 424; т. 10, 1957, С. 503.
- ↑ Die philosophischen Schriften, Bd. 7. В., 1890, S. 296.
- ↑ Leibniz G. W. «Fragmente zur Logik», В., 1960, S. 460.
- ↑ А. Черч, Введение в математическую логику, 1960, С. 18—19, 342.
- ↑ Leibniz G. W. «Fragmente zur Logik», В., 1960, S. 304—43.
- ↑ «Opuscules et fragments inédits de Leibniz», extraits… par L. Couturat, P., 1903, p. 292—321.
- ↑ Leibniz G. W. «Fragmente zur Logik», В., 1960, S. 7.
- ↑ Лейбниц Г. В. Сочинения в 4-х томах, т. 3. — М., 1984. — С. 480.
- ↑ Leibniz G. W. «Fragmente zur Logik», В., 1960, S. 87—88.
- ↑ Гиндикин С. Г. Рассказы о физиках и математиках. Издание третье, расширенное. — МЦНМО, НМУ, 2001.
- ↑ John J O'Connor; Edmund F Robertson. [www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/HistTopics/e.html The number e]. School of Mathematics and Statistics. University of St Andrews, Scotland. Проверено 13 июня 2011. [www.webcitation.org/67ukMpLBn Архивировано из первоисточника 25 мая 2012].
- ↑ Struik, D. J., 1969. A Source Book in Mathematics, 1200—1800. Harvard University Press.
- ↑ Aiton, Eric J. (1985), Leibniz: A Biography, Taylor & Francis, сс. 245–8, ISBN 0-85274-470-6.
- ↑ Davis, Martin, 2000. The Universal Computer: The Road from Leibniz to Turing. WW Norton.
- ↑ 1 2 3 «Computerworld Россия». — 2006. — № 15.
- ↑ Математика XVII столетия // [ilib.mccme.ru/djvu/istoria/istmat2.htm История математики] / А.П. Юшкевич. — М.: Наука, 1970. — С. 126—127. — 300 с.
- ↑ Ariew, R & D Garber, 1989. Leibniz: Philosophical Essays. Hackett. p. 117.
- ↑ Loemker, Leroy, 1969 (1956). Leibniz: Philosophical Papers and Letters. Reidel. § 46, W II.5.
- ↑ Jolley, Nicholas, ed., 1995. The Cambridge Companion to Leibniz. Cambridge University Press.
- ↑ Wilson, Catherine, 1989. 'Leibniz’s Metaphysics. Princeton University Press.
- ↑ 1 2 3 4 5 Гайденко П.П. История новоевропейской философии в её связи с наукой. — М.: Университетская книга, 2000., Глава шестая «Исаак Ньютон».
- ↑ Conze W. Leibniz als Historiker. — Berlin, 1951. — S.11, 21.
- ↑ Герье В. Отношение Лейбница к России и Петру Великому по неизданным бумагам Лейбница в Ганноверской библиотеке. — СПб., 1871. — С. 12.
- ↑ Guerrier V. I. Leibniz in seinen Beziehungen zu Russland und Peter d. Gr. — St.- Peter sburg — Leipzig, 1873. Bd. 2, — S. 140.
- ↑ 1 2 Герье В. Отношение Лейбница к России и Петру Великому по неизданным бумагам Лейбница в Ганноверской библиотеке. — СПб., 1871. — С. 102.
- ↑ Doerries H. Russlands Eindringen in Europa in der Epoche Peter s des Grossen. — Koenigsberg — Berlin, 1939, — S 67.
- ↑ Richter L. Leibniz und sein Russlandbild. — Berlin, 1946. — S. 80.
- ↑ Hoffmann P. Deutsche Publikationen aus der ersten Haelfte des 18. Jahrhunderts zur Geschichte des vorpetrinischen Russlands // Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universitaet zu Berlin. R. XVII. 1968. 2. — S. 266.
- ↑ Treuer S. Abstammung des allerdurchlauchtigsten russisch-kaiserlichen Hauses und der durchlauchtigsten braunschweigisch-lueneburgischen Herzoege von einer deutschen Stammmutter // Материалы для истории Императорской Академии наук. Т. 6. — СПб., 1890.
- ↑ Treuer S. Einleitung zur Moscowitischen Historie. — Helmstedt. 1720.
- ↑ [www.gwlb.de/Leibniz/Leibniz-Nachlass/index.htm www.gwlb.de]. Leibniz-Nachlass (d. h. Legacy of Leibniz), Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek. Niedersachsische Landesbibliothek. (нем.)
- ↑ Eike Christian Hirsch: Der berühmte Herr Leibniz. Eine Biographie. C. H. Beck, München 2000, S. 275, ISBN 3-406-45268-X
- ↑ Hauptschriften zur Grundlegung der Philosophie, Bd 2, 1906, S. 75.
- ↑ Hauptschriften zur Grundlegung der Philosophie, Bd 1, 1903, S. 261.
- ↑ 1 2 3 4 5 Советская историческая энциклопедия. Под ред. Е. М. Жукова. — М.: Советская энциклопедия, 1973—1982.
- ↑ Семенов Н. М. Пыхтящий двигатель прогресса // «Вокруг света». — 2008.
- ↑ [www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=117867 Flora of North America: Leibnitzia] (англ.)
- ↑ [viaf.org/viaf/9849392/ Virtual International Authority File: Gottfried Wilhelm Leibniz] (англ.)
</ol>
Литература
Биография
- Погребысский И. Б. Готфрид Вильгельм Лейбниц. — Изд.2-е, перераб. и доп. — М.: Наука, 2004. — 270 с. — ISBN 5-02-032752-2.
- Джон Дж. О’Коннор и Эдмунд Ф. Робертсон. [www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Leibniz.html Лейбниц, Готфрид Вильгельм] (англ.) — биография в архиве MacTutor.
- Герье В. И. Лейбниц и его век: Отношения Лейбница к России и Петру Великому. — СПб.: Наука, 2008. — ISBN 978-5-02-026942-2. (Слово о сущем; Т.75).
Философия Лейбница
- [ideashistory.org.ru/a01.html Альманах «Философский век». «Лейбниц и Россия».] СПб., 1996.
- Каринский Вл. Умозрительное знание в философской системе Лейбница. — СПб., 1912.
- Нарский И. С. [www.domknig.net/book-3108.html Готфрид Лейбниц]. — М.: Мысль, 1972. — 239 с. — (Мыслители прошлого). — 40 000 экз.
- Серебреников В. С. Лейбниц и его учение о душе человека. — СПб., 1908. С.X + 366.
- Соловьев Н. «Теодицея» Лейбница, рассматриваемая в связи с его метафизическим учением. — Харьков, 1904.
- Сретенский Н. Н. Лейбниц и Декарт. Критика Лейбницем общих начал философии Декарта: Очерк по истории философии./Послесл. Е. Малышкина, Д. Куницына. — СПб.: Наука, 2007. — 183 с. — ISBN 5-02-026941-7.
- Фишер Куно. История новой философии. Т.III. Лейбниц, его жизнь, сочинения и учение. — СПб., 1905.
- Фишер К. История новой философии: Готфрид Вильгельм Лейбниц: Его жизнь, сочинения и учение. — М.: АСТ, Транзиткнига, 2005. — 734 с. — 3000 экз. — ISBN 5-17-028917-0. — ISBN 5-9578—2266-3.
- Петрушенко Л.А. Философия Лейбница на фоне эпохи. — М.: Альфа-М, 2009. — 510 с.
- Ягодинский Ив. Ив. Философия Лейбница. Процесс образования системы. Первый период, 1659—1672. — Казань, 1914. Репринт — СПб., 2007.
Научная деятельность
- Белл Э. Т. [www.math.ru/lib/book/djvu/istoria/bell.djvu Творцы математики]. — М.: Просвещение, 1979. — 256 с.
- Большая советская энциклопедия: В 30 т. — М.: Советская энциклопедия, 1969—1978.
- Энциклопедия Кольера. — Открытое общество, 2000.
- Большой Энциклопедический словарь. — 2000.
- Васильев В. В. Лейбниц // Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. — 2004.
- Философский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1989.
- Новейший философский словарь / Сост. А. А. Грицанов. — Мн.: Изд. В. М. Скакун, 1998. — 896 с.
- Новая философская энциклопедия: В 4 т. Под редакцией В. С. Стёпина. — М.: Мысль, 2001.
- Философская Энциклопедия. В 5 т. Под редакцией Ф. В. Константинова. — М.: Советская энциклопедия, 1960—1970.
- Философский энциклопедический словарь. Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. — М.: Советская энциклопедия, 1983. — 840 с.
- Философия: Энциклопедический словарь. Под редакцией А. А. Ивина. — М.: Гардарики, 2004. — ISBN 5-8297-0050-6.
- История математики под редакцией А. П. Юшкевича в трёх томах, М.: Наука. Том 2. [ilib.mccme.ru/djvu/istoria/istmat2.htm Математика XVII столетия. (1970)]
- Хал Хеллман. Великие противостояния в науке. Десять самых захватывающих диспутов — Глава 3. Ньютон против Лейбница: Битва титанов = Great Feuds in Science: Ten of the Liveliest Disputes Ever. — М.: «Диалектика», 2007. — С. 320. — ISBN 0-471-35066-4.
Политические и правовые воззрения
- Кембаев Ж. М. «Египетский план» Готфрида Вильгельма Лейбница как один из этапов развития политических и правовых теорий объединения европейских государств // История государства и права. — 2010. — № 2. — С. 42—45.
- Гуманистическая наука по Лейбницу и назначение академий. Под редакцией В. Кальтенбахера и А. А. Россиуса. Переводы А. А. Россиуса. — Москва-Неаполь: Cecom, 2010. — 114 с.
Ссылки
| |
Готфрид Лейбниц в Викицитатнике? |
|---|---|
| |
Готфрид Лейбниц в Викитеке? |
- [chernykh.net/content/view/439/650/ «История компьютера»: Готфрид Лейбниц и его арифметическая машина]
- Храмов Ю. А. Лейбниц Готфрид Вильгельм (Leibniz Gottfried Wilhelm) // Физики: Биографический справочник / Под ред. А. И. Ахиезера. — Изд. 2-е, испр. и дополн. — М.: Наука, 1983. — С. 159. — 400 с. — 200 000 экз. (в пер.)
- [www.i-text.narod.ru/lib-f.html Большинство сочинений Лейбница на русском языке (сборник сочинений в 4-х томах)]
- [www-history.mcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Leibniz.html Biography of Gottfried Wilhelm von Leibniz] (англ.)
- [www.britannica.com/EBchecked/topic/335266/Gottfried-Wilhelm-Leibniz Encyclopædia Britannica: Gottfried Wilhelm Leibniz] (англ.)
- [d-nb.info/gnd/118571249/about/html DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Gottfried Wilhelm Leibniz] (нем.)
- [daten.digitale-sammlungen.de/bsb00008376/images/index.html?seite=174 Allgemeine deutsche Biographie & Neue deutsche Biographie (Digitale Register): Gottfried Wilhelm Leibniz] (нем.)
- [runeberg.org/nfbp/0055.html Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 16. Lee — Luvua: Gottfried Wilhelm von Leibniz] (швед.)
- [viaf.org/viaf/9849392/ Virtual International Authority File: Gottfried Wilhelm Leibniz] (англ.)
- [plato.stanford.edu/entries/leibniz/ Stanford Encyclopedia of Philosophy: Gottfried Wilhelm Leibniz] (англ.)
- [www.iep.utm.edu/leib-met/ Internet Encyclopedia of Philosophy: «Leibniz: Metaphysics»] (англ.)
| ||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Отрывок, характеризующий Лейбниц, Готфрид Вильгельм
В недостроенном доме на Варварке, внизу которого был питейный дом, слышались пьяные крики и песни. На лавках у столов в небольшой грязной комнате сидело человек десять фабричных. Все они, пьяные, потные, с мутными глазами, напруживаясь и широко разевая рты, пели какую то песню. Они пели врозь, с трудом, с усилием, очевидно, не для того, что им хотелось петь, но для того только, чтобы доказать, что они пьяны и гуляют. Один из них, высокий белокурый малый в чистой синей чуйке, стоял над ними. Лицо его с тонким прямым носом было бы красиво, ежели бы не тонкие, поджатые, беспрестанно двигающиеся губы и мутные и нахмуренные, неподвижные глаза. Он стоял над теми, которые пели, и, видимо воображая себе что то, торжественно и угловато размахивал над их головами засученной по локоть белой рукой, грязные пальцы которой он неестественно старался растопыривать. Рукав его чуйки беспрестанно спускался, и малый старательно левой рукой опять засучивал его, как будто что то было особенно важное в том, чтобы эта белая жилистая махавшая рука была непременно голая. В середине песни в сенях и на крыльце послышались крики драки и удары. Высокий малый махнул рукой.– Шабаш! – крикнул он повелительно. – Драка, ребята! – И он, не переставая засучивать рукав, вышел на крыльцо.
Фабричные пошли за ним. Фабричные, пившие в кабаке в это утро под предводительством высокого малого, принесли целовальнику кожи с фабрики, и за это им было дано вино. Кузнецы из соседних кузень, услыхав гульбу в кабаке и полагая, что кабак разбит, силой хотели ворваться в него. На крыльце завязалась драка.
Целовальник в дверях дрался с кузнецом, и в то время как выходили фабричные, кузнец оторвался от целовальника и упал лицом на мостовую.
Другой кузнец рвался в дверь, грудью наваливаясь на целовальника.
Малый с засученным рукавом на ходу еще ударил в лицо рвавшегося в дверь кузнеца и дико закричал:
– Ребята! наших бьют!
В это время первый кузнец поднялся с земли и, расцарапывая кровь на разбитом лице, закричал плачущим голосом:
– Караул! Убили!.. Человека убили! Братцы!..
– Ой, батюшки, убили до смерти, убили человека! – завизжала баба, вышедшая из соседних ворот. Толпа народа собралась около окровавленного кузнеца.
– Мало ты народ то грабил, рубахи снимал, – сказал чей то голос, обращаясь к целовальнику, – что ж ты человека убил? Разбойник!
Высокий малый, стоя на крыльце, мутными глазами водил то на целовальника, то на кузнецов, как бы соображая, с кем теперь следует драться.
– Душегуб! – вдруг крикнул он на целовальника. – Вяжи его, ребята!
– Как же, связал одного такого то! – крикнул целовальник, отмахнувшись от набросившихся на него людей, и, сорвав с себя шапку, он бросил ее на землю. Как будто действие это имело какое то таинственно угрожающее значение, фабричные, обступившие целовальника, остановились в нерешительности.
– Порядок то я, брат, знаю очень прекрасно. Я до частного дойду. Ты думаешь, не дойду? Разбойничать то нонче никому не велят! – прокричал целовальник, поднимая шапку.
– И пойдем, ишь ты! И пойдем… ишь ты! – повторяли друг за другом целовальник и высокий малый, и оба вместе двинулись вперед по улице. Окровавленный кузнец шел рядом с ними. Фабричные и посторонний народ с говором и криком шли за ними.
У угла Маросейки, против большого с запертыми ставнями дома, на котором была вывеска сапожного мастера, стояли с унылыми лицами человек двадцать сапожников, худых, истомленных людей в халатах и оборванных чуйках.
– Он народ разочти как следует! – говорил худой мастеровой с жидкой бородйой и нахмуренными бровями. – А что ж, он нашу кровь сосал – да и квит. Он нас водил, водил – всю неделю. А теперь довел до последнего конца, а сам уехал.
Увидав народ и окровавленного человека, говоривший мастеровой замолчал, и все сапожники с поспешным любопытством присоединились к двигавшейся толпе.
– Куда идет народ то?
– Известно куда, к начальству идет.
– Что ж, али взаправду наша не взяла сила?
– А ты думал как! Гляди ко, что народ говорит.
Слышались вопросы и ответы. Целовальник, воспользовавшись увеличением толпы, отстал от народа и вернулся к своему кабаку.
Высокий малый, не замечая исчезновения своего врага целовальника, размахивая оголенной рукой, не переставал говорить, обращая тем на себя общее внимание. На него то преимущественно жался народ, предполагая от него получить разрешение занимавших всех вопросов.
– Он покажи порядок, закон покажи, на то начальство поставлено! Так ли я говорю, православные? – говорил высокий малый, чуть заметно улыбаясь.
– Он думает, и начальства нет? Разве без начальства можно? А то грабить то мало ли их.
– Что пустое говорить! – отзывалось в толпе. – Как же, так и бросят Москву то! Тебе на смех сказали, а ты и поверил. Мало ли войсков наших идет. Так его и пустили! На то начальство. Вон послушай, что народ то бает, – говорили, указывая на высокого малого.
У стены Китай города другая небольшая кучка людей окружала человека в фризовой шинели, держащего в руках бумагу.
– Указ, указ читают! Указ читают! – послышалось в толпе, и народ хлынул к чтецу.
Человек в фризовой шинели читал афишку от 31 го августа. Когда толпа окружила его, он как бы смутился, но на требование высокого малого, протеснившегося до него, он с легким дрожанием в голосе начал читать афишку сначала.
«Я завтра рано еду к светлейшему князю, – читал он (светлеющему! – торжественно, улыбаясь ртом и хмуря брови, повторил высокий малый), – чтобы с ним переговорить, действовать и помогать войскам истреблять злодеев; станем и мы из них дух… – продолжал чтец и остановился („Видал?“ – победоносно прокричал малый. – Он тебе всю дистанцию развяжет…»)… – искоренять и этих гостей к черту отправлять; я приеду назад к обеду, и примемся за дело, сделаем, доделаем и злодеев отделаем».
Последние слова были прочтены чтецом в совершенном молчании. Высокий малый грустно опустил голову. Очевидно было, что никто не понял этих последних слов. В особенности слова: «я приеду завтра к обеду», видимо, даже огорчили и чтеца и слушателей. Понимание народа было настроено на высокий лад, а это было слишком просто и ненужно понятно; это было то самое, что каждый из них мог бы сказать и что поэтому не мог говорить указ, исходящий от высшей власти.
Все стояли в унылом молчании. Высокий малый водил губами и пошатывался.
– У него спросить бы!.. Это сам и есть?.. Как же, успросил!.. А то что ж… Он укажет… – вдруг послышалось в задних рядах толпы, и общее внимание обратилось на выезжавшие на площадь дрожки полицеймейстера, сопутствуемого двумя конными драгунами.
Полицеймейстер, ездивший в это утро по приказанию графа сжигать барки и, по случаю этого поручения, выручивший большую сумму денег, находившуюся у него в эту минуту в кармане, увидав двинувшуюся к нему толпу людей, приказал кучеру остановиться.
– Что за народ? – крикнул он на людей, разрозненно и робко приближавшихся к дрожкам. – Что за народ? Я вас спрашиваю? – повторил полицеймейстер, не получавший ответа.
– Они, ваше благородие, – сказал приказный во фризовой шинели, – они, ваше высокородие, по объявлению сиятельнейшего графа, не щадя живота, желали послужить, а не то чтобы бунт какой, как сказано от сиятельнейшего графа…
– Граф не уехал, он здесь, и об вас распоряжение будет, – сказал полицеймейстер. – Пошел! – сказал он кучеру. Толпа остановилась, скучиваясь около тех, которые слышали то, что сказало начальство, и глядя на отъезжающие дрожки.
Полицеймейстер в это время испуганно оглянулся, что то сказал кучеру, и лошади его поехали быстрее.
– Обман, ребята! Веди к самому! – крикнул голос высокого малого. – Не пущай, ребята! Пущай отчет подаст! Держи! – закричали голоса, и народ бегом бросился за дрожками.
Толпа за полицеймейстером с шумным говором направилась на Лубянку.
– Что ж, господа да купцы повыехали, а мы за то и пропадаем? Что ж, мы собаки, что ль! – слышалось чаще в толпе.
Вечером 1 го сентября, после своего свидания с Кутузовым, граф Растопчин, огорченный и оскорбленный тем, что его не пригласили на военный совет, что Кутузов не обращал никакого внимания на его предложение принять участие в защите столицы, и удивленный новым открывшимся ему в лагере взглядом, при котором вопрос о спокойствии столицы и о патриотическом ее настроении оказывался не только второстепенным, но совершенно ненужным и ничтожным, – огорченный, оскорбленный и удивленный всем этим, граф Растопчин вернулся в Москву. Поужинав, граф, не раздеваясь, прилег на канапе и в первом часу был разбужен курьером, который привез ему письмо от Кутузова. В письме говорилось, что так как войска отступают на Рязанскую дорогу за Москву, то не угодно ли графу выслать полицейских чиновников, для проведения войск через город. Известие это не было новостью для Растопчина. Не только со вчерашнего свиданья с Кутузовым на Поклонной горе, но и с самого Бородинского сражения, когда все приезжавшие в Москву генералы в один голос говорили, что нельзя дать еще сражения, и когда с разрешения графа каждую ночь уже вывозили казенное имущество и жители до половины повыехали, – граф Растопчин знал, что Москва будет оставлена; но тем не менее известие это, сообщенное в форме простой записки с приказанием от Кутузова и полученное ночью, во время первого сна, удивило и раздражило графа.
Впоследствии, объясняя свою деятельность за это время, граф Растопчин в своих записках несколько раз писал, что у него тогда было две важные цели: De maintenir la tranquillite a Moscou et d'en faire partir les habitants. [Сохранить спокойствие в Москве и выпроводить из нее жителей.] Если допустить эту двоякую цель, всякое действие Растопчина оказывается безукоризненным. Для чего не вывезена московская святыня, оружие, патроны, порох, запасы хлеба, для чего тысячи жителей обмануты тем, что Москву не сдадут, и разорены? – Для того, чтобы соблюсти спокойствие в столице, отвечает объяснение графа Растопчина. Для чего вывозились кипы ненужных бумаг из присутственных мест и шар Леппиха и другие предметы? – Для того, чтобы оставить город пустым, отвечает объяснение графа Растопчина. Стоит только допустить, что что нибудь угрожало народному спокойствию, и всякое действие становится оправданным.
Все ужасы террора основывались только на заботе о народном спокойствии.
На чем же основывался страх графа Растопчина о народном спокойствии в Москве в 1812 году? Какая причина была предполагать в городе склонность к возмущению? Жители уезжали, войска, отступая, наполняли Москву. Почему должен был вследствие этого бунтовать народ?
Не только в Москве, но во всей России при вступлении неприятеля не произошло ничего похожего на возмущение. 1 го, 2 го сентября более десяти тысяч людей оставалось в Москве, и, кроме толпы, собравшейся на дворе главнокомандующего и привлеченной им самим, – ничего не было. Очевидно, что еще менее надо было ожидать волнения в народе, ежели бы после Бородинского сражения, когда оставление Москвы стало очевидно, или, по крайней мере, вероятно, – ежели бы тогда вместо того, чтобы волновать народ раздачей оружия и афишами, Растопчин принял меры к вывозу всей святыни, пороху, зарядов и денег и прямо объявил бы народу, что город оставляется.
Растопчин, пылкий, сангвинический человек, всегда вращавшийся в высших кругах администрации, хотя в с патриотическим чувством, не имел ни малейшего понятия о том народе, которым он думал управлять. С самого начала вступления неприятеля в Смоленск Растопчин в воображении своем составил для себя роль руководителя народного чувства – сердца России. Ему не только казалось (как это кажется каждому администратору), что он управлял внешними действиями жителей Москвы, но ему казалось, что он руководил их настроением посредством своих воззваний и афиш, писанных тем ёрническим языком, который в своей среде презирает народ и которого он не понимает, когда слышит его сверху. Красивая роль руководителя народного чувства так понравилась Растопчину, он так сжился с нею, что необходимость выйти из этой роли, необходимость оставления Москвы без всякого героического эффекта застала его врасплох, и он вдруг потерял из под ног почву, на которой стоял, в решительно не знал, что ему делать. Он хотя и знал, но не верил всею душою до последней минуты в оставление Москвы и ничего не делал с этой целью. Жители выезжали против его желания. Ежели вывозили присутственные места, то только по требованию чиновников, с которыми неохотно соглашался граф. Сам же он был занят только тою ролью, которую он для себя сделал. Как это часто бывает с людьми, одаренными пылким воображением, он знал уже давно, что Москву оставят, но знал только по рассуждению, но всей душой не верил в это, не перенесся воображением в это новое положение.
Вся деятельность его, старательная и энергическая (насколько она была полезна и отражалась на народ – это другой вопрос), вся деятельность его была направлена только на то, чтобы возбудить в жителях то чувство, которое он сам испытывал, – патриотическую ненависть к французам и уверенность в себе.
Но когда событие принимало свои настоящие, исторические размеры, когда оказалось недостаточным только словами выражать свою ненависть к французам, когда нельзя было даже сражением выразить эту ненависть, когда уверенность в себе оказалась бесполезною по отношению к одному вопросу Москвы, когда все население, как один человек, бросая свои имущества, потекло вон из Москвы, показывая этим отрицательным действием всю силу своего народного чувства, – тогда роль, выбранная Растопчиным, оказалась вдруг бессмысленной. Он почувствовал себя вдруг одиноким, слабым и смешным, без почвы под ногами.
Получив, пробужденный от сна, холодную и повелительную записку от Кутузова, Растопчин почувствовал себя тем более раздраженным, чем более он чувствовал себя виновным. В Москве оставалось все то, что именно было поручено ему, все то казенное, что ему должно было вывезти. Вывезти все не было возможности.
«Кто же виноват в этом, кто допустил до этого? – думал он. – Разумеется, не я. У меня все было готово, я держал Москву вот как! И вот до чего они довели дело! Мерзавцы, изменники!» – думал он, не определяя хорошенько того, кто были эти мерзавцы и изменники, но чувствуя необходимость ненавидеть этих кого то изменников, которые были виноваты в том фальшивом и смешном положении, в котором он находился.
Всю эту ночь граф Растопчин отдавал приказания, за которыми со всех сторон Москвы приезжали к нему. Приближенные никогда не видали графа столь мрачным и раздраженным.
«Ваше сиятельство, из вотчинного департамента пришли, от директора за приказаниями… Из консистории, из сената, из университета, из воспитательного дома, викарный прислал… спрашивает… О пожарной команде как прикажете? Из острога смотритель… из желтого дома смотритель…» – всю ночь, не переставая, докладывали графу.
На все эта вопросы граф давал короткие и сердитые ответы, показывавшие, что приказания его теперь не нужны, что все старательно подготовленное им дело теперь испорчено кем то и что этот кто то будет нести всю ответственность за все то, что произойдет теперь.
– Ну, скажи ты этому болвану, – отвечал он на запрос от вотчинного департамента, – чтоб он оставался караулить свои бумаги. Ну что ты спрашиваешь вздор о пожарной команде? Есть лошади – пускай едут во Владимир. Не французам оставлять.
– Ваше сиятельство, приехал надзиратель из сумасшедшего дома, как прикажете?
– Как прикажу? Пускай едут все, вот и всё… А сумасшедших выпустить в городе. Когда у нас сумасшедшие армиями командуют, так этим и бог велел.
На вопрос о колодниках, которые сидели в яме, граф сердито крикнул на смотрителя:
– Что ж, тебе два батальона конвоя дать, которого нет? Пустить их, и всё!
– Ваше сиятельство, есть политические: Мешков, Верещагин.
– Верещагин! Он еще не повешен? – крикнул Растопчин. – Привести его ко мне.
К девяти часам утра, когда войска уже двинулись через Москву, никто больше не приходил спрашивать распоряжений графа. Все, кто мог ехать, ехали сами собой; те, кто оставались, решали сами с собой, что им надо было делать.
Граф велел подавать лошадей, чтобы ехать в Сокольники, и, нахмуренный, желтый и молчаливый, сложив руки, сидел в своем кабинете.
Каждому администратору в спокойное, не бурное время кажется, что только его усилиями движется всо ему подведомственное народонаселение, и в этом сознании своей необходимости каждый администратор чувствует главную награду за свои труды и усилия. Понятно, что до тех пор, пока историческое море спокойно, правителю администратору, с своей утлой лодочкой упирающемуся шестом в корабль народа и самому двигающемуся, должно казаться, что его усилиями двигается корабль, в который он упирается. Но стоит подняться буре, взволноваться морю и двинуться самому кораблю, и тогда уж заблуждение невозможно. Корабль идет своим громадным, независимым ходом, шест не достает до двинувшегося корабля, и правитель вдруг из положения властителя, источника силы, переходит в ничтожного, бесполезного и слабого человека.
Растопчин чувствовал это, и это то раздражало его. Полицеймейстер, которого остановила толпа, вместе с адъютантом, который пришел доложить, что лошади готовы, вошли к графу. Оба были бледны, и полицеймейстер, передав об исполнении своего поручения, сообщил, что на дворе графа стояла огромная толпа народа, желавшая его видеть.
Растопчин, ни слова не отвечая, встал и быстрыми шагами направился в свою роскошную светлую гостиную, подошел к двери балкона, взялся за ручку, оставил ее и перешел к окну, из которого виднее была вся толпа. Высокий малый стоял в передних рядах и с строгим лицом, размахивая рукой, говорил что то. Окровавленный кузнец с мрачным видом стоял подле него. Сквозь закрытые окна слышен был гул голосов.
– Готов экипаж? – сказал Растопчин, отходя от окна.
– Готов, ваше сиятельство, – сказал адъютант.
Растопчин опять подошел к двери балкона.
– Да чего они хотят? – спросил он у полицеймейстера.
– Ваше сиятельство, они говорят, что собрались идти на французов по вашему приказанью, про измену что то кричали. Но буйная толпа, ваше сиятельство. Я насилу уехал. Ваше сиятельство, осмелюсь предложить…
– Извольте идти, я без вас знаю, что делать, – сердито крикнул Растопчин. Он стоял у двери балкона, глядя на толпу. «Вот что они сделали с Россией! Вот что они сделали со мной!» – думал Растопчин, чувствуя поднимающийся в своей душе неудержимый гнев против кого то того, кому можно было приписать причину всего случившегося. Как это часто бывает с горячими людьми, гнев уже владел им, но он искал еще для него предмета. «La voila la populace, la lie du peuple, – думал он, глядя на толпу, – la plebe qu'ils ont soulevee par leur sottise. Il leur faut une victime, [„Вот он, народец, эти подонки народонаселения, плебеи, которых они подняли своею глупостью! Им нужна жертва“.] – пришло ему в голову, глядя на размахивающего рукой высокого малого. И по тому самому это пришло ему в голову, что ему самому нужна была эта жертва, этот предмет для своего гнева.
– Готов экипаж? – в другой раз спросил он.
– Готов, ваше сиятельство. Что прикажете насчет Верещагина? Он ждет у крыльца, – отвечал адъютант.
– А! – вскрикнул Растопчин, как пораженный каким то неожиданным воспоминанием.
И, быстро отворив дверь, он вышел решительными шагами на балкон. Говор вдруг умолк, шапки и картузы снялись, и все глаза поднялись к вышедшему графу.
– Здравствуйте, ребята! – сказал граф быстро и громко. – Спасибо, что пришли. Я сейчас выйду к вам, но прежде всего нам надо управиться с злодеем. Нам надо наказать злодея, от которого погибла Москва. Подождите меня! – И граф так же быстро вернулся в покои, крепко хлопнув дверью.
По толпе пробежал одобрительный ропот удовольствия. «Он, значит, злодеев управит усех! А ты говоришь француз… он тебе всю дистанцию развяжет!» – говорили люди, как будто упрекая друг друга в своем маловерии.
Через несколько минут из парадных дверей поспешно вышел офицер, приказал что то, и драгуны вытянулись. Толпа от балкона жадно подвинулась к крыльцу. Выйдя гневно быстрыми шагами на крыльцо, Растопчин поспешно оглянулся вокруг себя, как бы отыскивая кого то.
– Где он? – сказал граф, и в ту же минуту, как он сказал это, он увидал из за угла дома выходившего между, двух драгун молодого человека с длинной тонкой шеей, с до половины выбритой и заросшей головой. Молодой человек этот был одет в когда то щегольской, крытый синим сукном, потертый лисий тулупчик и в грязные посконные арестантские шаровары, засунутые в нечищеные, стоптанные тонкие сапоги. На тонких, слабых ногах тяжело висели кандалы, затруднявшие нерешительную походку молодого человека.
– А ! – сказал Растопчин, поспешно отворачивая свой взгляд от молодого человека в лисьем тулупчике и указывая на нижнюю ступеньку крыльца. – Поставьте его сюда! – Молодой человек, брянча кандалами, тяжело переступил на указываемую ступеньку, придержав пальцем нажимавший воротник тулупчика, повернул два раза длинной шеей и, вздохнув, покорным жестом сложил перед животом тонкие, нерабочие руки.
Несколько секунд, пока молодой человек устанавливался на ступеньке, продолжалось молчание. Только в задних рядах сдавливающихся к одному месту людей слышались кряхтенье, стоны, толчки и топот переставляемых ног.
Растопчин, ожидая того, чтобы он остановился на указанном месте, хмурясь потирал рукою лицо.
– Ребята! – сказал Растопчин металлически звонким голосом, – этот человек, Верещагин – тот самый мерзавец, от которого погибла Москва.
Молодой человек в лисьем тулупчике стоял в покорной позе, сложив кисти рук вместе перед животом и немного согнувшись. Исхудалое, с безнадежным выражением, изуродованное бритою головой молодое лицо его было опущено вниз. При первых словах графа он медленно поднял голову и поглядел снизу на графа, как бы желая что то сказать ему или хоть встретить его взгляд. Но Растопчин не смотрел на него. На длинной тонкой шее молодого человека, как веревка, напружилась и посинела жила за ухом, и вдруг покраснело лицо.
Все глаза были устремлены на него. Он посмотрел на толпу, и, как бы обнадеженный тем выражением, которое он прочел на лицах людей, он печально и робко улыбнулся и, опять опустив голову, поправился ногами на ступеньке.
– Он изменил своему царю и отечеству, он передался Бонапарту, он один из всех русских осрамил имя русского, и от него погибает Москва, – говорил Растопчин ровным, резким голосом; но вдруг быстро взглянул вниз на Верещагина, продолжавшего стоять в той же покорной позе. Как будто взгляд этот взорвал его, он, подняв руку, закричал почти, обращаясь к народу: – Своим судом расправляйтесь с ним! отдаю его вам!
Народ молчал и только все теснее и теснее нажимал друг на друга. Держать друг друга, дышать в этой зараженной духоте, не иметь силы пошевелиться и ждать чего то неизвестного, непонятного и страшного становилось невыносимо. Люди, стоявшие в передних рядах, видевшие и слышавшие все то, что происходило перед ними, все с испуганно широко раскрытыми глазами и разинутыми ртами, напрягая все свои силы, удерживали на своих спинах напор задних.
– Бей его!.. Пускай погибнет изменник и не срамит имя русского! – закричал Растопчин. – Руби! Я приказываю! – Услыхав не слова, но гневные звуки голоса Растопчина, толпа застонала и надвинулась, но опять остановилась.
– Граф!.. – проговорил среди опять наступившей минутной тишины робкий и вместе театральный голос Верещагина. – Граф, один бог над нами… – сказал Верещагин, подняв голову, и опять налилась кровью толстая жила на его тонкой шее, и краска быстро выступила и сбежала с его лица. Он не договорил того, что хотел сказать.
– Руби его! Я приказываю!.. – прокричал Растопчин, вдруг побледнев так же, как Верещагин.
– Сабли вон! – крикнул офицер драгунам, сам вынимая саблю.
Другая еще сильнейшая волна взмыла по народу, и, добежав до передних рядов, волна эта сдвинула переднии, шатая, поднесла к самым ступеням крыльца. Высокий малый, с окаменелым выражением лица и с остановившейся поднятой рукой, стоял рядом с Верещагиным.
– Руби! – прошептал почти офицер драгунам, и один из солдат вдруг с исказившимся злобой лицом ударил Верещагина тупым палашом по голове.
«А!» – коротко и удивленно вскрикнул Верещагин, испуганно оглядываясь и как будто не понимая, зачем это было с ним сделано. Такой же стон удивления и ужаса пробежал по толпе.
«О господи!» – послышалось чье то печальное восклицание.
Но вслед за восклицанием удивления, вырвавшимся У Верещагина, он жалобно вскрикнул от боли, и этот крик погубил его. Та натянутая до высшей степени преграда человеческого чувства, которая держала еще толпу, прорвалось мгновенно. Преступление было начато, необходимо было довершить его. Жалобный стон упрека был заглушен грозным и гневным ревом толпы. Как последний седьмой вал, разбивающий корабли, взмыла из задних рядов эта последняя неудержимая волна, донеслась до передних, сбила их и поглотила все. Ударивший драгун хотел повторить свой удар. Верещагин с криком ужаса, заслонясь руками, бросился к народу. Высокий малый, на которого он наткнулся, вцепился руками в тонкую шею Верещагина и с диким криком, с ним вместе, упал под ноги навалившегося ревущего народа.
Одни били и рвали Верещагина, другие высокого малого. И крики задавленных людей и тех, которые старались спасти высокого малого, только возбуждали ярость толпы. Долго драгуны не могли освободить окровавленного, до полусмерти избитого фабричного. И долго, несмотря на всю горячечную поспешность, с которою толпа старалась довершить раз начатое дело, те люди, которые били, душили и рвали Верещагина, не могли убить его; но толпа давила их со всех сторон, с ними в середине, как одна масса, колыхалась из стороны в сторону и не давала им возможности ни добить, ни бросить его.
«Топором то бей, что ли?.. задавили… Изменщик, Христа продал!.. жив… живущ… по делам вору мука. Запором то!.. Али жив?»
Только когда уже перестала бороться жертва и вскрики ее заменились равномерным протяжным хрипеньем, толпа стала торопливо перемещаться около лежащего, окровавленного трупа. Каждый подходил, взглядывал на то, что было сделано, и с ужасом, упреком и удивлением теснился назад.
«О господи, народ то что зверь, где же живому быть!» – слышалось в толпе. – И малый то молодой… должно, из купцов, то то народ!.. сказывают, не тот… как же не тот… О господи… Другого избили, говорят, чуть жив… Эх, народ… Кто греха не боится… – говорили теперь те же люди, с болезненно жалостным выражением глядя на мертвое тело с посиневшим, измазанным кровью и пылью лицом и с разрубленной длинной тонкой шеей.
Полицейский старательный чиновник, найдя неприличным присутствие трупа на дворе его сиятельства, приказал драгунам вытащить тело на улицу. Два драгуна взялись за изуродованные ноги и поволокли тело. Окровавленная, измазанная в пыли, мертвая бритая голова на длинной шее, подворачиваясь, волочилась по земле. Народ жался прочь от трупа.
В то время как Верещагин упал и толпа с диким ревом стеснилась и заколыхалась над ним, Растопчин вдруг побледнел, и вместо того чтобы идти к заднему крыльцу, у которого ждали его лошади, он, сам не зная куда и зачем, опустив голову, быстрыми шагами пошел по коридору, ведущему в комнаты нижнего этажа. Лицо графа было бледно, и он не мог остановить трясущуюся, как в лихорадке, нижнюю челюсть.
– Ваше сиятельство, сюда… куда изволите?.. сюда пожалуйте, – проговорил сзади его дрожащий, испуганный голос. Граф Растопчин не в силах был ничего отвечать и, послушно повернувшись, пошел туда, куда ему указывали. У заднего крыльца стояла коляска. Далекий гул ревущей толпы слышался и здесь. Граф Растопчин торопливо сел в коляску и велел ехать в свой загородный дом в Сокольниках. Выехав на Мясницкую и не слыша больше криков толпы, граф стал раскаиваться. Он с неудовольствием вспомнил теперь волнение и испуг, которые он выказал перед своими подчиненными. «La populace est terrible, elle est hideuse, – думал он по французски. – Ils sont сошше les loups qu'on ne peut apaiser qu'avec de la chair. [Народная толпа страшна, она отвратительна. Они как волки: их ничем не удовлетворишь, кроме мяса.] „Граф! один бог над нами!“ – вдруг вспомнились ему слова Верещагина, и неприятное чувство холода пробежало по спине графа Растопчина. Но чувство это было мгновенно, и граф Растопчин презрительно улыбнулся сам над собою. „J'avais d'autres devoirs, – подумал он. – Il fallait apaiser le peuple. Bien d'autres victimes ont peri et perissent pour le bien publique“, [У меня были другие обязанности. Следовало удовлетворить народ. Много других жертв погибло и гибнет для общественного блага.] – и он стал думать о тех общих обязанностях, которые он имел в отношении своего семейства, своей (порученной ему) столице и о самом себе, – не как о Федоре Васильевиче Растопчине (он полагал, что Федор Васильевич Растопчин жертвует собою для bien publique [общественного блага]), но о себе как о главнокомандующем, о представителе власти и уполномоченном царя. „Ежели бы я был только Федор Васильевич, ma ligne de conduite aurait ete tout autrement tracee, [путь мой был бы совсем иначе начертан,] но я должен был сохранить и жизнь и достоинство главнокомандующего“.
Слегка покачиваясь на мягких рессорах экипажа и не слыша более страшных звуков толпы, Растопчин физически успокоился, и, как это всегда бывает, одновременно с физическим успокоением ум подделал для него и причины нравственного успокоения. Мысль, успокоившая Растопчина, была не новая. С тех пор как существует мир и люди убивают друг друга, никогда ни один человек не совершил преступления над себе подобным, не успокоивая себя этой самой мыслью. Мысль эта есть le bien publique [общественное благо], предполагаемое благо других людей.
Для человека, не одержимого страстью, благо это никогда не известно; но человек, совершающий преступление, всегда верно знает, в чем состоит это благо. И Растопчин теперь знал это.
Он не только в рассуждениях своих не упрекал себя в сделанном им поступке, но находил причины самодовольства в том, что он так удачно умел воспользоваться этим a propos [удобным случаем] – наказать преступника и вместе с тем успокоить толпу.
«Верещагин был судим и приговорен к смертной казни, – думал Растопчин (хотя Верещагин сенатом был только приговорен к каторжной работе). – Он был предатель и изменник; я не мог оставить его безнаказанным, и потом je faisais d'une pierre deux coups [одним камнем делал два удара]; я для успокоения отдавал жертву народу и казнил злодея».
Приехав в свой загородный дом и занявшись домашними распоряжениями, граф совершенно успокоился.
Через полчаса граф ехал на быстрых лошадях через Сокольничье поле, уже не вспоминая о том, что было, и думая и соображая только о том, что будет. Он ехал теперь к Яузскому мосту, где, ему сказали, был Кутузов. Граф Растопчин готовил в своем воображении те гневные в колкие упреки, которые он выскажет Кутузову за его обман. Он даст почувствовать этой старой придворной лисице, что ответственность за все несчастия, имеющие произойти от оставления столицы, от погибели России (как думал Растопчин), ляжет на одну его выжившую из ума старую голову. Обдумывая вперед то, что он скажет ему, Растопчин гневно поворачивался в коляске и сердито оглядывался по сторонам.
Сокольничье поле было пустынно. Только в конце его, у богадельни и желтого дома, виднелась кучки людей в белых одеждах и несколько одиноких, таких же людей, которые шли по полю, что то крича и размахивая руками.
Один вз них бежал наперерез коляске графа Растопчина. И сам граф Растопчин, и его кучер, и драгуны, все смотрели с смутным чувством ужаса и любопытства на этих выпущенных сумасшедших и в особенности на того, который подбегал к вим.
Шатаясь на своих длинных худых ногах, в развевающемся халате, сумасшедший этот стремительно бежал, не спуская глаз с Растопчина, крича ему что то хриплым голосом и делая знаки, чтобы он остановился. Обросшее неровными клочками бороды, сумрачное и торжественное лицо сумасшедшего было худо и желто. Черные агатовые зрачки его бегали низко и тревожно по шафранно желтым белкам.
– Стой! Остановись! Я говорю! – вскрикивал он пронзительно и опять что то, задыхаясь, кричал с внушительными интонациями в жестами.
Он поравнялся с коляской и бежал с ней рядом.
– Трижды убили меня, трижды воскресал из мертвых. Они побили каменьями, распяли меня… Я воскресну… воскресну… воскресну. Растерзали мое тело. Царствие божие разрушится… Трижды разрушу и трижды воздвигну его, – кричал он, все возвышая и возвышая голос. Граф Растопчин вдруг побледнел так, как он побледнел тогда, когда толпа бросилась на Верещагина. Он отвернулся.
– Пош… пошел скорее! – крикнул он на кучера дрожащим голосом.
Коляска помчалась во все ноги лошадей; но долго еще позади себя граф Растопчин слышал отдаляющийся безумный, отчаянный крик, а перед глазами видел одно удивленно испуганное, окровавленное лицо изменника в меховом тулупчике.
Как ни свежо было это воспоминание, Растопчин чувствовал теперь, что оно глубоко, до крови, врезалось в его сердце. Он ясно чувствовал теперь, что кровавый след этого воспоминания никогда не заживет, но что, напротив, чем дальше, тем злее, мучительнее будет жить до конца жизни это страшное воспоминание в его сердце. Он слышал, ему казалось теперь, звуки своих слов:
«Руби его, вы головой ответите мне!» – «Зачем я сказал эти слова! Как то нечаянно сказал… Я мог не сказать их (думал он): тогда ничего бы не было». Он видел испуганное и потом вдруг ожесточившееся лицо ударившего драгуна и взгляд молчаливого, робкого упрека, который бросил на него этот мальчик в лисьем тулупе… «Но я не для себя сделал это. Я должен был поступить так. La plebe, le traitre… le bien publique», [Чернь, злодей… общественное благо.] – думал он.
У Яузского моста все еще теснилось войско. Было жарко. Кутузов, нахмуренный, унылый, сидел на лавке около моста и плетью играл по песку, когда с шумом подскакала к нему коляска. Человек в генеральском мундире, в шляпе с плюмажем, с бегающими не то гневными, не то испуганными глазами подошел к Кутузову и стал по французски говорить ему что то. Это был граф Растопчин. Он говорил Кутузову, что явился сюда, потому что Москвы и столицы нет больше и есть одна армия.
– Было бы другое, ежели бы ваша светлость не сказали мне, что вы не сдадите Москвы, не давши еще сражения: всего этого не было бы! – сказал он.
Кутузов глядел на Растопчина и, как будто не понимая значения обращенных к нему слов, старательно усиливался прочесть что то особенное, написанное в эту минуту на лице говорившего с ним человека. Растопчин, смутившись, замолчал. Кутузов слегка покачал головой и, не спуская испытующего взгляда с лица Растопчина, тихо проговорил:
– Да, я не отдам Москвы, не дав сражения.
Думал ли Кутузов совершенно о другом, говоря эти слова, или нарочно, зная их бессмысленность, сказал их, но граф Растопчин ничего не ответил и поспешно отошел от Кутузова. И странное дело! Главнокомандующий Москвы, гордый граф Растопчин, взяв в руки нагайку, подошел к мосту и стал с криком разгонять столпившиеся повозки.
В четвертом часу пополудни войска Мюрата вступали в Москву. Впереди ехал отряд виртембергских гусар, позади верхом, с большой свитой, ехал сам неаполитанский король.
Около середины Арбата, близ Николы Явленного, Мюрат остановился, ожидая известия от передового отряда о том, в каком положении находилась городская крепость «le Kremlin».
Вокруг Мюрата собралась небольшая кучка людей из остававшихся в Москве жителей. Все с робким недоумением смотрели на странного, изукрашенного перьями и золотом длинноволосого начальника.
– Что ж, это сам, что ли, царь ихний? Ничево! – слышались тихие голоса.
Переводчик подъехал к кучке народа.
– Шапку то сними… шапку то, – заговорили в толпе, обращаясь друг к другу. Переводчик обратился к одному старому дворнику и спросил, далеко ли до Кремля? Дворник, прислушиваясь с недоумением к чуждому ему польскому акценту и не признавая звуков говора переводчика за русскую речь, не понимал, что ему говорили, и прятался за других.
Мюрат подвинулся к переводчику в велел спросить, где русские войска. Один из русских людей понял, чего у него спрашивали, и несколько голосов вдруг стали отвечать переводчику. Французский офицер из передового отряда подъехал к Мюрату и доложил, что ворота в крепость заделаны и что, вероятно, там засада.
– Хорошо, – сказал Мюрат и, обратившись к одному из господ своей свиты, приказал выдвинуть четыре легких орудия и обстрелять ворота.
Артиллерия на рысях выехала из за колонны, шедшей за Мюратом, и поехала по Арбату. Спустившись до конца Вздвиженки, артиллерия остановилась и выстроилась на площади. Несколько французских офицеров распоряжались пушками, расстанавливая их, и смотрели в Кремль в зрительную трубу.
В Кремле раздавался благовест к вечерне, и этот звон смущал французов. Они предполагали, что это был призыв к оружию. Несколько человек пехотных солдат побежали к Кутафьевским воротам. В воротах лежали бревна и тесовые щиты. Два ружейные выстрела раздались из под ворот, как только офицер с командой стал подбегать к ним. Генерал, стоявший у пушек, крикнул офицеру командные слова, и офицер с солдатами побежал назад.
Послышалось еще три выстрела из ворот.
Один выстрел задел в ногу французского солдата, и странный крик немногих голосов послышался из за щитов. На лицах французского генерала, офицеров и солдат одновременно, как по команде, прежнее выражение веселости и спокойствия заменилось упорным, сосредоточенным выражением готовности на борьбу и страдания. Для них всех, начиная от маршала и до последнего солдата, это место не было Вздвиженка, Моховая, Кутафья и Троицкие ворота, а это была новая местность нового поля, вероятно, кровопролитного сражения. И все приготовились к этому сражению. Крики из ворот затихли. Орудия были выдвинуты. Артиллеристы сдули нагоревшие пальники. Офицер скомандовал «feu!» [пали!], и два свистящие звука жестянок раздались один за другим. Картечные пули затрещали по камню ворот, бревнам и щитам; и два облака дыма заколебались на площади.
Несколько мгновений после того, как затихли перекаты выстрелов по каменному Кремлю, странный звук послышался над головами французов. Огромная стая галок поднялась над стенами и, каркая и шумя тысячами крыл, закружилась в воздухе. Вместе с этим звуком раздался человеческий одинокий крик в воротах, и из за дыма появилась фигура человека без шапки, в кафтане. Держа ружье, он целился во французов. Feu! – повторил артиллерийский офицер, и в одно и то же время раздались один ружейный и два орудийных выстрела. Дым опять закрыл ворота.
За щитами больше ничего не шевелилось, и пехотные французские солдаты с офицерами пошли к воротам. В воротах лежало три раненых и четыре убитых человека. Два человека в кафтанах убегали низом, вдоль стен, к Знаменке.
– Enlevez moi ca, [Уберите это,] – сказал офицер, указывая на бревна и трупы; и французы, добив раненых, перебросили трупы вниз за ограду. Кто были эти люди, никто не знал. «Enlevez moi ca», – сказано только про них, и их выбросили и прибрали потом, чтобы они не воняли. Один Тьер посвятил их памяти несколько красноречивых строк: «Ces miserables avaient envahi la citadelle sacree, s'etaient empares des fusils de l'arsenal, et tiraient (ces miserables) sur les Francais. On en sabra quelques'uns et on purgea le Kremlin de leur presence. [Эти несчастные наполнили священную крепость, овладели ружьями арсенала и стреляли во французов. Некоторых из них порубили саблями, и очистили Кремль от их присутствия.]
Мюрату было доложено, что путь расчищен. Французы вошли в ворота и стали размещаться лагерем на Сенатской площади. Солдаты выкидывали стулья из окон сената на площадь и раскладывали огни.
Другие отряды проходили через Кремль и размещались по Маросейке, Лубянке, Покровке. Третьи размещались по Вздвиженке, Знаменке, Никольской, Тверской. Везде, не находя хозяев, французы размещались не как в городе на квартирах, а как в лагере, который расположен в городе.
Хотя и оборванные, голодные, измученные и уменьшенные до 1/3 части своей прежней численности, французские солдаты вступили в Москву еще в стройном порядке. Это было измученное, истощенное, но еще боевое и грозное войско. Но это было войско только до той минуты, пока солдаты этого войска не разошлись по квартирам. Как только люди полков стали расходиться по пустым и богатым домам, так навсегда уничтожалось войско и образовались не жители и не солдаты, а что то среднее, называемое мародерами. Когда, через пять недель, те же самые люди вышли из Москвы, они уже не составляли более войска. Это была толпа мародеров, из которых каждый вез или нес с собой кучу вещей, которые ему казались ценны и нужны. Цель каждого из этих людей при выходе из Москвы не состояла, как прежде, в том, чтобы завоевать, а только в том, чтобы удержать приобретенное. Подобно той обезьяне, которая, запустив руку в узкое горло кувшина и захватив горсть орехов, не разжимает кулака, чтобы не потерять схваченного, и этим губит себя, французы, при выходе из Москвы, очевидно, должны были погибнуть вследствие того, что они тащили с собой награбленное, но бросить это награбленное им было так же невозможно, как невозможно обезьяне разжать горсть с орехами. Через десять минут после вступления каждого французского полка в какой нибудь квартал Москвы, не оставалось ни одного солдата и офицера. В окнах домов видны были люди в шинелях и штиблетах, смеясь прохаживающиеся по комнатам; в погребах, в подвалах такие же люди хозяйничали с провизией; на дворах такие же люди отпирали или отбивали ворота сараев и конюшен; в кухнях раскладывали огни, с засученными руками пекли, месили и варили, пугали, смешили и ласкали женщин и детей. И этих людей везде, и по лавкам и по домам, было много; но войска уже не было.
В тот же день приказ за приказом отдавались французскими начальниками о том, чтобы запретить войскам расходиться по городу, строго запретить насилия жителей и мародерство, о том, чтобы нынче же вечером сделать общую перекличку; но, несмотря ни на какие меры. люди, прежде составлявшие войско, расплывались по богатому, обильному удобствами и запасами, пустому городу. Как голодное стадо идет в куче по голому полю, но тотчас же неудержимо разбредается, как только нападает на богатые пастбища, так же неудержимо разбредалось и войско по богатому городу.
Жителей в Москве не было, и солдаты, как вода в песок, всачивались в нее и неудержимой звездой расплывались во все стороны от Кремля, в который они вошли прежде всего. Солдаты кавалеристы, входя в оставленный со всем добром купеческий дом и находя стойла не только для своих лошадей, но и лишние, все таки шли рядом занимать другой дом, который им казался лучше. Многие занимали несколько домов, надписывая мелом, кем он занят, и спорили и даже дрались с другими командами. Не успев поместиться еще, солдаты бежали на улицу осматривать город и, по слуху о том, что все брошено, стремились туда, где можно было забрать даром ценные вещи. Начальники ходили останавливать солдат и сами вовлекались невольно в те же действия. В Каретном ряду оставались лавки с экипажами, и генералы толпились там, выбирая себе коляски и кареты. Остававшиеся жители приглашали к себе начальников, надеясь тем обеспечиться от грабежа. Богатств было пропасть, и конца им не видно было; везде, кругом того места, которое заняли французы, были еще неизведанные, незанятые места, в которых, как казалось французам, было еще больше богатств. И Москва все дальше и дальше всасывала их в себя. Точно, как вследствие того, что нальется вода на сухую землю, исчезает вода и сухая земля; точно так же вследствие того, что голодное войско вошло в обильный, пустой город, уничтожилось войско, и уничтожился обильный город; и сделалась грязь, сделались пожары и мародерство.
Французы приписывали пожар Москвы au patriotisme feroce de Rastopchine [дикому патриотизму Растопчина]; русские – изуверству французов. В сущности же, причин пожара Москвы в том смысле, чтобы отнести пожар этот на ответственность одного или несколько лиц, таких причин не было и не могло быть. Москва сгорела вследствие того, что она была поставлена в такие условия, при которых всякий деревянный город должен сгореть, независимо от того, имеются ли или не имеются в городе сто тридцать плохих пожарных труб. Москва должна была сгореть вследствие того, что из нее выехали жители, и так же неизбежно, как должна загореться куча стружек, на которую в продолжение нескольких дней будут сыпаться искры огня. Деревянный город, в котором при жителях владельцах домов и при полиции бывают летом почти каждый день пожары, не может не сгореть, когда в нем нет жителей, а живут войска, курящие трубки, раскладывающие костры на Сенатской площади из сенатских стульев и варящие себе есть два раза в день. Стоит в мирное время войскам расположиться на квартирах по деревням в известной местности, и количество пожаров в этой местности тотчас увеличивается. В какой же степени должна увеличиться вероятность пожаров в пустом деревянном городе, в котором расположится чужое войско? Le patriotisme feroce de Rastopchine и изуверство французов тут ни в чем не виноваты. Москва загорелась от трубок, от кухонь, от костров, от неряшливости неприятельских солдат, жителей – не хозяев домов. Ежели и были поджоги (что весьма сомнительно, потому что поджигать никому не было никакой причины, а, во всяком случае, хлопотливо и опасно), то поджоги нельзя принять за причину, так как без поджогов было бы то же самое.
Как ни лестно было французам обвинять зверство Растопчина и русским обвинять злодея Бонапарта или потом влагать героический факел в руки своего народа, нельзя не видеть, что такой непосредственной причины пожара не могло быть, потому что Москва должна была сгореть, как должна сгореть каждая деревня, фабрика, всякий дом, из которого выйдут хозяева и в который пустят хозяйничать и варить себе кашу чужих людей. Москва сожжена жителями, это правда; но не теми жителями, которые оставались в ней, а теми, которые выехали из нее. Москва, занятая неприятелем, не осталась цела, как Берлин, Вена и другие города, только вследствие того, что жители ее не подносили хлеба соли и ключей французам, а выехали из нее.
Расходившееся звездой по Москве всачивание французов в день 2 го сентября достигло квартала, в котором жил теперь Пьер, только к вечеру.
Пьер находился после двух последних, уединенно и необычайно проведенных дней в состоянии, близком к сумасшествию. Всем существом его овладела одна неотвязная мысль. Он сам не знал, как и когда, но мысль эта овладела им теперь так, что он ничего не помнил из прошедшего, ничего не понимал из настоящего; и все, что он видел и слышал, происходило перед ним как во сне.
Пьер ушел из своего дома только для того, чтобы избавиться от сложной путаницы требований жизни, охватившей его, и которую он, в тогдашнем состоянии, но в силах был распутать. Он поехал на квартиру Иосифа Алексеевича под предлогом разбора книг и бумаг покойного только потому, что он искал успокоения от жизненной тревоги, – а с воспоминанием об Иосифе Алексеевиче связывался в его душе мир вечных, спокойных и торжественных мыслей, совершенно противоположных тревожной путанице, в которую он чувствовал себя втягиваемым. Он искал тихого убежища и действительно нашел его в кабинете Иосифа Алексеевича. Когда он, в мертвой тишине кабинета, сел, облокотившись на руки, над запыленным письменным столом покойника, в его воображении спокойно и значительно, одно за другим, стали представляться воспоминания последних дней, в особенности Бородинского сражения и того неопределимого для него ощущения своей ничтожности и лживости в сравнении с правдой, простотой и силой того разряда людей, которые отпечатались у него в душе под названием они. Когда Герасим разбудил его от его задумчивости, Пьеру пришла мысль о том, что он примет участие в предполагаемой – как он знал – народной защите Москвы. И с этой целью он тотчас же попросил Герасима достать ему кафтан и пистолет и объявил ему свое намерение, скрывая свое имя, остаться в доме Иосифа Алексеевича. Потом, в продолжение первого уединенно и праздно проведенного дня (Пьер несколько раз пытался и не мог остановить своего внимания на масонских рукописях), ему несколько раз смутно представлялось и прежде приходившая мысль о кабалистическом значении своего имени в связи с именем Бонапарта; но мысль эта о том, что ему, l'Russe Besuhof, предназначено положить предел власти зверя, приходила ему еще только как одно из мечтаний, которые беспричинно и бесследно пробегают в воображении.
Когда, купив кафтан (с целью только участвовать в народной защите Москвы), Пьер встретил Ростовых и Наташа сказала ему: «Вы остаетесь? Ах, как это хорошо!» – в голове его мелькнула мысль, что действительно хорошо бы было, даже ежели бы и взяли Москву, ему остаться в ней и исполнить то, что ему предопределено.
На другой день он, с одною мыслию не жалеть себя и не отставать ни в чем от них, ходил с народом за Трехгорную заставу. Но когда он вернулся домой, убедившись, что Москву защищать не будут, он вдруг почувствовал, что то, что ему прежде представлялось только возможностью, теперь сделалось необходимостью и неизбежностью. Он должен был, скрывая свое имя, остаться в Москве, встретить Наполеона и убить его с тем, чтобы или погибнуть, или прекратить несчастье всей Европы, происходившее, по мнению Пьера, от одного Наполеона.
Пьер знал все подробности покушении немецкого студента на жизнь Бонапарта в Вене в 1809 м году и знал то, что студент этот был расстрелян. И та опасность, которой он подвергал свою жизнь при исполнении своего намерения, еще сильнее возбуждала его.
Два одинаково сильные чувства неотразимо привлекали Пьера к его намерению. Первое было чувство потребности жертвы и страдания при сознании общего несчастия, то чувство, вследствие которого он 25 го поехал в Можайск и заехал в самый пыл сражения, теперь убежал из своего дома и, вместо привычной роскоши и удобств жизни, спал, не раздеваясь, на жестком диване и ел одну пищу с Герасимом; другое – было то неопределенное, исключительно русское чувство презрения ко всему условному, искусственному, человеческому, ко всему тому, что считается большинством людей высшим благом мира. В первый раз Пьер испытал это странное и обаятельное чувство в Слободском дворце, когда он вдруг почувствовал, что и богатство, и власть, и жизнь, все, что с таким старанием устроивают и берегут люди, – все это ежели и стоит чего нибудь, то только по тому наслаждению, с которым все это можно бросить.
Это было то чувство, вследствие которого охотник рекрут пропивает последнюю копейку, запивший человек перебивает зеркала и стекла без всякой видимой причины и зная, что это будет стоить ему его последних денег; то чувство, вследствие которого человек, совершая (в пошлом смысле) безумные дела, как бы пробует свою личную власть и силу, заявляя присутствие высшего, стоящего вне человеческих условий, суда над жизнью.
С самого того дня, как Пьер в первый раз испытал это чувство в Слободском дворце, он непрестанно находился под его влиянием, но теперь только нашел ему полное удовлетворение. Кроме того, в настоящую минуту Пьера поддерживало в его намерении и лишало возможности отречься от него то, что уже было им сделано на этом пути. И его бегство из дома, и его кафтан, и пистолет, и его заявление Ростовым, что он остается в Москве, – все потеряло бы не только смысл, но все это было бы презренно и смешно (к чему Пьер был чувствителен), ежели бы он после всего этого, так же как и другие, уехал из Москвы.
Физическое состояние Пьера, как и всегда это бывает, совпадало с нравственным. Непривычная грубая пища, водка, которую он пил эти дни, отсутствие вина и сигар, грязное, неперемененное белье, наполовину бессонные две ночи, проведенные на коротком диване без постели, – все это поддерживало Пьера в состоянии раздражения, близком к помешательству.
Был уже второй час после полудня. Французы уже вступили в Москву. Пьер знал это, но, вместо того чтобы действовать, он думал только о своем предприятии, перебирая все его малейшие будущие подробности. Пьер в своих мечтаниях не представлял себе живо ни самого процесса нанесения удара, ни смерти Наполеона, но с необыкновенною яркостью и с грустным наслаждением представлял себе свою погибель и свое геройское мужество.
«Да, один за всех, я должен совершить или погибнуть! – думал он. – Да, я подойду… и потом вдруг… Пистолетом или кинжалом? – думал Пьер. – Впрочем, все равно. Не я, а рука провидения казнит тебя, скажу я (думал Пьер слова, которые он произнесет, убивая Наполеона). Ну что ж, берите, казните меня», – говорил дальше сам себе Пьер, с грустным, но твердым выражением на лице, опуская голову.
В то время как Пьер, стоя посередине комнаты, рассуждал с собой таким образом, дверь кабинета отворилась, и на пороге показалась совершенно изменившаяся фигура всегда прежде робкого Макара Алексеевича. Халат его был распахнут. Лицо было красно и безобразно. Он, очевидно, был пьян. Увидав Пьера, он смутился в первую минуту, но, заметив смущение и на лице Пьера, тотчас ободрился и шатающимися тонкими ногами вышел на середину комнаты.
– Они оробели, – сказал он хриплым, доверчивым голосом. – Я говорю: не сдамся, я говорю… так ли, господин? – Он задумался и вдруг, увидав пистолет на столе, неожиданно быстро схватил его и выбежал в коридор.
Герасим и дворник, шедшие следом за Макар Алексеичем, остановили его в сенях и стали отнимать пистолет. Пьер, выйдя в коридор, с жалостью и отвращением смотрел на этого полусумасшедшего старика. Макар Алексеич, морщась от усилий, удерживал пистолет и кричал хриплый голосом, видимо, себе воображая что то торжественное.
– К оружию! На абордаж! Врешь, не отнимешь! – кричал он.
– Будет, пожалуйста, будет. Сделайте милость, пожалуйста, оставьте. Ну, пожалуйста, барин… – говорил Герасим, осторожно за локти стараясь поворотить Макар Алексеича к двери.
– Ты кто? Бонапарт!.. – кричал Макар Алексеич.
– Это нехорошо, сударь. Вы пожалуйте в комнаты, вы отдохните. Пожалуйте пистолетик.
– Прочь, раб презренный! Не прикасайся! Видел? – кричал Макар Алексеич, потрясая пистолетом. – На абордаж!
– Берись, – шепнул Герасим дворнику.
Макара Алексеича схватили за руки и потащили к двери.
Сени наполнились безобразными звуками возни и пьяными хрипящими звуками запыхавшегося голоса.
Вдруг новый, пронзительный женский крик раздался от крыльца, и кухарка вбежала в сени.
– Они! Батюшки родимые!.. Ей богу, они. Четверо, конные!.. – кричала она.
Герасим и дворник выпустили из рук Макар Алексеича, и в затихшем коридоре ясно послышался стук нескольких рук во входную дверь.
Пьер, решивший сам с собою, что ему до исполнения своего намерения не надо было открывать ни своего звания, ни знания французского языка, стоял в полураскрытых дверях коридора, намереваясь тотчас же скрыться, как скоро войдут французы. Но французы вошли, и Пьер все не отходил от двери: непреодолимое любопытство удерживало его.
Их было двое. Один – офицер, высокий, бравый и красивый мужчина, другой – очевидно, солдат или денщик, приземистый, худой загорелый человек с ввалившимися щеками и тупым выражением лица. Офицер, опираясь на палку и прихрамывая, шел впереди. Сделав несколько шагов, офицер, как бы решив сам с собою, что квартира эта хороша, остановился, обернулся назад к стоявшим в дверях солдатам и громким начальническим голосом крикнул им, чтобы они вводили лошадей. Окончив это дело, офицер молодецким жестом, высоко подняв локоть руки, расправил усы и дотронулся рукой до шляпы.
– Bonjour la compagnie! [Почтение всей компании!] – весело проговорил он, улыбаясь и оглядываясь вокруг себя. Никто ничего не отвечал.
– Vous etes le bourgeois? [Вы хозяин?] – обратился офицер к Герасиму.
Герасим испуганно вопросительно смотрел на офицера.
– Quartire, quartire, logement, – сказал офицер, сверху вниз, с снисходительной и добродушной улыбкой глядя на маленького человека. – Les Francais sont de bons enfants. Que diable! Voyons! Ne nous fachons pas, mon vieux, [Квартир, квартир… Французы добрые ребята. Черт возьми, не будем ссориться, дедушка.] – прибавил он, трепля по плечу испуганного и молчаливого Герасима.
– A ca! Dites donc, on ne parle donc pas francais dans cette boutique? [Что ж, неужели и тут никто не говорит по французски?] – прибавил он, оглядываясь кругом и встречаясь глазами с Пьером. Пьер отстранился от двери.
Офицер опять обратился к Герасиму. Он требовал, чтобы Герасим показал ему комнаты в доме.
– Барин нету – не понимай… моя ваш… – говорил Герасим, стараясь делать свои слова понятнее тем, что он их говорил навыворот.
Французский офицер, улыбаясь, развел руками перед носом Герасима, давая чувствовать, что и он не понимает его, и, прихрамывая, пошел к двери, у которой стоял Пьер. Пьер хотел отойти, чтобы скрыться от него, но в это самое время он увидал из отворившейся двери кухни высунувшегося Макара Алексеича с пистолетом в руках. С хитростью безумного Макар Алексеич оглядел француза и, приподняв пистолет, прицелился.
– На абордаж!!! – закричал пьяный, нажимая спуск пистолета. Французский офицер обернулся на крик, и в то же мгновенье Пьер бросился на пьяного. В то время как Пьер схватил и приподнял пистолет, Макар Алексеич попал, наконец, пальцем на спуск, и раздался оглушивший и обдавший всех пороховым дымом выстрел. Француз побледнел и бросился назад к двери.
Забывший свое намерение не открывать своего знания французского языка, Пьер, вырвав пистолет и бросив его, подбежал к офицеру и по французски заговорил с ним.
– Vous n'etes pas blesse? [Вы не ранены?] – сказал он.
– Je crois que non, – отвечал офицер, ощупывая себя, – mais je l'ai manque belle cette fois ci, – прибавил он, указывая на отбившуюся штукатурку в стене. – Quel est cet homme? [Кажется, нет… но на этот раз близко было. Кто этот человек?] – строго взглянув на Пьера, сказал офицер.
– Ah, je suis vraiment au desespoir de ce qui vient d'arriver, [Ах, я, право, в отчаянии от того, что случилось,] – быстро говорил Пьер, совершенно забыв свою роль. – C'est un fou, un malheureux qui ne savait pas ce qu'il faisait. [Это несчастный сумасшедший, который не знал, что делал.]
Офицер подошел к Макару Алексеичу и схватил его за ворот.
Макар Алексеич, распустив губы, как бы засыпая, качался, прислонившись к стене.
– Brigand, tu me la payeras, – сказал француз, отнимая руку.
– Nous autres nous sommes clements apres la victoire: mais nous ne pardonnons pas aux traitres, [Разбойник, ты мне поплатишься за это. Наш брат милосерд после победы, но мы не прощаем изменникам,] – прибавил он с мрачной торжественностью в лице и с красивым энергическим жестом.
Пьер продолжал по французски уговаривать офицера не взыскивать с этого пьяного, безумного человека. Француз молча слушал, не изменяя мрачного вида, и вдруг с улыбкой обратился к Пьеру. Он несколько секунд молча посмотрел на него. Красивое лицо его приняло трагически нежное выражение, и он протянул руку.
– Vous m'avez sauve la vie! Vous etes Francais, [Вы спасли мне жизнь. Вы француз,] – сказал он. Для француза вывод этот был несомненен. Совершить великое дело мог только француз, а спасение жизни его, m r Ramball'я capitaine du 13 me leger [мосье Рамбаля, капитана 13 го легкого полка] – было, без сомнения, самым великим делом.
Но как ни несомненен был этот вывод и основанное на нем убеждение офицера, Пьер счел нужным разочаровать его.
– Je suis Russe, [Я русский,] – быстро сказал Пьер.
– Ти ти ти, a d'autres, [рассказывайте это другим,] – сказал француз, махая пальцем себе перед носом и улыбаясь. – Tout a l'heure vous allez me conter tout ca, – сказал он. – Charme de rencontrer un compatriote. Eh bien! qu'allons nous faire de cet homme? [Сейчас вы мне все это расскажете. Очень приятно встретить соотечественника. Ну! что же нам делать с этим человеком?] – прибавил он, обращаясь к Пьеру, уже как к своему брату. Ежели бы даже Пьер не был француз, получив раз это высшее в свете наименование, не мог же он отречься от него, говорило выражение лица и тон французского офицера. На последний вопрос Пьер еще раз объяснил, кто был Макар Алексеич, объяснил, что пред самым их приходом этот пьяный, безумный человек утащил заряженный пистолет, который не успели отнять у него, и просил оставить его поступок без наказания.
Француз выставил грудь и сделал царский жест рукой.
– Vous m'avez sauve la vie. Vous etes Francais. Vous me demandez sa grace? Je vous l'accorde. Qu'on emmene cet homme, [Вы спасли мне жизнь. Вы француз. Вы хотите, чтоб я простил его? Я прощаю его. Увести этого человека,] – быстро и энергично проговорил французский офицер, взяв под руку произведенного им за спасение его жизни во французы Пьера, и пошел с ним в дом.
Солдаты, бывшие на дворе, услыхав выстрел, вошли в сени, спрашивая, что случилось, и изъявляя готовность наказать виновных; но офицер строго остановил их.
– On vous demandera quand on aura besoin de vous, [Когда будет нужно, вас позовут,] – сказал он. Солдаты вышли. Денщик, успевший между тем побывать в кухне, подошел к офицеру.
– Capitaine, ils ont de la soupe et du gigot de mouton dans la cuisine, – сказал он. – Faut il vous l'apporter? [Капитан у них в кухне есть суп и жареная баранина. Прикажете принести?]
– Oui, et le vin, [Да, и вино,] – сказал капитан.
Французский офицер вместе с Пьером вошли в дом. Пьер счел своим долгом опять уверить капитана, что он был не француз, и хотел уйти, но французский офицер и слышать не хотел об этом. Он был до такой степени учтив, любезен, добродушен и истинно благодарен за спасение своей жизни, что Пьер не имел духа отказать ему и присел вместе с ним в зале, в первой комнате, в которую они вошли. На утверждение Пьера, что он не француз, капитан, очевидно не понимая, как можно было отказываться от такого лестного звания, пожал плечами и сказал, что ежели он непременно хочет слыть за русского, то пускай это так будет, но что он, несмотря на то, все так же навеки связан с ним чувством благодарности за спасение жизни.
Ежели бы этот человек был одарен хоть сколько нибудь способностью понимать чувства других и догадывался бы об ощущениях Пьера, Пьер, вероятно, ушел бы от него; но оживленная непроницаемость этого человека ко всему тому, что не было он сам, победила Пьера.
– Francais ou prince russe incognito, [Француз или русский князь инкогнито,] – сказал француз, оглядев хотя и грязное, но тонкое белье Пьера и перстень на руке. – Je vous dois la vie je vous offre mon amitie. Un Francais n'oublie jamais ni une insulte ni un service. Je vous offre mon amitie. Je ne vous dis que ca. [Я обязан вам жизнью, и я предлагаю вам дружбу. Француз никогда не забывает ни оскорбления, ни услуги. Я предлагаю вам мою дружбу. Больше я ничего не говорю.]
В звуках голоса, в выражении лица, в жестах этого офицера было столько добродушия и благородства (во французском смысле), что Пьер, отвечая бессознательной улыбкой на улыбку француза, пожал протянутую руку.
– Capitaine Ramball du treizieme leger, decore pour l'affaire du Sept, [Капитан Рамбаль, тринадцатого легкого полка, кавалер Почетного легиона за дело седьмого сентября,] – отрекомендовался он с самодовольной, неудержимой улыбкой, которая морщила его губы под усами. – Voudrez vous bien me dire a present, a qui' j'ai l'honneur de parler aussi agreablement au lieu de rester a l'ambulance avec la balle de ce fou dans le corps. [Будете ли вы так добры сказать мне теперь, с кем я имею честь разговаривать так приятно, вместо того, чтобы быть на перевязочном пункте с пулей этого сумасшедшего в теле?]
Пьер отвечал, что не может сказать своего имени, и, покраснев, начал было, пытаясь выдумать имя, говорить о причинах, по которым он не может сказать этого, но француз поспешно перебил его.
– De grace, – сказал он. – Je comprends vos raisons, vous etes officier… officier superieur, peut etre. Vous avez porte les armes contre nous. Ce n'est pas mon affaire. Je vous dois la vie. Cela me suffit. Je suis tout a vous. Vous etes gentilhomme? [Полноте, пожалуйста. Я понимаю вас, вы офицер… штаб офицер, может быть. Вы служили против нас. Это не мое дело. Я обязан вам жизнью. Мне этого довольно, и я весь ваш. Вы дворянин?] – прибавил он с оттенком вопроса. Пьер наклонил голову. – Votre nom de bapteme, s'il vous plait? Je ne demande pas davantage. Monsieur Pierre, dites vous… Parfait. C'est tout ce que je desire savoir. [Ваше имя? я больше ничего не спрашиваю. Господин Пьер, вы сказали? Прекрасно. Это все, что мне нужно.]
Когда принесены были жареная баранина, яичница, самовар, водка и вино из русского погреба, которое с собой привезли французы, Рамбаль попросил Пьера принять участие в этом обеде и тотчас сам, жадно и быстро, как здоровый и голодный человек, принялся есть, быстро пережевывая своими сильными зубами, беспрестанно причмокивая и приговаривая excellent, exquis! [чудесно, превосходно!] Лицо его раскраснелось и покрылось потом. Пьер был голоден и с удовольствием принял участие в обеде. Морель, денщик, принес кастрюлю с теплой водой и поставил в нее бутылку красного вина. Кроме того, он принес бутылку с квасом, которую он для пробы взял в кухне. Напиток этот был уже известен французам и получил название. Они называли квас limonade de cochon (свиной лимонад), и Морель хвалил этот limonade de cochon, который он нашел в кухне. Но так как у капитана было вино, добытое при переходе через Москву, то он предоставил квас Морелю и взялся за бутылку бордо. Он завернул бутылку по горлышко в салфетку и налил себе и Пьеру вина. Утоленный голод и вино еще более оживили капитана, и он не переставая разговаривал во время обеда.
– Oui, mon cher monsieur Pierre, je vous dois une fiere chandelle de m'avoir sauve… de cet enrage… J'en ai assez, voyez vous, de balles dans le corps. En voila une (on показал на бок) a Wagram et de deux a Smolensk, – он показал шрам, который был на щеке. – Et cette jambe, comme vous voyez, qui ne veut pas marcher. C'est a la grande bataille du 7 a la Moskowa que j'ai recu ca. Sacre dieu, c'etait beau. Il fallait voir ca, c'etait un deluge de feu. Vous nous avez taille une rude besogne; vous pouvez vous en vanter, nom d'un petit bonhomme. Et, ma parole, malgre l'atoux que j'y ai gagne, je serais pret a recommencer. Je plains ceux qui n'ont pas vu ca. [Да, мой любезный господин Пьер, я обязан поставить за вас добрую свечку за то, что вы спасли меня от этого бешеного. С меня, видите ли, довольно тех пуль, которые у меня в теле. Вот одна под Ваграмом, другая под Смоленском. А эта нога, вы видите, которая не хочет двигаться. Это при большом сражении 7 го под Москвою. О! это было чудесно! Надо было видеть, это был потоп огня. Задали вы нам трудную работу, можете похвалиться. И ей богу, несмотря на этот козырь (он указал на крест), я был бы готов начать все снова. Жалею тех, которые не видали этого.]
– J'y ai ete, [Я был там,] – сказал Пьер.
– Bah, vraiment! Eh bien, tant mieux, – сказал француз. – Vous etes de fiers ennemis, tout de meme. La grande redoute a ete tenace, nom d'une pipe. Et vous nous l'avez fait cranement payer. J'y suis alle trois fois, tel que vous me voyez. Trois fois nous etions sur les canons et trois fois on nous a culbute et comme des capucins de cartes. Oh!! c'etait beau, monsieur Pierre. Vos grenadiers ont ete superbes, tonnerre de Dieu. Je les ai vu six fois de suite serrer les rangs, et marcher comme a une revue. Les beaux hommes! Notre roi de Naples, qui s'y connait a crie: bravo! Ah, ah! soldat comme nous autres! – сказал он, улыбаясь, поело минутного молчания. – Tant mieux, tant mieux, monsieur Pierre. Terribles en bataille… galants… – он подмигнул с улыбкой, – avec les belles, voila les Francais, monsieur Pierre, n'est ce pas? [Ба, в самом деле? Тем лучше. Вы лихие враги, надо признаться. Хорошо держался большой редут, черт возьми. И дорого же вы заставили нас поплатиться. Я там три раза был, как вы меня видите. Три раза мы были на пушках, три раза нас опрокидывали, как карточных солдатиков. Ваши гренадеры были великолепны, ей богу. Я видел, как их ряды шесть раз смыкались и как они выступали точно на парад. Чудный народ! Наш Неаполитанский король, который в этих делах собаку съел, кричал им: браво! – Га, га, так вы наш брат солдат! – Тем лучше, тем лучше, господин Пьер. Страшны в сражениях, любезны с красавицами, вот французы, господин Пьер. Не правда ли?]
До такой степени капитан был наивно и добродушно весел, и целен, и доволен собой, что Пьер чуть чуть сам не подмигнул, весело глядя на него. Вероятно, слово «galant» навело капитана на мысль о положении Москвы.
– A propos, dites, donc, est ce vrai que toutes les femmes ont quitte Moscou? Une drole d'idee! Qu'avaient elles a craindre? [Кстати, скажите, пожалуйста, правда ли, что все женщины уехали из Москвы? Странная мысль, чего они боялись?]
– Est ce que les dames francaises ne quitteraient pas Paris si les Russes y entraient? [Разве французские дамы не уехали бы из Парижа, если бы русские вошли в него?] – сказал Пьер.
– Ah, ah, ah!.. – Француз весело, сангвинически расхохотался, трепля по плечу Пьера. – Ah! elle est forte celle la, – проговорил он. – Paris? Mais Paris Paris… [Ха, ха, ха!.. А вот сказал штуку. Париж?.. Но Париж… Париж…]
– Paris la capitale du monde… [Париж – столица мира…] – сказал Пьер, доканчивая его речь.
Капитан посмотрел на Пьера. Он имел привычку в середине разговора остановиться и поглядеть пристально смеющимися, ласковыми глазами.
– Eh bien, si vous ne m'aviez pas dit que vous etes Russe, j'aurai parie que vous etes Parisien. Vous avez ce je ne sais, quoi, ce… [Ну, если б вы мне не сказали, что вы русский, я бы побился об заклад, что вы парижанин. В вас что то есть, эта…] – и, сказав этот комплимент, он опять молча посмотрел.
– J'ai ete a Paris, j'y ai passe des annees, [Я был в Париже, я провел там целые годы,] – сказал Пьер.
– Oh ca se voit bien. Paris!.. Un homme qui ne connait pas Paris, est un sauvage. Un Parisien, ca se sent a deux lieux. Paris, s'est Talma, la Duschenois, Potier, la Sorbonne, les boulevards, – и заметив, что заключение слабее предыдущего, он поспешно прибавил: – Il n'y a qu'un Paris au monde. Vous avez ete a Paris et vous etes reste Busse. Eh bien, je ne vous en estime pas moins. [О, это видно. Париж!.. Человек, который не знает Парижа, – дикарь. Парижанина узнаешь за две мили. Париж – это Тальма, Дюшенуа, Потье, Сорбонна, бульвары… Во всем мире один Париж. Вы были в Париже и остались русским. Ну что же, я вас за то не менее уважаю.]
Под влиянием выпитого вина и после дней, проведенных в уединении с своими мрачными мыслями, Пьер испытывал невольное удовольствие в разговоре с этим веселым и добродушным человеком.
– Pour en revenir a vos dames, on les dit bien belles. Quelle fichue idee d'aller s'enterrer dans les steppes, quand l'armee francaise est a Moscou. Quelle chance elles ont manque celles la. Vos moujiks c'est autre chose, mais voua autres gens civilises vous devriez nous connaitre mieux que ca. Nous avons pris Vienne, Berlin, Madrid, Naples, Rome, Varsovie, toutes les capitales du monde… On nous craint, mais on nous aime. Nous sommes bons a connaitre. Et puis l'Empereur! [Но воротимся к вашим дамам: говорят, что они очень красивы. Что за дурацкая мысль поехать зарыться в степи, когда французская армия в Москве! Они пропустили чудесный случай. Ваши мужики, я понимаю, но вы – люди образованные – должны бы были знать нас лучше этого. Мы брали Вену, Берлин, Мадрид, Неаполь, Рим, Варшаву, все столицы мира. Нас боятся, но нас любят. Не вредно знать нас поближе. И потом император…] – начал он, но Пьер перебил его.
– L'Empereur, – повторил Пьер, и лицо его вдруг привяло грустное и сконфуженное выражение. – Est ce que l'Empereur?.. [Император… Что император?..]
– L'Empereur? C'est la generosite, la clemence, la justice, l'ordre, le genie, voila l'Empereur! C'est moi, Ram ball, qui vous le dit. Tel que vous me voyez, j'etais son ennemi il y a encore huit ans. Mon pere a ete comte emigre… Mais il m'a vaincu, cet homme. Il m'a empoigne. Je n'ai pas pu resister au spectacle de grandeur et de gloire dont il couvrait la France. Quand j'ai compris ce qu'il voulait, quand j'ai vu qu'il nous faisait une litiere de lauriers, voyez vous, je me suis dit: voila un souverain, et je me suis donne a lui. Eh voila! Oh, oui, mon cher, c'est le plus grand homme des siecles passes et a venir. [Император? Это великодушие, милосердие, справедливость, порядок, гений – вот что такое император! Это я, Рамбаль, говорю вам. Таким, каким вы меня видите, я был его врагом тому назад восемь лет. Мой отец был граф и эмигрант. Но он победил меня, этот человек. Он завладел мною. Я не мог устоять перед зрелищем величия и славы, которым он покрывал Францию. Когда я понял, чего он хотел, когда я увидал, что он готовит для нас ложе лавров, я сказал себе: вот государь, и я отдался ему. И вот! О да, мой милый, это самый великий человек прошедших и будущих веков.]
– Est il a Moscou? [Что, он в Москве?] – замявшись и с преступным лицом сказал Пьер.
Француз посмотрел на преступное лицо Пьера и усмехнулся.
– Non, il fera son entree demain, [Нет, он сделает свой въезд завтра,] – сказал он и продолжал свои рассказы.
Разговор их был прерван криком нескольких голосов у ворот и приходом Мореля, который пришел объявить капитану, что приехали виртембергские гусары и хотят ставить лошадей на тот же двор, на котором стояли лошади капитана. Затруднение происходило преимущественно оттого, что гусары не понимали того, что им говорили.
Капитан велел позвать к себе старшего унтер офицера в строгим голосом спросил у него, к какому полку он принадлежит, кто их начальник и на каком основании он позволяет себе занимать квартиру, которая уже занята. На первые два вопроса немец, плохо понимавший по французски, назвал свой полк и своего начальника; но на последний вопрос он, не поняв его, вставляя ломаные французские слова в немецкую речь, отвечал, что он квартиргер полка и что ему ведено от начальника занимать все дома подряд, Пьер, знавший по немецки, перевел капитану то, что говорил немец, и ответ капитана передал по немецки виртембергскому гусару. Поняв то, что ему говорили, немец сдался и увел своих людей. Капитан вышел на крыльцо, громким голосом отдавая какие то приказания.
Когда он вернулся назад в комнату, Пьер сидел на том же месте, где он сидел прежде, опустив руки на голову. Лицо его выражало страдание. Он действительно страдал в эту минуту. Когда капитан вышел и Пьер остался один, он вдруг опомнился и сознал то положение, в котором находился. Не то, что Москва была взята, и не то, что эти счастливые победители хозяйничали в ней и покровительствовали ему, – как ни тяжело чувствовал это Пьер, не это мучило его в настоящую минуту. Его мучило сознание своей слабости. Несколько стаканов выпитого вина, разговор с этим добродушным человеком уничтожили сосредоточенно мрачное расположение духа, в котором жил Пьер эти последние дни и которое было необходимо для исполнения его намерения. Пистолет, и кинжал, и армяк были готовы, Наполеон въезжал завтра. Пьер точно так же считал полезным и достойным убить злодея; но он чувствовал, что теперь он не сделает этого. Почему? – он не знал, но предчувствовал как будто, что он не исполнит своего намерения. Он боролся против сознания своей слабости, но смутно чувствовал, что ему не одолеть ее, что прежний мрачный строй мыслей о мщенье, убийстве и самопожертвовании разлетелся, как прах, при прикосновении первого человека.
Капитан, слегка прихрамывая и насвистывая что то, вошел в комнату.
Забавлявшая прежде Пьера болтовня француза теперь показалась ему противна. И насвистываемая песенка, и походка, и жест покручиванья усов – все казалось теперь оскорбительным Пьеру.
«Я сейчас уйду, я ни слова больше не скажу с ним», – думал Пьер. Он думал это, а между тем сидел все на том же месте. Какое то странное чувство слабости приковало его к своему месту: он хотел и не мог встать и уйти.
Капитан, напротив, казался очень весел. Он прошелся два раза по комнате. Глаза его блестели, и усы слегка подергивались, как будто он улыбался сам с собой какой то забавной выдумке.
– Charmant, – сказал он вдруг, – le colonel de ces Wurtembourgeois! C'est un Allemand; mais brave garcon, s'il en fut. Mais Allemand. [Прелестно, полковник этих вюртембергцев! Он немец; но славный малый, несмотря на это. Но немец.]
Он сел против Пьера.
– A propos, vous savez donc l'allemand, vous? [Кстати, вы, стало быть, знаете по немецки?]
Пьер смотрел на него молча.
– Comment dites vous asile en allemand? [Как по немецки убежище?]
– Asile? – повторил Пьер. – Asile en allemand – Unterkunft. [Убежище? Убежище – по немецки – Unterkunft.]
– Comment dites vous? [Как вы говорите?] – недоверчиво и быстро переспросил капитан.
– Unterkunft, – повторил Пьер.
– Onterkoff, – сказал капитан и несколько секунд смеющимися глазами смотрел на Пьера. – Les Allemands sont de fieres betes. N'est ce pas, monsieur Pierre? [Экие дурни эти немцы. Не правда ли, мосье Пьер?] – заключил он.
– Eh bien, encore une bouteille de ce Bordeau Moscovite, n'est ce pas? Morel, va nous chauffer encore une pelilo bouteille. Morel! [Ну, еще бутылочку этого московского Бордо, не правда ли? Морель согреет нам еще бутылочку. Морель!] – весело крикнул капитан.
Морель подал свечи и бутылку вина. Капитан посмотрел на Пьера при освещении, и его, видимо, поразило расстроенное лицо его собеседника. Рамбаль с искренним огорчением и участием в лице подошел к Пьеру и нагнулся над ним.
– Eh bien, nous sommes tristes, [Что же это, мы грустны?] – сказал он, трогая Пьера за руку. – Vous aurai je fait de la peine? Non, vrai, avez vous quelque chose contre moi, – переспрашивал он. – Peut etre rapport a la situation? [Может, я огорчил вас? Нет, в самом деле, не имеете ли вы что нибудь против меня? Может быть, касательно положения?]
Пьер ничего не отвечал, но ласково смотрел в глаза французу. Это выражение участия было приятно ему.
– Parole d'honneur, sans parler de ce que je vous dois, j'ai de l'amitie pour vous. Puis je faire quelque chose pour vous? Disposez de moi. C'est a la vie et a la mort. C'est la main sur le c?ur que je vous le dis, [Честное слово, не говоря уже про то, чем я вам обязан, я чувствую к вам дружбу. Не могу ли я сделать для вас что нибудь? Располагайте мною. Это на жизнь и на смерть. Я говорю вам это, кладя руку на сердце,] – сказал он, ударяя себя в грудь.
– Merci, – сказал Пьер. Капитан посмотрел пристально на Пьера так же, как он смотрел, когда узнал, как убежище называлось по немецки, и лицо его вдруг просияло.
– Ah! dans ce cas je bois a notre amitie! [А, в таком случае пью за вашу дружбу!] – весело крикнул он, наливая два стакана вина. Пьер взял налитой стакан и выпил его. Рамбаль выпил свой, пожал еще раз руку Пьера и в задумчиво меланхолической позе облокотился на стол.
– Oui, mon cher ami, voila les caprices de la fortune, – начал он. – Qui m'aurait dit que je serai soldat et capitaine de dragons au service de Bonaparte, comme nous l'appellions jadis. Et cependant me voila a Moscou avec lui. Il faut vous dire, mon cher, – продолжал он грустным я мерным голосом человека, который сбирается рассказывать длинную историю, – que notre nom est l'un des plus anciens de la France. [Да, мой друг, вот колесо фортуны. Кто сказал бы мне, что я буду солдатом и капитаном драгунов на службе у Бонапарта, как мы его, бывало, называли. Однако же вот я в Москве с ним. Надо вам сказать, мой милый… что имя наше одно из самых древних во Франции.]
И с легкой и наивной откровенностью француза капитан рассказал Пьеру историю своих предков, свое детство, отрочество и возмужалость, все свои родственныеимущественные, семейные отношения. «Ma pauvre mere [„Моя бедная мать“.] играла, разумеется, важную роль в этом рассказе.
– Mais tout ca ce n'est que la mise en scene de la vie, le fond c'est l'amour? L'amour! N'est ce pas, monsieur; Pierre? – сказал он, оживляясь. – Encore un verre. [Но все это есть только вступление в жизнь, сущность же ее – это любовь. Любовь! Не правда ли, мосье Пьер? Еще стаканчик.]
Пьер опять выпил и налил себе третий.
– Oh! les femmes, les femmes! [О! женщины, женщины!] – и капитан, замаслившимися глазами глядя на Пьера, начал говорить о любви и о своих любовных похождениях. Их было очень много, чему легко было поверить, глядя на самодовольное, красивое лицо офицера и на восторженное оживление, с которым он говорил о женщинах. Несмотря на то, что все любовные истории Рамбаля имели тот характер пакостности, в котором французы видят исключительную прелесть и поэзию любви, капитан рассказывал свои истории с таким искренним убеждением, что он один испытал и познал все прелести любви, и так заманчиво описывал женщин, что Пьер с любопытством слушал его.
Очевидно было, что l'amour, которую так любил француз, была ни та низшего и простого рода любовь, которую Пьер испытывал когда то к своей жене, ни та раздуваемая им самим романтическая любовь, которую он испытывал к Наташе (оба рода этой любви Рамбаль одинаково презирал – одна была l'amour des charretiers, другая l'amour des nigauds) [любовь извозчиков, другая – любовь дурней.]; l'amour, которой поклонялся француз, заключалась преимущественно в неестественности отношений к женщине и в комбинация уродливостей, которые придавали главную прелесть чувству.
Так капитан рассказал трогательную историю своей любви к одной обворожительной тридцатипятилетней маркизе и в одно и то же время к прелестному невинному, семнадцатилетнему ребенку, дочери обворожительной маркизы. Борьба великодушия между матерью и дочерью, окончившаяся тем, что мать, жертвуя собой, предложила свою дочь в жены своему любовнику, еще и теперь, хотя уж давно прошедшее воспоминание, волновала капитана. Потом он рассказал один эпизод, в котором муж играл роль любовника, а он (любовник) роль мужа, и несколько комических эпизодов из souvenirs d'Allemagne, где asile значит Unterkunft, где les maris mangent de la choux croute и где les jeunes filles sont trop blondes. [воспоминаний о Германии, где мужья едят капустный суп и где молодые девушки слишком белокуры.]
Наконец последний эпизод в Польше, еще свежий в памяти капитана, который он рассказывал с быстрыми жестами и разгоревшимся лицом, состоял в том, что он спас жизнь одному поляку (вообще в рассказах капитана эпизод спасения жизни встречался беспрестанно) и поляк этот вверил ему свою обворожительную жену (Parisienne de c?ur [парижанку сердцем]), в то время как сам поступил во французскую службу. Капитан был счастлив, обворожительная полька хотела бежать с ним; но, движимый великодушием, капитан возвратил мужу жену, при этом сказав ему: «Je vous ai sauve la vie et je sauve votre honneur!» [Я спас вашу жизнь и спасаю вашу честь!] Повторив эти слова, капитан протер глаза и встряхнулся, как бы отгоняя от себя охватившую его слабость при этом трогательном воспоминании.
Слушая рассказы капитана, как это часто бывает в позднюю вечернюю пору и под влиянием вина, Пьер следил за всем тем, что говорил капитан, понимал все и вместе с тем следил за рядом личных воспоминаний, вдруг почему то представших его воображению. Когда он слушал эти рассказы любви, его собственная любовь к Наташе неожиданно вдруг вспомнилась ему, и, перебирая в своем воображении картины этой любви, он мысленно сравнивал их с рассказами Рамбаля. Следя за рассказом о борьбе долга с любовью, Пьер видел пред собою все малейшие подробности своей последней встречи с предметом своей любви у Сухаревой башни. Тогда эта встреча не произвела на него влияния; он даже ни разу не вспомнил о ней. Но теперь ему казалось, что встреча эта имела что то очень значительное и поэтическое.
«Петр Кирилыч, идите сюда, я узнала», – слышал он теперь сказанные сю слова, видел пред собой ее глаза, улыбку, дорожный чепчик, выбившуюся прядь волос… и что то трогательное, умиляющее представлялось ему во всем этом.
Окончив свой рассказ об обворожительной польке, капитан обратился к Пьеру с вопросом, испытывал ли он подобное чувство самопожертвования для любви и зависти к законному мужу.
Вызванный этим вопросом, Пьер поднял голову и почувствовал необходимость высказать занимавшие его мысли; он стал объяснять, как он несколько иначе понимает любовь к женщине. Он сказал, что он во всю свою жизнь любил и любит только одну женщину и что эта женщина никогда не может принадлежать ему.
– Tiens! [Вишь ты!] – сказал капитан.
Потом Пьер объяснил, что он любил эту женщину с самых юных лет; но не смел думать о ней, потому что она была слишком молода, а он был незаконный сын без имени. Потом же, когда он получил имя и богатство, он не смел думать о ней, потому что слишком любил ее, слишком высоко ставил ее над всем миром и потому, тем более, над самим собою. Дойдя до этого места своего рассказа, Пьер обратился к капитану с вопросом: понимает ли он это?
Капитан сделал жест, выражающий то, что ежели бы он не понимал, то он все таки просит продолжать.
– L'amour platonique, les nuages… [Платоническая любовь, облака…] – пробормотал он. Выпитое ли вино, или потребность откровенности, или мысль, что этот человек не знает и не узнает никого из действующих лиц его истории, или все вместе развязало язык Пьеру. И он шамкающим ртом и маслеными глазами, глядя куда то вдаль, рассказал всю свою историю: и свою женитьбу, и историю любви Наташи к его лучшему другу, и ее измену, и все свои несложные отношения к ней. Вызываемый вопросами Рамбаля, он рассказал и то, что скрывал сначала, – свое положение в свете и даже открыл ему свое имя.
Более всего из рассказа Пьера поразило капитана то, что Пьер был очень богат, что он имел два дворца в Москве и что он бросил все и не уехал из Москвы, а остался в городе, скрывая свое имя и звание.
Уже поздно ночью они вместе вышли на улицу. Ночь была теплая и светлая. Налево от дома светлело зарево первого начавшегося в Москве, на Петровке, пожара. Направо стоял высоко молодой серп месяца, и в противоположной от месяца стороне висела та светлая комета, которая связывалась в душе Пьера с его любовью. У ворот стояли Герасим, кухарка и два француза. Слышны были их смех и разговор на непонятном друг для друга языке. Они смотрели на зарево, видневшееся в городе.
Ничего страшного не было в небольшом отдаленном пожаре в огромном городе.
Глядя на высокое звездное небо, на месяц, на комету и на зарево, Пьер испытывал радостное умиление. «Ну, вот как хорошо. Ну, чего еще надо?!» – подумал он. И вдруг, когда он вспомнил свое намерение, голова его закружилась, с ним сделалось дурно, так что он прислонился к забору, чтобы не упасть.
Не простившись с своим новым другом, Пьер нетвердыми шагами отошел от ворот и, вернувшись в свою комнату, лег на диван и тотчас же заснул.
На зарево первого занявшегося 2 го сентября пожара с разных дорог с разными чувствами смотрели убегавшие и уезжавшие жители и отступавшие войска.
Поезд Ростовых в эту ночь стоял в Мытищах, в двадцати верстах от Москвы. 1 го сентября они выехали так поздно, дорога так была загромождена повозками и войсками, столько вещей было забыто, за которыми были посылаемы люди, что в эту ночь было решено ночевать в пяти верстах за Москвою. На другое утро тронулись поздно, и опять было столько остановок, что доехали только до Больших Мытищ. В десять часов господа Ростовы и раненые, ехавшие с ними, все разместились по дворам и избам большого села. Люди, кучера Ростовых и денщики раненых, убрав господ, поужинали, задали корму лошадям и вышли на крыльцо.
В соседней избе лежал раненый адъютант Раевского, с разбитой кистью руки, и страшная боль, которую он чувствовал, заставляла его жалобно, не переставая, стонать, и стоны эти страшно звучали в осенней темноте ночи. В первую ночь адъютант этот ночевал на том же дворе, на котором стояли Ростовы. Графиня говорила, что она не могла сомкнуть глаз от этого стона, и в Мытищах перешла в худшую избу только для того, чтобы быть подальше от этого раненого.
Один из людей в темноте ночи, из за высокого кузова стоявшей у подъезда кареты, заметил другое небольшое зарево пожара. Одно зарево давно уже видно было, и все знали, что это горели Малые Мытищи, зажженные мамоновскими казаками.
– А ведь это, братцы, другой пожар, – сказал денщик.
Все обратили внимание на зарево.
– Да ведь, сказывали, Малые Мытищи мамоновские казаки зажгли.
– Они! Нет, это не Мытищи, это дале.
– Глянь ка, точно в Москве.
Двое из людей сошли с крыльца, зашли за карету и присели на подножку.
– Это левей! Как же, Мытищи вон где, а это вовсе в другой стороне.
Несколько людей присоединились к первым.
– Вишь, полыхает, – сказал один, – это, господа, в Москве пожар: либо в Сущевской, либо в Рогожской.
Никто не ответил на это замечание. И довольно долго все эти люди молча смотрели на далекое разгоравшееся пламя нового пожара.
Старик, графский камердинер (как его называли), Данило Терентьич подошел к толпе и крикнул Мишку.
– Ты чего не видал, шалава… Граф спросит, а никого нет; иди платье собери.
– Да я только за водой бежал, – сказал Мишка.
– А вы как думаете, Данило Терентьич, ведь это будто в Москве зарево? – сказал один из лакеев.
Данило Терентьич ничего не отвечал, и долго опять все молчали. Зарево расходилось и колыхалось дальше и дальше.
– Помилуй бог!.. ветер да сушь… – опять сказал голос.
– Глянь ко, как пошло. О господи! аж галки видно. Господи, помилуй нас грешных!
– Потушат небось.
– Кому тушить то? – послышался голос Данилы Терентьича, молчавшего до сих пор. Голос его был спокоен и медлителен. – Москва и есть, братцы, – сказал он, – она матушка белока… – Голос его оборвался, и он вдруг старчески всхлипнул. И как будто только этого ждали все, чтобы понять то значение, которое имело для них это видневшееся зарево. Послышались вздохи, слова молитвы и всхлипывание старого графского камердинера.
Камердинер, вернувшись, доложил графу, что горит Москва. Граф надел халат и вышел посмотреть. С ним вместе вышла и не раздевавшаяся еще Соня, и madame Schoss. Наташа и графиня одни оставались в комнате. (Пети не было больше с семейством; он пошел вперед с своим полком, шедшим к Троице.)
Графиня заплакала, услыхавши весть о пожаре Москвы. Наташа, бледная, с остановившимися глазами, сидевшая под образами на лавке (на том самом месте, на которое она села приехавши), не обратила никакого внимания на слова отца. Она прислушивалась к неумолкаемому стону адъютанта, слышному через три дома.
– Ах, какой ужас! – сказала, со двора возвративись, иззябшая и испуганная Соня. – Я думаю, вся Москва сгорит, ужасное зарево! Наташа, посмотри теперь, отсюда из окошка видно, – сказала она сестре, видимо, желая чем нибудь развлечь ее. Но Наташа посмотрела на нее, как бы не понимая того, что у ней спрашивали, и опять уставилась глазами в угол печи. Наташа находилась в этом состоянии столбняка с нынешнего утра, с того самого времени, как Соня, к удивлению и досаде графини, непонятно для чего, нашла нужным объявить Наташе о ране князя Андрея и о его присутствии с ними в поезде. Графиня рассердилась на Соню, как она редко сердилась. Соня плакала и просила прощенья и теперь, как бы стараясь загладить свою вину, не переставая ухаживала за сестрой.
– Посмотри, Наташа, как ужасно горит, – сказала Соня.
– Что горит? – спросила Наташа. – Ах, да, Москва.
И как бы для того, чтобы не обидеть Сони отказом и отделаться от нее, она подвинула голову к окну, поглядела так, что, очевидно, не могла ничего видеть, и опять села в свое прежнее положение.
– Да ты не видела?
– Нет, право, я видела, – умоляющим о спокойствии голосом сказала она.
И графине и Соне понятно было, что Москва, пожар Москвы, что бы то ни было, конечно, не могло иметь значения для Наташи.
Граф опять пошел за перегородку и лег. Графиня подошла к Наташе, дотронулась перевернутой рукой до ее головы, как это она делала, когда дочь ее бывала больна, потом дотронулась до ее лба губами, как бы для того, чтобы узнать, есть ли жар, и поцеловала ее.
– Ты озябла. Ты вся дрожишь. Ты бы ложилась, – сказала она.
– Ложиться? Да, хорошо, я лягу. Я сейчас лягу, – сказала Наташа.
С тех пор как Наташе в нынешнее утро сказали о том, что князь Андрей тяжело ранен и едет с ними, она только в первую минуту много спрашивала о том, куда? как? опасно ли он ранен? и можно ли ей видеть его? Но после того как ей сказали, что видеть его ей нельзя, что он ранен тяжело, но что жизнь его не в опасности, она, очевидно, не поверив тому, что ей говорили, но убедившись, что сколько бы она ни говорила, ей будут отвечать одно и то же, перестала спрашивать и говорить. Всю дорогу с большими глазами, которые так знала и которых выражения так боялась графиня, Наташа сидела неподвижно в углу кареты и так же сидела теперь на лавке, на которую села. Что то она задумывала, что то она решала или уже решила в своем уме теперь, – это знала графиня, но что это такое было, она не знала, и это то страшило и мучило ее.
– Наташа, разденься, голубушка, ложись на мою постель. (Только графине одной была постелена постель на кровати; m me Schoss и обе барышни должны были спать на полу на сене.)
– Нет, мама, я лягу тут, на полу, – сердито сказала Наташа, подошла к окну и отворила его. Стон адъютанта из открытого окна послышался явственнее. Она высунула голову в сырой воздух ночи, и графиня видела, как тонкие плечи ее тряслись от рыданий и бились о раму. Наташа знала, что стонал не князь Андрей. Она знала, что князь Андрей лежал в той же связи, где они были, в другой избе через сени; но этот страшный неумолкавший стон заставил зарыдать ее. Графиня переглянулась с Соней.
– Ложись, голубушка, ложись, мой дружок, – сказала графиня, слегка дотрогиваясь рукой до плеча Наташи. – Ну, ложись же.
– Ах, да… Я сейчас, сейчас лягу, – сказала Наташа, поспешно раздеваясь и обрывая завязки юбок. Скинув платье и надев кофту, она, подвернув ноги, села на приготовленную на полу постель и, перекинув через плечо наперед свою недлинную тонкую косу, стала переплетать ее. Тонкие длинные привычные пальцы быстро, ловко разбирали, плели, завязывали косу. Голова Наташи привычным жестом поворачивалась то в одну, то в другую сторону, но глаза, лихорадочно открытые, неподвижно смотрели прямо. Когда ночной костюм был окончен, Наташа тихо опустилась на простыню, постланную на сено с края от двери.
– Наташа, ты в середину ляг, – сказала Соня.
– Нет, я тут, – проговорила Наташа. – Да ложитесь же, – прибавила она с досадой. И она зарылась лицом в подушку.
Графиня, m me Schoss и Соня поспешно разделись и легли. Одна лампадка осталась в комнате. Но на дворе светлело от пожара Малых Мытищ за две версты, и гудели пьяные крики народа в кабаке, который разбили мамоновские казаки, на перекоске, на улице, и все слышался неумолкаемый стон адъютанта.
Долго прислушивалась Наташа к внутренним и внешним звукам, доносившимся до нее, и не шевелилась. Она слышала сначала молитву и вздохи матери, трещание под ней ее кровати, знакомый с свистом храп m me Schoss, тихое дыханье Сони. Потом графиня окликнула Наташу. Наташа не отвечала ей.
– Кажется, спит, мама, – тихо отвечала Соня. Графиня, помолчав немного, окликнула еще раз, но уже никто ей не откликнулся.
Скоро после этого Наташа услышала ровное дыхание матери. Наташа не шевелилась, несмотря на то, что ее маленькая босая нога, выбившись из под одеяла, зябла на голом полу.
Как бы празднуя победу над всеми, в щели закричал сверчок. Пропел петух далеко, откликнулись близкие. В кабаке затихли крики, только слышался тот же стой адъютанта. Наташа приподнялась.
– Соня? ты спишь? Мама? – прошептала она. Никто не ответил. Наташа медленно и осторожно встала, перекрестилась и ступила осторожно узкой и гибкой босой ступней на грязный холодный пол. Скрипнула половица. Она, быстро перебирая ногами, пробежала, как котенок, несколько шагов и взялась за холодную скобку двери.
Ей казалось, что то тяжелое, равномерно ударяя, стучит во все стены избы: это билось ее замиравшее от страха, от ужаса и любви разрывающееся сердце.
Она отворила дверь, перешагнула порог и ступила на сырую, холодную землю сеней. Обхвативший холод освежил ее. Она ощупала босой ногой спящего человека, перешагнула через него и отворила дверь в избу, где лежал князь Андрей. В избе этой было темно. В заднем углу у кровати, на которой лежало что то, на лавке стояла нагоревшая большим грибом сальная свечка.
Наташа с утра еще, когда ей сказали про рану и присутствие князя Андрея, решила, что она должна видеть его. Она не знала, для чего это должно было, но она знала, что свидание будет мучительно, и тем более она была убеждена, что оно было необходимо.
Весь день она жила только надеждой того, что ночью она уввдит его. Но теперь, когда наступила эта минута, на нее нашел ужас того, что она увидит. Как он был изуродован? Что оставалось от него? Такой ли он был, какой был этот неумолкавший стон адъютанта? Да, он был такой. Он был в ее воображении олицетворение этого ужасного стона. Когда она увидала неясную массу в углу и приняла его поднятые под одеялом колени за его плечи, она представила себе какое то ужасное тело и в ужасе остановилась. Но непреодолимая сила влекла ее вперед. Она осторожно ступила один шаг, другой и очутилась на середине небольшой загроможденной избы. В избе под образами лежал на лавках другой человек (это был Тимохин), и на полу лежали еще два какие то человека (это были доктор и камердинер).
Камердинер приподнялся и прошептал что то. Тимохин, страдая от боли в раненой ноге, не спал и во все глаза смотрел на странное явление девушки в бедой рубашке, кофте и вечном чепчике. Сонные и испуганные слова камердинера; «Чего вам, зачем?» – только заставили скорее Наташу подойти и тому, что лежало в углу. Как ни страшно, ни непохоже на человеческое было это тело, она должна была его видеть. Она миновала камердинера: нагоревший гриб свечки свалился, и она ясно увидала лежащего с выпростанными руками на одеяле князя Андрея, такого, каким она его всегда видела.
Он был таков же, как всегда; но воспаленный цвет его лица, блестящие глаза, устремленные восторженно на нее, а в особенности нежная детская шея, выступавшая из отложенного воротника рубашки, давали ему особый, невинный, ребяческий вид, которого, однако, она никогда не видала в князе Андрее. Она подошла к нему и быстрым, гибким, молодым движением стала на колени.
Он улыбнулся и протянул ей руку.
Для князя Андрея прошло семь дней с того времени, как он очнулся на перевязочном пункте Бородинского поля. Все это время он находился почти в постояниом беспамятстве. Горячечное состояние и воспаление кишок, которые были повреждены, по мнению доктора, ехавшего с раненым, должны были унести его. Но на седьмой день он с удовольствием съел ломоть хлеба с чаем, и доктор заметил, что общий жар уменьшился. Князь Андрей поутру пришел в сознание. Первую ночь после выезда из Москвы было довольно тепло, и князь Андрей был оставлен для ночлега в коляске; но в Мытищах раненый сам потребовал, чтобы его вынесли и чтобы ему дали чаю. Боль, причиненная ему переноской в избу, заставила князя Андрея громко стонать и потерять опять сознание. Когда его уложили на походной кровати, он долго лежал с закрытыми глазами без движения. Потом он открыл их и тихо прошептал: «Что же чаю?» Памятливость эта к мелким подробностям жизни поразила доктора. Он пощупал пульс и, к удивлению и неудовольствию своему, заметил, что пульс был лучше. К неудовольствию своему это заметил доктор потому, что он по опыту своему был убежден, что жить князь Андрей не может и что ежели он не умрет теперь, то он только с большими страданиями умрет несколько времени после. С князем Андреем везли присоединившегося к ним в Москве майора его полка Тимохина с красным носиком, раненного в ногу в том же Бородинском сражении. При них ехал доктор, камердинер князя, его кучер и два денщика.
Князю Андрею дали чаю. Он жадно пил, лихорадочными глазами глядя вперед себя на дверь, как бы стараясь что то понять и припомнить.
– Не хочу больше. Тимохин тут? – спросил он. Тимохин подполз к нему по лавке.
– Я здесь, ваше сиятельство.
– Как рана?
– Моя то с? Ничего. Вот вы то? – Князь Андрей опять задумался, как будто припоминая что то.
– Нельзя ли достать книгу? – сказал он.
– Какую книгу?
– Евангелие! У меня нет.
Доктор обещался достать и стал расспрашивать князя о том, что он чувствует. Князь Андрей неохотно, но разумно отвечал на все вопросы доктора и потом сказал, что ему надо бы подложить валик, а то неловко и очень больно. Доктор и камердинер подняли шинель, которою он был накрыт, и, морщась от тяжкого запаха гнилого мяса, распространявшегося от раны, стали рассматривать это страшное место. Доктор чем то очень остался недоволен, что то иначе переделал, перевернул раненого так, что тот опять застонал и от боли во время поворачивания опять потерял сознание и стал бредить. Он все говорил о том, чтобы ему достали поскорее эту книгу и подложили бы ее туда.
– И что это вам стоит! – говорил он. – У меня ее нет, – достаньте, пожалуйста, подложите на минуточку, – говорил он жалким голосом.
Доктор вышел в сени, чтобы умыть руки.
– Ах, бессовестные, право, – говорил доктор камердинеру, лившему ему воду на руки. – Только на минуту не досмотрел. Ведь вы его прямо на рану положили. Ведь это такая боль, что я удивляюсь, как он терпит.
– Мы, кажется, подложили, господи Иисусе Христе, – говорил камердинер.
В первый раз князь Андрей понял, где он был и что с ним было, и вспомнил то, что он был ранен и как в ту минуту, когда коляска остановилась в Мытищах, он попросился в избу. Спутавшись опять от боли, он опомнился другой раз в избе, когда пил чай, и тут опять, повторив в своем воспоминании все, что с ним было, он живее всего представил себе ту минуту на перевязочном пункте, когда, при виде страданий нелюбимого им человека, ему пришли эти новые, сулившие ему счастие мысли. И мысли эти, хотя и неясно и неопределенно, теперь опять овладели его душой. Он вспомнил, что у него было теперь новое счастье и что это счастье имело что то такое общее с Евангелием. Потому то он попросил Евангелие. Но дурное положение, которое дали его ране, новое переворачиванье опять смешали его мысли, и он в третий раз очнулся к жизни уже в совершенной тишине ночи. Все спали вокруг него. Сверчок кричал через сени, на улице кто то кричал и пел, тараканы шелестели по столу и образам, в осенняя толстая муха билась у него по изголовью и около сальной свечи, нагоревшей большим грибом и стоявшей подле него.
Душа его была не в нормальном состоянии. Здоровый человек обыкновенно мыслит, ощущает и вспоминает одновременно о бесчисленном количестве предметов, но имеет власть и силу, избрав один ряд мыслей или явлений, на этом ряде явлений остановить все свое внимание. Здоровый человек в минуту глубочайшего размышления отрывается, чтобы сказать учтивое слово вошедшему человеку, и опять возвращается к своим мыслям. Душа же князя Андрея была не в нормальном состоянии в этом отношении. Все силы его души были деятельнее, яснее, чем когда нибудь, но они действовали вне его воли. Самые разнообразные мысли и представления одновременно владели им. Иногда мысль его вдруг начинала работать, и с такой силой, ясностью и глубиною, с какою никогда она не была в силах действовать в здоровом состоянии; но вдруг, посредине своей работы, она обрывалась, заменялась каким нибудь неожиданным представлением, и не было сил возвратиться к ней.
«Да, мне открылась новое счастье, неотъемлемое от человека, – думал он, лежа в полутемной тихой избе и глядя вперед лихорадочно раскрытыми, остановившимися глазами. Счастье, находящееся вне материальных сил, вне материальных внешних влияний на человека, счастье одной души, счастье любви! Понять его может всякий человек, но сознать и предписать его мот только один бог. Но как же бог предписал этот закон? Почему сын?.. И вдруг ход мыслей этих оборвался, и князь Андрей услыхал (не зная, в бреду или в действительности он слышит это), услыхал какой то тихий, шепчущий голос, неумолкаемо в такт твердивший: „И пити пити питии“ потом „и ти тии“ опять „и пити пити питии“ опять „и ти ти“. Вместе с этим, под звук этой шепчущей музыки, князь Андрей чувствовал, что над лицом его, над самой серединой воздвигалось какое то странное воздушное здание из тонких иголок или лучинок. Он чувствовал (хотя это и тяжело ему было), что ему надо было старательна держать равновесие, для того чтобы воздвигавшееся здание это не завалилось; но оно все таки заваливалось и опять медленно воздвигалось при звуках равномерно шепчущей музыки. „Тянется! тянется! растягивается и все тянется“, – говорил себе князь Андрей. Вместе с прислушаньем к шепоту и с ощущением этого тянущегося и воздвигающегося здания из иголок князь Андрей видел урывками и красный, окруженный кругом свет свечки и слышал шуршанъе тараканов и шуршанье мухи, бившейся на подушку и на лицо его. И всякий раз, как муха прикасалась к егв лицу, она производила жгучее ощущение; но вместе с тем его удивляло то, что, ударяясь в самую область воздвигавшегося на лице его здания, муха не разрушала его. Но, кроме этого, было еще одно важное. Это было белое у двери, это была статуя сфинкса, которая тоже давила его.
«Но, может быть, это моя рубашка на столе, – думал князь Андрей, – а это мои ноги, а это дверь; но отчего же все тянется и выдвигается и пити пити пити и ти ти – и пити пити пити… – Довольно, перестань, пожалуйста, оставь, – тяжело просил кого то князь Андрей. И вдруг опять выплывала мысль и чувство с необыкновенной ясностью и силой.
«Да, любовь, – думал он опять с совершенной ясностью), но не та любовь, которая любит за что нибудь, для чего нибудь или почему нибудь, но та любовь, которую я испытал в первый раз, когда, умирая, я увидал своего врага и все таки полюбил его. Я испытал то чувство любви, которая есть самая сущность души и для которой не нужно предмета. Я и теперь испытываю это блаженное чувство. Любить ближних, любить врагов своих. Все любить – любить бога во всех проявлениях. Любить человека дорогого можно человеческой любовью; но только врага можно любить любовью божеской. И от этого то я испытал такую радость, когда я почувствовал, что люблю того человека. Что с ним? Жив ли он… Любя человеческой любовью, можно от любви перейти к ненависти; но божеская любовь не может измениться. Ничто, ни смерть, ничто не может разрушить ее. Она есть сущность души. А сколь многих людей я ненавидел в своей жизни. И из всех людей никого больше не любил я и не ненавидел, как ее». И он живо представил себе Наташу не так, как он представлял себе ее прежде, с одною ее прелестью, радостной для себя; но в первый раз представил себе ее душу. И он понял ее чувство, ее страданья, стыд, раскаянье. Он теперь в первый раз поняд всю жестокость своего отказа, видел жестокость своего разрыва с нею. «Ежели бы мне было возможно только еще один раз увидать ее. Один раз, глядя в эти глаза, сказать…»
И пити пити пити и ти ти, и пити пити – бум, ударилась муха… И внимание его вдруг перенеслось в другой мир действительности и бреда, в котором что то происходило особенное. Все так же в этом мире все воздвигалось, не разрушаясь, здание, все так же тянулось что то, так же с красным кругом горела свечка, та же рубашка сфинкс лежала у двери; но, кроме всего этого, что то скрипнуло, пахнуло свежим ветром, и новый белый сфинкс, стоячий, явился пред дверью. И в голове этого сфинкса было бледное лицо и блестящие глаза той самой Наташи, о которой он сейчас думал.
«О, как тяжел этот неперестающий бред!» – подумал князь Андрей, стараясь изгнать это лицо из своего воображения. Но лицо это стояло пред ним с силою действительности, и лицо это приближалось. Князь Андрей хотел вернуться к прежнему миру чистой мысли, но он не мог, и бред втягивал его в свою область. Тихий шепчущий голос продолжал свой мерный лепет, что то давило, тянулось, и странное лицо стояло перед ним. Князь Андрей собрал все свои силы, чтобы опомниться; он пошевелился, и вдруг в ушах его зазвенело, в глазах помутилось, и он, как человек, окунувшийся в воду, потерял сознание. Когда он очнулся, Наташа, та самая живая Наташа, которую изо всех людей в мире ему более всего хотелось любить той новой, чистой божеской любовью, которая была теперь открыта ему, стояла перед ним на коленях. Он понял, что это была живая, настоящая Наташа, и не удивился, но тихо обрадовался. Наташа, стоя на коленях, испуганно, но прикованно (она не могла двинуться) глядела на него, удерживая рыдания. Лицо ее было бледно и неподвижно. Только в нижней части его трепетало что то.
Князь Андрей облегчительно вздохнул, улыбнулся и протянул руку.
– Вы? – сказал он. – Как счастливо!
Наташа быстрым, но осторожным движением подвинулась к нему на коленях и, взяв осторожно его руку, нагнулась над ней лицом и стала целовать ее, чуть дотрогиваясь губами.
– Простите! – сказала она шепотом, подняв голову и взглядывая на него. – Простите меня!
– Я вас люблю, – сказал князь Андрей.
– Простите…
– Что простить? – спросил князь Андрей.
– Простите меня за то, что я сделала, – чуть слышным, прерывным шепотом проговорила Наташа и чаще стала, чуть дотрогиваясь губами, целовать руку.
– Я люблю тебя больше, лучше, чем прежде, – сказал князь Андрей, поднимая рукой ее лицо так, чтобы он мог глядеть в ее глаза.
Глаза эти, налитые счастливыми слезами, робко, сострадательно и радостно любовно смотрели на него. Худое и бледное лицо Наташи с распухшими губами было более чем некрасиво, оно было страшно. Но князь Андрей не видел этого лица, он видел сияющие глаза, которые были прекрасны. Сзади их послышался говор.
Петр камердинер, теперь совсем очнувшийся от сна, разбудил доктора. Тимохин, не спавший все время от боли в ноге, давно уже видел все, что делалось, и, старательно закрывая простыней свое неодетое тело, ежился на лавке.
– Это что такое? – сказал доктор, приподнявшись с своего ложа. – Извольте идти, сударыня.
В это же время в дверь стучалась девушка, посланная графиней, хватившейся дочери.
Как сомнамбулка, которую разбудили в середине ее сна, Наташа вышла из комнаты и, вернувшись в свою избу, рыдая упала на свою постель.
С этого дня, во время всего дальнейшего путешествия Ростовых, на всех отдыхах и ночлегах, Наташа не отходила от раненого Болконского, и доктор должен был признаться, что он не ожидал от девицы ни такой твердости, ни такого искусства ходить за раненым.
Как ни страшна казалась для графини мысль, что князь Андрей мог (весьма вероятно, по словам доктора) умереть во время дороги на руках ее дочери, она не могла противиться Наташе. Хотя вследствие теперь установившегося сближения между раненым князем Андреем и Наташей приходило в голову, что в случае выздоровления прежние отношения жениха и невесты будут возобновлены, никто, еще менее Наташа и князь Андрей, не говорил об этом: нерешенный, висящий вопрос жизни или смерти не только над Болконским, но над Россией заслонял все другие предположения.
Пьер проснулся 3 го сентября поздно. Голова его болела, платье, в котором он спал не раздеваясь, тяготило его тело, и на душе было смутное сознание чего то постыдного, совершенного накануне; это постыдное был вчерашний разговор с капитаном Рамбалем.
Часы показывали одиннадцать, но на дворе казалось особенно пасмурно. Пьер встал, протер глаза и, увидав пистолет с вырезным ложем, который Герасим положил опять на письменный стол, Пьер вспомнил то, где он находился и что ему предстояло именно в нынешний день.
«Уж не опоздал ли я? – подумал Пьер. – Нет, вероятно, он сделает свой въезд в Москву не ранее двенадцати». Пьер не позволял себе размышлять о том, что ему предстояло, но торопился поскорее действовать.
Оправив на себе платье, Пьер взял в руки пистолет и сбирался уже идти. Но тут ему в первый раз пришла мысль о том, каким образом, не в руке же, по улице нести ему это оружие. Даже и под широким кафтаном трудно было спрятать большой пистолет. Ни за поясом, ни под мышкой нельзя было поместить его незаметным. Кроме того, пистолет был разряжен, а Пьер не успел зарядить его. «Все равно, кинжал», – сказал себе Пьер, хотя он не раз, обсуживая исполнение своего намерения, решал сам с собою, что главная ошибка студента в 1809 году состояла в том, что он хотел убить Наполеона кинжалом. Но, как будто главная цель Пьера состояла не в том, чтобы исполнить задуманное дело, а в том, чтобы показать самому себе, что не отрекается от своего намерения и делает все для исполнения его, Пьер поспешно взял купленный им у Сухаревой башни вместе с пистолетом тупой зазубренный кинжал в зеленых ножнах и спрятал его под жилет.
Подпоясав кафтан и надвинув шапку, Пьер, стараясь не шуметь и не встретить капитана, прошел по коридору и вышел на улицу.
Тот пожар, на который так равнодушно смотрел он накануне вечером, за ночь значительно увеличился. Москва горела уже с разных сторон. Горели в одно и то же время Каретный ряд, Замоскворечье, Гостиный двор, Поварская, барки на Москве реке и дровяной рынок у Дорогомиловского моста.
Путь Пьера лежал через переулки на Поварскую и оттуда на Арбат, к Николе Явленному, у которого он в воображении своем давно определил место, на котором должно быть совершено его дело. У большей части домов были заперты ворота и ставни. Улицы и переулки были пустынны. В воздухе пахло гарью и дымом. Изредка встречались русские с беспокойно робкими лицами и французы с негородским, лагерным видом, шедшие по серединам улиц. И те и другие с удивлением смотрели на Пьера. Кроме большого роста и толщины, кроме странного мрачно сосредоточенного и страдальческого выражения лица и всей фигуры, русские присматривались к Пьеру, потому что не понимали, к какому сословию мог принадлежать этот человек. Французы же с удивлением провожали его глазами, в особенности потому, что Пьер, противно всем другим русским, испуганно или любопытна смотревшим на французов, не обращал на них никакого внимания. У ворот одного дома три француза, толковавшие что то не понимавшим их русским людям, остановили Пьера, спрашивая, не знает ли он по французски?
Пьер отрицательно покачал головой и пошел дальше. В другом переулке на него крикнул часовой, стоявший у зеленого ящика, и Пьер только на повторенный грозный крик и звук ружья, взятого часовым на руку, понял, что он должен был обойти другой стороной улицы. Он ничего не слышал и не видел вокруг себя. Он, как что то страшное и чуждое ему, с поспешностью и ужасом нес в себе свое намерение, боясь – наученный опытом прошлой ночи – как нибудь растерять его. Но Пьеру не суждено было донести в целости свое настроение до того места, куда он направлялся. Кроме того, ежели бы даже он и не был ничем задержан на пути, намерение его не могло быть исполнено уже потому, что Наполеон тому назад более четырех часов проехал из Дорогомиловского предместья через Арбат в Кремль и теперь в самом мрачном расположении духа сидел в царском кабинете кремлевского дворца и отдавал подробные, обстоятельные приказания о мерах, которые немедленно должны были бытт, приняты для тушения пожара, предупреждения мародерства и успокоения жителей. Но Пьер не знал этого; он, весь поглощенный предстоящим, мучился, как мучаются люди, упрямо предпринявшие дело невозможное – не по трудностям, но по несвойственности дела с своей природой; он мучился страхом того, что он ослабеет в решительную минуту и, вследствие того, потеряет уважение к себе.
Он хотя ничего не видел и не слышал вокруг себя, но инстинктом соображал дорогу и не ошибался переулками, выводившими его на Поварскую.
По мере того как Пьер приближался к Поварской, дым становился сильнее и сильнее, становилось даже тепло от огня пожара. Изредка взвивались огненные языка из за крыш домов. Больше народу встречалось на улицах, и народ этот был тревожнее. Но Пьер, хотя и чувствовал, что что то такое необыкновенное творилось вокруг него, не отдавал себе отчета о том, что он подходил к пожару. Проходя по тропинке, шедшей по большому незастроенному месту, примыкавшему одной стороной к Поварской, другой к садам дома князя Грузинского, Пьер вдруг услыхал подле самого себя отчаянный плач женщины. Он остановился, как бы пробудившись от сна, и поднял голову.
В стороне от тропинки, на засохшей пыльной траве, были свалены кучей домашние пожитки: перины, самовар, образа и сундуки. На земле подле сундуков сидела немолодая худая женщина, с длинными высунувшимися верхними зубами, одетая в черный салоп и чепчик. Женщина эта, качаясь и приговаривая что то, надрываясь плакала. Две девочки, от десяти до двенадцати лет, одетые в грязные коротенькие платьица и салопчики, с выражением недоумения на бледных, испуганных лицах, смотрели на мать. Меньшой мальчик, лет семи, в чуйке и в чужом огромном картузе, плакал на руках старухи няньки. Босоногая грязная девка сидела на сундуке и, распустив белесую косу, обдергивала опаленные волосы, принюхиваясь к ним. Муж, невысокий сутуловатый человек в вицмундире, с колесообразными бакенбардочками и гладкими височками, видневшимися из под прямо надетого картуза, с неподвижным лицом раздвигал сундуки, поставленные один на другом, и вытаскивал из под них какие то одеяния.
Женщина почти бросилась к ногам Пьера, когда она увидала его.
– Батюшки родимые, христиане православные, спасите, помогите, голубчик!.. кто нибудь помогите, – выговаривала она сквозь рыдания. – Девочку!.. Дочь!.. Дочь мою меньшую оставили!.. Сгорела! О о оо! для того я тебя леле… О о оо!
– Полно, Марья Николаевна, – тихим голосом обратился муж к жене, очевидно, для того только, чтобы оправдаться пред посторонним человеком. – Должно, сестрица унесла, а то больше где же быть? – прибавил он.
– Истукан! Злодей! – злобно закричала женщина, вдруг прекратив плач. – Сердца в тебе нет, свое детище не жалеешь. Другой бы из огня достал. А это истукан, а не человек, не отец. Вы благородный человек, – скороговоркой, всхлипывая, обратилась женщина к Пьеру. – Загорелось рядом, – бросило к нам. Девка закричала: горит! Бросились собирать. В чем были, в том и выскочили… Вот что захватили… Божье благословенье да приданую постель, а то все пропало. Хвать детей, Катечки нет. О, господи! О о о! – и опять она зарыдала. – Дитятко мое милое, сгорело! сгорело!
– Да где, где же она осталась? – сказал Пьер. По выражению оживившегося лица его женщина поняла, что этот человек мог помочь ей.
– Батюшка! Отец! – закричала она, хватая его за ноги. – Благодетель, хоть сердце мое успокой… Аниска, иди, мерзкая, проводи, – крикнула она на девку, сердито раскрывая рот и этим движением еще больше выказывая свои длинные зубы.
– Проводи, проводи, я… я… сделаю я, – запыхавшимся голосом поспешно сказал Пьер.
Грязная девка вышла из за сундука, прибрала косу и, вздохнув, пошла тупыми босыми ногами вперед по тропинке. Пьер как бы вдруг очнулся к жизни после тяжелого обморока. Он выше поднял голову, глаза его засветились блеском жизни, и он быстрыми шагами пошел за девкой, обогнал ее и вышел на Поварскую. Вся улица была застлана тучей черного дыма. Языки пламени кое где вырывались из этой тучи. Народ большой толпой теснился перед пожаром. В середине улицы стоял французский генерал и говорил что то окружавшим его. Пьер, сопутствуемый девкой, подошел было к тому месту, где стоял генерал; но французские солдаты остановили его.
– On ne passe pas, [Тут не проходят,] – крикнул ему голос.
– Сюда, дяденька! – проговорила девка. – Мы переулком, через Никулиных пройдем.
Пьер повернулся назад и пошел, изредка подпрыгивая, чтобы поспевать за нею. Девка перебежала улицу, повернула налево в переулок и, пройдя три дома, завернула направо в ворота.
– Вот тут сейчас, – сказала девка, и, пробежав двор, она отворила калитку в тесовом заборе и, остановившись, указала Пьеру на небольшой деревянный флигель, горевший светло и жарко. Одна сторона его обрушилась, другая горела, и пламя ярко выбивалось из под отверстий окон и из под крыши.
Когда Пьер вошел в калитку, его обдало жаром, и он невольно остановился.
– Который, который ваш дом? – спросил он.
– О о ох! – завыла девка, указывая на флигель. – Он самый, она самая наша фатера была. Сгорела, сокровище ты мое, Катечка, барышня моя ненаглядная, о ох! – завыла Аниска при виде пожара, почувствовавши необходимость выказать и свои чувства.
Пьер сунулся к флигелю, но жар был так силен, что он невольна описал дугу вокруг флигеля и очутился подле большого дома, который еще горел только с одной стороны с крыши и около которого кишела толпа французов. Пьер сначала не понял, что делали эти французы, таскавшие что то; но, увидав перед собою француза, который бил тупым тесаком мужика, отнимая у него лисью шубу, Пьер понял смутно, что тут грабили, но ему некогда было останавливаться на этой мысли.
Звук треска и гула заваливающихся стен и потолков, свиста и шипенья пламени и оживленных криков народа, вид колеблющихся, то насупливающихся густых черных, то взмывающих светлеющих облаков дыма с блестками искр и где сплошного, сноповидного, красного, где чешуйчато золотого, перебирающегося по стенам пламени, ощущение жара и дыма и быстроты движения произвели на Пьера свое обычное возбуждающее действие пожаров. Действие это было в особенности сильно на Пьера, потому что Пьер вдруг при виде этого пожара почувствовал себя освобожденным от тяготивших его мыслей. Он чувствовал себя молодым, веселым, ловким и решительным. Он обежал флигелек со стороны дома и хотел уже бежать в ту часть его, которая еще стояла, когда над самой головой его послышался крик нескольких голосов и вслед за тем треск и звон чего то тяжелого, упавшего подле него.
Пьер оглянулся и увидал в окнах дома французов, выкинувших ящик комода, наполненный какими то металлическими вещами. Другие французские солдаты, стоявшие внизу, подошли к ящику.
– Eh bien, qu'est ce qu'il veut celui la, [Этому что еще надо,] – крикнул один из французов на Пьера.
– Un enfant dans cette maison. N'avez vous pas vu un enfant? [Ребенка в этом доме. Не видали ли вы ребенка?] – сказал Пьер.
– Tiens, qu'est ce qu'il chante celui la? Va te promener, [Этот что еще толкует? Убирайся к черту,] – послышались голоса, и один из солдат, видимо, боясь, чтобы Пьер не вздумал отнимать у них серебро и бронзы, которые были в ящике, угрожающе надвинулся на него.
– Un enfant? – закричал сверху француз. – J'ai entendu piailler quelque chose au jardin. Peut etre c'est sou moutard au bonhomme. Faut etre humain, voyez vous… [Ребенок? Я слышал, что то пищало в саду. Может быть, это его ребенок. Что ж, надо по человечеству. Мы все люди…]
– Ou est il? Ou est il? [Где он? Где он?] – спрашивал Пьер.
– Par ici! Par ici! [Сюда, сюда!] – кричал ему француз из окна, показывая на сад, бывший за домом. – Attendez, je vais descendre. [Погодите, я сейчас сойду.]
И действительно, через минуту француз, черноглазый малый с каким то пятном на щеке, в одной рубашке выскочил из окна нижнего этажа и, хлопнув Пьера по плечу, побежал с ним в сад.
– Depechez vous, vous autres, – крикнул он своим товарищам, – commence a faire chaud. [Эй, вы, живее, припекать начинает.]
Выбежав за дом на усыпанную песком дорожку, француз дернул за руку Пьера и указал ему на круг. Под скамейкой лежала трехлетняя девочка в розовом платьице.
– Voila votre moutard. Ah, une petite, tant mieux, – сказал француз. – Au revoir, mon gros. Faut etre humain. Nous sommes tous mortels, voyez vous, [Вот ваш ребенок. А, девочка, тем лучше. До свидания, толстяк. Что ж, надо по человечеству. Все люди,] – и француз с пятном на щеке побежал назад к своим товарищам.
Пьер, задыхаясь от радости, подбежал к девочке и хотел взять ее на руки. Но, увидав чужого человека, золотушно болезненная, похожая на мать, неприятная на вид девочка закричала и бросилась бежать. Пьер, однако, схватил ее и поднял на руки; она завизжала отчаянно злобным голосом и своими маленькими ручонками стала отрывать от себя руки Пьера и сопливым ртом кусать их. Пьера охватило чувство ужаса и гадливости, подобное тому, которое он испытывал при прикосновении к какому нибудь маленькому животному. Но он сделал усилие над собою, чтобы не бросить ребенка, и побежал с ним назад к большому дому. Но пройти уже нельзя было назад той же дорогой; девки Аниски уже не было, и Пьер с чувством жалости и отвращения, прижимая к себе как можно нежнее страдальчески всхлипывавшую и мокрую девочку, побежал через сад искать другого выхода.
Когда Пьер, обежав дворами и переулками, вышел назад с своей ношей к саду Грузинского, на углу Поварской, он в первую минуту не узнал того места, с которого он пошел за ребенком: так оно было загромождено народом и вытащенными из домов пожитками. Кроме русских семей с своим добром, спасавшихся здесь от пожара, тут же было и несколько французских солдат в различных одеяниях. Пьер не обратил на них внимания. Он спешил найти семейство чиновника, с тем чтобы отдать дочь матери и идти опять спасать еще кого то. Пьеру казалось, что ему что то еще многое и поскорее нужно сделать. Разгоревшись от жара и беготни, Пьер в эту минуту еще сильнее, чем прежде, испытывал то чувство молодости, оживления и решительности, которое охватило его в то время, как он побежал спасать ребенка. Девочка затихла теперь и, держась ручонками за кафтан Пьера, сидела на его руке и, как дикий зверек, оглядывалась вокруг себя. Пьер изредка поглядывал на нее и слегка улыбался. Ему казалось, что он видел что то трогательно невинное и ангельское в этом испуганном и болезненном личике.
- Персоналии по алфавиту
- Учёные по алфавиту
- Родившиеся 1 июля
- Родившиеся в 1646 году
- Умершие 14 ноября
- Умершие в 1716 году
- Математики по алфавиту
- Математики Германии
- Математики XVII века
- Математики XVIII века
- Механики по алфавиту
- Механики Германии
- Механики XVII века
- Механики XVIII века
- Физики по алфавиту
- Физики Германии
- Физики XVII века
- Физики XVIII века
- Члены Прусской академии наук
- Прусская академия наук
- Изобретатели по алфавиту
- Изобретатели Германии
- Философы по алфавиту
- Философы немецкой философской школы
- Философы Германии
- Философы XVII века
- Философы XVIII века
- Персоналии:Этика
- Логики по алфавиту
- Логики Германии
- Юристы по алфавиту
- Юристы Германии
- Историки по алфавиту
- Историки Германии
- Дипломаты Германии
- Лингвисты по алфавиту
- Лингвисты Германии
- Выпускники Лейпцигского университета
- Выпускники Йенского университета
- Выпускники Альтдорфского университета
- Натурфилософы
- Похороненные в Ганновере
- Готфрид Вильгельм Лейбниц