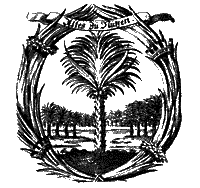Немецкая литература
К немецкой литературе относятся литературные произведения, написанные на немецком языке на территории германских государств прошлого и современности.
Начало и конец каждой литературной эпохи с трудом поддается дифференциации. Тем не менее, можно выделить несколько основных периодов:
Содержание
- 1 Средневековье
- 2 Гуманизм и Реформация (около 1450—1600)
- 3 Барокко (ок. 1600—1720)
- 4 Эпоха Просвещения (ок. 1720—1780)
- 5 Буря и натиск (ок. 1767—1785)
- 6 Веймарские классики (ок. 1772—1805)
- 7 Немецкие романтики (ок. 1799—1835)
- 8 Бидермейер (ок. 1830—1850) и «Молодая Германия»
- 9 Поэтический реализм (1848—1890)
- 10 Натурализм (1880—1900)
- 11 Литература конца XIX века до 1933 года
- 12 Национал-социализм и литература изгнания
- 13 Новая и новейшая немецкая литература
- 14 Литературные премии немецкоговорящих стран
- 15 Современная литература на немецком языке
- 16 Литература
- 17 См. также
- 18 Примечания
- 19 Ссылки
Средневековье
Раннее средневековье (дописьменный период — 1100 год)
Поэзия раннего средневековья представляет собой продукт устного народного творчества и по этой причине практически утеряна.
От римских и ранних средневековых писателей имеется длинный ряд свидетельств о поэзии германских племён до распространения среди них письменности. Тацит говорит о их мифологических, героических и исторических песнях: «Они воспевают землёю рождённого бога Туиско и его сына Манна, родоначальника своего рода»; не один раз упоминает он о песнях, которыми германцы воодушевляли себя перед сражением, а также и о тех, которыми они забавляли себя на ночных пирах после битвы; он же говорит, что Арминий, победитель Вара, «до сих пор (то есть по истечении почти ста лет) воспевается у варварских народов». В последнем нельзя не видеть указания на зарождающийся героический эпос; подобное же свидетельство более позднего времени относительно Альбоина, короля лангобардского (Paulus Diaconus).
Былины такого рода, по свидетельству Эгингарда («Vita Caroli»), были собраны и записаны по приказанию Карла Великого, но этот сборник утрачен без следа. О хоровых песнях при жертвоприношениях у языческих лангобардов упоминают «Диалоги Григория». Есть документальные указания на свадебные песни древних германцев (brûtesang), погребальные (siswa), любовные (winileod), насмешливые, а также на рассказы о гномах и загадки; в последних, а ещё яснее в хоровых песнях проявлялся драматический элемент. Поэзией были проникнуты и такие стороны жизни, которые позднее отошли в область чистейшей деловой прозы, например, правовые отношения, медицина. Всё это вначале было продуктом массового творчества и общенародным достоянием; но рано встречаются указания и на певцов-специалистов.
По англосаксонскому Беовульфу имеется довольно определённое понятие о положении этих поэтов. (scop, нем. scof-vates, scopfsanc-poësis) при княжеских дворах и о характере их лирико-эпических песен. К более ранней и вполне определённой эпохе относятся упоминаемые Приском при дворе Аттилы готские певцы; известная просьба Гелимера к Велисарию доказывает, что благородным искусством поэзии и музыки не пренебрегали и немецкие конунги.
Письменная передача знаний практически всегда означала их автоматический перевод на латинский язык. например, запись прав отдельных племён.
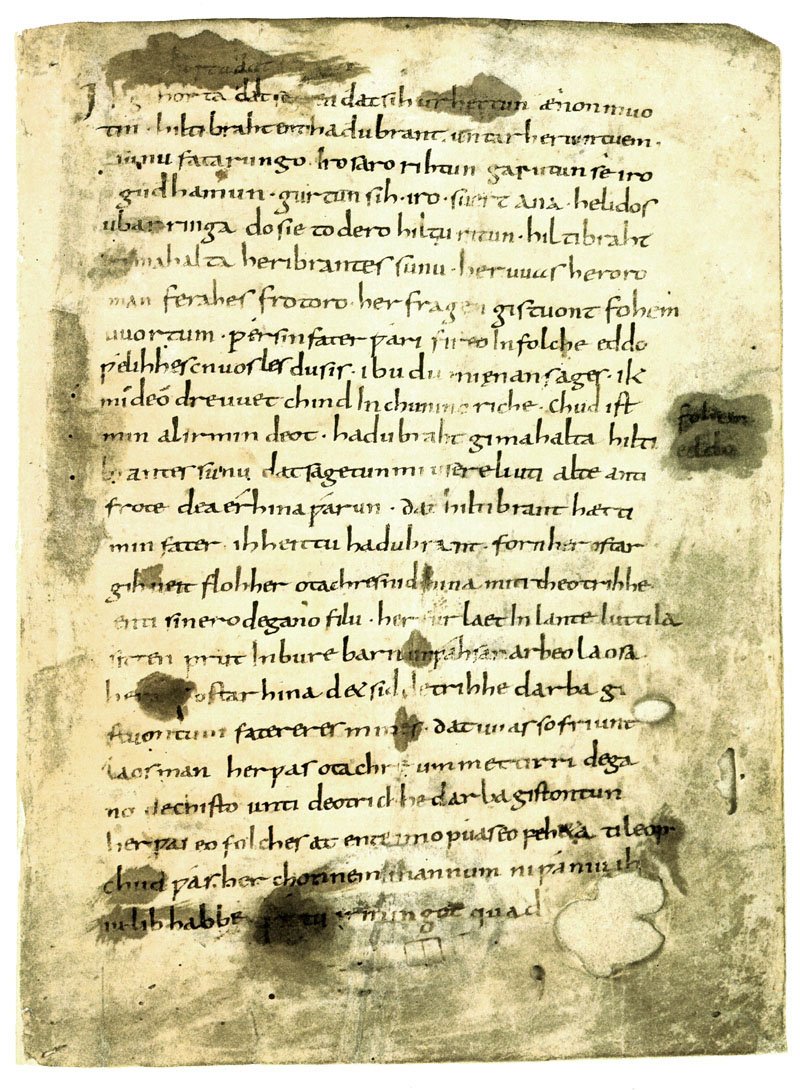 Если оставить в стороне рано усвоивших себе некоторую культуру и рано сошедших с исторической сцены готов, с их письменностью, древнейшим дошедшим до нас памятником немецкой литературы являются заговоры (Zaubersprüche), сохранившиеся в записях христианского времени (IX—XII в.), но представляющие мировоззрение языческой древности. Примером их служат единственные в своём роде два «Мерзебургских заговора» (записаны в конце IX или в Х в. на древневерхненемецком языке; один на освобождение пленных, другой против хромоты коня; их близкое родство с древнерусскими заклинаниями указано Ф. И. Буслаевым ещё в 1849 г.), лирическому заклинанию предшествует мифоэпическое введение. Украшением стиха служит аллитерация, которая не даёт ему мелодии, но сообщает звучность и силу.
Эти заговоры были обнаружены немецким историком Георгом Вайцем в 1841 году в Мерзебурге, а в 1842 году изданы с комментариями Якоба Гримма.
Если оставить в стороне рано усвоивших себе некоторую культуру и рано сошедших с исторической сцены готов, с их письменностью, древнейшим дошедшим до нас памятником немецкой литературы являются заговоры (Zaubersprüche), сохранившиеся в записях христианского времени (IX—XII в.), но представляющие мировоззрение языческой древности. Примером их служат единственные в своём роде два «Мерзебургских заговора» (записаны в конце IX или в Х в. на древневерхненемецком языке; один на освобождение пленных, другой против хромоты коня; их близкое родство с древнерусскими заклинаниями указано Ф. И. Буслаевым ещё в 1849 г.), лирическому заклинанию предшествует мифоэпическое введение. Украшением стиха служит аллитерация, которая не даёт ему мелодии, но сообщает звучность и силу.
Эти заговоры были обнаружены немецким историком Георгом Вайцем в 1841 году в Мерзебурге, а в 1842 году изданы с комментариями Якоба Гримма.
Важнейший памятник аллитерированной немецкой поэзии — «Песнь о Хильдебранте», записанная ок. 800 г. двумя писцами, вероятно, в монастыре Фульда, на обороте переплёта латинской рукописи, и состоящая всего из 68 стихов. Содержание её — встреча Хильдебранда, спутника Дитриха Бернского, который бежал к гуннам от Одоакра, после 30-летнего отсутствия из дома, со своим сыном Гадубрандом, и начавшийся бой их (исход поединка неизвестен, так как песня без конца; предполагается конец трагический: отец убивает сына). Доказано, что писцы имели перед собой оригинал, где песня была записана по памяти; пестрота форм объясняется тем, что писец из верхней Германии записывал нижненемецкую народную былину.

Аллитерация и в древнейшем памятнике немецкой христианской поэзии — «Вессобруннской молитве» (Wessobrunner Gebet), следующая, появившаяся несколькими десятилетиями позже «Песнь о Людвиге» (Ludwigslied) написана уже с рифмами; это единственный образчик ранней придворной поэзии эпико-лирического характера; автор её — из прирейнских франков, лицо духовное, но всецело проникнутое национальными интересами; герой — Людовик III, внук Карла Лысого, родившийся между 863 и 865 гг.; совсем юношей, 3 августа 881 г., он разбил норманнов при Сокуре, на юго-запад от устья Соммы; песня сочинена вслед за событием, ещё при жизни героя, а записана в самом конце IX в.: в латинском заглавии стихотворение называется «Короля Людвига блаженныя памяти».
Как по времени записи, так и по форме между «Вессобруннской молитвой» и «Песнью о Людвиге» следует поместить так называемую «Муспилли» — поэму, сочинённую около 800 г. баварцем недуховного чина и изображающую в первой части, как душа расстаётся с телом, во второй — Страшный суд; записана она, как полагают, рукой самого Людвига Немецкого, во второй половине IX в. Король, записывающий немецкую поэму, и клирик, воспевающий немецкими стихами победу Людвига — два характерных проявления последствий реформы Карла Великого, который, предписав духовенству говорить немецкие проповеди, явился сеятелем письменности и духовной поэзии на родном языке. В такой же мере с ним связаны и две «Мессиады» IX в.: саксонская «Гелианд» (Heliand) и франконская «Книга Евангелий» (Liber evangeliorum) Отфрида Вейсенбургского. Хотя между их составлением прошло всего три-четыре десятилетия, эти две поэмы представляют большое различие и в форме, и в мировоззрении: настолько различались культура нижней и верхней Германии.
Отфрид вместо аллитерации употребляет звучную рифму, хитрые акростихи. Факты евангельской истории для него на втором плане; он часто не излагает их, а только ссылается на источник. На первом месте у него толкование и наука: так, осёл, на котором Христос въехал в Иерусалим, для него преобразование глупого и чувственного человека; говоря о вознесении, он перечисляет все звезды, мимо которых проносился Христос, все инструменты, на которых играли ангелы, и прочее.
 Отфрид является видным представителем целой школы духовных поэтов, главным центром деятельности которых в Х веке был Санкт-Галленский монастырь, и которые, подобно Отфриду, имели целью дать народу, вместо нечестивых светских песен, поэзию и благочестивую, и понятную. Для этого они перелагали псалмы, сочиняли молитвы, обрабатывали эпизоды евангельские (напр. сцену Христа с самаритянкой) и ветхозаветные (Юдифь) и некоторые жития святых (например, св. Георгия). В том же Санкт-Галлене (а за ним и в других центрах культуры) развивается и немецкая духовно-учёная проза: пишутся толкования на Святое Писание, переводятся учебники, «слова» блаж. Августина и доступные философские монографии, записываются проповеди. Одним из самых плодовитых писателей Санкт-Галлена был Ноткер Немецкий или Толстогубый (ум. 1022), которого по праву можно назвать первым немецким прозаиком.
Отфрид является видным представителем целой школы духовных поэтов, главным центром деятельности которых в Х веке был Санкт-Галленский монастырь, и которые, подобно Отфриду, имели целью дать народу, вместо нечестивых светских песен, поэзию и благочестивую, и понятную. Для этого они перелагали псалмы, сочиняли молитвы, обрабатывали эпизоды евангельские (напр. сцену Христа с самаритянкой) и ветхозаветные (Юдифь) и некоторые жития святых (например, св. Георгия). В том же Санкт-Галлене (а за ним и в других центрах культуры) развивается и немецкая духовно-учёная проза: пишутся толкования на Святое Писание, переводятся учебники, «слова» блаж. Августина и доступные философские монографии, записываются проповеди. Одним из самых плодовитых писателей Санкт-Галлена был Ноткер Немецкий или Толстогубый (ум. 1022), которого по праву можно назвать первым немецким прозаиком.
В Санкт-Галлене же написана и латинская поэма, обработавшая немецкое героическое «Сказание о Вальтарии» (Waltharius). В XI в. круг сюжетов немецкой духовной поэзии и свобода их обработки значительно увеличиваются, как это можно видеть на песне бамбергского схоластика Эццо[de] о чудесах Христа (Эццолид); она сочинена им по поручению епископа Гунтера, незадолго до задуманного им похода в св. Землю (1064), и удачно выдерживает тон гимна. Немного позднее появляется «Песня об Анно» (Annolied, 1077—1081) . В «Речи о вере» «бедного Гартмана» (первой половины XII в.) уже слышны обличения против рыцарей, которые из-за слова «честь» губят и душу, и тело.
Рядом с этой поэзией для высшей интеллигенции (и рядом с вечно живой, но неуловимой по отношению к столь отдалённой эпохе народной песней), существовала другая — для народа и безграмотных людей: поэзия шпильманов, то есть бродячих певцов, сделавших себе ремесло из забавы публики. По мере распространения латинского образования в монастырских и епископских школах Германии, в среду этих шпильманов все чаще и чаще попадают ваганты. Иногда монахи и клирики пользуются материалом песен шпильманов для упражнения в латинской стилистике и версификации; так возникают поэмы вроде «Ruodlieb» и стихотворные рассказы из животного эпоса («Ecbasis captivi» и пр.). Изредка произведения шпильманов записываются в оригинале, и тогда содержание, грубость формы, наклонность к шутке и преувеличению довольно резко отличают их от поэзии духовенства. Со временем это различие значительно сглаживается; шпильманы пользуются сюжетами из священной истории; познакомившись с новыми географическими и историческими именами, они распространяют и украшают ими свои песни. С другой стороны, поэзия духовных все более и более примиряется с жизнью и светским миросозерцанием.
Рыцарская лирика (ок. 1100—1250)
 Со второй половины XI в. на Германию, особенно на прирейнские страны, начинает сильно влиять Франция; из области костюма и причёски французское влияние переходит в область мыслей и идеалов, и носители этих идеалов, поэты из среды духовенства, усваивают французские сюжеты, французские модные воззрения и даже французские слова. Важным моментом в этом деле были крестовые походы, сблизившие дворянство всех стран и объединившие на время интересы и идеалы военного и духовного сословий. Литературные темы и формы становятся разнообразнее: записывается придворная лирика, разнообразные истории. Появляется интерес к отдельной личности и истории её жизни. В первой половине XII в. действуют поэты-священники Конрад Поп, давший Германии «Песнь о Роланде» и Лампрехт, обработавший поэму об Александре — «Песнь об Александре». «Песнь о Роланде» описывает борьбу Карла Великого и его паладинов против испанских сарацинов, а также смерть Роланда.
Со второй половины XI в. на Германию, особенно на прирейнские страны, начинает сильно влиять Франция; из области костюма и причёски французское влияние переходит в область мыслей и идеалов, и носители этих идеалов, поэты из среды духовенства, усваивают французские сюжеты, французские модные воззрения и даже французские слова. Важным моментом в этом деле были крестовые походы, сблизившие дворянство всех стран и объединившие на время интересы и идеалы военного и духовного сословий. Литературные темы и формы становятся разнообразнее: записывается придворная лирика, разнообразные истории. Появляется интерес к отдельной личности и истории её жизни. В первой половине XII в. действуют поэты-священники Конрад Поп, давший Германии «Песнь о Роланде» и Лампрехт, обработавший поэму об Александре — «Песнь об Александре». «Песнь о Роланде» описывает борьбу Карла Великого и его паладинов против испанских сарацинов, а также смерть Роланда.
В середине столетия появляется самое значительное произведение этой эпохи — «Императорская хроника», состоящая из около 17 000 строф, в которой и международные, и национальные предания обработаны духовным лицом, но всецело во вкусе модного рыцарства. Хроника описывает историю Священной Римской империи от основания Рима до времен Конрада III.
 Тогда же на литературное поприще выступают и сами рыцари, и с 60-х годов XII в. начинается полный расцвет немецкой дворянской поэзии, возбуждённой подражанием Франции. Французский любовный эпос проникает сперва на нижний Рейн: около 1170 г. переводится история «Флуар и Бланшефлор»; Эйльгарт фон Оберг (Eilhart von Oberg) вводит в обиход трагических любовников — Тристана и Изольду и пр. Настоящим отцом придворного эпоса считается автор немецкой «Энеиды», Генрих Фельдеке. Его преемниками в Тюрингии были Генрих фон Морунген (один из миннезингеров в «Манесском кодексе»), Герборт из Фрицлара (Herbort von Fritzlar), Альбрехт из Гальберштадта (Albrecht von Halberstadt). Все эти поэты работают над сюжетами античными; другие пользуются сказаниями библейскими, национальными, чаще всего кельтскими. Главное дело здесь не в сюжете, а в модном рыцарственном миросозерцании и в манере изображения: чистая звучная рифма, изящество и мягкость до слащавости, тонкая отделка движений чувства, смесь эпоса с лирикой и даже дидактикой. Сравнительно с французскими оригиналами у немцев больше сдержанности и внешнего благородства; рыцари ещё учтивей и дамы ещё нежнее. Одновременно в юго-западной Германии развивается и рыцарская лирика, под явным влиянием провансальских трубадуров; у подражателей, естественно, меньше живости и чувства, больше искусственности и размышления. Темы этой лирики довольно разнообразны, но на первом месте стоит идеальная любовь — «minne», отчего и поэты называются миннезингерами. Характерные черты миннезанга выражаются уже в эпоху Фридриха Барбароссы, во вдумчивой лирике его приверженца Фридриха фон Гаузена (Friedrich von Hausen) (ум. в 1190) и в произведениях ученика и подражателя Гаузена, проживавшего при австрийском дворе — Рейнмара фон Хагенау. Последний особенно типичен: он вечно плачется на небывалые или, по крайней мере, очень преувеличенные любовные страдания, которым подвергает его дама сердца, далеко превышающая красотой и добродетелью всех других женщин. Над содержанием его песен готовы были смеяться его слушатели, но они же были в восторге от чистоты его рифмы и разнообразия метра.
Тогда же на литературное поприще выступают и сами рыцари, и с 60-х годов XII в. начинается полный расцвет немецкой дворянской поэзии, возбуждённой подражанием Франции. Французский любовный эпос проникает сперва на нижний Рейн: около 1170 г. переводится история «Флуар и Бланшефлор»; Эйльгарт фон Оберг (Eilhart von Oberg) вводит в обиход трагических любовников — Тристана и Изольду и пр. Настоящим отцом придворного эпоса считается автор немецкой «Энеиды», Генрих Фельдеке. Его преемниками в Тюрингии были Генрих фон Морунген (один из миннезингеров в «Манесском кодексе»), Герборт из Фрицлара (Herbort von Fritzlar), Альбрехт из Гальберштадта (Albrecht von Halberstadt). Все эти поэты работают над сюжетами античными; другие пользуются сказаниями библейскими, национальными, чаще всего кельтскими. Главное дело здесь не в сюжете, а в модном рыцарственном миросозерцании и в манере изображения: чистая звучная рифма, изящество и мягкость до слащавости, тонкая отделка движений чувства, смесь эпоса с лирикой и даже дидактикой. Сравнительно с французскими оригиналами у немцев больше сдержанности и внешнего благородства; рыцари ещё учтивей и дамы ещё нежнее. Одновременно в юго-западной Германии развивается и рыцарская лирика, под явным влиянием провансальских трубадуров; у подражателей, естественно, меньше живости и чувства, больше искусственности и размышления. Темы этой лирики довольно разнообразны, но на первом месте стоит идеальная любовь — «minne», отчего и поэты называются миннезингерами. Характерные черты миннезанга выражаются уже в эпоху Фридриха Барбароссы, во вдумчивой лирике его приверженца Фридриха фон Гаузена (Friedrich von Hausen) (ум. в 1190) и в произведениях ученика и подражателя Гаузена, проживавшего при австрийском дворе — Рейнмара фон Хагенау. Последний особенно типичен: он вечно плачется на небывалые или, по крайней мере, очень преувеличенные любовные страдания, которым подвергает его дама сердца, далеко превышающая красотой и добродетелью всех других женщин. Над содержанием его песен готовы были смеяться его слушатели, но они же были в восторге от чистоты его рифмы и разнообразия метра.
При таком же изяществе формы несравненно больше жизни и оригинальности было у его последователя, Вальтера фон дер Фогельвейде. Из его младших современников и последователей наиболее самостоятельности и народных черт мы встречаем у автора шпрухов, Рейнмара фон Цветера (Reinmar von Zweter) (род. на Рейне, вырос в Австрии, действовал от конца 20-х годов XIII ст. до 1250 г.). Время полного расцвета немецкой рыцарской лирики было непродолжительно: уже у непосредственных учеников Вальтера замечается или ненатурально-изысканная тонкость чувства «высокой любви», или, как у иных баварско-австрийских поэтов, возвращение к реализму народной песни (см. Ульрих фон Лихтенштейн, Нитгард и Тангейзер). С конца XIII в. придворный миннезанг начинает заметно падать и уступать место более реальной и грубой лирике. Правда, около того же времени образуются новые центры поэзии при дворах северо-восточных князей, даже в Чехии; но эти поздние беспочвенные отпрыски скоро замирают, и лирика переходит в руки шпильманов, из среды которых выдвигаются поэты со школьным образованием — мейстеры.
 Когда эти певцы водворяются в городах, где находят многочисленных учеников, они превращаются в так называемых мейстерзингеров. Представителем переходной эпохи можно считать Генриха Мейсенского, который, после многолетних странствований, в 1311 г. поселяется в Майнце; Иоганн Гадлуб (?) — уже совсем горожанин. Придворный эпос имел более продолжительное существование, но вся деятельность великих эпиков — Гартмана фон Ауэ («Ивейн»), Вольфрама фон Эшенбаха («Парцифаль») и Готфрида Страсбургского — прошла между 1190 и 1220 годами. Гартман по отношению к Вольфраму и Готфриду является зачинателем, в идеях и приёмах которого ещё мало индивидуального. Вольфрам и Готфрид — родоначальники двух школ; последователи Готфрида близко держатся источника, ученики Вольфрама отдаются свободе фантазии; первые стремятся к ясности и, при недостатке таланта, впадают в тривиальность; у вторых, при том же условии, глубокомыслие учителя переходит в крайнюю темноту.
Когда эти певцы водворяются в городах, где находят многочисленных учеников, они превращаются в так называемых мейстерзингеров. Представителем переходной эпохи можно считать Генриха Мейсенского, который, после многолетних странствований, в 1311 г. поселяется в Майнце; Иоганн Гадлуб (?) — уже совсем горожанин. Придворный эпос имел более продолжительное существование, но вся деятельность великих эпиков — Гартмана фон Ауэ («Ивейн»), Вольфрама фон Эшенбаха («Парцифаль») и Готфрида Страсбургского — прошла между 1190 и 1220 годами. Гартман по отношению к Вольфраму и Готфриду является зачинателем, в идеях и приёмах которого ещё мало индивидуального. Вольфрам и Готфрид — родоначальники двух школ; последователи Готфрида близко держатся источника, ученики Вольфрама отдаются свободе фантазии; первые стремятся к ясности и, при недостатке таланта, впадают в тривиальность; у вторых, при том же условии, глубокомыслие учителя переходит в крайнюю темноту.
Школы различаются и географически: последователи Готфрида действуют в Швабии, последователи Вольфрама — в Баварии. К школе Готфрида принадлежат Рудольф Эмсский (Rudolf von Ems) (дворянин, начал писать ок. 1225 г., ум. ок. 1251—1254 г.), предпочитавший назидательные темы и обработавший, между прочим, знаменитый византийский роман о Варлааме и Иоасафе, и горожанин Конрад Вюрцбургский, охотно выводивший на сцену аллегорические фигуры. Манеру Вольфрама усвоили весьма учёный для своего времени Альбрехт из Шарфенберга (Albrecht von Scharfenberg), Рейнбот фон Дюрн (Reinbot von Durne), состоявший на службе герцога Отто II Баварского (1231—1253) и превративший в рыцарский роман житие св. Георгия, автор баварской поэмы о Лоэнгрине, написанной около 1290 г., и другие. В лучшее время немецкой придворной поэзии заметна борьба двух мировоззрений — благочестиво-духовного и модного рыцарского, так как носителями поэзии были или клирики, или дворяне; но уже и тогда приходский священник Ульрих из Цациковена (Ulrich von Zatzikhoven) обрабатывает Ланселота, а рыцарь Конрад фон Фуссесбруннен излагает по апокрифам детство Христа. К концу XIII в., по мере одичания рыцарей, белое духовенство забирает поэзию в свои руки, но само, в большинстве случаев, подчиняется модным веяниям, превращая творчество в ремесло и усиливая элементы аллегории и нравоучительности невысокого уровня.
 Традиционные сюжеты бретонского цикла истощаются: являются свободные переделки их (начало этому положено уже в классический период: около 1220 г. Генрих фон дем Тюрлин (Heinrich von dem Türlin) составил поэму «Der Aventiure Krone», изд. в 1852 г., подражания, основанные на собственном вымысле, переработки в том же тоне поэм шпильманов и исторических сказаний. Затем и рыцарским эпосом овладевают поэты профессиональные, между которыми видную роль играют люди, получившие кое-какое школьное образование, но в то же время тесно связанные и с народом. Такой же ход дела и в поэтической дидактике: к началу XIII в. относится рыцарское поучение отца сыну, «Der Winsbeke», благородный автор которого твёрдо уверен в ангелоподобии женщин и в несокрушимости своих рыцарских идеалов. Это единственная дошедшая до нас поучительная поэма, написанная дворянином; последующие сочиняются клириками, которые в значительной степени усвоили себе рыцарственно-светское мировоззрение. В 1215—1216 гг. каноник Томазин Цирклария (Thomasîn von Zerclaere), итальянец по происхождению, пишет длинную (в 15000 стихов) поэму «Итальянский гость» («Der wälsche Gast»), где излагает правила светскости. Фрейданк, автор поэмы «Скромность», по взглядам и тону — поэт профессиональный и народный, вводящий массу пословиц и сильно негодующий на папу и курию, которые эксплуатируют немцев.
Традиционные сюжеты бретонского цикла истощаются: являются свободные переделки их (начало этому положено уже в классический период: около 1220 г. Генрих фон дем Тюрлин (Heinrich von dem Türlin) составил поэму «Der Aventiure Krone», изд. в 1852 г., подражания, основанные на собственном вымысле, переработки в том же тоне поэм шпильманов и исторических сказаний. Затем и рыцарским эпосом овладевают поэты профессиональные, между которыми видную роль играют люди, получившие кое-какое школьное образование, но в то же время тесно связанные и с народом. Такой же ход дела и в поэтической дидактике: к началу XIII в. относится рыцарское поучение отца сыну, «Der Winsbeke», благородный автор которого твёрдо уверен в ангелоподобии женщин и в несокрушимости своих рыцарских идеалов. Это единственная дошедшая до нас поучительная поэма, написанная дворянином; последующие сочиняются клириками, которые в значительной степени усвоили себе рыцарственно-светское мировоззрение. В 1215—1216 гг. каноник Томазин Цирклария (Thomasîn von Zerclaere), итальянец по происхождению, пишет длинную (в 15000 стихов) поэму «Итальянский гость» («Der wälsche Gast»), где излагает правила светскости. Фрейданк, автор поэмы «Скромность», по взглядам и тону — поэт профессиональный и народный, вводящий массу пословиц и сильно негодующий на папу и курию, которые эксплуатируют немцев.
Позднее средневековье (ок. 1250—1500)
 Значительно дальше в сторону школы и мейстерзингеров идёт писавший в начале XIV в. Гуго фон Тримберг. Реалистические по самому существу своему виды поэзии — новелла и басня очень рано оказались в руках профессиональных поэтов и привлекали особенное внимание горожан. Напротив того, эпос духовный — легенды, которые в XIV в. уже циклизируются и составляют сборники, — остаётся, главным образом, в руках духовенства. Таков общий ход искусственной поэзии в наиболее передовых и подверженных французскому влиянию частях Германии; но и здесь все время действуют шпильманы, создавая или перерабатывая массу песен. В Саксонии они всего дольше являются главными носителями поэзии.
Значительно дальше в сторону школы и мейстерзингеров идёт писавший в начале XIV в. Гуго фон Тримберг. Реалистические по самому существу своему виды поэзии — новелла и басня очень рано оказались в руках профессиональных поэтов и привлекали особенное внимание горожан. Напротив того, эпос духовный — легенды, которые в XIV в. уже циклизируются и составляют сборники, — остаётся, главным образом, в руках духовенства. Таков общий ход искусственной поэзии в наиболее передовых и подверженных французскому влиянию частях Германии; но и здесь все время действуют шпильманы, создавая или перерабатывая массу песен. В Саксонии они всего дольше являются главными носителями поэзии.
В Австрии и Баварии народная поэзия облагораживается и совершенствуется под влиянием просвещённого рыцарства; здесь главным образом получают литературную форму национальные поэмы немцев: «Нибелунги», «Гудрун», поэмы о Дитрихе Бернском, «Лаурин», «Король Ротер», «Ортнит», «Хугдитрих и Вольфдитрих» и др. Иные из этих поэм, попав в письменность, переделывались по несколько раз, до XV в. включительно. Те же странствующие певцы овладели и несколькими историческими и легендарными сюжетами: о герцоге Эрнсте, короле Освальде, Оренделе, Соломоне и Морольфе, св. Брандане и проч. и обрабатывали их (напр. Оренделя) с такой свободой, что литературно заимствованная тема обращалась в героическую и даже мифическую сагу.
Около 1300 г. в немецкой литературе «красота должна покинуть свой престол» и уступить место благочестию и занимательности: первому служит немецкая проповедь, которая ещё в XIII в. имела даровитого представителя в Бертольде Регенсбургском (Berthold von Regensburg), а в XIV веке подвергается влиянию могучей и в данном случае плодотворной школы мистиков.
Позднее Средневековье отмечено многими изменениями, нашедшими своё отражение и в литературе: процветают города, происходит расслоение общества, возрастает число грамотных людей, основываются первые университеты (Гейдельбергский университет — 1386 и др.) и религиозные ордена (францисканцы, доминиканцы, Тевтонский орден), а с 1452 года благодаря Иоганну Гутенбергу появляется книгопечатание, ознаменовавшее собой стремительный переход от книги рукописной к печатной.
Гуманизм и Реформация (около 1450—1600)
Стремление к занимательному чтению превращается в любознательность, которой удовлетворяют появляющиеся уже в XIV в. немецкие учебники по астрономии и естественным наукам, сокращения энциклопедий, разнообразные исторические сочинения (городские хроники, переработки и компиляции из латинских сводов и прочее). Другие ищут услады для воображения, и для них в XV в. в огромном количестве (первые образцы — ещё в XIII в.) составляются немецкие прозаические романы и повести; фабулы собирают отовсюду, начиная от «Панчатантры» до обработанных во Франции сказаний о Гуго Капете; над романами усердно работают и горожане, и врачи, и благородные дамы; их читают с одинаковой жадностью и в замках, и в домах бюргеров.
Мейстерзингеры действуют в городах (редко при княжеских дворах, где, в большинстве случаев, их заменяют придворные музыканты); иные из них, напр. Ганс Розенблют в Нюрнберге, приобретают обширную известность. Мейстерзингеры доставляют удовольствие себе и немногим любителям; для забавы толпы как городской, так и деревенской, служат площадные певцы — бенкельзенгеры, наследники шпильманов. Все классы городского населения привлекает развившаяся в XIV в. немецкая духовная драма (см. мистерия, моралите, миракль), сочиняемая рифмованными двустишиями и разыгрываемая на площади при крайне простой обстановке. В XV в. выдвигается на первый план комический элемент; развивается масленичное представление — фастнахтшпиль, разнообразное по содержанию, часто живое и остроумное, скоро почти поглощающее остальные виды немецкой средневековой драмы и сильно влияющее на повествовательную и нравоучительную поэзию, многие и лучшие произведения которой принимают форму диалога и судебного разбирательства. Под влиянием первых проблесков Возрождения появляются на сцене переводы из Плавта и Теренция.

Кроме драмы, в этот городской период немецкой литературы самостоятельное развитие в стихотворной форме получают сатира и жанр, ею проникнутый — шванк, небольшой юмористический рассказ в стихах, а позднее в прозе, часто сатирического и назидательного характера, достигший расцвета в творчестве австрийского поэта Штриккера (Der Stricker) в середине XIII века. Интересный образец шванка встречается ещё в XIII в. в «Крестьянине Гельмбрехте», баварца Вернера Садовника, изображающем нравственное падение и злоключения крестьянского парня из богатой семьи, презревшего своё состояние и вздумавшего стать рыцарем; но здесь есть серьёзная цель и некоторая идеализация крестьянской жизни, тогда как в произведениях позднейшего периода, например, в поэме «Кольцо» Генриха Виттенвилера (ок. 1450 г.), цель автора — посмешить читателя на счёт грубости и глупости крестьян, причём он не жалеет и героев национального эпоса, Дитриха и Гильдебранда.
Та же цель и сходная точка зрения на крестьянство выражается и в нижненемецком рассказе о Тиле Уленшпигеле, написанном в 1483 г. В конце XV столетия появляется нижненемецкая переделка нидерландской поэмы о Рейнвеке (?), вполне пришедшаяся по вкусу всей немецкой публике (верхненемецкая переделка с французского, сделана Глихезером (?) ещё в XII в.. В то же время не забывалась и старая поэзия; в XV в. было немало её любителей и собирателей; в первой половине его переработаны поэмы об Ортните, Хугдитрихе и Вольфдитрихе, короле Лаурине, под именем «Книги о героях» (Хугдитрих и Вольфдитрих; 1-е изд. без года, 2-е 1491 г., потом 1509, 1545, 1560, 1590 и т. д.); ок. 1472 г. площадной певец дер Рён (?) из Мюннерштадта ещё раз переделал (очень безвкусно) те же сюжеты, вместе с другими.
На границе XV и XVI в. за народную сатиру берутся люди с хорошим школьным образованием; таков, например, юрист Себастьян Брант, автор «Корабля дураков», вышедшего на немецком языке.
В начале XVI в. во главе почитателей старины стоит «последний рыцарь», император Максимилиан I; по его распоряжению составлен знаменитый «Амбразовский сборник» (Ambraser Heldenbuch); он сам, при участии своих секретарей, сочинил аллегорическую рыцарскую поэму «Тейерданк» (Theuerdank), в которой изложил свою жизнь и свои идеалы; этот образец «переживания» в литературе был напечатан в 1517 г. и имел успех.
Ренессансный гуманизм
 Идеи раннего итальянского гуманизма впервые проникают в Германию ещё при Карле IV, который состоял в переписке с Петраркой. Во время Констанцского (1414-18) и в особенности Базельского (1431-50) соборов учёные немцы сталкиваются с гуманистами итальянскими и во многом подчиняются их влиянию. Этому заимствованному движению идёт навстречу уже с конца XIV в. движение туземное — от братьев общей жизни, которые к этому времени распространились по северной Германии. Они не любят схоластики, требуют Библии на родном языке; с них начинается применение филологии к изучению Святого Писания. С другой стороны, в их школах рано начали читать классиков с полным пониманием; один из их влиятельнейших педагогов и писателей, Вессель, выносит из Италии прекрасное знание греческого языка и страсть к пропаганде новой науки. Нет сомнения, что влияние братьев, вместе с национальным характером и историческими условиями, придали немецкому гуманизму те черты, которыми он так резко отличается от итальянского.
Идеи раннего итальянского гуманизма впервые проникают в Германию ещё при Карле IV, который состоял в переписке с Петраркой. Во время Констанцского (1414-18) и в особенности Базельского (1431-50) соборов учёные немцы сталкиваются с гуманистами итальянскими и во многом подчиняются их влиянию. Этому заимствованному движению идёт навстречу уже с конца XIV в. движение туземное — от братьев общей жизни, которые к этому времени распространились по северной Германии. Они не любят схоластики, требуют Библии на родном языке; с них начинается применение филологии к изучению Святого Писания. С другой стороны, в их школах рано начали читать классиков с полным пониманием; один из их влиятельнейших педагогов и писателей, Вессель, выносит из Италии прекрасное знание греческого языка и страсть к пропаганде новой науки. Нет сомнения, что влияние братьев, вместе с национальным характером и историческими условиями, придали немецкому гуманизму те черты, которыми он так резко отличается от итальянского.
Два известных представителя немецкого гуманизма — это Эразм Роттердамский и Иоганн Рейхлин, однако они писали, в основном, на латыни и имели влияние только в научных кругах. Эразм воспитывается в Девентерской латинской школе, устроенной и направляемой «братьями общей жизни»; Рейхлин в Париже слушает наставления Весселя, труды которого увидали свет благодаря Лютеру. Немецкий гуманизм стоит в теснейшей связи с родным языком и с любовью к родной старине. Конрад Цельтис (1459—1508) всю вторую половину жизни собирает материал для «Germania illustrata»; «Похвала глупости» Эразма развивает идеи и отчасти пользуется формой «Корабля Дураков» Бранта; Рейхлин в немецких брошюрах ведёт борьбу со схоластиками; Гуттен с 1520 г. окончательно переходит от латыни к немецкому языку и в своих мятежных стихах, и в прозе; он же, вместе с Цельтесом, является родоначальником культа Арминия.
Реформация
Ещё более благотворное действие на немецкую литературу оказывает, в начале, Реформация: один Лютеров перевод Библии (1521-34) — такой крупный факт, что равного ему по значению нельзя указать во всей истории немецкой литературы; она объединяет многомиллионный народ и создаёт орудие для выражения всех сторон его духовной жизни. Одинаково интересуясь привлечением и массы народной, и передовых людей, получивших школьное образование, сторонники реформы должны были создать национальную литературу, выражающую интересы всех классов общества, и руководитель дела, «виттенбергский соловей», которого собираются слушать и львы и овцы, объединяет в своём протесте всю немецкую нацию.
 Мартин Лютер был и влиятельнейшим лириком своего времени (духовная песнь XIV и XV вв. далеко не имела такого значения и притом носила иной, слишком светский и вялый характер; Лютер же, вдохновлённый псалмами, придал ей мужественный, искренний тон); он же был настоящим родоначальником немецкой публицистики.
Мартин Лютер был и влиятельнейшим лириком своего времени (духовная песнь XIV и XV вв. далеко не имела такого значения и притом носила иной, слишком светский и вялый характер; Лютер же, вдохновлённый псалмами, придал ей мужественный, искренний тон); он же был настоящим родоначальником немецкой публицистики.
Его сильно, резко и вполне целесообразно написанные брошюры волнуют всю немецкую нацию, без различия сословий, и служат образцом не только для друзей реформы, но и для её противников (самый даровитый из них — Томас Мурнер, очень талантливый сатирик). Бесконечно важнее чем форма произведений Лютера, идеи, выразителем которых он был; они занимают целый ряд поколений и разрабатываются во всевозможных литературных формах: им всецело служит и популярнейший поэт Лютерова времени Ганс Сакс (1494—1576); им служит или с ними борется бесчисленная литература пасквилей и летучих листков.
Гробианизм
Несмотря на ожесточение борьбы, сами современники замечают, что в их литературных приёмах (как и в жизни) развивается особый дух грубости, для обозначения которого ещё Себастьян Брант нашёл подходящее слово: гробианизм. Фридрих Дедекинд (1530—1598) в 1549 году сочинил на эту тему целую сатирическую поэму в латинских двустишиях: «Grobianus», которую Каспар Шейдт переделал по-немецки. Племянник и ученик Шейдта, Фишарт (1546—1590) — один из наиболее даровитых и влиятельных писателей конца XVI в.; не лишённый тонкости и нежности чувства в изображении семейных добродетелей, он горячий приверженец св. Гробиана в изображении других сторон жизни. Он переделывает на немецкий язык знаменитый роман Рабле, увеличив смехотворно-сатирический элемент и без того резкого оригинала; его стремление — обогащать немецкую литературу всевозможными заимствованиями. Вообще в этот период количество переводов и переделок поразительно велико. В XVI веке богата литература басен и новелл, тоже не отличающихся изяществом формы, но грубо-весёлых и сатирически-резких. В 1522 году вышел сборник Иоганна Паули (Johannes Pauli) «Schimpf und Ernst»; во второй половине столетия подобные ему печатаются десятками. Страсти к лёгкому чтению удовлетворяют многочисленные переводные или переделанные с французского романы; во второй половине XVI в. под их влиянием являются довольно удачные попытки самостоятельного творчества, в смысле изображения действительной жизни (Йорг Викрам (ок.1505-1562). Занимают фантазию и прозаические рассказы, тесно связанные со стариной и преданием: о Тиле Уленшпигеле, шильдбюргерах, вечном Жиде, д-ре Фаусте и пр.; вместе с рыцарскими романами и переделками сказок, легенд и национального эпоса они начинают выделяться в простонародную «лубочную» литературу.
В силу объединяющего духа реформы, и в немецкой драме XVI в. народный элемент сливается со школьным; с одной стороны, Ганс Сакс делит свои пьесы на акты; с другой, все интересные по содержанию латинские пьесы немедленно переводятся на немецкий язык. Дух полемики проникает и в мистерии (например чёрт, стремящийся погубить пророка Даниила, является в виде католического монаха). Было немало даровитых драматургов — напр. Томас Наогеорг, Никодим Фришлин (Nicodemus Frischlin) и др., — но пьесы их поражают крайней небрежностью обработки.
Барокко (ок. 1600—1720)
В конце XVI века при некоторых дворах являются «английские труппы»; кое-где строятся особые здании для театра; совершенствуется сценическая техника. Учениками англичан должны считаться Якоб Айрер (Jakob Ayrer) и Генрих-Юлий, герцог Брауншвейгский. Перед Тридцатилетней войной (1618—1648) во всех сферах духовной жизни замечается сильное и многообещающее возбуждение; везде совершенствуется форма, а в содержании везде национальное берёт перевес над заимствованным. Между 1610 и 1617 гг. чрезвычайно сильно развивается книжная торговля. Появляются многочисленные общества писателей и поэтов. В общем, южная Германия в это время идёт впереди северной: в Штутгарте действует Векхерлин (Georg Rodolf Weckherlin); в Веймаре в 1617 г. образуется «Плодоносное общество» (Fruchtbringende Gesellschaft), цель которого — очищение языка; в Гейдельберге славится Цинкгреф, около которого составляется кружок образованных писателей; в 1619 г. в его состав вступает юный Мартин Опиц (1597—1639), но уже в 1620 г. испанские войска разогнали гейдельбергских поэтов, и Опиц стал с тех пор действовать в одиночку.
Война, чуть не на ²/3 уменьшившая население Германии, отчасти задержала, отчасти видоизменила ход умственного развития немецкого народа: начавшееся слияние народного элемента литературы с учёным не состоялось; второй почти во всех областях (исключения — духовная песня и отчасти забавная литература) взял явный перевес и кое-где господствует безраздельно. В поэзии опять и больше, чем когда-нибудь прежде, подавлено все национальное и царит подражание; при отсутствии искренности и чувства, дидактика становится на первом плане. Бюргерство ограблено и унижено; дворяне и князья всему дают тон, но их связь с народом крайне слаба, и они французятся сколько могут более. При них плохо кормятся поэты, воспевающие их домашние праздники. В общем, картина крайне печальная, и её мало скрашивают многочисленные литературные общества (иные из них возникали и во время войны, в местностях сравнительно спокойных), так как и они главным образом ищут образцов для подражания и внешних авторитетов, занимаются скорее стихоплётством, чем стихотворством, забавляют себя пустой обрядностью, вымышленными именами и пр.
 Прогресс замечается только в метрике и в чистоте литературного языка. В этом отношении больше всех сделал М. Опиц своей «Книгой о немецкой поэтике» (1624), в которой он, подобно Ломоносову, установил различие стилей. Он же — главный проводник французско-голландской манеры и настоящий основатель немецкого псевдоклассицизма. Опиц рекомендовал для немецкой лирики использование александрийского стиха, остававшегося затем в течение долгого времени основным. У Опица масса поклонников и подражателей; сам он по природе чувствует наклонность к лёгкой поэзии, и из его последователей больше всего таланта проявляют сочинители песенок — Пауль Флемминг (1609—1640) из Лейпцига (спутник Олеария по его путешествию в Русское Царство) и Симон Дах (1605—1659) в Кёнигсберге.
Прогресс замечается только в метрике и в чистоте литературного языка. В этом отношении больше всех сделал М. Опиц своей «Книгой о немецкой поэтике» (1624), в которой он, подобно Ломоносову, установил различие стилей. Он же — главный проводник французско-голландской манеры и настоящий основатель немецкого псевдоклассицизма. Опиц рекомендовал для немецкой лирики использование александрийского стиха, остававшегося затем в течение долгого времени основным. У Опица масса поклонников и подражателей; сам он по природе чувствует наклонность к лёгкой поэзии, и из его последователей больше всего таланта проявляют сочинители песенок — Пауль Флемминг (1609—1640) из Лейпцига (спутник Олеария по его путешествию в Русское Царство) и Симон Дах (1605—1659) в Кёнигсберге.
Более рабски следует Опицу и как теоретик продолжает его Август Бухнер (1591—1661), профессор в Виттенберге (по происхождению Опица и по месту действия многих его последователей их объединяют под именем «Первой силезской школы» — Schlesische Dichterschule).
В ином, чем Опиц, направлении действует с 1644 г. в Нюрнберге «Общество пегницских пастухов», или «Цветочный орден» (Pegnesischer Blumenorden), основанный Г. Ф. Харсдёрфером: он подчиняется итальянскому влиянию и особенно культивирует пастораль, но, в силу национального характера, усложняет её глубокомысленной аллегорией и учёностью. Другими видными представителями ордена были Иоганн Клай и Зигмунд фон Биркен.
Несколько больше жизни в гамбургском «Розовом ордене» (Deutschgesinnte Genossenschaft), во главе которого стоял Филипп фон Цезен (1619—1689), очень образованный человек, исключительно посвятивший себя литературе; он был и поэт во всех родах, и деятельный переводчик, и теоретик; он старался изгнать из немецкого языка варваризмы и, подобно горячим пуристам всех стран и времён, доходил до неуместной крайности; даже имена классических богов и богинь переводил он по-немецки. Наибольшую славу приобрёл он своими плохими и растянутыми романами, успех которых породил массу подражателей; между ними считались знаменитостями священник Андреас Генрих Бухольц, драматург Даниель Каспер фон Лоенштейн, сочинитель утопий, герцог Антон Ульрих Брауншвейг-Вольфенбюттельский и Генрих Ансельм фон Циглер.
Важными лирическими формами данной эпохи являются сонет, ода и эпиграмма. Лирику можно условно разделить на религиозную (чаще всего евангельского содержания) и светскую. Среди религиозных поэтов: Фридрих Шпее (1591—1635), сочинитель церковных гимнов Пауль Герхардт (1607—1676), Иоганн Рист (1607—1667), Ангелус Силезиус (1624—1677) и мистик Якоб Бёме (1575—1624). Светские поэты — это прежде всего сочинитель сонетов Андреас Грифиус (1616—1664) и Христиан Гофман фон Гофмансвальдау (1617—1979).
 Романы эпохи барокко — это буколический (пастушеский)роман, роман придворный, пришедший из Испании плутовской роман и роман-утопия. Немецкие романы XVII в. всегда многотомные, будто бы исторические, но на самом деле изображающие вместо людей — манекенов, произносящих бесконечные высокопарные речи и пересылающихся такими же посланиями, читались с жадностью, так как служили школой благородных чувств, вкуса и слога. Отрадное исключение представляет явившийся в 1669 г. плутовской роман «Симплициссимус» Гриммельсгаузена (1625—1676), роман интересный, живой и довольно реальный.
Романы эпохи барокко — это буколический (пастушеский)роман, роман придворный, пришедший из Испании плутовской роман и роман-утопия. Немецкие романы XVII в. всегда многотомные, будто бы исторические, но на самом деле изображающие вместо людей — манекенов, произносящих бесконечные высокопарные речи и пересылающихся такими же посланиями, читались с жадностью, так как служили школой благородных чувств, вкуса и слога. Отрадное исключение представляет явившийся в 1669 г. плутовской роман «Симплициссимус» Гриммельсгаузена (1625—1676), роман интересный, живой и довольно реальный.
Драма эпохи барокко очень разнообразна. В южной части страны дейсвуютует католические театры иезуитов, где действие происходило на латинском языке; так как зрители ничего не понимали в происходящем на сцене, добавлялась масса визуальных эффектов. Примерно то же происходило на сценах бродячих иностранных театров. Для образованной публике существовала стоявшая на высоком художественном уровне опера-барокко и придворная драма. Реформатором немецкой драмы был Андреас Грифиус, разделявший взгляды Опица, но больше дававший места искренности чувства и народности. Лоенштейн идёт дальше Грифиуса в смысле внешней правильности и подражания древним (у него даже есть хоры между действиями), но у него непреодолимое стремление к кровавому, ужасному и вообще к изображению самых дурных страстей человеческих. Силезец Лоенштейн, вместе со своим земляком и старшим современником Гофмансвальдау и его последователями, образует в лирике так называемую «Вторую силезскую школу» (Zweite Schlesische Schule), которая больше подчиняется крайне цветистым и вычурным итальянцам, нежели Опицу и его образцам.
Тем не менее национальный элемент и жизненность не замирают в немецкой литературе и в это печальное время: в Вене гремит своими грубо-остроумными проповедями Абрахам а Санта-Клара, в Берлине распеваются прекрасные гимны Герхардта, во многих стихах Христиана Вайзе слышно искреннее чувство, а стиль его поражает простотой и ясностью. Последователи его, у которых простота перешла в крайнюю прозаичность, называются «водяными поэтами» (Wasserpoeten), да и его романы несравненно ближе к «Симплициссимусу», чем к героическим романам Бухольца и другим. Совершенно сознательно выступает против нелепого подражания иностранцам сатирик Иоганн Мошерош (Johann Michael Moscherosch), поклонник родной старины; даже псевдоклассик по приёмам Фридрих фон Логау возмущается французскими модами.
Эпоха Просвещения (ок. 1720—1780)
Главную роль в деле умственного возрождения Германии сыграла немецкая наука, которая именно в это время переходит от латыни к родному языку: во второй половине XVII в. жил и действовал Самуэль фон Пуфендорф, основатель естественного права, освободивший историю от влияния богословия. Начинается усиленное изучение родной старины и даже средневековой поэзии. Даниель Моргоф (Daniel Georg Morhof) знакомит публику с результатами новых историко-литературных открытий. В это же время творит Лейбниц — один из важнейших представителей новоевропейской метафизики.
В 1687 г. «отец немецкого Просвещения» Христиан Томазиус, смелый боец за права науки, начинает читать в Лейпцигском университете лекции по-немецки, дело до тех пор неслыханное. Когда его вытеснили за свободомыслие, он поселяется в Галле, привлекает туда своих юных поклонников из Лейпцига, и там в 1692 г. основывается новый университет, где в первой половине XVIII в. с такой славой действует Христиан Вольф.
К началу нового столетия во всех родах поэзии замечается сильное движение: многие, начав с подражания Лоенштейну, переходят в ряды последователей французского «здравого смысла». В области романа с 20-х гг. входят в моду так называемые «Робинзонады», из которых одна — «Остров Фельзенбург», написанная Шнабелем в 1733 г., — имела огромный и вполне заслуженный успех; в них легко подметить первые проблески романа психологического.
Известным автором Просвещения был поэт и философ-моралист Христиан Геллерт (1715—1759) с его баснями.
В лирике действуют два значительных поэта: представитель галантной поэзии Гюнтер (1695—1723) и Бартольд Брокс (1680—1747).
Параллельно возникают и другие литературные течения, выдвигающие чувства на передний план. Например, Галлер и рококо-поэт Хагедорн указывают своим примером новые образцы и возвращают немецкой литературе уважение серьёзных и образованных людей. Их успех подготовляет влияние Геллерта и Глейма; последний, несмотря на свой полунапускной пафос, является уже истинно-национальным поэтом, выразителем чувств всего народа.
 В то же время вступают в борьбу две литературные школы — Готтшеда(1700—1766) и Бодмера, которые долго действовали заодно в смысле подъёма интереса к родной литературе; оба они работали с такой верой в своё дело и с такой энергией, и в обществе настолько назрела потребность в широкой и здоровой умственной жизни, что, когда они разошлись в основных принципах («здравый смысл и чувство меры» или «фантазия и свобода»? «французские классики или великие англичане»?), в их полемике оказались заинтересованными все образованные немцы. Победа Бодмера и швейцарцев повела за собой подъём национального самосознания, которому Семилетняя война дала твёрдое основание.
В то же время вступают в борьбу две литературные школы — Готтшеда(1700—1766) и Бодмера, которые долго действовали заодно в смысле подъёма интереса к родной литературе; оба они работали с такой верой в своё дело и с такой энергией, и в обществе настолько назрела потребность в широкой и здоровой умственной жизни, что, когда они разошлись в основных принципах («здравый смысл и чувство меры» или «фантазия и свобода»? «французские классики или великие англичане»?), в их полемике оказались заинтересованными все образованные немцы. Победа Бодмера и швейцарцев повела за собой подъём национального самосознания, которому Семилетняя война дала твёрдое основание.
Пример для подражания для целого поколения, поэт Фридрих Готлиб Клопшток (1724—1803) со своим эпосом «Мессиада» и его сторонники доводят это самосознание до крайностей самообожания (необходимой реакции против прежнего самоунижения), но более холодный и реальный Виланд (1733—1813), а главное — здоровое и развитое наукой чувство серьёзной нации, заставлявшее её передовых людей относиться с законным уважением к великим умам других стран, возвращают германофильство в надлежащие пределы. Тогда наступает эпоха Лессинга (1729—1781), объединившего науку и литературу, установившего принципы новой критики, которая отчасти подготовила, отчасти создала эпоху немецких классиков.
Современники Лессинга или связывают новую поэзию с её прошлым, как идиллик Гесснер, или заглядывают далеко вперёд, как первый романтик Бюргер и великий основатель изучения народности Гердер. Всё, что было истинно прекрасного и оригинального в чужих литературах, было перенесено в немецкую и возбуждало в молодёжи недовольство своим и благотворное соревнование.
Буря и натиск (ок. 1767—1785)
Полное разрушение старой поэтики и отрицание устарелых форм жизни, вместе с могущественным влиянием горячей проповеди Ж.-Ж. Руссо, произвело в 70-х годах недолговременную, но сильную умственную революцию, известную под именем «Буря и натиск», которая вихрем пронеслась по всей молодой интеллигентной Германии, иных, как Клингера, Ленца и беззаветных поклонников гётевского «Вертера», увлекла всецело, но для большинства только очистила воздух и обусловила целостное восприятие произведений великих художников и мыслителей.
«Буря и натиск», называемое также «время гениев» — это литературное течение эпохи Просвещения, представленное преимущественно молодыми авторами в 1767—1785 годах. Своим названием течение обязано одноимённой драме Клингера.
Особенностью его является отказ от культа разума, свойственного классицизму, в пользу предельной эмоциональности и описания крайних проявлений индивидуализма. Идеологом этого бунта против рационализма выступил немецкий философ Иоганн Георг Гаман, разделяющий взгляды французского писателя и мыслителя Жан-Жака Руссо. Идеал личности, представленный теперь в литературе, далёк от авторитетов и традиций. Главным жанром поэзии становится драма, примером для подражания становится Шекспир вместо наскучивших античных (прежде всего греческих) авторов.
Среди представителей «Бури и натиска» Иоганн Гаман («Крестовые походы филологов»), Генрих фон Герстенберг («Письма об особенностях литературы», «Уголино»), Генрих Вагнер («Детоубийца»), Иоганн Готфрид Гердер («Фрагменты новейшей немецкой литературы» и др.), Иоганн Вольфганг Гёте («Страдания молодого Вертера»), Готфрид Бюргер («Ленора»), Кристиан Шубарт («Княжеская могила»), Фридрих Шиллер («Разбойники», «Коварство и любовь»).
Веймарские классики (ок. 1772—1805)
 С конца 80-х годов настаёт время господства Гёте, Канта, Шиллера, не без основания сравниваемое с эпохой Перикла в Афинах; но так как масса общества не могла стоять на столь высоком уровне развития и нуждалась в ежедневной, хотя бы и не особенно тонкой пище, то, одновременно с драмами Гёте и Шиллера и часто ещё с большим удовольствием, смотрелись пьесы Коцебу и Иффланда.
С конца 80-х годов настаёт время господства Гёте, Канта, Шиллера, не без основания сравниваемое с эпохой Перикла в Афинах; но так как масса общества не могла стоять на столь высоком уровне развития и нуждалась в ежедневной, хотя бы и не особенно тонкой пище, то, одновременно с драмами Гёте и Шиллера и часто ещё с большим удовольствием, смотрелись пьесы Коцебу и Иффланда.
Начало «веймарского периода» в немецкой литературе часто связывается с переездом в Веймар в 1772 году Виланда, первого из знаменитого «веймарской четвёрки»: Виланд-Гердер-Гёте-Шиллер (иногда к «веймарским классикам» относят только Гёте и Шиллера). В отличие от периода «Бури и натиска» все четверо ориентировались на гуманистические идеалы, частично используя в своем творчестве античные темы и примеры.
Примером такого гуманистического идеала может служить драма Гёте «Ифигения в Тавриде». Шиллер пишет многочисленные баллады, теоретические произведения («О наивной и сентиментальной поэзии») и целый ряд исторических драм («Валленштейн», «Вильгельм Тель»).
К прочим классическим авторам можно отнести Карла Филиппа Морица, его автобиографичный роман «Антон Райзер» считается первым немецким психологическим романом; Иоганн Гёльдерлин (1770—1843), чьи произведения не только переводили и изучали заново, но и публично декламировали и писали на них музыку («Гиперион», «Письма Диотимы»); Жан Поль (1763—1825), писавший прежде всего сатирические романы («Озорные годы», «Титан»); и Генрих фон Клейст (1777—1811), один из зачинателей жанра рассказа («Маркиза д'О»).
Немецкие романтики (ок. 1799—1835)
 Уже в 90-х гг., в лучшую пору деятельности веймарских корифеев, замечается как бы некоторое пресыщение чистым искусством, является потребность в чём-то радикально новом, более пикантном; этой потребности призвана удовлетворить тогда же формирующаяся «романтическая школа», предшественником которой является Жан Поль Рихтер, со своими задушевно-юмористическими, бесформенными произведениями («Schulmeisterlein Wuz» (1790), «Unsichtbare Loge» (1793), «Hesperus» (1795)). Основатели романтической школы, «йенские романтики» братья Шлегель, Тик, Новалис и Вильгельм Ваккенродер — исходя из великого умственного движения 70-х гг. и считаясь горячими последователями новых немецких «классиков», с конца столетия начинают оказывать давление на своих учителей, которые отчасти поддаются ему, отчасти, им возмущённые, отходят дальше чем когда-нибудь от их основных взглядов на жизнь и искусство. К примеру, они включают в свои романы стихотворения и баллады, небольшие сказки и т. п., при этом они часто ссылаются на произведения Гёте. Все это отвечает концепции «прогрессивной универсальной поэзии» Фридриха Шлегеля, которая не только объединяет самые разнообразные стили и области знаний, но и размышляет о самой себе и содержит собственную критику. Основным средством выражения этой «рефлексивной поэзии» становится ирония.
Уже в 90-х гг., в лучшую пору деятельности веймарских корифеев, замечается как бы некоторое пресыщение чистым искусством, является потребность в чём-то радикально новом, более пикантном; этой потребности призвана удовлетворить тогда же формирующаяся «романтическая школа», предшественником которой является Жан Поль Рихтер, со своими задушевно-юмористическими, бесформенными произведениями («Schulmeisterlein Wuz» (1790), «Unsichtbare Loge» (1793), «Hesperus» (1795)). Основатели романтической школы, «йенские романтики» братья Шлегель, Тик, Новалис и Вильгельм Ваккенродер — исходя из великого умственного движения 70-х гг. и считаясь горячими последователями новых немецких «классиков», с конца столетия начинают оказывать давление на своих учителей, которые отчасти поддаются ему, отчасти, им возмущённые, отходят дальше чем когда-нибудь от их основных взглядов на жизнь и искусство. К примеру, они включают в свои романы стихотворения и баллады, небольшие сказки и т. п., при этом они часто ссылаются на произведения Гёте. Все это отвечает концепции «прогрессивной универсальной поэзии» Фридриха Шлегеля, которая не только объединяет самые разнообразные стили и области знаний, но и размышляет о самой себе и содержит собственную критику. Основным средством выражения этой «рефлексивной поэзии» становится ирония.
Вскоре после смерти Шиллера (1805 г.), под влиянием политических событий, вся немецкая литература и даже, отчасти, наука принимают горячий публицистический тон, от которого Гёте держится как можно далее, тогда как большинство романтиков, покинув на время свой индифферентизм к живой действительности и беззаветную иронию, энергично устремляются в борьбу и становятся горячими вожаками немецкой нации. Этим они приобретают симпатию сперва угнетённых, потом победоносных немцев, которая, естественно, переносится и на проводимые ими историко-эстетические взгляды. Но вражда романтиков к идеям революционного «просвещения», их мистицизм и преклонение перед всем средневековым, уже в 1803 г. побудившее Фридриха Шлегеля перейти в католичество, сделало многих из них усердными служителями реакции, первые признаки которой проявляются немедленно после войны за освобождение и которая после убийства Коцебу (1819) достигла своего апогея.

Иные из бывших патриотов и демагогов обратились в сторонников застоя и безусловного повиновения, и тем оттолкнули от себя наиболее живую часть общества. Далеко не все крупные литературные деятели военного времени кончили, однако, столь печально, как Фридрих Шлегель и Генриетта Герц; так, один из лучших немецких лириков, воодушевлявших немцев своими песнями, Э. М. Арндт, всю жизнь оставался передовым человеком нации, и его литературная деятельность представляет переход от романтизма к позднейшим, более здоровым течениям — изучению народности и стойкому, глубоко убеждённому либерализму. Славу немецкого Тиртея с ним разделяет рано погибший Теодор Кёрнер, который по таланту и по светлым идеям ближе всех стоял к Шиллеру. Третий лирик той эпохи, Максимилиан фон Шенкендорф (1787—1817), имел меньше влияния, так как его элегический тон не вполне подходил к настроению минуты.
Кёрнер и Шенкендорф принадлежат к группе младших романтиков, приобретающих литературную известность в первые два десятилетия XIX в. Они гораздо производительнее, нежели родоначальники школы, уже потому, что им не приходилось тратить силы на борьбу с противниками и на выработку теории: романтизм стал модой, и в ряды его горячих приверженцев устремились все второстепенные и третьестепенные литераторы. Из них старше других издатели сборника народных песен («Волшебный рог мальчика», 1806—1808), Брентано (1778—1842) и Ахим фон Арним (1781—1831), которые довели односторонность своих учителей до крайности. Брентано к 40-м годам становится отчаянным мистиком и визионером и умирает полусумасшедшим.
Для Арнима все естественное есть кажущееся и существует только как символ сверхъестественного; поразительное богатство его капризной фантазии производит не особенно приятное впечатление на читателя, так как создания её редко согреты чувством любви к людям и редко достигают эстетического совершенства. Больше жизни придал своим произведениям плодовитый Ла Мотт Фуке (1777—1843), основал их на внимательном, хотя и одностороннем изучении средних веков. Его близкий приятель Шамиссо (1781—1838), — основательный знаток естественных наук, подчинился романтикам относительно формы, но сохранил французскую ясность и трезвость ума; его повесть «Необычайная история Петера Шлемиля» (1814), переведённая на все европейские языки — ультраромантическое произведение по основной теме, но приятно поражает рельефностью и конкретностью изложения. Самый даровитый и характерный из младших романтиков, Амадей Гофман («Житейские воззрения кота Мурра», «Крошка Цахес» и т. д.), с таким глубоким убеждением и энергией проводил идею основателей школы относительно объединения поэзии с жизнью, что дальше некуда было идти в этом направлении; необходимо должны были начаться уклонения в сторону, предшествующие реакции.

Одно из таких уклонений представляет собой Фридрих Рюккерт (1788—1866), отмежевавший себе особую область в немецком романтизме — восточно-этнографическую. По виртуозности в стихосложении к нему близко подходят Август фон Платен (1796—1835), от мечтательного Востока перешедший к красоте классической, и в особенности Людвиг Уланд (1787—1862), поэт, учёный и политик, всегда одинаково чистый и передовой человек, лучший в своё время представитель типичных черт своей нации и удачно, как никто другой, попавший в тон и дух народной песни. Уланда ставят во главе так называемой «швабской школы» (главным образом — по происхождению поэтов), члены которой многому научились у романтиков, но не разделяют их односторонних воззрений и остаются в более или менее тесном общении с художественными принципами Шиллера и Гёте. Сюда принадлежат Густав Шваб (1792—1850), разносторонний и плодовитый Вильгельм Гауф, Эдуард Мёрике и др.
Из северных поэтов в сходном отношении к романтизму стоит Вильгельм Мюллер, который своими прекрасными «Песнями греков» много способствовал развитию филэллинизма в Германии. Только как формой пользуется романтизмом, во вторую половину своей деятельности, и Карл Иммерман, очень разносторонний талант, но более ловкий и умный литератор, чем поэт, имевший в своё время большое и благотворное влияние. Ближе к романтикам австриец Христиан-Иосиф фон Цедлиц (1790—1862), автор «Воздушного корабля» и «Ночного смотра», в своих драмах подражавший испанцам. Австрийский драматург Франц Грильпарцер, начав с архиромантической трагедии судьбы, позже перешёл к психологической драме. Всецело остаются верными основным принципам школы Юстинус Кернер и Эйхендорф (1788—1857), «поэт леса», которого часто называют и «последним романтиком»; в своём романе («Aus dem Leben eines Taugenichts», 1824) он возводит в принцип отвращение от борьбы и труда. Если период после войны за освобождение до 1830 г. был не очень богат выдающимися художественными произведениями, зато он поражает напряжением умственной деятельности в филологических и исторических науках.
 Братья Гримм собирают народные сказки и вместе с товарищами закладывают прочные основы германистики: издаются десятки до тех пор неведомых памятников, изучаются германские древности всех родов и видов; Бопп основывает сравнительно-историческое языкознание; Савиньи начинает историческое изучение права; Нибур и его последователи стремятся довести приёмы изучения самого отдалённого прошлого до математической точности и последовательности; все это так или иначе связано с идеями Гердера и родоначальников романтизма. Правда, мистика романтиков приносит некоторый вред историческим и даже естественным наукам, влияя на учёных, как Стеффенс, Окен и др.; но их крайности находят мало последователей.
Братья Гримм собирают народные сказки и вместе с товарищами закладывают прочные основы германистики: издаются десятки до тех пор неведомых памятников, изучаются германские древности всех родов и видов; Бопп основывает сравнительно-историческое языкознание; Савиньи начинает историческое изучение права; Нибур и его последователи стремятся довести приёмы изучения самого отдалённого прошлого до математической точности и последовательности; все это так или иначе связано с идеями Гердера и родоначальников романтизма. Правда, мистика романтиков приносит некоторый вред историческим и даже естественным наукам, влияя на учёных, как Стеффенс, Окен и др.; но их крайности находят мало последователей.
Продолжительнее было влияние романтической школы через философию, главные представители которой, Фихте, Шеллинг и в особенности Гегель, обусловливают в значительной степени всю умственную деятельность даже и за пределами Германии. Головоломная терминология и глубокомысленная диалектика Гегеля были приложимы к самому разнообразному содержанию: из его учения, рядом с крайними идеалистами и даже мистиками, вышли Штраус и даже Фейербах. Не без влияния романтиков сильно прогрессирует и так называемая изящная словесность, если не вглубь, то вширь; цензурные строгости, от которых страдают газеты и журналы, не простираются на чистую беллетристику, альманахи выходят в огромном количестве; библиотеки для чтения процветают и вновь открываются десятками.
В большом ходу исторические романы; массу их сочиняют второстепенные писатели вроде Цшокке, и все же в них чувствуется недостаток в такой степени, что их переводят со всех языков, не исключая даже русского (лучшее, что явилось в этом роде, кроме «Лихтенштейна» Гауфа — романы Виллибальда Алексиса, 1798—1871). Сцена также требует новинок, приспособленных ко вкусу большой публики. Классические драмы, написанные ямбом, не могут удержаться долго; драмы судьбы, в руках Мюлльнера и Гоувальда, скоро доходят до карикатурных нелепостей; романтически-идейные драмы Иммермана имели больше успеха в чтении, чем на сцене; пьесы из жизни художников (Künstlerdramen) тоже были понятны не всем; таким образом, и здесь понадобились фабриканты, поставщики пьес, из которых талантливый Раупах (1784—1852) долго царствовал в Берлине и на других сценах. В комедии с ним удачно соперничали Штейгентеш, Альбини и другие сочинители пьес интриги и комических положений. На венской сцене чувствуется свежая струя народности в пьесах Фердинанда Раймунда (1790—1836); появляются и в других местах пьесы на диалектах.
Бидермейер (ок. 1830—1850) и «Молодая Германия»
 Литературные течения, находящиеся между классикой и романтикой с одной стороны и бюргерским реализмом — с другой, невозможно выделить в отдельную литературную эпоху, поэтому для них используется культурно-исторический термин «бидермейер».
Литературные течения, находящиеся между классикой и романтикой с одной стороны и бюргерским реализмом — с другой, невозможно выделить в отдельную литературную эпоху, поэтому для них используется культурно-исторический термин «бидермейер».
Прежде всего, сюда относятся поэты Николаус Ленау (1802—1850), Эдуард Мёрике (1804—1875), Фридрих Рюккерт (1788—1866) и Август фон Платен (1796—1835). Среди прозаиков выделяются Аннетте Дросте-Хюльсхофф (1797—1848), Адальберт Штифтер (1805—1868) и Иеремия Готхельф (1797—1854). Известные драматурги — Франц Грильпарцер (1791—1872), Иоганн Нестрой (1801—1862) и Фердинанд Раймунд (1790—1836). Грильпарцер писал драмы в духе венских классиков, тогда как Нестрой и Раймунд представляли венскую народную пьесу.
К 1830 году слишком продолжительная реакция усыпила патриотизм и придала немецкой мысли космополитический характер; ничтожество немецких правительств во внешней политике и их угнетательная система внутри страны развили иронию — не философскую, парящую над миром иронию романтиков, а иронию энергичную и вполне реальную, не пропускающую без замечания ни одного крупного явления общественной жизни. Когда-то сентиментальные и восторженные, немцы стремятся превзойти французов в насмешках над высокими чувствами и собственным недавним увлечением. Известие об июльских днях было ближайшим поводом к тому, что бродившие до тех пор элементы сложились в определённую школу, известную под названием «Молодая Германия»; под её влиянием талантливая молодёжь спешит покинуть идеальное для реального, прошлое — для настоящего, науку — для политики, и стремится обратить всю литературу, не исключая и поэзии, в орудие для пропаганды либерализма и объединения Германии.

Главы школы — Бёрне (1786—1837), Гейне, Гуцков (1811—1878) и Георг Бюхнер (1813—1837) — несмотря на различие в характере дарований, все были великими публицистами, только в разных формах. Генрих Лаубе (1806—1884) был талант посредственный, склонявшийся к индустриализму; с большей честью для школы к ней причисляют серьёзного учёного и даровитого лирика Гофмана фон Фаллерслебена. Приблизительно до 1840 г. на первом плане стоит проза, а после, до 1848 г. — политическая лирика. Самый крупный талант между лириками младшего, сравнительно с Гейне поколения, завлечённый положением вещей в политическую борьбу — Фердинанд Фрейлиграт (1810—1876), представитель так называемой объективной лирики. Одно время слава его была заглушена громом имени Гервега, но дарование последнего оказалось слишком односторонним, и Фрейлиграт так и оставался царём тенденциозной поэзии.
С начала 40-х гг. выдающиеся австрийские поэты — Николаус Ленау (Штреленау), Анастасий Грюн (Ауерсперг) — также отдаются политической пропаганде и являются певцами либеральной оппозиции; по их стопам идут молодые поэты из евреев, Карл Исидор Бекк и даровитый Мориц Гартман. Из талантливых лириков чуждым политике и верным чистому искусству оставался только Гейбель.
Средний класс нуждался в огромном количестве повестей и романов, и за поставку их брались не бездарные люди, пробившие новые пути: являются деревенские рассказы, предвещающие Ауэрбаха, американские и вообще этнографические романы; Александр Унгерн-Штернберг и Ида Хан-Хан пишут недурные салонные романы, Карл фон Гольтей изображает жизнь подонков общества; являются архаические романы, с ведьмами (Мейнгольда); исторические романы и повести, ввиду успехов исторической науки, с большим против прежнего вниманием относятся к фактам и культуры прошлого. В то же время не без влияния швабской школы развивается поэзия на диалектах, да и на литературном языке является масса песен и баллад, и комических (Копиш), и серьёзных. Вследствие политического возбуждения от чтения газет (в них, рядом с крупными публицистическими талантами, пользуются успехом и бессодержательные остроумцы, вроде Сафира), вечером в театре публика желает отдыхать, и поэтому наибольшим успехом пользуются салонные пьесы Бауернфельда, остроумные, но пустые комедии «Н. Скриба» — Бенедикса, эффектные, но тривиальные пьесы Бирх-Пфейфер и др. После неудачной революции 1848 г., между 1850 и 70 гг., в немецкой литературе чувствуется истощение прогрессирующей энергии и стремление к покою (чему соответствует и влияние пессимистической философии Шопенгауэра); появляются признаки оживания романтизма; возрождаются старые формы; имеют успех эпические поэмы Редвица и др. (самая талантливая и общеизвестная — «Trompeter von Säckingen» Йозефа Виктора фон Шеффеля, 1854). Вместе с воспроизведением средних веков выказывается симпатия и к античному миру, и к Востоку (Боденштедт). Действует с успехом мюнхенский кружок поэтов, любителей живописи, враждебно относящийся ко всякой политической тенденции. Силой таланта превосходит современников австриец Роберт Гамерлинг, чистокровный художник по направлению, обращающий большое внимание на строгость формы; и все же у него идея господствует над воображением. Менее его подчиняется духу времени Мозен, пытавшийся восстановить романтическую символику; но влияние его было очень непродолжительно и неглубоко. Немецкая сцена этого времени представляет немного оригинального и сильного: при хорошем исполнении потрясают зрителя драмы Гуцкова; в 1856 г. произвёл фурор «Нарцисс» Брахфогеля, но в нём больше всего нравятся горячие монологи героя, устами которого говорит сам автор. Большую пользу принёс немецкой публике Дингельштедт умелой постановкой Шекспира и «классиков».
Поэтический реализм (1848—1890)
 Гораздо более самостоятельны немецкая повесть и роман; здесь появляются новые виды творчества, которым предстоит более или менее крупная будущность.
Гораздо более самостоятельны немецкая повесть и роман; здесь появляются новые виды творчества, которым предстоит более или менее крупная будущность.
Авторы намеренно избегают общественно-политических проблем и обращают свой взор на родные пейзажи и земляков. В центре всех романов, драм и стихотворений стоит человек-индивидуум. Стилистическим признаком многих произведений поэтического реализма является юмор. Предпочтительный литературный жанр — новелла.
Ещё с 1843 г. начинают выходить симпатичные «Шварцвальдские деревенские истории» Ауэрбаха, который с 60-х гг. XIX века становится одним из популярнейших романистов во всей Европе (хотя мировоззрение его именно к тому времени становится значительно уже и одностороннее); с 1856 г. появляются «Культурно-исторические новеллы» историка и политико-эконома Риля, который искусно и умело вводит нас в обыденную жизнь прошлого, не вплетая в неё любовных приключений (первые и весьма удачные попытки такого соединения науки с вымыслом относятся к предшествующему периоду: «Галл» и «Харикл» профессора Беккера, (1796—1846), переведены почти на все европейские языки).
Около того же времени Гейзе приобретает славу первого новеллиста Германии, истинного художника «прекрасной природы». Рядом с ним ставят мрачного, но тонко чувствующего Теодора Шторма (1817—1888). В новелле является художником и Готфрид Келлер (1819—1890) из Цюриха, отличающийся тонкостью психологического анализа и состоящий в оживлённой переписке со Штромом. Готфрид Келлер и Теодор Фонтане — самые крупные представители поэтического реализма.
Немецкий роман как «семейный», так и исторический заметно стремится к возможному для него реализму; почти одновременно выступают Густав Фрейтаг (1816—1895) и Фридрих Шпильгаген, крупные, но разнохарактерные силы; первый — сторонник трезвого взгляда на жизнь, второй, начиная с «Загадочных натур», — искатель идеала, золотой середины «между молотом и наковальней». Шпильгаген позднее становится все более и более тенденциозным и риторичным; Фрейтаг, всю жизнь серьёзно занимавшийся историей, с 1872 г. начинает серию исторических романов «Предки», написанных с огромной эрудицией, но с устарелыми приёмами В. Скотта. Стоит упомянуть также Вильгельма Раабе (1831—1911) — создателя более двух десятков популярных романов.
Оригинальное явление представляют археологические романы профессора Эберса (род. 1837), египтолога по специальности; научное достоинство их выше всякой критики, но чтение их — труд, облегчённый ловким педагогическим приёмом. Этнографическая новеллистика имеет в эту эпоху высокодаровитого представителя в лице Фрица Рейтера из Мекленбурга (1810—1874), соединяющего лирическую теплоту с реализмом и юмором. В то же время низший слой читателей имеет к своим услугам массу произведений немецкого индустриализма, который не доходит до такой беззастенчивой откровенности как во Франции, но проявляет ещё меньше таланта. Самые горячие патриоты, называющие Бисмарка и Мольтке великими прозаиками, должны сознаться, что свобода и империя не подняли немецкой литературы, и жалуются на чрезмерное преобладание материальных интересов. Берлин не дорос до культурного значения Парижа или Лондона, и тон, им даваемый, неблагоприятен для литературного развития. Влияние Франции стало ещё больше прежнего и проявляется больше в дурном, чем в хорошем.
Национальное явление (для этого времени) представляет культуркампф, отражение которого находится почти везде и в женских (с тонкой психологией женских характеров, но часто с банальной интригой) романах Марлитт (Евгения Йон), Элизабет Вернер (Элизабет Бюрстенбиндер) и другие, и в народных драмах австрийца Анценгрубера (1839—1895), и в комическом эпосе Вильгельма Буша. В верхнем слое литературы действуют знаменитости прежнего поколения, в тех же родах и видах. Процветает историко-археологический роман Эберса, Дана, Гаусрата, Вихерта и др. Большой, но скоропреходящий успех имел современно-исторический роман Грегора Самарова (Оскар Мединг), с его грубыми эффектами[1]. Из новеллистов лучшие Конрад Фердинанд Мейер, Захер-Мазох, в своих галицийских рассказах, Вакано, Линдау, Францоз; у всех них продолжается стремление к крайнему реализму, у иных, как Линдау, умеряемое немецким благодушием, у других переходящее в тривиальность. Эпос и лирика едва живут, перебирая старые темы; так же мало нового дают и светские романы, и романы из жизни художников; ещё менее содержательного в романах уголовных.
Отрадное явление представляет собой беспритязательный семейно-юмористический роман Юлий Штинде (род. в 1841 г.), уводящий читателя из сутолоки столицы в тихие уголки.
в Австрии деревенские мотивы можно найти в произведениях Марии фон Эбнер-Эшенбах (1830—1916), Анценгрубера и, уже в конце эпохи, у Петера Розеггера (1843—1918).
Натурализм (1880—1900)
 Восьмидесятые годы XIX века были эпохой так называемого «последовательного натурализма». Важным стилистическим новшеством стало появление в произведениях элементов повседневной речи, жаргонизмов и диалектизмов. Имеющий свободу выбора главный герой больше не находится в центре рассказов и драм, его определяют происхождение, социальная среда либо обстоятельства, характерные для данного времени.
Восьмидесятые годы XIX века были эпохой так называемого «последовательного натурализма». Важным стилистическим новшеством стало появление в произведениях элементов повседневной речи, жаргонизмов и диалектизмов. Имеющий свободу выбора главный герой больше не находится в центре рассказов и драм, его определяют происхождение, социальная среда либо обстоятельства, характерные для данного времени.
Литературное движение следующего десятилетия было отчасти развитием тех же начал, но вместе с тем оно имело характер реакции против них: его девиз гласил: «преодоление натурализма». Этот термин, принадлежащий Герману Бару, означал, в сущности, только освобождение от крайностей механически усвоенного натурализма. Путь, пройденный за это время немецкой литературой, может быть намечен теми влияниями, которые она испытала. Из этих влияний важнее иноземные. Литературные воспоминания одного из виднейших участников нового движения, М. Г. Конрада, носят название «От Э. Золя до Г. Гауптмана» — и это название верно характеризует исходный пункт движения: в немецкой изящной литературе царствует хаотический беспорядок, в котором сказываются весьма разнообразные иностранные влияния — и Л. Толстого, и Достоевского, и Ибсена, а больше всех Мопассана и Золя. Под влиянием последнего входит в моду крайний реализм (здесь ещё более грубый, чем в оригинале); под влиянием первых с немецкой усидчивостью исследуются глубочайшие тайники души человеческой. Большие романы редко удаются; несравненно лучше очерки и небольшие повести. Эмиль Золя (1840—1902) был для немецких борцов за художественную правду не столько учителем, сколько знаменем. Немецкой литературе недоставало бесстрашия натурализма: молодёжь нашла образец этого бесстрашия в Золя. Под этим воздействием были созданы первые, малоудачные произведения Кретцера, Гольца (1863—1929) и Шлафа (1862—1941). Известно уравнение Гольца: «Искусство = природа + х», где х — величина, стремящаяся к нулю. Таким образом, искусство является лишь отражением действительности.
 Наиболее выдающимся представителем немецкого романа в первой половине рассматриваемого периода является Зудерман, в своих достоинствах, как и недостатках, равно проникнутый новыми стремлениями, быть может более всего обязанный успехом своих романов («Frau Sorge» — более 70 изданий) своему широкому, здоровому юмору. Он спокойно ставит крупные проблемы, умеет оформить богатые наблюдения, но часто терпит неудачу в погоне за эффектами, которые больше удаются ему в драме. Реалистический роман Зудермана имел более выдающихся последователей, чем натуралистические попытки Конрада и Блейбтрея. Не без влияния Мопассана в девяностых годах выдвинулся ряд умелых, живых рассказчиков, из которых всего более замечательны Эрнст фон Вольцоген и Георг фон Омптеда.
Наиболее выдающимся представителем немецкого романа в первой половине рассматриваемого периода является Зудерман, в своих достоинствах, как и недостатках, равно проникнутый новыми стремлениями, быть может более всего обязанный успехом своих романов («Frau Sorge» — более 70 изданий) своему широкому, здоровому юмору. Он спокойно ставит крупные проблемы, умеет оформить богатые наблюдения, но часто терпит неудачу в погоне за эффектами, которые больше удаются ему в драме. Реалистический роман Зудермана имел более выдающихся последователей, чем натуралистические попытки Конрада и Блейбтрея. Не без влияния Мопассана в девяностых годах выдвинулся ряд умелых, живых рассказчиков, из которых всего более замечательны Эрнст фон Вольцоген и Георг фон Омптеда.
Прочие представители: Людвиг Анценгрубер, Макс Бернштейн, Гедвига Дом, Макс Хальбе, Генрих Гарт, Карл Гаумптман, Петер Хилле, Конрад Тельман, Клара Вибиг и Франк Ведекинд, чью драму «Пробуждение весны» можно отнести уже к Fin de siècle.
Новая немецкая драма также начала с натурализма; правда, здесь «натурализм» был скорее художественным реализмом, особенно если сравнить драму с романом. Учителями из стариков были: в теории — Фридрих Геббель и Отто Людвиг, в её осуществлении — Грильпарцер и более всего Ибсен. Из молодых теоретиков наиболее энергичны Отто Брам, Пауль Шлентер, братья Гарт, отчасти Максимилиан Гарден. Предлагалась борьба с «условностями», с «эффектами»; социальное воздействие было на втором плане в теории, но заняло подобающее место на практике. Журнал и сцена, основанные в 1889 г. под общим названием «Die Freie Bühne», были осуществлением идеи натуралистического театра. Первыми драматургами его, без высокого подъёма творчества, но с чуткостью и энтузиазмом явились Арно Гольц и Иоганнес Шлаф. В сущности их последователем — хотя и тогда уже неизмеримо более сильным — явился лауреат нобелевской премии по литературе 1912 года Герхарт Гауптман (1862—1946). От натурализма «Ткачей» до символизма его последних пьес — драматизированной легенды «Эльга» (1905) и аллегорической «А Пиппа пляшет» (1906) — Гауптман прошёл все стадии, пережитые за это время немецкой литературой, но прошёл их самостоятельно, творчески перерабатывая в себе господствующие настроения, обогащая их глубоко-индивидуальным содержанием и сообщая им своеобразную национальную окраску.
Напишите отзыв о статье "Немецкая литература"
Литература конца XIX века до 1933 года
Общая характеристика
За натурализмом шли другие влияния, более значительные. Немецкие искатели нашли иной реализм, более сильный и более творческий — реализм современных скандинавских писателей (Якобсена, Ибсена, Бьёрнсона, Ли, Хьелланна (Килланда)) и классиков русского романа. Немецкая литературная молодёжь, с боевым криком „Natur!“ искавшая у иностранных писателей природы, нашла у них высокое искусство и за оболочкой реалистического содержания почувствовала глубину идеалистических мотивов. Это новое отношение к иностранным образцам совпало с переменой общественного и литературного настроения.
 Наивный позитивизм усложнялся; выше недавней борьбы грубого шовинизма с пошлым космополитизмом стало сознание высокой ценности национального творчества. Ещё в 1870-х годах Шерер указывал на близость «нового поколения» к романтизму. Влияние Рихарда Вагнера оправдало эту характеристику. Оно обусловливается не только музыкальным гением и своеобразной философией Вагнера, но и его драматическим искусством: Вагнер — один из наиболее могучих деятелей «возрождения трагизма», характерного для современной поэзии. В этой стороне влияния с ним сошёлся его единомышленник и противник Фридрих Ницше. Не только основами своего индивидуалистического мировоззрения, не только красотами своей художественной прозы подействовал Ницше на современную немецкую литературу, но прежде всего глубокой серьёзностью, можно сказать самоотвержением, с которым он ставил проблемы. Эта серьёзность сообщилась литературе, в которой в то же время возродилось влияние отодвинутых на второй план таких классиков, как например Фридрих Геббель, К. Ф. Мейер, Готфрид Келлер, Отто Людвиг. Понемногу немецкая литература, едва ли имевшая серьёзное европейское значение в 1860—1890 годах, начинает занимать видное место. Хорошо характеризует разные стадии немецкого литературного движения его историк Рихард Майер:
Наивный позитивизм усложнялся; выше недавней борьбы грубого шовинизма с пошлым космополитизмом стало сознание высокой ценности национального творчества. Ещё в 1870-х годах Шерер указывал на близость «нового поколения» к романтизму. Влияние Рихарда Вагнера оправдало эту характеристику. Оно обусловливается не только музыкальным гением и своеобразной философией Вагнера, но и его драматическим искусством: Вагнер — один из наиболее могучих деятелей «возрождения трагизма», характерного для современной поэзии. В этой стороне влияния с ним сошёлся его единомышленник и противник Фридрих Ницше. Не только основами своего индивидуалистического мировоззрения, не только красотами своей художественной прозы подействовал Ницше на современную немецкую литературу, но прежде всего глубокой серьёзностью, можно сказать самоотвержением, с которым он ставил проблемы. Эта серьёзность сообщилась литературе, в которой в то же время возродилось влияние отодвинутых на второй план таких классиков, как например Фридрих Геббель, К. Ф. Мейер, Готфрид Келлер, Отто Людвиг. Понемногу немецкая литература, едва ли имевшая серьёзное европейское значение в 1860—1890 годах, начинает занимать видное место. Хорошо характеризует разные стадии немецкого литературного движения его историк Рихард Майер:
Во всех областях литературы замечается порывистое искание и нащупывание. Руководящая роль, перешедшая от драмы к роману, достаётся в конце концов лирике; но именно во время ожесточеннейшей борьбы за форму и содержание новой поэзии, эта роль принадлежит ещё роману. В общем развитии во всех родах происходит почти параллельно. Начинают с несмелого искания и сразу бросаются в крайний натурализм, удовлетворяющийся изображением внешних подробностей; затем возвышаются до социального реализма, усматривающего истину в глубоких или, по крайней мере, широких картинах общественности; наконец, через психологический реализм, передающий внутренние явления духовной жизни, приходят к символистскому синтезу идеализма и реализма. На первом плане — как и для пластических искусств нашего времени — стоит вопрос техники… надо найти соответствующую форму для нового содержания. Для большинства литературной молодёжи важна, однако, не одна техника: этим вдумчивым и нервным людям так много надо было сказать, так много поучительного видели они в своих образах, что внешность изображения казалась им несущественной.
Появляется школа «Юнейшей Германии» (Das jüngste Deutschland), которая переносит крайний натурализм в сферу лирики; её стиль и приёмы возмущают всех, кто воспитан на «классиках», и школа подвергается ожесточённому гонению (в Лейпциге троих её представителей потребовали к суду и осудили за оскорбление нравственности); тем не менее, число сторонников нового направления все возрастало, не без влияния Ницше.
 Старший из школы М. Г. Конрад, в Мюнхене основал журнал «Die Gesellschaft»; в Берлине в сходном направлении издаётся «Freie Bühne» («Neue deutsche Rundschau»). Самый крупный, но один из наименее упорядоченных талантов школы — Блейбтрей. У других натурализм соединяется с последней французской модой — символизмом, который имеет массу приверженцев (и даже особых издателей) в Берлине; символизм естественно соединяется с необузданной фантастикой. Другие, с лёгкой руки Лассаля, в разнообразных поэтических формах разрабатывают социальные темы в самом радикальном духе, за что подвергаются преследованиям администрации (наиболее даровитые из них — Карл Генкель и Макей). Драматические произведения ультрареалистов и социалистов почти не допускаются на большие сцены, из цензурных соображений; иные, по своей крайней несценичности, не попадают и на маленькие. Один из остроумнейших представителей современной поэзии — Отто Эрих Гартлебен, отрицание которого простирается и на самих отрицателей.
Старший из школы М. Г. Конрад, в Мюнхене основал журнал «Die Gesellschaft»; в Берлине в сходном направлении издаётся «Freie Bühne» («Neue deutsche Rundschau»). Самый крупный, но один из наименее упорядоченных талантов школы — Блейбтрей. У других натурализм соединяется с последней французской модой — символизмом, который имеет массу приверженцев (и даже особых издателей) в Берлине; символизм естественно соединяется с необузданной фантастикой. Другие, с лёгкой руки Лассаля, в разнообразных поэтических формах разрабатывают социальные темы в самом радикальном духе, за что подвергаются преследованиям администрации (наиболее даровитые из них — Карл Генкель и Макей). Драматические произведения ультрареалистов и социалистов почти не допускаются на большие сцены, из цензурных соображений; иные, по своей крайней несценичности, не попадают и на маленькие. Один из остроумнейших представителей современной поэзии — Отто Эрих Гартлебен, отрицание которого простирается и на самих отрицателей.
Поэзия рефлексии, литературная философия не знали такого расцвета со времён «Молодой Германии». Тенденциозный роман почти вымирает; из заметных представителей его можно назвать разве социалиста Конрада Тельмана и талантливую католическую романистку Энрику фон Гандель-Мацетти (1871—1955), которую Рихард Майер причислял к самым выдающимся дарованиям немецкой литературы того времени. Ниже её другие католические писательницы: Эмиль Марриот (Матайя), популярная в известных кругах Фердинанда фон Бракель (1836—1905)[2], баронесса Анна фон Лилиен (род. в 1841 г.), Жозефина Грау (?) («Das Lob des Kreuzes», 1879), Эмми фон Динклаге (1825—1891), M. Герберт (род. в 1859 г.; «Von unmodernen Frauen», 1902).
Представителями других общественных тенденций, проводимых в романе, также охотно являются женщины. Среди этих писательниц выдаются Габриель Рейтер, каждый роман которой посвящён определённой социальной проблеме, Мария Яничек, Осип Шубин (Лола Киршнер), Маргарита фон Бюлов (1860—1885), Гедвига Дом.
Обновляется в сюжетах и повышается в исполнении роман для лёгкого чтения. Клаус Ритланд (псевдоним Элизабет Хайнрот) «освежает международный роман и путевую новеллу Рудольфа Линдау»; Лео Хильдек (Леони Мейергоф), род. в 1860 г.) изображает в «Feuersäule» (1895) Макса Штирнера; София Гехштеттер (1873—1943), в мало оформленных «Sehnsucht, Schönheit, Dämmerung» (1898) и «Der Pfeifer» (1904) является последовательницей Ницше; особенно энергично ведётся её малооригинальная борьба с условностями, нашедшая ещё более боевое выражение в «истерических» романах Тони Швабе (род. в 1877 г. — «Die Hochzeit der Esther Franzenius», 1902). Смелым, подчас до непристойности, натурализмом запечатлены произведения Ганса фон Каленберга (Елены Кесслер, род. в 1870 г.: «Familie Barchwitz», 1899). Особенный успех в романе для лёгкого чтения имеют Ганс фон Цобельтиц и Вольцоген.
К области довольно фотографического и отчасти уже пережитого реализма относится так называемый «берлинский роман». Вслед за представителями старого поколения Паулем Линдау («Der Zug nach dem Westen», 1886), Фрицем Маутнером («Berlin W», 1889—1890) и неизмеримо более их даровитым Теодором Фонтане, литературная молодёжь обращается к жизни растущего с невероятной быстротой громадного «мирового города». Много пишущий Гейнц Товоте, швед Ола Ганссон и особенно интересный Феликс Голлендер соединяют бытовые картины с анализом нервной натуры современного горожанина. Общественные, подчас прямо обличительные тенденции ещё не так давно соединял с этим городским реализмом Макс Кретцер, впоследствии от своего социального «Meister Timpe» (1888) перешедший к символизму («Das Gesicht Christi», 1897).
Особенное внимание оказывает реальная беллетристика священнику, учителю, офицеру. С разнообразнейших точек зрения изображены столь частые в немецком духовенстве того времени конфликты в романах талантливого базельского теолога Карла Бернулли, Гегелера, Тельмана, Поленца; военная жизнь нашла живого изобразителя в Ф. А. Бейерлейне. Студенческой жизни посвящена «Waclavbude» (1902) К. H. Штробля (1877—1946). Дипломатическая среда изображена в имевших шумный успех анонимных «Briefe, die ihn nicht erreichten» (1903), принадлежащих перу баронессы E. фон Гейкинг (1861—1925). Ещё более широкий успех имел банальный, но усердно рекламированный «Götz Krafft» Э. Штильгебауера (1868—1936).

Воскрес общий интерес к лирике, которую давно отодвинула на второй план повествовательная литература. Уже в эпоху «последовательного натурализма» не было недостатка в теоретических и практических попытках создать новую лирику. Предисловие Хенкеля к «Moderne Dichtercharaktere» (1885) Гольца и Шлафа, внушённое критикой братьев Гартов, заявляет, что новое поколение воссоединённого отечества опять сделает поэзию святыней. «Credo» Германа Конради обещает новую лирику — и её отчасти дают новые поэты. Одни сливают новизну поэзии с новизной боевых политических мотивов. Таковы М. Р. фон Штерн (род. в 1860 г.), Дж. Г. Макай и выступивший значительно ранее Леопольд Якоби (1840—1895), стихотворный сборник которого «Es werde Licht» (1870) открывал изданный после закона о социалистах (1878) список запрещённых книг. Самым выдающимся в этой группе был Карл Хенкель, перешедший от риторики революционных песен к интимной лирике; о внимании его к поэзии свидетельствует лирический сборник «Sonnenblumen», беспристрастно составляемый им с 1896 г. Арно Гольц и Иоганн Шлаф указали не только новую драматическую, но и новую лирическую технику. К ним с самого начала примкнул самостоятельно сформировавшийся Детлев фон Лилиенкрон — бесспорно крупнейший представитель немецкой лирики в минувшую четверть века. Здоровый, непосредственный в поэтических переживаниях и изысканно внимательный к форме, он представляет, в известной степени, противоположность своему другу, разделяющему с ним главенство среди лириков, нервозному и склонному к рефлексии Рихарду Демелю. К Лилиенкрону, в общем, примыкает своим здоровым дарованием, отчасти склонный к эклектике Фердинанд Авенариус, издатель лирической антологии «Deutsche Lyrik der Gegenwart» и прогрессивного художественного журнала «Kunstwart». Просты и по манере скорее принадлежат к прошлому Густав Фальке, Георг фон Дигеррн, Эмиль Шенайх-Каролат. Наоборот, к Демелю примыкает большинство лириков, которых объединяют в пёструю группу под общим названием декадентов, символистов и т. п. Из них всего больше выдаются Гуго фон Гофмансталь и Стефан Георге, с их многочисленными соратниками — Р. Шаукалем (1874—1942), Максом Даутендеем, Альфред Момбертом. Вне школы стоят поэты, воспринявшие многое из созданного новыми настроениями и новой техникой — Карл Буссе (1872—1918; реалист в романе «Ich weiß es nicht»), Гуго Салус (1866—1929), Людвиг Якобовский, Бёррис фон Мюнхгаузен (1874—1945), Альберт фон Путкамер, «народная» поэтесса Иоганна Амброзиус (1854—1939), Густав Реннер (род. в 1866 г.), Анна Риттер.
Пионеры натуралистического направления — братья Гарт, М. Г. Конрад — были одновременно и художниками, и критиками. Рядом с ними действовали Пауль Шлентер, Отто Брам, Лео Берг, Фриц Лингард (род. в 1856 г.; «Neue Ideale», 1901), Вильгельм Вейганд («Das Elend der Kritik», 1895), Вильгельм Бёльше. Поворот от натурализма обозначила деятельность Германа Бара, к которому примыкают импрессионисты Франц Сервас (1862—1947; «Präludien», 1899), Альфред Керр (1867—1948; «Das neue Drama», 1905), Феликс Поппенберг (род. в 1869 г.; «Bibelots», 1905). Наоборот, Рудольф Лотар (1865—1943; «Das deutsche Drama der Gegenwart», 1905) склонён к догматическому и историческому анализу. Бесспорное значение имели труды эстетиков Генриха фон Штейна и Рихарда Кралика («Weltschönheit»), историков искусства Э. Гроссе («Die Anfänge der Kunst», 1894), Бюхера («Arbeit und Rhythmus», 1896), Мутера («Geschichte der Malerei im XIX. Jahrhundert», 1893), равно как обширная критическая литература, посвящённая современному движению в пластических искусствах.
Новелла, повесть и рассказ нашли интересных представителей и заняли более видное место. Особенное внимание оказали этим сжатым формам австрийские писатели (были даже неосновательные попытки выделить как особую форму «венскую новеллу» — Wiener Novelle). Мария Делле-Грацие (1864—1931), после своей эпопеи «Робеспьер» (1894), обратилась к новеллам («Любовь»). В этой же области выдвинулись Якоб Давид, Вильгельм Фишер, Эмиль Эртль, Отто фон Лейтгеб. Эклектиками формы — ещё более чем содержания — можно назвать Отто Гартлебена, Отто Бирбаума (романы «Pancrazius Graunzer», «Die Schlangendame», «Stilpe»), Отто Эрнста, Юлиану Дери, Рихарда Цур-Мегеде (1864—1906).
Ближайшие и наиболее выдающиеся последователи Гауптмана в драме — Макс Хальбе и Макс Дрейер. Менее значительны Х. Рейинг, Георг Гиршфельд, Пауль Эрнст. Умелые, но мало самостоятельные пьесы дал Э. Росмер (Эльза Бернштейн); ему же принадлежит «драматическая сказка» («Königskinder», 1905), ставшая обязательной для среднего немецкого драматурга после успеха «Талисмана» Людвига Фульды. Последний — чуткий эстетик мюнхенской школы, свободный от ходячих влияний, но достаточно близкий новым течениям, чтобы стать одним из основателей «Свободного театра». Если нельзя говорить об «австрийской школе» в современной немецкой драматургии, то следует во всяком случае признать, что австрийцы составляют своеобразную и кое в чём связанную группу; в её «лирической мягкости» Р. Мейер склонён видеть даже традицию, вынесенную ею из старой школы австрийцев — от Нестроя до Анценгрубера. Уже упомянутый Якоб Давид (новеллы: «Höferecht», 1890; «Blut», 1891; «Probleme», 1892; «Am Wege Sterben», 1899; ром. «Der Übergang», 1902) принадлежит лишь как драматург («Hagars Sohn», 1891; «Ein Regentag», 1895) к новому течению, наиболее выдающимся представителем которого в Австрии является Артур Шницлер, более тонкий чем глубокий реалист, хорошо владеющий сценой, хотя драматическое настроение предпочитает драматическому движению. Венская болезненная изысканность отразилась также на серьёзном даровании символиста Гуго фон Гофмансталя. «Открывший» его Герман Бар — не только влиятельный критик, но и драматург. Третий типичный венец, Рихард Бер-Гофман (1866—1945), подобно Гофмансталю склонный к обновлению старых драматических сюжетов, имел большой успех с «Graf von Charolais» (1904), заимствованным у Мэссинджера. Рядом с «литературной» драмой, иногда реальной по форме, но всегда символичной по намерениям авторов, расцветает народная сцена. В Швейцарии, в Эльзасе, в Тироле из любительских попыток вырастает реальная драма на диалекте, играющая, особенно в Эльзасе, серьёзную роль в политической борьбе за культурное своеобразие края. Вообще политика занимает в современной немецкой драме больше места, чем в лирике и даже в романе. Настоящим продуктом политической борьбы являются пьесы Фил. Лангмана (род. в 1862 г.; «Bartel Turaser», 1897), Франца Адамуса (Фердин. Броннер, род. в 1867 г.; «Die Familie Wawroch», 1899), Карла Шенгера («Sonnwendtag», 1902) и особенно Иосифа Рюдерера. Злая сатира пьес Франка Ведекинда сближает его с анархизмом.
Вместе с появлением натурализма и символизма начинается эпоха кллассического модерна. Это время плюрализма стилей, совместного сосуществования разнообразных течений. Большинство уже названных авторов можно отнести по крайней мере к одному из следующих направлений:
Национальное искусство (ок. 1890—1910)
Требования художественной правды, выставляемые с равной силой и поучающим натурализмом, и последовательной теорией «чистого» искусства привели к пропаганде так называемого «национального искусства» (Heimatkunst); не без влияния было здесь и глубокое национальное сознание, поддерживаемое такими духовными вождями, как Вагнер или Трейчке. Главным пропагандистом нового течения стал писатель и историк литературы Адольф Бартельс, употребивший данный термин в 1898 году в журнале «Современное искусство» (Kunstwart). Вместе с Фридрихом Лингардом он содействовал распространению новых идей через новый берлинский журнал «Родина» (Heimat). Новое направление призывало покинуть городскую суету и переместиться в сторону родины и народного духа. В более широком понимании «родина» включала себя не только сельскую, но и городскую жизнь. Как и в натурализме, любовь к родине содержала также и некоторую её критику, что ей всё таки не удалось. Национальное искусство со своей консервативной. антимодернистской позицией явилось предтечей национал-социалистической «поэзии крови и земли».
Громадный успех и значение имела в начале 1890-х гг. анонимная книга Юл. Лангбена «Рембрандт как воспитатель» в колоритной и страстной форме проповедующая национальные основы творчества.
В критике Генрих Зонрей и Фридрих Лингард доказывали, что только в пределах своей узкой родины поэт находит надлежащую пищу вдохновению; в том же направлении действовал Цезарь Флайшлен, редактор художественного «Пана» и автор замечательного предисловия к сборнику «Neuland» (1894). Среди представителей этого «пахнущего землёй» романа особенно видное место занимают Вильгельм фон Поленц («Büttnerbauer»), Густав Френссен («Jörn Uhl» и «Hilligenlei»), лауреат нобелевской премии по литературе 1929 года Томас Манн («Будденброки»). Независимо от общечеловеческого и идейного содержания этих романов обращает на себя внимание их глубокое проникновение местным колоритом, не поверхностно-этнографическим, но действительно народно-психологическим. Близко к этим трём северянам стоят менее выдающиеся: Тимм Крёгер (1844—1918) («Eine stille Welt», 1891), Отто Эрнст, Макс Дрейер, Генрих Зонрей, Йозеф Рюдерер, Фридрих Лингард. Северное побережье нашло — наряду с Томасом Манном и Густавом Френссеном — хорошую изобразительницу в Шарлотте Низе (1854—1935) («Aus dänischer Zeit», 1892), Гессен — в В. Гольцамере («Peter Nockler», 1902) и Адаме Карильоне («Michael Hely», 1904), Лотарингия — в Германе Штегемане, Вестфалия — в Германе Ветте («Krauskopf», 1903), Альпы — в Якобе Геере («Felix Notvest», 1901) и особенно в сильном и простом Эрнсте Цане.
Женщины, выдвинувшие за это время несколько выдающихся талантов, отдают также значительную долю внимания «национальному» роману, в котором хорошо проявляется их детальная наблюдательность. Таковы Ильза Фрапан, Гермина Виллингер (род. в 1849 г.; «Aus meiner Heimat» (1887)) и, наконец, наиболее выдающаяся из них — Клара Фибих.

Национальное искусство вызвано интересом не к самодовлеющей этнографии, а к личности, в её конкретной обстановке. На этой почве наиболее пышно должен был расцвести роман психологический. И здесь на первом месте должны быть названы три женских таланта: Изольда Курц («Florentiner Novellen», 1890), Елена Бёлау и Рикарда Хух. Ряд оригинальных фигур создал и анализировал лауреат нобелевской премии по литературе 1946 года Герман Гессе («Hermann Lauschers Nachlass», 1901; «Peter Kamenzind», 1904; «Unterm Rad», 1906); до болезненности доходит сложность психологического изучения у Германа Штера. Характерен для психологии нового немецкого художника роман Вальтера Зигфрида (1858—1947) «Tino Moralt» (1890). Широкую историческую основу пытался дать индивидуальной психологии Яков Вассерман («История юной Ренаты Фукс», 1900). Подают надежды Эмиль Штраус, Фридрих Гух («Peter Michel», 1901), Рудольф Гух, Курт Мартенс («Roman aus der Décadence», 1898).
Символизм
Особую важность в классическом модернизме приобретает понятие «авангардизм». Его эпоха началась в конце XIX века с французскими поэтами Стефаном Малларме, Шарлем Бодлером и Артюром Рембо. Символизм преследоввал совершенно иную цель чем натурализм. Это элитарная лирика, придающая большое значение красоте и форме. Родственное ему направление — модерн (югендштиль).
Важнейшими представителями немецкого символизма стали Стефан Георге (1868—1933), Гуго фон Гофмансталь (1874—1929) и Райнер Мария Рильке (1875—1926).
Склонны к символистике Сельма (Ансельм) Гейне («Auf der Schwelle», 1900) и вдумчивый Рудольф Штрац, роман которого «Дай руку мне» (1906) имеет местом действия Одессу.
Пацифизм
 Очень характерное явление представляет австрийская романистка, лауреат нобелевской премии мира Берта фон Зуттнер, умный и стройный, хотя и узкотенденциозный роман которой «Долой оружие!» («Die Waffen nieder») переведён почти на все европейские языки и в Германии читался всеми классами. Это — редкий случай; обыкновенно идейные и тонкопсихологические романы читались немногими любителями, а для «публики» сенсационные романы или фабриковались в Штутгарте, Лейпциге и Гамбурге, или переводились с французского. Сходное с Зуттнер по широкой популярности явление представляет и педагогический рассказ Лангбена. Лучшую сторону немецкой литературы составляет проповедь гуманности, в самом широком смысле слова, и антипатия к узкому милитаризму и преклонению перед силой; среди литературной молодёжи все чаще и чаще замечается стремление возвратиться от символизма к ясному и простому искусству лучших времён. Нельзя не указать на весьма отрадное явление в области немецкой исторической науки: она, не переставая быть солидной и серьёзной, делается в то же время популярной и литературной.
Очень характерное явление представляет австрийская романистка, лауреат нобелевской премии мира Берта фон Зуттнер, умный и стройный, хотя и узкотенденциозный роман которой «Долой оружие!» («Die Waffen nieder») переведён почти на все европейские языки и в Германии читался всеми классами. Это — редкий случай; обыкновенно идейные и тонкопсихологические романы читались немногими любителями, а для «публики» сенсационные романы или фабриковались в Штутгарте, Лейпциге и Гамбурге, или переводились с французского. Сходное с Зуттнер по широкой популярности явление представляет и педагогический рассказ Лангбена. Лучшую сторону немецкой литературы составляет проповедь гуманности, в самом широком смысле слова, и антипатия к узкому милитаризму и преклонению перед силой; среди литературной молодёжи все чаще и чаще замечается стремление возвратиться от символизма к ясному и простому искусству лучших времён. Нельзя не указать на весьма отрадное явление в области немецкой исторической науки: она, не переставая быть солидной и серьёзной, делается в то же время популярной и литературной.
Современная эпика
Параллельно с этими нетрадиционными литературными направлениями появлялись произведения, обращавшиеся и развивавших старые формы. Здесь стоит назвать имена Райнер Марии Рильке, Генриха Манна (1871—1950), которого в раннем творчестве можно назвать предшественником экспрессионизма, Томаса Манна, Германа Броха (1886—1951), Роберта Музиля (1880—1942), Франца Кафки (1883—1924) и Германа Гессе.
Экспрессионизм (ок. 1910—1920) и авангардизм
Экспрессионизм считается последним крупным литературным направлением Германии. Это авангардистское направление, существовавшее параллельно с дадаизмом, сюррелиазмом и футуризмом.
Первой ласточкой экспрессионизма в немецкой поэзии стало стихотворение Якоба ван Годдиса «Конец мира» (1911). Ему вторил вчерашний студент медицинского факультета Готфрид Бенн, впервые затронувший в своём сборнике стихов «Морг» (1912) ранее обходящиеся молчанием темы: разложение трупов, роды и проституцию.
Прочими заметными авторами были Альфред Дёблин, Альберт Эренштейн, Карл Эйнштейн, Саломо Фридлендер, Вальтер Газенклевер, Георг Гейм, Генрих Эдуард Якоб, Людвиг Рубинер, Эльза Ласкер-Шюлер, Август Штрамм, Эрнст Толлер, Георг Тракль и другие.
Новая вещественность
На смену экспрессионизму пришла трезво-реалистическая позиция, получившая название новая вещественность. в области драматического искусства её представителями являются Эдён фон Хорват, Бертольд Брехт и режиссёр Эрвин Пискатор.
Среди лириков следует отметить Эриха Кестнера, Анну Зегерс, Ремарка, Арнольда Цвейга, Марию-Луизу Фляйсер, Ирмгард Койн, Габриеле Тергит.
Конец XIX — начало XX века отмечены также появлением нобелевской премии по литературе (1901). В период между 1901—1933 годами её удостоились следующие представители немецкой литературы: историк Теодор Моммзен «за монументальный труд „Римская история“» (1902); философ Рудольф Эйкен «за серьёзные поиски истины, всепроницающую силу мысли, широкий кругозор, живость и убедительность, с которыми он отстаивал и развивал идеалистическую философию» (1908); писатель-новеллист Пауль Хейзе «за художественность, идеализм, которые он демонстрировал на протяжении всего своего долгого и продуктивного творческого пути в качестве лирического поэта, драматурга, романиста и автора известных всему миру новелл» (1910); драматург Герхарт Гауптман «в знак признания плодотворной, разнообразной и выдающейся деятельности в области драматического искусства» (1912); поэт Карл Шпиттелер «за несравненный эпос „Олимпийская весна“» (1919) и писатель Томас Манн «за великий роман „Будденброки“, который стал классикой современной литературы» (1929).
Национал-социализм и литература изгнания
 30 января 1933 года к власти в Германии пришли национал-социалисты. В том же году начались массовые сожжения книг запрещённых режимом авторов сначала по всей Германии, а затем, после аншлюса в 1938 году, и в Австрии. Так 10 мая 1933 года площадь Бебельплац в Берлине стала местом проведения известного сожжения книг. Около сорока тысяч студентов, профессоров, членов СА и СС уничтожали на костре книги названных «антинемецкими» авторов: Зигмунда Фрейда, Эриха Кестнера, Генриха Манна, Карла Маркса и Курта Тухольского. Об этих печальных событиях сегодня напоминает «Мемориал сожжённым книгам» работы израильского художника Михи Ульмана в центре площади: под стеклянной плитой глубоко вниз уходят под землю пустые белые книжные стеллажи.
30 января 1933 года к власти в Германии пришли национал-социалисты. В том же году начались массовые сожжения книг запрещённых режимом авторов сначала по всей Германии, а затем, после аншлюса в 1938 году, и в Австрии. Так 10 мая 1933 года площадь Бебельплац в Берлине стала местом проведения известного сожжения книг. Около сорока тысяч студентов, профессоров, членов СА и СС уничтожали на костре книги названных «антинемецкими» авторов: Зигмунда Фрейда, Эриха Кестнера, Генриха Манна, Карла Маркса и Курта Тухольского. Об этих печальных событиях сегодня напоминает «Мемориал сожжённым книгам» работы израильского художника Михи Ульмана в центре площади: под стеклянной плитой глубоко вниз уходят под землю пустые белые книжные стеллажи.
Существование независимой литературы и литературной критики в стране стало невозможным. Режимом приветствовалась только так называемая «литература крови и земли», наряду с ней существовала более-менее свободная от идеологии развлекательная литература. Противникам режима угрожала смерть, так были убиты Якоб ван Годдис, Карл фон Осецкий и Эмиль Альфонс Райнхардт. Некоторые писатели остались в стране, но вынуждены были писать на абстрактные темы, либо откладывать рукописи в долгий ящик. Среди них Готфрид Бенн, Эрнст Юнгер, Эрих Кестнер, Эм Вельк, Герхарт Гауптман, Хаймито фон Додерер, Вольфганг Кёппен, Йозеф Вайнхебер, Мирко Елузич, Роберт Хольбаум, Вильгельм Шефер, Агнес Мигель, Ганс Йост и другие.
Около 1500 известных авторов покинули страну, некоторые покончили жизнь самоубийством (Стефан Цвейг, Курт Тухольский, Вальтер Беньямин, Карл Энштейн). Многие немецкие и австрийские писатели никогда не вернулись на родину. Это Герман Брох, лауреат нобелевской премии по литературе 1981 года Элиас Канетти, Зигфрид Кракауэр, Генрих, Клаус и Томас Манн, Лион Фейхтвангер, Эдён фон Хорват и другие.
Новая и новейшая немецкая литература
После окончания Второй мировой войны стало принято говорить о литературе каждой немецкоязычной страны в отдельности, тем не менее, речь по-прежнему идёт о литературе, написанной на немецком языке.
Литература ФРГ
основная статья Литература ФРГ
 Вскоре после разделения Германии на ФРГ и ГДР на родину стали возвращаться некоторые писатели эмиграции: Альфред Дёблин, Леонгард Франк и другие.
Вскоре после разделения Германии на ФРГ и ГДР на родину стали возвращаться некоторые писатели эмиграции: Альфред Дёблин, Леонгард Франк и другие.
В 1947 году создаётся литературная «Группа 47», организованная немецким писателем Хансом Вернером Рихтером и активно действовавшая на протяжении двадцати лет (1947—1967). Прообразом создателям послужило испанское «Поколение 98 года». Литература первых послевоенных лет описывала, в основном, ужасы войны и судьбы вернувшихся на родину. Так лауреат нобелевской премии по литературе 1972 года Генрих Бёлль использует для этого короткие рассказы. После немецкого экономического чуда взоры писателей обращаются к современности, например в романах Вольфганга Кёппена, Зигфрида Ленца, Кристины Брюкнер и Мартина Вальзера. Известным поэтом того времени был Гюнтер Айх, писавший кроме этого популярные в то время радиопьесы, самая известная из которых — «Девушки из Витербо» (1953) — затрагивает тему вины немецкого народа за преступления фашизма. С 1952 по 1956 год в Гамбурге выходит литературный журнал «Между войнами» (Zwischen den Kriegen) Петера Рюмкорфа и Вернера Ригеля. Фигурные стихи представлены Ойгеном Гомрингером и Генрихом Хайсенбюттелем. Лауреат нобелевской премии по литературе 1999 года Гюнтер Грасс пишет плутовской роман «Жестяной барабан», получивший международную известность.
Писателей Арно Шмидта, Уве Йонсона, Рора Вольфа трудно отнести к какому-либо направлению. Вольфганг Хильдесхаймер создаёт абсурдные драмы.
Около 1962 года вокруг немецкого сатирического журнала «Pardon» сформировалась группа писателей и художников, получившая название «Новая франкфуртская школа». Её название отсылает к философской «Франкфуртской школе», созданной в 30-х годах XX века. Ф. В. Бернштейн, Роберт Гернхардт и Ф. К. Вехтер / её типичные представители.
Во время войны во Вьетнаме и «движения 68 года» появляется политическая поэзия (Ганс Энценсбергер, Эрих Фрид) и политическая драма (Рольф Хоххут). Противоположностью им становится «новая субъективность» 70-х годов, выдвигающая на передний план проблемы частной жизни и реализации мечтаний (Юрген Теобальди, Сара Кирш, Томас Бернхард и другие).
Заметным поэтом андерграунда 70-х был Рольф Дитер Бринкманн. В 80-е годы популярны драматург Бото Штраус, в поэзии — Улла Хан и Дурс Грюнбайн.
Литература ГДР
основная статья Литература ГДР
 Под литературой ГДР понимаются все литературные произведения, созданные на территории ГДР в период с 1945 года до объединения двух Германий.
Под литературой ГДР понимаются все литературные произведения, созданные на территории ГДР в период с 1945 года до объединения двух Германий.
Наиболее востребованной литературой в ГДР была литература соцреализма. Существовала целая программа развития социалистической культуры в ГДР «Биттерфельдский путь», принятая в 1959 году и направленная на создание самостоятельной социалистической национальной культуры, которая должна была наиболее полным образом удовлетворять растущие художественно-эстетические потребности трудящихся.
В 50-х годах литература занята описанием возрождающейся промышленности. Типичный герой — опытный рабочий, вопреки всему справляющийся с производственными трудностями. Типичный представитель писателей этого времени — Эдуард Клавдиус.
После появления Берлинской стены в 1961 году появляется новый герой — умный молодой человек, профессионал своего дела, успешно справляющийся и с личными проблемами. Бригита Райман (рассказ «Вступление в будни», 1961) и Криста Вольф (роман «Расколотое небо», 1963) — выразители этой тенденции.
70-е годы ознаменовались сменой руководства страны в лице Эриха Хониккера и начавшейся затем программой либерализации искусства и литературы. Как результат, появляется тенценция к «новой субъективности», где на передний план выходят проблемы индивидуума в социалистическом обществе. Либерализация закончилась депортацией поэта Вольфа Бирмана из страны, а затем массовой эмиграцией из ГДР в ФРГ около ста писателей (Сара Кирш, Гюнтер Кунерт, Райнер Кунце, Петер Хухель и другие).
Угодными писателями были прежде всего Анна Зегерс, Эрвин Штриттматтер, Герман Кант, Стефан Хермлин. К более-менее лояльным можно отнести Фолькера Брауна, Кристу Вольф, Хайнера Мюллера, Имтрауд Моргнера, Стефана Гейма.
В 80-х годах писательское общество ГДР разделяется. Часть продолжает писать по-старому. Другая же половина ориентируется на постструктуралистские тенденции из Франции и становится в оппозицию правящей партии — литература андерграунда: Детлеф Опиц, Шляйме, Корнелия, Ульрих Циглер и другие.
Литература Австрии
основная статья Литература Австрии

Послевоенная Австрия лишилась многих своих писателей. Восстановление литературы началось как и в ФРГ с описания лишений войны. Только сейчас, после своей смерти, становится известным Франц Кафка.
Около 1954 года в Вене формируется «Венская группа» — объединение австрийских писателей (Ханс Артманн (руководитель), Фридрих Ахляйтнер, Конрад Байер, Герхард Рюм, Освальд Винер и другие). Произведения «Венской группы» создавались под влиянием поэзии барокко, экспрессионизма, дадаизма и сюрреализма.
Другими известными авторами являются Альберт Гютерсло — духовный отец венской художественной школы фантастического реализма и Хаймито фон Додерер. Игра слов становится неотъемлемой частью австрийской литературы (Эрнст Яндл и Францобель). Известные поэтессы — Кристина Лавант и Фридерика Мейрёкер.
Расцвет австрийской литературы пришёлся на 60-70-е годы с появлением таких фигур как Петер Хандке, Ингеборг Бахман, Томас Бернхард.
Их традиции продолжают такие современные писатели как Рут Аспёк, Сабина Грубер, Норберт Гстрайн, лауреат Нобелевской премии 2004 года по литературе Эльфрида Елинек, Кристоф Рансмайр, Вернер Шваб и О. П. Цир.
Литература Швейцарии
В отличие от обеих Германий и Австрии, в Швейцарии не произошло никаких существенных изменений. Напротив, после Второй мировой войны здесь остаются такие немецкие писатели как Феликс Зальтен, Томас Манн, Роберт Музиль, Ремарк и другие.
Крупнейшими писателями становятся мастер психологического детектива Фридрих Дюрренматт и Макс Фриш, оба пишущие как романы так и драмы. В их тени — Роберт Вальзер, Петер Биксель, Адольф Мушг, Урс Видмер и другие.
Значимым литературным объединением была «Ольденская группа» писателей-диссидентов, существовавшая до 2002 года.
Литературные премии немецкоговорящих стран
- Национальная премия ГДР (упразднена)
- Премия Грильпарцера
- Премия Георга Бюхнера
- Премия Гёте
- Премия Шиллера
- Премия Ганса и Софи Шолль
- Премия Нелли Закс
- Премия Петрарки
- Премия имени Адельберта фон Шамиссо
- Премия имени Хильды Домин
- Премия мира немецких книготорговцев
- Премия Генриха Манна
- Премия Анны Зегерс и многие другие
Австрия
- Австрийская государственная премия по европейской литературе
- Премия Фельдкирха
- Премия Эриха Фрида
- Премия Франца Кафки (упразднена) и многие другие
Швейцария
Современная литература на немецком языке
 В 1990-х годах немецкая литература переживает настоящий бум молодых авторов, связанный, прежде всего, с развитием книжного рынка.
В 1990-х годах немецкая литература переживает настоящий бум молодых авторов, связанный, прежде всего, с развитием книжного рынка.
В десятилетие после падения Берлинской стены в новой литературе происходят кардинальные перемены. По-новому осмысляются и переосмысляются ключевые для послевоенного немецкого сознания темы нацистского прошлого, ответственности немцев за преступления эпохи нацизма. Входят в литературу темы жизни в ГДР (новое «прошлое»), жизни в объединённой Германии, темы мультикультурного общества, Берлина как новой столицы страны.
Значительная часть молодых писателей ориентируется на молодёжную культуру, мир поп-музыки и рекламы. Среди наиболее известных — Бенджамин Стукрад-Барре, Алекса Хенниг фон Ланге, Томас Майнекке, Андреас Ноймайстер, Райнальд Гёц и особенно — Кристиан Крахт.
Постмодернистский роман представлен Освальдом Винером, Гансом Волльшлегером, Кристофом Рансмайром, Вальтером Мёрсом.
В жанре научной фантастики пишут Андреас Эшбах и Франк Шетцинг.
Признанный мастер детектива — Петер Шмидт.
Лучшие поэты современности — Марсель Байер, Дурс Грюнбайн, Уве Кольбе и, конечно, Томас Клинг.
Среди лучших романистов — Томас Бруссиг, Дитмар Дат, Даниэль Кельман, Мартин Мозебах, Ульрих Пельцер, Акиф Пиринчи, Бернхард Шлинк, Инго Шульце, Уве Теллькамп, Уве Тимм и Юли Це. Драматурги — Альберт Остермайер, Мориц Ринке и Роланд Шиммельпфенниг.
Кроме того, в немецкую литературу влились произведения эмигрантов разных стран, пишущих на немецком языке (Феридун Заимоглу, Ольга Грязнова, Владимир Каминер, Рафик Шами и другие).
За последнее десятилетие (1999—2009 год) немецкоязычные авторы трижды удостаивались Нобелевской премии по литературе: немец Гюнтер Грасс (1999) — «его игривые и мрачные притчи освещают забытый образ истории», австрийка Эльфрида Елинек (2004) — «за музыкальные переливы голосов и отголосков в романах и пьесах, которые с экстраординарным лингвистическим усердием раскрывают абсурдность социальных клише и их порабощающей силы» и немка Герта Мюллер (2009) — «с сосредоточенностью в поэзии и искренностью в прозе описывает жизнь обездоленных».
Напишите отзыв о статье "Немецкая литература"
Литература
- Пуришев Б. И. Очерки немецкой литературы XV—XVII вв. М., 1955.
- Жирмунский В. М. Очерки по истории классической немецкой литературы. Л., ХЛ. 1972. 495 с.
- Млечина И. В. Литература и общество потребления. Западногерманский роман 60-х — начала 70-х гг. — М., 1975.
- Волков Е. Немецкий натурализм: Роман. Повесть. Новелла. Иваново, 1980.
- Из истории русско-немецких литературных взаимосвязей: [сб. ст.]. — М.: Изд-во МГУ, 1987. — 204, [2] с.
- История литературы ФРГ. М., 1980
- История литературы ГДР. М., 1982
- История немецкой литературы, тт. 1-5. М., 1962—1976.
- Павлова Н. С. Типология немецкого романа: 1900—1945. М., 1982.
- Млечина И. В. Жизнь романа. О творчестве писателей ГДР. — М., 1984.
- Поэзия немецких романтиков. М., 1985.
- Бент М. Немецкая романтическая новелла. — Иркутск, 1987.
- Карельский А. В. Драма немецкого романтизма. — М.: Медиум, 1992.
- Млечина И. В. Уроки немецкого. Век ХХ. — М.: Прогресс-Культура, 1994.
- Грешных В. И. В мире немецкого романтизма. — Калининград, 1995.
- Пуришев Б. И. Очерки немецкой литературы. — М., 1996.
- Чавчанидзе Д. Л. Феномен искусства в немецкой романтической прозе: средневековая модель и её разрушение. М., 1997.
- Чугунов Д. А. Немецкая литература 1990-х годов: ситуация «поворота». — Воронеж : Изд-во ВГУ, 2006. ISBN 5-9273-0802-3
- Ханмурзаев К. Г. Немецкий романтический роман. Генезис. Поэтика. Эволюция жанра. — Махачкала, 1998.
- Шарыпина Т. А. Античность в литературной и философской мысли Германии первой половины XX в. / Монография. — Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1998.
- Библиография. Немецкая литература на страницах «ИЛ». 2004—2009 // «Иностранная литература» 2009, № 10.
- Бондарко Н. А. Немецкая духовная проза XIII—XV веков: язык, традиция, текст. — СПб.: Наука, 2014. 674 с.
- Beutin, Wolfgang u. a.: Deutsche Literaturgeschichte: von den Anfängen bis zur Gegenwart. Metzler, Stuttgart 1979 (7., erweiterte Auflage 2008)ISBN 3-476-02247-1.
- Peter J. Brenner: Neue deutsche Literaturgeschichte: vom «Ackermann» zu Günter Grass. Niemeyer, Tübingen 1996, (2., aktualisierte Aufl. 2004) ISBN 3-484-10736-7.
- Gerhard Fricke u. a.: Geschichte der deutschen Literatur. 20. Auflage. Schöningh, Paderborn 1988.
Статьи:
- Васильчикова Т. Н. Теоретические основы немецкого литературного экспрессионизма //Вестник МГУ. Филология. 2006. № 2. С.76-85.
- Горнфельд А. Г., Кирпичников А. И.;. Немецкая литература // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- Зоркая Н. Проблемы изучения детектива: опыт немецкого литературоведения.// Новое литературное обозрение, № 22 (1996), стр. 65-77
- Луков Вл. А. [world-shake.ru/ru/Encyclopaedia/4219.html Немецкая литература XVIII века] // Электронная энциклопедия «Мир Шекспира» [2010].
- Роганова И. С. Традиция немецкого романа о художнике в постмодернистском преломлении//Вестник МГУ. Филология. 2007. № 3. С.75-83.
- Шарыпина Т. А. Традиции Э. Т. А. Гофмана и концепция фантастического в немецкой прозе 70-80-х гг.(Ю. Брезан, К. Вольф, И. Моргнер) // Проблема традиций и взаимовлияния в литературах стран Западной Европы и Америки XIX-ХХ вв. — Н. Новгород, 1993.
См. также
Примечания
- ↑ Мединг Иоганн-Фердинанд-Мартин-Оскар // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- ↑ Бракель, Фердинанда // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
Ссылки
- [projekt.gutenberg.de Primärtexte] im Projekt Gutenberg-DE
- [www.ibiblio.org/gutenberg/ Primärtexte] im Project Gutenberg
- [nemesis.marxists.org/ Primärtexte] im «Sozialistischen Archiv für Belletristik» — mit Volltextsuche (ohne Impressum, offensichtlich privat)
- [www.deutschedichter.de/ Übersicht über Deutsche Dichter mit Biografien und vielen Werken]
- [gutenberg.spiegel.de/klabund/literatu/literatu.htm Deutsche Literaturgeschichte in einer Stunde] im Projekt Gutenberg-DE
- [www.literaturportal.de/literaturkalender.php Offizielles Literaturportal für Deutschland]
- [litmisto.org.ua/?p=4696 Жирмунский В. М. Очерки по истории классической немецкой литературы.]
<imagemap>: неверное или отсутствующее изображение |
Для улучшения этой статьи желательно?:
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Отрывок, характеризующий Немецкая литература
Дело же, очевидно, было так: позиция была избрана по реке Колоче, пересекающей большую дорогу не под прямым, а под острым углом, так что левый фланг был в Шевардине, правый около селения Нового и центр в Бородине, при слиянии рек Колочи и Во йны. Позиция эта, под прикрытием реки Колочи, для армии, имеющей целью остановить неприятеля, движущегося по Смоленской дороге к Москве, очевидна для всякого, кто посмотрит на Бородинское поле, забыв о том, как произошло сражение.Наполеон, выехав 24 го к Валуеву, не увидал (как говорится в историях) позицию русских от Утицы к Бородину (он не мог увидать эту позицию, потому что ее не было) и не увидал передового поста русской армии, а наткнулся в преследовании русского арьергарда на левый фланг позиции русских, на Шевардинский редут, и неожиданно для русских перевел войска через Колочу. И русские, не успев вступить в генеральное сражение, отступили своим левым крылом из позиции, которую они намеревались занять, и заняли новую позицию, которая была не предвидена и не укреплена. Перейдя на левую сторону Колочи, влево от дороги, Наполеон передвинул все будущее сражение справа налево (со стороны русских) и перенес его в поле между Утицей, Семеновским и Бородиным (в это поле, не имеющее в себе ничего более выгодного для позиции, чем всякое другое поле в России), и на этом поле произошло все сражение 26 го числа. В грубой форме план предполагаемого сражения и происшедшего сражения будет следующий:
Ежели бы Наполеон не выехал вечером 24 го числа на Колочу и не велел бы тотчас же вечером атаковать редут, а начал бы атаку на другой день утром, то никто бы не усомнился в том, что Шевардинский редут был левый фланг нашей позиции; и сражение произошло бы так, как мы его ожидали. В таком случае мы, вероятно, еще упорнее бы защищали Шевардинский редут, наш левый фланг; атаковали бы Наполеона в центре или справа, и 24 го произошло бы генеральное сражение на той позиции, которая была укреплена и предвидена. Но так как атака на наш левый фланг произошла вечером, вслед за отступлением нашего арьергарда, то есть непосредственно после сражения при Гридневой, и так как русские военачальники не хотели или не успели начать тогда же 24 го вечером генерального сражения, то первое и главное действие Бородинского сражения было проиграно еще 24 го числа и, очевидно, вело к проигрышу и того, которое было дано 26 го числа.
После потери Шевардинского редута к утру 25 го числа мы оказались без позиции на левом фланге и были поставлены в необходимость отогнуть наше левое крыло и поспешно укреплять его где ни попало.
Но мало того, что 26 го августа русские войска стояли только под защитой слабых, неконченных укреплений, – невыгода этого положения увеличилась еще тем, что русские военачальники, не признав вполне совершившегося факта (потери позиции на левом фланге и перенесения всего будущего поля сражения справа налево), оставались в своей растянутой позиции от села Нового до Утицы и вследствие того должны были передвигать свои войска во время сражения справа налево. Таким образом, во все время сражения русские имели против всей французской армии, направленной на наше левое крыло, вдвое слабейшие силы. (Действия Понятовского против Утицы и Уварова на правом фланге французов составляли отдельные от хода сражения действия.)
Итак, Бородинское сражение произошло совсем не так, как (стараясь скрыть ошибки наших военачальников и вследствие того умаляя славу русского войска и народа) описывают его. Бородинское сражение не произошло на избранной и укрепленной позиции с несколько только слабейшими со стороны русских силами, а Бородинское сражение, вследствие потери Шевардинского редута, принято было русскими на открытой, почти не укрепленной местности с вдвое слабейшими силами против французов, то есть в таких условиях, в которых не только немыслимо было драться десять часов и сделать сражение нерешительным, но немыслимо было удержать в продолжение трех часов армию от совершенного разгрома и бегства.
25 го утром Пьер выезжал из Можайска. На спуске с огромной крутой и кривой горы, ведущей из города, мимо стоящего на горе направо собора, в котором шла служба и благовестили, Пьер вылез из экипажа и пошел пешком. За ним спускался на горе какой то конный полк с песельниками впереди. Навстречу ему поднимался поезд телег с раненными во вчерашнем деле. Возчики мужики, крича на лошадей и хлеща их кнутами, перебегали с одной стороны на другую. Телеги, на которых лежали и сидели по три и по четыре солдата раненых, прыгали по набросанным в виде мостовой камням на крутом подъеме. Раненые, обвязанные тряпками, бледные, с поджатыми губами и нахмуренными бровями, держась за грядки, прыгали и толкались в телегах. Все почти с наивным детским любопытством смотрели на белую шляпу и зеленый фрак Пьера.
Кучер Пьера сердито кричал на обоз раненых, чтобы они держали к одной. Кавалерийский полк с песнями, спускаясь с горы, надвинулся на дрожки Пьера и стеснил дорогу. Пьер остановился, прижавшись к краю скопанной в горе дороги. Из за откоса горы солнце не доставало в углубление дороги, тут было холодно, сыро; над головой Пьера было яркое августовское утро, и весело разносился трезвон. Одна подвода с ранеными остановилась у края дороги подле самого Пьера. Возчик в лаптях, запыхавшись, подбежал к своей телеге, подсунул камень под задние нешиненые колеса и стал оправлять шлею на своей ставшей лошаденке.
Один раненый старый солдат с подвязанной рукой, шедший за телегой, взялся за нее здоровой рукой и оглянулся на Пьера.
– Что ж, землячок, тут положат нас, что ль? Али до Москвы? – сказал он.
Пьер так задумался, что не расслышал вопроса. Он смотрел то на кавалерийский, повстречавшийся теперь с поездом раненых полк, то на ту телегу, у которой он стоял и на которой сидели двое раненых и лежал один, и ему казалось, что тут, в них, заключается разрешение занимавшего его вопроса. Один из сидевших на телеге солдат был, вероятно, ранен в щеку. Вся голова его была обвязана тряпками, и одна щека раздулась с детскую голову. Рот и нос у него были на сторону. Этот солдат глядел на собор и крестился. Другой, молодой мальчик, рекрут, белокурый и белый, как бы совершенно без крови в тонком лице, с остановившейся доброй улыбкой смотрел на Пьера; третий лежал ничком, и лица его не было видно. Кавалеристы песельники проходили над самой телегой.
– Ах запропала… да ежова голова…
– Да на чужой стороне живучи… – выделывали они плясовую солдатскую песню. Как бы вторя им, но в другом роде веселья, перебивались в вышине металлические звуки трезвона. И, еще в другом роде веселья, обливали вершину противоположного откоса жаркие лучи солнца. Но под откосом, у телеги с ранеными, подле запыхавшейся лошаденки, у которой стоял Пьер, было сыро, пасмурно и грустно.
Солдат с распухшей щекой сердито глядел на песельников кавалеристов.
– Ох, щегольки! – проговорил он укоризненно.
– Нынче не то что солдат, а и мужичков видал! Мужичков и тех гонят, – сказал с грустной улыбкой солдат, стоявший за телегой и обращаясь к Пьеру. – Нынче не разбирают… Всем народом навалиться хотят, одью слово – Москва. Один конец сделать хотят. – Несмотря на неясность слов солдата, Пьер понял все то, что он хотел сказать, и одобрительно кивнул головой.
Дорога расчистилась, и Пьер сошел под гору и поехал дальше.
Пьер ехал, оглядываясь по обе стороны дороги, отыскивая знакомые лица и везде встречая только незнакомые военные лица разных родов войск, одинаково с удивлением смотревшие на его белую шляпу и зеленый фрак.
Проехав версты четыре, он встретил первого знакомого и радостно обратился к нему. Знакомый этот был один из начальствующих докторов в армии. Он в бричке ехал навстречу Пьеру, сидя рядом с молодым доктором, и, узнав Пьера, остановил своего казака, сидевшего на козлах вместо кучера.
– Граф! Ваше сиятельство, вы как тут? – спросил доктор.
– Да вот хотелось посмотреть…
– Да, да, будет что посмотреть…
Пьер слез и, остановившись, разговорился с доктором, объясняя ему свое намерение участвовать в сражении.
Доктор посоветовал Безухову прямо обратиться к светлейшему.
– Что же вам бог знает где находиться во время сражения, в безызвестности, – сказал он, переглянувшись с своим молодым товарищем, – а светлейший все таки знает вас и примет милостиво. Так, батюшка, и сделайте, – сказал доктор.
Доктор казался усталым и спешащим.
– Так вы думаете… А я еще хотел спросить вас, где же самая позиция? – сказал Пьер.
– Позиция? – сказал доктор. – Уж это не по моей части. Проедете Татаринову, там что то много копают. Там на курган войдете: оттуда видно, – сказал доктор.
– И видно оттуда?.. Ежели бы вы…
Но доктор перебил его и подвинулся к бричке.
– Я бы вас проводил, да, ей богу, – вот (доктор показал на горло) скачу к корпусному командиру. Ведь у нас как?.. Вы знаете, граф, завтра сражение: на сто тысяч войска малым числом двадцать тысяч раненых считать надо; а у нас ни носилок, ни коек, ни фельдшеров, ни лекарей на шесть тысяч нет. Десять тысяч телег есть, да ведь нужно и другое; как хочешь, так и делай.
Та странная мысль, что из числа тех тысяч людей живых, здоровых, молодых и старых, которые с веселым удивлением смотрели на его шляпу, было, наверное, двадцать тысяч обреченных на раны и смерть (может быть, те самые, которых он видел), – поразила Пьера.
Они, может быть, умрут завтра, зачем они думают о чем нибудь другом, кроме смерти? И ему вдруг по какой то тайной связи мыслей живо представился спуск с Можайской горы, телеги с ранеными, трезвон, косые лучи солнца и песня кавалеристов.
«Кавалеристы идут на сраженье, и встречают раненых, и ни на минуту не задумываются над тем, что их ждет, а идут мимо и подмигивают раненым. А из этих всех двадцать тысяч обречены на смерть, а они удивляются на мою шляпу! Странно!» – думал Пьер, направляясь дальше к Татариновой.
У помещичьего дома, на левой стороне дороги, стояли экипажи, фургоны, толпы денщиков и часовые. Тут стоял светлейший. Но в то время, как приехал Пьер, его не было, и почти никого не было из штабных. Все были на молебствии. Пьер поехал вперед к Горкам.
Въехав на гору и выехав в небольшую улицу деревни, Пьер увидал в первый раз мужиков ополченцев с крестами на шапках и в белых рубашках, которые с громким говором и хохотом, оживленные и потные, что то работали направо от дороги, на огромном кургане, обросшем травою.
Одни из них копали лопатами гору, другие возили по доскам землю в тачках, третьи стояли, ничего не делая.
Два офицера стояли на кургане, распоряжаясь ими. Увидав этих мужиков, очевидно, забавляющихся еще своим новым, военным положением, Пьер опять вспомнил раненых солдат в Можайске, и ему понятно стало то, что хотел выразить солдат, говоривший о том, что всем народом навалиться хотят. Вид этих работающих на поле сражения бородатых мужиков с их странными неуклюжими сапогами, с их потными шеями и кое у кого расстегнутыми косыми воротами рубах, из под которых виднелись загорелые кости ключиц, подействовал на Пьера сильнее всего того, что он видел и слышал до сих пор о торжественности и значительности настоящей минуты.
Пьер вышел из экипажа и мимо работающих ополченцев взошел на тот курган, с которого, как сказал ему доктор, было видно поле сражения.
Было часов одиннадцать утра. Солнце стояло несколько влево и сзади Пьера и ярко освещало сквозь чистый, редкий воздух огромную, амфитеатром по поднимающейся местности открывшуюся перед ним панораму.
Вверх и влево по этому амфитеатру, разрезывая его, вилась большая Смоленская дорога, шедшая через село с белой церковью, лежавшее в пятистах шагах впереди кургана и ниже его (это было Бородино). Дорога переходила под деревней через мост и через спуски и подъемы вилась все выше и выше к видневшемуся верст за шесть селению Валуеву (в нем стоял теперь Наполеон). За Валуевым дорога скрывалась в желтевшем лесу на горизонте. В лесу этом, березовом и еловом, вправо от направления дороги, блестел на солнце дальний крест и колокольня Колоцкого монастыря. По всей этой синей дали, вправо и влево от леса и дороги, в разных местах виднелись дымящиеся костры и неопределенные массы войск наших и неприятельских. Направо, по течению рек Колочи и Москвы, местность была ущелиста и гориста. Между ущельями их вдали виднелись деревни Беззубово, Захарьино. Налево местность была ровнее, были поля с хлебом, и виднелась одна дымящаяся, сожженная деревня – Семеновская.
Все, что видел Пьер направо и налево, было так неопределенно, что ни левая, ни правая сторона поля не удовлетворяла вполне его представлению. Везде было не доле сражения, которое он ожидал видеть, а поля, поляны, войска, леса, дымы костров, деревни, курганы, ручьи; и сколько ни разбирал Пьер, он в этой живой местности не мог найти позиции и не мог даже отличить ваших войск от неприятельских.
«Надо спросить у знающего», – подумал он и обратился к офицеру, с любопытством смотревшему на его невоенную огромную фигуру.
– Позвольте спросить, – обратился Пьер к офицеру, – это какая деревня впереди?
– Бурдино или как? – сказал офицер, с вопросом обращаясь к своему товарищу.
– Бородино, – поправляя, отвечал другой.
Офицер, видимо, довольный случаем поговорить, подвинулся к Пьеру.
– Там наши? – спросил Пьер.
– Да, а вон подальше и французы, – сказал офицер. – Вон они, вон видны.
– Где? где? – спросил Пьер.
– Простым глазом видно. Да вот, вот! – Офицер показал рукой на дымы, видневшиеся влево за рекой, и на лице его показалось то строгое и серьезное выражение, которое Пьер видел на многих лицах, встречавшихся ему.
– Ах, это французы! А там?.. – Пьер показал влево на курган, около которого виднелись войска.
– Это наши.
– Ах, наши! А там?.. – Пьер показал на другой далекий курган с большим деревом, подле деревни, видневшейся в ущелье, у которой тоже дымились костры и чернелось что то.
– Это опять он, – сказал офицер. (Это был Шевардинский редут.) – Вчера было наше, а теперь его.
– Так как же наша позиция?
– Позиция? – сказал офицер с улыбкой удовольствия. – Я это могу рассказать вам ясно, потому что я почти все укрепления наши строил. Вот, видите ли, центр наш в Бородине, вот тут. – Он указал на деревню с белой церковью, бывшей впереди. – Тут переправа через Колочу. Вот тут, видите, где еще в низочке ряды скошенного сена лежат, вот тут и мост. Это наш центр. Правый фланг наш вот где (он указал круто направо, далеко в ущелье), там Москва река, и там мы три редута построили очень сильные. Левый фланг… – и тут офицер остановился. – Видите ли, это трудно вам объяснить… Вчера левый фланг наш был вот там, в Шевардине, вон, видите, где дуб; а теперь мы отнесли назад левое крыло, теперь вон, вон – видите деревню и дым? – это Семеновское, да вот здесь, – он указал на курган Раевского. – Только вряд ли будет тут сраженье. Что он перевел сюда войска, это обман; он, верно, обойдет справа от Москвы. Ну, да где бы ни было, многих завтра не досчитаемся! – сказал офицер.
Старый унтер офицер, подошедший к офицеру во время его рассказа, молча ожидал конца речи своего начальника; но в этом месте он, очевидно, недовольный словами офицера, перебил его.
– За турами ехать надо, – сказал он строго.
Офицер как будто смутился, как будто он понял, что можно думать о том, сколь многих не досчитаются завтра, но не следует говорить об этом.
– Ну да, посылай третью роту опять, – поспешно сказал офицер.
– А вы кто же, не из докторов?
– Нет, я так, – отвечал Пьер. И Пьер пошел под гору опять мимо ополченцев.
– Ах, проклятые! – проговорил следовавший за ним офицер, зажимая нос и пробегая мимо работающих.
– Вон они!.. Несут, идут… Вон они… сейчас войдут… – послышались вдруг голоса, и офицеры, солдаты и ополченцы побежали вперед по дороге.
Из под горы от Бородина поднималось церковное шествие. Впереди всех по пыльной дороге стройно шла пехота с снятыми киверами и ружьями, опущенными книзу. Позади пехоты слышалось церковное пение.
Обгоняя Пьера, без шапок бежали навстречу идущим солдаты и ополченцы.
– Матушку несут! Заступницу!.. Иверскую!..
– Смоленскую матушку, – поправил другой.
Ополченцы – и те, которые были в деревне, и те, которые работали на батарее, – побросав лопаты, побежали навстречу церковному шествию. За батальоном, шедшим по пыльной дороге, шли в ризах священники, один старичок в клобуке с причтом и певчпми. За ними солдаты и офицеры несли большую, с черным ликом в окладе, икону. Это была икона, вывезенная из Смоленска и с того времени возимая за армией. За иконой, кругом ее, впереди ее, со всех сторон шли, бежали и кланялись в землю с обнаженными головами толпы военных.
Взойдя на гору, икона остановилась; державшие на полотенцах икону люди переменились, дьячки зажгли вновь кадила, и начался молебен. Жаркие лучи солнца били отвесно сверху; слабый, свежий ветерок играл волосами открытых голов и лентами, которыми была убрана икона; пение негромко раздавалось под открытым небом. Огромная толпа с открытыми головами офицеров, солдат, ополченцев окружала икону. Позади священника и дьячка, на очищенном месте, стояли чиновные люди. Один плешивый генерал с Георгием на шее стоял прямо за спиной священника и, не крестясь (очевидно, пемец), терпеливо дожидался конца молебна, который он считал нужным выслушать, вероятно, для возбуждения патриотизма русского народа. Другой генерал стоял в воинственной позе и потряхивал рукой перед грудью, оглядываясь вокруг себя. Между этим чиновным кружком Пьер, стоявший в толпе мужиков, узнал некоторых знакомых; но он не смотрел на них: все внимание его было поглощено серьезным выражением лиц в этой толпе солдат и оиолченцев, однообразно жадно смотревших на икону. Как только уставшие дьячки (певшие двадцатый молебен) начинали лениво и привычно петь: «Спаси от бед рабы твоя, богородице», и священник и дьякон подхватывали: «Яко вси по бозе к тебе прибегаем, яко нерушимой стене и предстательству», – на всех лицах вспыхивало опять то же выражение сознания торжественности наступающей минуты, которое он видел под горой в Можайске и урывками на многих и многих лицах, встреченных им в это утро; и чаще опускались головы, встряхивались волоса и слышались вздохи и удары крестов по грудям.
Толпа, окружавшая икону, вдруг раскрылась и надавила Пьера. Кто то, вероятно, очень важное лицо, судя по поспешности, с которой перед ним сторонились, подходил к иконе.
Это был Кутузов, объезжавший позицию. Он, возвращаясь к Татариновой, подошел к молебну. Пьер тотчас же узнал Кутузова по его особенной, отличавшейся от всех фигуре.
В длинном сюртуке на огромном толщиной теле, с сутуловатой спиной, с открытой белой головой и с вытекшим, белым глазом на оплывшем лице, Кутузов вошел своей ныряющей, раскачивающейся походкой в круг и остановился позади священника. Он перекрестился привычным жестом, достал рукой до земли и, тяжело вздохнув, опустил свою седую голову. За Кутузовым был Бенигсен и свита. Несмотря на присутствие главнокомандующего, обратившего на себя внимание всех высших чинов, ополченцы и солдаты, не глядя на него, продолжали молиться.
Когда кончился молебен, Кутузов подошел к иконе, тяжело опустился на колена, кланяясь в землю, и долго пытался и не мог встать от тяжести и слабости. Седая голова его подергивалась от усилий. Наконец он встал и с детски наивным вытягиванием губ приложился к иконе и опять поклонился, дотронувшись рукой до земли. Генералитет последовал его примеру; потом офицеры, и за ними, давя друг друга, топчась, пыхтя и толкаясь, с взволнованными лицами, полезли солдаты и ополченцы.
Покачиваясь от давки, охватившей его, Пьер оглядывался вокруг себя.
– Граф, Петр Кирилыч! Вы как здесь? – сказал чей то голос. Пьер оглянулся.
Борис Друбецкой, обчищая рукой коленки, которые он запачкал (вероятно, тоже прикладываясь к иконе), улыбаясь подходил к Пьеру. Борис был одет элегантно, с оттенком походной воинственности. На нем был длинный сюртук и плеть через плечо, так же, как у Кутузова.
Кутузов между тем подошел к деревне и сел в тени ближайшего дома на лавку, которую бегом принес один казак, а другой поспешно покрыл ковриком. Огромная блестящая свита окружила главнокомандующего.
Икона тронулась дальше, сопутствуемая толпой. Пьер шагах в тридцати от Кутузова остановился, разговаривая с Борисом.
Пьер объяснил свое намерение участвовать в сражении и осмотреть позицию.
– Вот как сделайте, – сказал Борис. – Je vous ferai les honneurs du camp. [Я вас буду угощать лагерем.] Лучше всего вы увидите все оттуда, где будет граф Бенигсен. Я ведь при нем состою. Я ему доложу. А если хотите объехать позицию, то поедемте с нами: мы сейчас едем на левый фланг. А потом вернемся, и милости прошу у меня ночевать, и партию составим. Вы ведь знакомы с Дмитрием Сергеичем? Он вот тут стоит, – он указал третий дом в Горках.
– Но мне бы хотелось видеть правый фланг; говорят, он очень силен, – сказал Пьер. – Я бы хотел проехать от Москвы реки и всю позицию.
– Ну, это после можете, а главный – левый фланг…
– Да, да. А где полк князя Болконского, не можете вы указать мне? – спросил Пьер.
– Андрея Николаевича? мы мимо проедем, я вас проведу к нему.
– Что ж левый фланг? – спросил Пьер.
– По правде вам сказать, entre nous, [между нами,] левый фланг наш бог знает в каком положении, – сказал Борис, доверчиво понижая голос, – граф Бенигсен совсем не то предполагал. Он предполагал укрепить вон тот курган, совсем не так… но, – Борис пожал плечами. – Светлейший не захотел, или ему наговорили. Ведь… – И Борис не договорил, потому что в это время к Пьеру подошел Кайсаров, адъютант Кутузова. – А! Паисий Сергеич, – сказал Борис, с свободной улыбкой обращаясь к Кайсарову, – А я вот стараюсь объяснить графу позицию. Удивительно, как мог светлейший так верно угадать замыслы французов!
– Вы про левый фланг? – сказал Кайсаров.
– Да, да, именно. Левый фланг наш теперь очень, очень силен.
Несмотря на то, что Кутузов выгонял всех лишних из штаба, Борис после перемен, произведенных Кутузовым, сумел удержаться при главной квартире. Борис пристроился к графу Бенигсену. Граф Бенигсен, как и все люди, при которых находился Борис, считал молодого князя Друбецкого неоцененным человеком.
В начальствовании армией были две резкие, определенные партии: партия Кутузова и партия Бенигсена, начальника штаба. Борис находился при этой последней партии, и никто так, как он, не умел, воздавая раболепное уважение Кутузову, давать чувствовать, что старик плох и что все дело ведется Бенигсеном. Теперь наступила решительная минута сражения, которая должна была или уничтожить Кутузова и передать власть Бенигсену, или, ежели бы даже Кутузов выиграл сражение, дать почувствовать, что все сделано Бенигсеном. Во всяком случае, за завтрашний день должны были быть розданы большие награды и выдвинуты вперед новые люди. И вследствие этого Борис находился в раздраженном оживлении весь этот день.
За Кайсаровым к Пьеру еще подошли другие из его знакомых, и он не успевал отвечать на расспросы о Москве, которыми они засыпали его, и не успевал выслушивать рассказов, которые ему делали. На всех лицах выражались оживление и тревога. Но Пьеру казалось, что причина возбуждения, выражавшегося на некоторых из этих лиц, лежала больше в вопросах личного успеха, и у него не выходило из головы то другое выражение возбуждения, которое он видел на других лицах и которое говорило о вопросах не личных, а общих, вопросах жизни и смерти. Кутузов заметил фигуру Пьера и группу, собравшуюся около него.
– Позовите его ко мне, – сказал Кутузов. Адъютант передал желание светлейшего, и Пьер направился к скамейке. Но еще прежде него к Кутузову подошел рядовой ополченец. Это был Долохов.
– Этот как тут? – спросил Пьер.
– Это такая бестия, везде пролезет! – отвечали Пьеру. – Ведь он разжалован. Теперь ему выскочить надо. Какие то проекты подавал и в цепь неприятельскую ночью лазил… но молодец!..
Пьер, сняв шляпу, почтительно наклонился перед Кутузовым.
– Я решил, что, ежели я доложу вашей светлости, вы можете прогнать меня или сказать, что вам известно то, что я докладываю, и тогда меня не убудет… – говорил Долохов.
– Так, так.
– А ежели я прав, то я принесу пользу отечеству, для которого я готов умереть.
– Так… так…
– И ежели вашей светлости понадобится человек, который бы не жалел своей шкуры, то извольте вспомнить обо мне… Может быть, я пригожусь вашей светлости.
– Так… так… – повторил Кутузов, смеющимся, суживающимся глазом глядя на Пьера.
В это время Борис, с своей придворной ловкостью, выдвинулся рядом с Пьером в близость начальства и с самым естественным видом и не громко, как бы продолжая начатый разговор, сказал Пьеру:
– Ополченцы – те прямо надели чистые, белые рубахи, чтобы приготовиться к смерти. Какое геройство, граф!
Борис сказал это Пьеру, очевидно, для того, чтобы быть услышанным светлейшим. Он знал, что Кутузов обратит внимание на эти слова, и действительно светлейший обратился к нему:
– Ты что говоришь про ополченье? – сказал он Борису.
– Они, ваша светлость, готовясь к завтрашнему дню, к смерти, надели белые рубахи.
– А!.. Чудесный, бесподобный народ! – сказал Кутузов и, закрыв глаза, покачал головой. – Бесподобный народ! – повторил он со вздохом.
– Хотите пороху понюхать? – сказал он Пьеру. – Да, приятный запах. Имею честь быть обожателем супруги вашей, здорова она? Мой привал к вашим услугам. – И, как это часто бывает с старыми людьми, Кутузов стал рассеянно оглядываться, как будто забыв все, что ему нужно было сказать или сделать.
Очевидно, вспомнив то, что он искал, он подманил к себе Андрея Сергеича Кайсарова, брата своего адъютанта.
– Как, как, как стихи то Марина, как стихи, как? Что на Геракова написал: «Будешь в корпусе учитель… Скажи, скажи, – заговорил Кутузов, очевидно, собираясь посмеяться. Кайсаров прочел… Кутузов, улыбаясь, кивал головой в такт стихов.
Когда Пьер отошел от Кутузова, Долохов, подвинувшись к нему, взял его за руку.
– Очень рад встретить вас здесь, граф, – сказал он ему громко и не стесняясь присутствием посторонних, с особенной решительностью и торжественностью. – Накануне дня, в который бог знает кому из нас суждено остаться в живых, я рад случаю сказать вам, что я жалею о тех недоразумениях, которые были между нами, и желал бы, чтобы вы не имели против меня ничего. Прошу вас простить меня.
Пьер, улыбаясь, глядел на Долохова, не зная, что сказать ему. Долохов со слезами, выступившими ему на глаза, обнял и поцеловал Пьера.
Борис что то сказал своему генералу, и граф Бенигсен обратился к Пьеру и предложил ехать с собою вместе по линии.
– Вам это будет интересно, – сказал он.
– Да, очень интересно, – сказал Пьер.
Через полчаса Кутузов уехал в Татаринову, и Бенигсен со свитой, в числе которой был и Пьер, поехал по линии.
Бенигсен от Горок спустился по большой дороге к мосту, на который Пьеру указывал офицер с кургана как на центр позиции и у которого на берегу лежали ряды скошенной, пахнувшей сеном травы. Через мост они проехали в село Бородино, оттуда повернули влево и мимо огромного количества войск и пушек выехали к высокому кургану, на котором копали землю ополченцы. Это был редут, еще не имевший названия, потом получивший название редута Раевского, или курганной батареи.
Пьер не обратил особенного внимания на этот редут. Он не знал, что это место будет для него памятнее всех мест Бородинского поля. Потом они поехали через овраг к Семеновскому, в котором солдаты растаскивали последние бревна изб и овинов. Потом под гору и на гору они проехали вперед через поломанную, выбитую, как градом, рожь, по вновь проложенной артиллерией по колчам пашни дороге на флеши [род укрепления. (Примеч. Л.Н. Толстого.) ], тоже тогда еще копаемые.
Бенигсен остановился на флешах и стал смотреть вперед на (бывший еще вчера нашим) Шевардинский редут, на котором виднелось несколько всадников. Офицеры говорили, что там был Наполеон или Мюрат. И все жадно смотрели на эту кучку всадников. Пьер тоже смотрел туда, стараясь угадать, который из этих чуть видневшихся людей был Наполеон. Наконец всадники съехали с кургана и скрылись.
Бенигсен обратился к подошедшему к нему генералу и стал пояснять все положение наших войск. Пьер слушал слова Бенигсена, напрягая все свои умственные силы к тому, чтоб понять сущность предстоящего сражения, но с огорчением чувствовал, что умственные способности его для этого были недостаточны. Он ничего не понимал. Бенигсен перестал говорить, и заметив фигуру прислушивавшегося Пьера, сказал вдруг, обращаясь к нему:
– Вам, я думаю, неинтересно?
– Ах, напротив, очень интересно, – повторил Пьер не совсем правдиво.
С флеш они поехали еще левее дорогою, вьющеюся по частому, невысокому березовому лесу. В середине этого
леса выскочил перед ними на дорогу коричневый с белыми ногами заяц и, испуганный топотом большого количества лошадей, так растерялся, что долго прыгал по дороге впереди их, возбуждая общее внимание и смех, и, только когда в несколько голосов крикнули на него, бросился в сторону и скрылся в чаще. Проехав версты две по лесу, они выехали на поляну, на которой стояли войска корпуса Тучкова, долженствовавшего защищать левый фланг.
Здесь, на крайнем левом фланге, Бенигсен много и горячо говорил и сделал, как казалось Пьеру, важное в военном отношении распоряжение. Впереди расположения войск Тучкова находилось возвышение. Это возвышение не было занято войсками. Бенигсен громко критиковал эту ошибку, говоря, что было безумно оставить незанятою командующую местностью высоту и поставить войска под нею. Некоторые генералы выражали то же мнение. Один в особенности с воинской горячностью говорил о том, что их поставили тут на убой. Бенигсен приказал своим именем передвинуть войска на высоту.
Распоряжение это на левом фланге еще более заставило Пьера усумниться в его способности понять военное дело. Слушая Бенигсена и генералов, осуждавших положение войск под горою, Пьер вполне понимал их и разделял их мнение; но именно вследствие этого он не мог понять, каким образом мог тот, кто поставил их тут под горою, сделать такую очевидную и грубую ошибку.
Пьер не знал того, что войска эти были поставлены не для защиты позиции, как думал Бенигсен, а были поставлены в скрытое место для засады, то есть для того, чтобы быть незамеченными и вдруг ударить на подвигавшегося неприятеля. Бенигсен не знал этого и передвинул войска вперед по особенным соображениям, не сказав об этом главнокомандующему.
Князь Андрей в этот ясный августовский вечер 25 го числа лежал, облокотившись на руку, в разломанном сарае деревни Князькова, на краю расположения своего полка. В отверстие сломанной стены он смотрел на шедшую вдоль по забору полосу тридцатилетних берез с обрубленными нижними сучьями, на пашню с разбитыми на ней копнами овса и на кустарник, по которому виднелись дымы костров – солдатских кухонь.
Как ни тесна и никому не нужна и ни тяжка теперь казалась князю Андрею его жизнь, он так же, как и семь лет тому назад в Аустерлице накануне сражения, чувствовал себя взволнованным и раздраженным.
Приказания на завтрашнее сражение были отданы и получены им. Делать ему было больше нечего. Но мысли самые простые, ясные и потому страшные мысли не оставляли его в покое. Он знал, что завтрашнее сражение должно было быть самое страшное изо всех тех, в которых он участвовал, и возможность смерти в первый раз в его жизни, без всякого отношения к житейскому, без соображений о том, как она подействует на других, а только по отношению к нему самому, к его душе, с живостью, почти с достоверностью, просто и ужасно, представилась ему. И с высоты этого представления все, что прежде мучило и занимало его, вдруг осветилось холодным белым светом, без теней, без перспективы, без различия очертаний. Вся жизнь представилась ему волшебным фонарем, в который он долго смотрел сквозь стекло и при искусственном освещении. Теперь он увидал вдруг, без стекла, при ярком дневном свете, эти дурно намалеванные картины. «Да, да, вот они те волновавшие и восхищавшие и мучившие меня ложные образы, – говорил он себе, перебирая в своем воображении главные картины своего волшебного фонаря жизни, глядя теперь на них при этом холодном белом свете дня – ясной мысли о смерти. – Вот они, эти грубо намалеванные фигуры, которые представлялись чем то прекрасным и таинственным. Слава, общественное благо, любовь к женщине, самое отечество – как велики казались мне эти картины, какого глубокого смысла казались они исполненными! И все это так просто, бледно и грубо при холодном белом свете того утра, которое, я чувствую, поднимается для меня». Три главные горя его жизни в особенности останавливали его внимание. Его любовь к женщине, смерть его отца и французское нашествие, захватившее половину России. «Любовь!.. Эта девочка, мне казавшаяся преисполненною таинственных сил. Как же я любил ее! я делал поэтические планы о любви, о счастии с нею. О милый мальчик! – с злостью вслух проговорил он. – Как же! я верил в какую то идеальную любовь, которая должна была мне сохранить ее верность за целый год моего отсутствия! Как нежный голубок басни, она должна была зачахнуть в разлуке со мной. А все это гораздо проще… Все это ужасно просто, гадко!
Отец тоже строил в Лысых Горах и думал, что это его место, его земля, его воздух, его мужики; а пришел Наполеон и, не зная об его существовании, как щепку с дороги, столкнул его, и развалились его Лысые Горы и вся его жизнь. А княжна Марья говорит, что это испытание, посланное свыше. Для чего же испытание, когда его уже нет и не будет? никогда больше не будет! Его нет! Так кому же это испытание? Отечество, погибель Москвы! А завтра меня убьет – и не француз даже, а свой, как вчера разрядил солдат ружье около моего уха, и придут французы, возьмут меня за ноги и за голову и швырнут в яму, чтоб я не вонял им под носом, и сложатся новые условия жизни, которые будут также привычны для других, и я не буду знать про них, и меня не будет».
Он поглядел на полосу берез с их неподвижной желтизной, зеленью и белой корой, блестящих на солнце. «Умереть, чтобы меня убили завтра, чтобы меня не было… чтобы все это было, а меня бы не было». Он живо представил себе отсутствие себя в этой жизни. И эти березы с их светом и тенью, и эти курчавые облака, и этот дым костров – все вокруг преобразилось для него и показалось чем то страшным и угрожающим. Мороз пробежал по его спине. Быстро встав, он вышел из сарая и стал ходить.
За сараем послышались голоса.
– Кто там? – окликнул князь Андрей.
Красноносый капитан Тимохин, бывший ротный командир Долохова, теперь, за убылью офицеров, батальонный командир, робко вошел в сарай. За ним вошли адъютант и казначей полка.
Князь Андрей поспешно встал, выслушал то, что по службе имели передать ему офицеры, передал им еще некоторые приказания и сбирался отпустить их, когда из за сарая послышался знакомый, пришепетывающий голос.
– Que diable! [Черт возьми!] – сказал голос человека, стукнувшегося обо что то.
Князь Андрей, выглянув из сарая, увидал подходящего к нему Пьера, который споткнулся на лежавшую жердь и чуть не упал. Князю Андрею вообще неприятно было видеть людей из своего мира, в особенности же Пьера, который напоминал ему все те тяжелые минуты, которые он пережил в последний приезд в Москву.
– А, вот как! – сказал он. – Какими судьбами? Вот не ждал.
В то время как он говорил это, в глазах его и выражении всего лица было больше чем сухость – была враждебность, которую тотчас же заметил Пьер. Он подходил к сараю в самом оживленном состоянии духа, но, увидав выражение лица князя Андрея, он почувствовал себя стесненным и неловким.
– Я приехал… так… знаете… приехал… мне интересно, – сказал Пьер, уже столько раз в этот день бессмысленно повторявший это слово «интересно». – Я хотел видеть сражение.
– Да, да, а братья масоны что говорят о войне? Как предотвратить ее? – сказал князь Андрей насмешливо. – Ну что Москва? Что мои? Приехали ли наконец в Москву? – спросил он серьезно.
– Приехали. Жюли Друбецкая говорила мне. Я поехал к ним и не застал. Они уехали в подмосковную.
Офицеры хотели откланяться, но князь Андрей, как будто не желая оставаться с глазу на глаз с своим другом, предложил им посидеть и напиться чаю. Подали скамейки и чай. Офицеры не без удивления смотрели на толстую, громадную фигуру Пьера и слушали его рассказы о Москве и о расположении наших войск, которые ему удалось объездить. Князь Андрей молчал, и лицо его так было неприятно, что Пьер обращался более к добродушному батальонному командиру Тимохину, чем к Болконскому.
– Так ты понял все расположение войск? – перебил его князь Андрей.
– Да, то есть как? – сказал Пьер. – Как невоенный человек, я не могу сказать, чтобы вполне, но все таки понял общее расположение.
– Eh bien, vous etes plus avance que qui cela soit, [Ну, так ты больше знаешь, чем кто бы то ни было.] – сказал князь Андрей.
– A! – сказал Пьер с недоуменьем, через очки глядя на князя Андрея. – Ну, как вы скажете насчет назначения Кутузова? – сказал он.
– Я очень рад был этому назначению, вот все, что я знаю, – сказал князь Андрей.
– Ну, а скажите, какое ваше мнение насчет Барклая де Толли? В Москве бог знает что говорили про него. Как вы судите о нем?
– Спроси вот у них, – сказал князь Андрей, указывая на офицеров.
Пьер с снисходительно вопросительной улыбкой, с которой невольно все обращались к Тимохину, посмотрел на него.
– Свет увидали, ваше сиятельство, как светлейший поступил, – робко и беспрестанно оглядываясь на своего полкового командира, сказал Тимохин.
– Отчего же так? – спросил Пьер.
– Да вот хоть бы насчет дров или кормов, доложу вам. Ведь мы от Свенцян отступали, не смей хворостины тронуть, или сенца там, или что. Ведь мы уходим, ему достается, не так ли, ваше сиятельство? – обратился он к своему князю, – а ты не смей. В нашем полку под суд двух офицеров отдали за этакие дела. Ну, как светлейший поступил, так насчет этого просто стало. Свет увидали…
– Так отчего же он запрещал?
Тимохин сконфуженно оглядывался, не понимая, как и что отвечать на такой вопрос. Пьер с тем же вопросом обратился к князю Андрею.
– А чтобы не разорять край, который мы оставляли неприятелю, – злобно насмешливо сказал князь Андрей. – Это очень основательно; нельзя позволять грабить край и приучаться войскам к мародерству. Ну и в Смоленске он тоже правильно рассудил, что французы могут обойти нас и что у них больше сил. Но он не мог понять того, – вдруг как бы вырвавшимся тонким голосом закричал князь Андрей, – но он не мог понять, что мы в первый раз дрались там за русскую землю, что в войсках был такой дух, какого никогда я не видал, что мы два дня сряду отбивали французов и что этот успех удесятерял наши силы. Он велел отступать, и все усилия и потери пропали даром. Он не думал об измене, он старался все сделать как можно лучше, он все обдумал; но от этого то он и не годится. Он не годится теперь именно потому, что он все обдумывает очень основательно и аккуратно, как и следует всякому немцу. Как бы тебе сказать… Ну, у отца твоего немец лакей, и он прекрасный лакей и удовлетворит всем его нуждам лучше тебя, и пускай он служит; но ежели отец при смерти болен, ты прогонишь лакея и своими непривычными, неловкими руками станешь ходить за отцом и лучше успокоишь его, чем искусный, но чужой человек. Так и сделали с Барклаем. Пока Россия была здорова, ей мог служить чужой, и был прекрасный министр, но как только она в опасности; нужен свой, родной человек. А у вас в клубе выдумали, что он изменник! Тем, что его оклеветали изменником, сделают только то, что потом, устыдившись своего ложного нарекания, из изменников сделают вдруг героем или гением, что еще будет несправедливее. Он честный и очень аккуратный немец…
– Однако, говорят, он искусный полководец, – сказал Пьер.
– Я не понимаю, что такое значит искусный полководец, – с насмешкой сказал князь Андрей.
– Искусный полководец, – сказал Пьер, – ну, тот, который предвидел все случайности… ну, угадал мысли противника.
– Да это невозможно, – сказал князь Андрей, как будто про давно решенное дело.
Пьер с удивлением посмотрел на него.
– Однако, – сказал он, – ведь говорят же, что война подобна шахматной игре.
– Да, – сказал князь Андрей, – только с тою маленькою разницей, что в шахматах над каждым шагом ты можешь думать сколько угодно, что ты там вне условий времени, и еще с той разницей, что конь всегда сильнее пешки и две пешки всегда сильнее одной, a на войне один батальон иногда сильнее дивизии, а иногда слабее роты. Относительная сила войск никому не может быть известна. Поверь мне, – сказал он, – что ежели бы что зависело от распоряжений штабов, то я бы был там и делал бы распоряжения, а вместо того я имею честь служить здесь, в полку вот с этими господами, и считаю, что от нас действительно будет зависеть завтрашний день, а не от них… Успех никогда не зависел и не будет зависеть ни от позиции, ни от вооружения, ни даже от числа; а уж меньше всего от позиции.
– А от чего же?
– От того чувства, которое есть во мне, в нем, – он указал на Тимохина, – в каждом солдате.
Князь Андрей взглянул на Тимохина, который испуганно и недоумевая смотрел на своего командира. В противность своей прежней сдержанной молчаливости князь Андрей казался теперь взволнованным. Он, видимо, не мог удержаться от высказывания тех мыслей, которые неожиданно приходили ему.
– Сражение выиграет тот, кто твердо решил его выиграть. Отчего мы под Аустерлицем проиграли сражение? У нас потеря была почти равная с французами, но мы сказали себе очень рано, что мы проиграли сражение, – и проиграли. А сказали мы это потому, что нам там незачем было драться: поскорее хотелось уйти с поля сражения. «Проиграли – ну так бежать!» – мы и побежали. Ежели бы до вечера мы не говорили этого, бог знает что бы было. А завтра мы этого не скажем. Ты говоришь: наша позиция, левый фланг слаб, правый фланг растянут, – продолжал он, – все это вздор, ничего этого нет. А что нам предстоит завтра? Сто миллионов самых разнообразных случайностей, которые будут решаться мгновенно тем, что побежали или побегут они или наши, что убьют того, убьют другого; а то, что делается теперь, – все это забава. Дело в том, что те, с кем ты ездил по позиции, не только не содействуют общему ходу дел, но мешают ему. Они заняты только своими маленькими интересами.
– В такую минуту? – укоризненно сказал Пьер.
– В такую минуту, – повторил князь Андрей, – для них это только такая минута, в которую можно подкопаться под врага и получить лишний крестик или ленточку. Для меня на завтра вот что: стотысячное русское и стотысячное французское войска сошлись драться, и факт в том, что эти двести тысяч дерутся, и кто будет злей драться и себя меньше жалеть, тот победит. И хочешь, я тебе скажу, что, что бы там ни было, что бы ни путали там вверху, мы выиграем сражение завтра. Завтра, что бы там ни было, мы выиграем сражение!
– Вот, ваше сиятельство, правда, правда истинная, – проговорил Тимохин. – Что себя жалеть теперь! Солдаты в моем батальоне, поверите ли, не стали водку, пить: не такой день, говорят. – Все помолчали.
Офицеры поднялись. Князь Андрей вышел с ними за сарай, отдавая последние приказания адъютанту. Когда офицеры ушли, Пьер подошел к князю Андрею и только что хотел начать разговор, как по дороге недалеко от сарая застучали копыта трех лошадей, и, взглянув по этому направлению, князь Андрей узнал Вольцогена с Клаузевицем, сопутствуемых казаком. Они близко проехали, продолжая разговаривать, и Пьер с Андреем невольно услыхали следующие фразы:
– Der Krieg muss im Raum verlegt werden. Der Ansicht kann ich nicht genug Preis geben, [Война должна быть перенесена в пространство. Это воззрение я не могу достаточно восхвалить (нем.) ] – говорил один.
– O ja, – сказал другой голос, – da der Zweck ist nur den Feind zu schwachen, so kann man gewiss nicht den Verlust der Privatpersonen in Achtung nehmen. [О да, так как цель состоит в том, чтобы ослабить неприятеля, то нельзя принимать во внимание потери частных лиц (нем.) ]
– O ja, [О да (нем.) ] – подтвердил первый голос.
– Да, im Raum verlegen, [перенести в пространство (нем.) ] – повторил, злобно фыркая носом, князь Андрей, когда они проехали. – Im Raum то [В пространстве (нем.) ] у меня остался отец, и сын, и сестра в Лысых Горах. Ему это все равно. Вот оно то, что я тебе говорил, – эти господа немцы завтра не выиграют сражение, а только нагадят, сколько их сил будет, потому что в его немецкой голове только рассуждения, не стоящие выеденного яйца, а в сердце нет того, что одно только и нужно на завтра, – то, что есть в Тимохине. Они всю Европу отдали ему и приехали нас учить – славные учители! – опять взвизгнул его голос.
– Так вы думаете, что завтрашнее сражение будет выиграно? – сказал Пьер.
– Да, да, – рассеянно сказал князь Андрей. – Одно, что бы я сделал, ежели бы имел власть, – начал он опять, – я не брал бы пленных. Что такое пленные? Это рыцарство. Французы разорили мой дом и идут разорить Москву, и оскорбили и оскорбляют меня всякую секунду. Они враги мои, они преступники все, по моим понятиям. И так же думает Тимохин и вся армия. Надо их казнить. Ежели они враги мои, то не могут быть друзьями, как бы они там ни разговаривали в Тильзите.
– Да, да, – проговорил Пьер, блестящими глазами глядя на князя Андрея, – я совершенно, совершенно согласен с вами!
Тот вопрос, который с Можайской горы и во весь этот день тревожил Пьера, теперь представился ему совершенно ясным и вполне разрешенным. Он понял теперь весь смысл и все значение этой войны и предстоящего сражения. Все, что он видел в этот день, все значительные, строгие выражения лиц, которые он мельком видел, осветились для него новым светом. Он понял ту скрытую (latente), как говорится в физике, теплоту патриотизма, которая была во всех тех людях, которых он видел, и которая объясняла ему то, зачем все эти люди спокойно и как будто легкомысленно готовились к смерти.
– Не брать пленных, – продолжал князь Андрей. – Это одно изменило бы всю войну и сделало бы ее менее жестокой. А то мы играли в войну – вот что скверно, мы великодушничаем и тому подобное. Это великодушничанье и чувствительность – вроде великодушия и чувствительности барыни, с которой делается дурнота, когда она видит убиваемого теленка; она так добра, что не может видеть кровь, но она с аппетитом кушает этого теленка под соусом. Нам толкуют о правах войны, о рыцарстве, о парламентерстве, щадить несчастных и так далее. Все вздор. Я видел в 1805 году рыцарство, парламентерство: нас надули, мы надули. Грабят чужие дома, пускают фальшивые ассигнации, да хуже всего – убивают моих детей, моего отца и говорят о правилах войны и великодушии к врагам. Не брать пленных, а убивать и идти на смерть! Кто дошел до этого так, как я, теми же страданиями…
Князь Андрей, думавший, что ему было все равно, возьмут ли или не возьмут Москву так, как взяли Смоленск, внезапно остановился в своей речи от неожиданной судороги, схватившей его за горло. Он прошелся несколько раз молча, но тлаза его лихорадочно блестели, и губа дрожала, когда он опять стал говорить:
– Ежели бы не было великодушничанья на войне, то мы шли бы только тогда, когда стоит того идти на верную смерть, как теперь. Тогда не было бы войны за то, что Павел Иваныч обидел Михаила Иваныча. А ежели война как теперь, так война. И тогда интенсивность войск была бы не та, как теперь. Тогда бы все эти вестфальцы и гессенцы, которых ведет Наполеон, не пошли бы за ним в Россию, и мы бы не ходили драться в Австрию и в Пруссию, сами не зная зачем. Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни, и надо понимать это и не играть в войну. Надо принимать строго и серьезно эту страшную необходимость. Всё в этом: откинуть ложь, и война так война, а не игрушка. А то война – это любимая забава праздных и легкомысленных людей… Военное сословие самое почетное. А что такое война, что нужно для успеха в военном деле, какие нравы военного общества? Цель войны – убийство, орудия войны – шпионство, измена и поощрение ее, разорение жителей, ограбление их или воровство для продовольствия армии; обман и ложь, называемые военными хитростями; нравы военного сословия – отсутствие свободы, то есть дисциплина, праздность, невежество, жестокость, разврат, пьянство. И несмотря на то – это высшее сословие, почитаемое всеми. Все цари, кроме китайского, носят военный мундир, и тому, кто больше убил народа, дают большую награду… Сойдутся, как завтра, на убийство друг друга, перебьют, перекалечат десятки тысяч людей, а потом будут служить благодарственные молебны за то, что побили много люден (которых число еще прибавляют), и провозглашают победу, полагая, что чем больше побито людей, тем больше заслуга. Как бог оттуда смотрит и слушает их! – тонким, пискливым голосом прокричал князь Андрей. – Ах, душа моя, последнее время мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал понимать слишком много. А не годится человеку вкушать от древа познания добра и зла… Ну, да не надолго! – прибавил он. – Однако ты спишь, да и мне пера, поезжай в Горки, – вдруг сказал князь Андрей.
– О нет! – отвечал Пьер, испуганно соболезнующими глазами глядя на князя Андрея.
– Поезжай, поезжай: перед сраженьем нужно выспаться, – повторил князь Андрей. Он быстро подошел к Пьеру, обнял его и поцеловал. – Прощай, ступай, – прокричал он. – Увидимся ли, нет… – и он, поспешно повернувшись, ушел в сарай.
Было уже темно, и Пьер не мог разобрать того выражения, которое было на лице князя Андрея, было ли оно злобно или нежно.
Пьер постоял несколько времени молча, раздумывая, пойти ли за ним или ехать домой. «Нет, ему не нужно! – решил сам собой Пьер, – и я знаю, что это наше последнее свидание». Он тяжело вздохнул и поехал назад в Горки.
Князь Андрей, вернувшись в сарай, лег на ковер, но не мог спать.
Он закрыл глаза. Одни образы сменялись другими. На одном он долго, радостно остановился. Он живо вспомнил один вечер в Петербурге. Наташа с оживленным, взволнованным лицом рассказывала ему, как она в прошлое лето, ходя за грибами, заблудилась в большом лесу. Она несвязно описывала ему и глушь леса, и свои чувства, и разговоры с пчельником, которого она встретила, и, всякую минуту прерываясь в своем рассказе, говорила: «Нет, не могу, я не так рассказываю; нет, вы не понимаете», – несмотря на то, что князь Андрей успокоивал ее, говоря, что он понимает, и действительно понимал все, что она хотела сказать. Наташа была недовольна своими словами, – она чувствовала, что не выходило то страстно поэтическое ощущение, которое она испытала в этот день и которое она хотела выворотить наружу. «Это такая прелесть был этот старик, и темно так в лесу… и такие добрые у него… нет, я не умею рассказать», – говорила она, краснея и волнуясь. Князь Андрей улыбнулся теперь той же радостной улыбкой, которой он улыбался тогда, глядя ей в глаза. «Я понимал ее, – думал князь Андрей. – Не только понимал, но эту то душевную силу, эту искренность, эту открытость душевную, эту то душу ее, которую как будто связывало тело, эту то душу я и любил в ней… так сильно, так счастливо любил…» И вдруг он вспомнил о том, чем кончилась его любовь. «Ему ничего этого не нужно было. Он ничего этого не видел и не понимал. Он видел в ней хорошенькую и свеженькую девочку, с которой он не удостоил связать свою судьбу. А я? И до сих пор он жив и весел».
Князь Андрей, как будто кто нибудь обжег его, вскочил и стал опять ходить перед сараем.
25 го августа, накануне Бородинского сражения, префект дворца императора французов m r de Beausset и полковник Fabvier приехали, первый из Парижа, второй из Мадрида, к императору Наполеону в его стоянку у Валуева.
Переодевшись в придворный мундир, m r de Beausset приказал нести впереди себя привезенную им императору посылку и вошел в первое отделение палатки Наполеона, где, переговариваясь с окружавшими его адъютантами Наполеона, занялся раскупориванием ящика.
Fabvier, не входя в палатку, остановился, разговорясь с знакомыми генералами, у входа в нее.
Император Наполеон еще не выходил из своей спальни и оканчивал свой туалет. Он, пофыркивая и покряхтывая, поворачивался то толстой спиной, то обросшей жирной грудью под щетку, которою камердинер растирал его тело. Другой камердинер, придерживая пальцем склянку, брызгал одеколоном на выхоленное тело императора с таким выражением, которое говорило, что он один мог знать, сколько и куда надо брызнуть одеколону. Короткие волосы Наполеона были мокры и спутаны на лоб. Но лицо его, хоть опухшее и желтое, выражало физическое удовольствие: «Allez ferme, allez toujours…» [Ну еще, крепче…] – приговаривал он, пожимаясь и покряхтывая, растиравшему камердинеру. Адъютант, вошедший в спальню с тем, чтобы доложить императору о том, сколько было во вчерашнем деле взято пленных, передав то, что нужно было, стоял у двери, ожидая позволения уйти. Наполеон, сморщась, взглянул исподлобья на адъютанта.
– Point de prisonniers, – повторил он слова адъютанта. – Il se font demolir. Tant pis pour l'armee russe, – сказал он. – Allez toujours, allez ferme, [Нет пленных. Они заставляют истреблять себя. Тем хуже для русской армии. Ну еще, ну крепче…] – проговорил он, горбатясь и подставляя свои жирные плечи.
– C'est bien! Faites entrer monsieur de Beausset, ainsi que Fabvier, [Хорошо! Пускай войдет де Боссе, и Фабвье тоже.] – сказал он адъютанту, кивнув головой.
– Oui, Sire, [Слушаю, государь.] – и адъютант исчез в дверь палатки. Два камердинера быстро одели его величество, и он, в гвардейском синем мундире, твердыми, быстрыми шагами вышел в приемную.
Боссе в это время торопился руками, устанавливая привезенный им подарок от императрицы на двух стульях, прямо перед входом императора. Но император так неожиданно скоро оделся и вышел, что он не успел вполне приготовить сюрприза.
Наполеон тотчас заметил то, что они делали, и догадался, что они были еще не готовы. Он не захотел лишить их удовольствия сделать ему сюрприз. Он притворился, что не видит господина Боссе, и подозвал к себе Фабвье. Наполеон слушал, строго нахмурившись и молча, то, что говорил Фабвье ему о храбрости и преданности его войск, дравшихся при Саламанке на другом конце Европы и имевших только одну мысль – быть достойными своего императора, и один страх – не угодить ему. Результат сражения был печальный. Наполеон делал иронические замечания во время рассказа Fabvier, как будто он не предполагал, чтобы дело могло идти иначе в его отсутствие.
– Я должен поправить это в Москве, – сказал Наполеон. – A tantot, [До свиданья.] – прибавил он и подозвал де Боссе, который в это время уже успел приготовить сюрприз, уставив что то на стульях, и накрыл что то покрывалом.
Де Боссе низко поклонился тем придворным французским поклоном, которым умели кланяться только старые слуги Бурбонов, и подошел, подавая конверт.
Наполеон весело обратился к нему и подрал его за ухо.
– Вы поспешили, очень рад. Ну, что говорит Париж? – сказал он, вдруг изменяя свое прежде строгое выражение на самое ласковое.
– Sire, tout Paris regrette votre absence, [Государь, весь Париж сожалеет о вашем отсутствии.] – как и должно, ответил де Боссе. Но хотя Наполеон знал, что Боссе должен сказать это или тому подобное, хотя он в свои ясные минуты знал, что это было неправда, ему приятно было это слышать от де Боссе. Он опять удостоил его прикосновения за ухо.
– Je suis fache, de vous avoir fait faire tant de chemin, [Очень сожалею, что заставил вас проехаться так далеко.] – сказал он.
– Sire! Je ne m'attendais pas a moins qu'a vous trouver aux portes de Moscou, [Я ожидал не менее того, как найти вас, государь, у ворот Москвы.] – сказал Боссе.
Наполеон улыбнулся и, рассеянно подняв голову, оглянулся направо. Адъютант плывущим шагом подошел с золотой табакеркой и подставил ее. Наполеон взял ее.
– Да, хорошо случилось для вас, – сказал он, приставляя раскрытую табакерку к носу, – вы любите путешествовать, через три дня вы увидите Москву. Вы, верно, не ждали увидать азиатскую столицу. Вы сделаете приятное путешествие.
Боссе поклонился с благодарностью за эту внимательность к его (неизвестной ему до сей поры) склонности путешествовать.
– А! это что? – сказал Наполеон, заметив, что все придворные смотрели на что то, покрытое покрывалом. Боссе с придворной ловкостью, не показывая спины, сделал вполуоборот два шага назад и в одно и то же время сдернул покрывало и проговорил:
– Подарок вашему величеству от императрицы.
Это был яркими красками написанный Жераром портрет мальчика, рожденного от Наполеона и дочери австрийского императора, которого почему то все называли королем Рима.
Весьма красивый курчавый мальчик, со взглядом, похожим на взгляд Христа в Сикстинской мадонне, изображен был играющим в бильбоке. Шар представлял земной шар, а палочка в другой руке изображала скипетр.
Хотя и не совсем ясно было, что именно хотел выразить живописец, представив так называемого короля Рима протыкающим земной шар палочкой, но аллегория эта, так же как и всем видевшим картину в Париже, так и Наполеону, очевидно, показалась ясною и весьма понравилась.
– Roi de Rome, [Римский король.] – сказал он, грациозным жестом руки указывая на портрет. – Admirable! [Чудесно!] – С свойственной итальянцам способностью изменять произвольно выражение лица, он подошел к портрету и сделал вид задумчивой нежности. Он чувствовал, что то, что он скажет и сделает теперь, – есть история. И ему казалось, что лучшее, что он может сделать теперь, – это то, чтобы он с своим величием, вследствие которого сын его в бильбоке играл земным шаром, чтобы он выказал, в противоположность этого величия, самую простую отеческую нежность. Глаза его отуманились, он подвинулся, оглянулся на стул (стул подскочил под него) и сел на него против портрета. Один жест его – и все на цыпочках вышли, предоставляя самому себе и его чувству великого человека.
Посидев несколько времени и дотронувшись, сам не зная для чего, рукой до шероховатости блика портрета, он встал и опять позвал Боссе и дежурного. Он приказал вынести портрет перед палатку, с тем, чтобы не лишить старую гвардию, стоявшую около его палатки, счастья видеть римского короля, сына и наследника их обожаемого государя.
Как он и ожидал, в то время как он завтракал с господином Боссе, удостоившимся этой чести, перед палаткой слышались восторженные клики сбежавшихся к портрету офицеров и солдат старой гвардии.
– Vive l'Empereur! Vive le Roi de Rome! Vive l'Empereur! [Да здравствует император! Да здравствует римский король!] – слышались восторженные голоса.
После завтрака Наполеон, в присутствии Боссе, продиктовал свой приказ по армии.
– Courte et energique! [Короткий и энергический!] – проговорил Наполеон, когда он прочел сам сразу без поправок написанную прокламацию. В приказе было:
«Воины! Вот сражение, которого вы столько желали. Победа зависит от вас. Она необходима для нас; она доставит нам все нужное: удобные квартиры и скорое возвращение в отечество. Действуйте так, как вы действовали при Аустерлице, Фридланде, Витебске и Смоленске. Пусть позднейшее потомство с гордостью вспомнит о ваших подвигах в сей день. Да скажут о каждом из вас: он был в великой битве под Москвою!»
– De la Moskowa! [Под Москвою!] – повторил Наполеон, и, пригласив к своей прогулке господина Боссе, любившего путешествовать, он вышел из палатки к оседланным лошадям.
– Votre Majeste a trop de bonte, [Вы слишком добры, ваше величество,] – сказал Боссе на приглашение сопутствовать императору: ему хотелось спать и он не умел и боялся ездить верхом.
Но Наполеон кивнул головой путешественнику, и Боссе должен был ехать. Когда Наполеон вышел из палатки, крики гвардейцев пред портретом его сына еще более усилились. Наполеон нахмурился.
– Снимите его, – сказал он, грациозно величественным жестом указывая на портрет. – Ему еще рано видеть поле сражения.
Боссе, закрыв глаза и склонив голову, глубоко вздохнул, этим жестом показывая, как он умел ценить и понимать слова императора.
Весь этот день 25 августа, как говорят его историки, Наполеон провел на коне, осматривая местность, обсуживая планы, представляемые ему его маршалами, и отдавая лично приказания своим генералам.
Первоначальная линия расположения русских войск по Ко лоче была переломлена, и часть этой линии, именно левый фланг русских, вследствие взятия Шевардинского редута 24 го числа, была отнесена назад. Эта часть линии была не укреплена, не защищена более рекою, и перед нею одною было более открытое и ровное место. Очевидно было для всякого военного и невоенного, что эту часть линии и должно было атаковать французам. Казалось, что для этого не нужно было много соображений, не нужно было такой заботливости и хлопотливости императора и его маршалов и вовсе не нужно той особенной высшей способности, называемой гениальностью, которую так любят приписывать Наполеону; но историки, впоследствии описывавшие это событие, и люди, тогда окружавшие Наполеона, и он сам думали иначе.
Наполеон ездил по полю, глубокомысленно вглядывался в местность, сам с собой одобрительно или недоверчиво качал головой и, не сообщая окружавшим его генералам того глубокомысленного хода, который руководил его решеньями, передавал им только окончательные выводы в форме приказаний. Выслушав предложение Даву, называемого герцогом Экмюльским, о том, чтобы обойти левый фланг русских, Наполеон сказал, что этого не нужно делать, не объясняя, почему это было не нужно. На предложение же генерала Компана (который должен был атаковать флеши), провести свою дивизию лесом, Наполеон изъявил свое согласие, несмотря на то, что так называемый герцог Эльхингенский, то есть Ней, позволил себе заметить, что движение по лесу опасно и может расстроить дивизию.
Осмотрев местность против Шевардинского редута, Наполеон подумал несколько времени молча и указал на места, на которых должны были быть устроены к завтрему две батареи для действия против русских укреплений, и места, где рядом с ними должна была выстроиться полевая артиллерия.
Отдав эти и другие приказания, он вернулся в свою ставку, и под его диктовку была написана диспозиция сражения.
Диспозиция эта, про которую с восторгом говорят французские историки и с глубоким уважением другие историки, была следующая:
«С рассветом две новые батареи, устроенные в ночи, на равнине, занимаемой принцем Экмюльским, откроют огонь по двум противостоящим батареям неприятельским.
В это же время начальник артиллерии 1 го корпуса, генерал Пернетти, с 30 ю орудиями дивизии Компана и всеми гаубицами дивизии Дессе и Фриана, двинется вперед, откроет огонь и засыплет гранатами неприятельскую батарею, против которой будут действовать!
24 орудия гвардейской артиллерии,
30 орудий дивизии Компана
и 8 орудий дивизии Фриана и Дессе,
Всего – 62 орудия.
Начальник артиллерии 3 го корпуса, генерал Фуше, поставит все гаубицы 3 го и 8 го корпусов, всего 16, по флангам батареи, которая назначена обстреливать левое укрепление, что составит против него вообще 40 орудий.
Генерал Сорбье должен быть готов по первому приказанию вынестись со всеми гаубицами гвардейской артиллерии против одного либо другого укрепления.
В продолжение канонады князь Понятовский направится на деревню, в лес и обойдет неприятельскую позицию.
Генерал Компан двинется чрез лес, чтобы овладеть первым укреплением.
По вступлении таким образом в бой будут даны приказания соответственно действиям неприятеля.
Канонада на левом фланге начнется, как только будет услышана канонада правого крыла. Стрелки дивизии Морана и дивизии вице короля откроют сильный огонь, увидя начало атаки правого крыла.
Вице король овладеет деревней [Бородиным] и перейдет по своим трем мостам, следуя на одной высоте с дивизиями Морана и Жерара, которые, под его предводительством, направятся к редуту и войдут в линию с прочими войсками армии.
Все это должно быть исполнено в порядке (le tout se fera avec ordre et methode), сохраняя по возможности войска в резерве.
В императорском лагере, близ Можайска, 6 го сентября, 1812 года».
Диспозиция эта, весьма неясно и спутанно написанная, – ежели позволить себе без религиозного ужаса к гениальности Наполеона относиться к распоряжениям его, – заключала в себе четыре пункта – четыре распоряжения. Ни одно из этих распоряжений не могло быть и не было исполнено.
В диспозиции сказано, первое: чтобы устроенные на выбранном Наполеоном месте батареи с имеющими выравняться с ними орудиями Пернетти и Фуше, всего сто два орудия, открыли огонь и засыпали русские флеши и редут снарядами. Это не могло быть сделано, так как с назначенных Наполеоном мест снаряды не долетали до русских работ, и эти сто два орудия стреляли по пустому до тех пор, пока ближайший начальник, противно приказанию Наполеона, не выдвинул их вперед.
Второе распоряжение состояло в том, чтобы Понятовский, направясь на деревню в лес, обошел левое крыло русских. Это не могло быть и не было сделано потому, что Понятовский, направясь на деревню в лес, встретил там загораживающего ему дорогу Тучкова и не мог обойти и не обошел русской позиции.
Третье распоряжение: Генерал Компан двинется в лес, чтоб овладеть первым укреплением. Дивизия Компана не овладела первым укреплением, а была отбита, потому что, выходя из леса, она должна была строиться под картечным огнем, чего не знал Наполеон.
Четвертое: Вице король овладеет деревнею (Бородиным) и перейдет по своим трем мостам, следуя на одной высоте с дивизиями Марана и Фриана (о которых не сказано: куда и когда они будут двигаться), которые под его предводительством направятся к редуту и войдут в линию с прочими войсками.
Сколько можно понять – если не из бестолкового периода этого, то из тех попыток, которые деланы были вице королем исполнить данные ему приказания, – он должен был двинуться через Бородино слева на редут, дивизии же Морана и Фриана должны были двинуться одновременно с фронта.
Все это, так же как и другие пункты диспозиции, не было и не могло быть исполнено. Пройдя Бородино, вице король был отбит на Колоче и не мог пройти дальше; дивизии же Морана и Фриана не взяли редута, а были отбиты, и редут уже в конце сражения был захвачен кавалерией (вероятно, непредвиденное дело для Наполеона и неслыханное). Итак, ни одно из распоряжений диспозиции не было и не могло быть исполнено. Но в диспозиции сказано, что по вступлении таким образом в бой будут даны приказания, соответственные действиям неприятеля, и потому могло бы казаться, что во время сражения будут сделаны Наполеоном все нужные распоряжения; но этого не было и не могло быть потому, что во все время сражения Наполеон находился так далеко от него, что (как это и оказалось впоследствии) ход сражения ему не мог быть известен и ни одно распоряжение его во время сражения не могло быть исполнено.
Многие историки говорят, что Бородинское сражение не выиграно французами потому, что у Наполеона был насморк, что ежели бы у него не было насморка, то распоряжения его до и во время сражения были бы еще гениальнее, и Россия бы погибла, et la face du monde eut ete changee. [и облик мира изменился бы.] Для историков, признающих то, что Россия образовалась по воле одного человека – Петра Великого, и Франция из республики сложилась в империю, и французские войска пошли в Россию по воле одного человека – Наполеона, такое рассуждение, что Россия осталась могущественна потому, что у Наполеона был большой насморк 26 го числа, такое рассуждение для таких историков неизбежно последовательно.
Ежели от воли Наполеона зависело дать или не дать Бородинское сражение и от его воли зависело сделать такое или другое распоряжение, то очевидно, что насморк, имевший влияние на проявление его воли, мог быть причиной спасения России и что поэтому тот камердинер, который забыл подать Наполеону 24 го числа непромокаемые сапоги, был спасителем России. На этом пути мысли вывод этот несомненен, – так же несомненен, как тот вывод, который, шутя (сам не зная над чем), делал Вольтер, говоря, что Варфоломеевская ночь произошла от расстройства желудка Карла IX. Но для людей, не допускающих того, чтобы Россия образовалась по воле одного человека – Петра I, и чтобы Французская империя сложилась и война с Россией началась по воле одного человека – Наполеона, рассуждение это не только представляется неверным, неразумным, но и противным всему существу человеческому. На вопрос о том, что составляет причину исторических событий, представляется другой ответ, заключающийся в том, что ход мировых событий предопределен свыше, зависит от совпадения всех произволов людей, участвующих в этих событиях, и что влияние Наполеонов на ход этих событий есть только внешнее и фиктивное.
Как ни странно кажется с первого взгляда предположение, что Варфоломеевская ночь, приказанье на которую отдано Карлом IX, произошла не по его воле, а что ему только казалось, что он велел это сделать, и что Бородинское побоище восьмидесяти тысяч человек произошло не по воле Наполеона (несмотря на то, что он отдавал приказания о начале и ходе сражения), а что ему казалось только, что он это велел, – как ни странно кажется это предположение, но человеческое достоинство, говорящее мне, что всякий из нас ежели не больше, то никак не меньше человек, чем великий Наполеон, велит допустить это решение вопроса, и исторические исследования обильно подтверждают это предположение.
В Бородинском сражении Наполеон ни в кого не стрелял и никого не убил. Все это делали солдаты. Стало быть, не он убивал людей.
Солдаты французской армии шли убивать русских солдат в Бородинском сражении не вследствие приказания Наполеона, но по собственному желанию. Вся армия: французы, итальянцы, немцы, поляки – голодные, оборванные и измученные походом, – в виду армии, загораживавшей от них Москву, чувствовали, что le vin est tire et qu'il faut le boire. [вино откупорено и надо выпить его.] Ежели бы Наполеон запретил им теперь драться с русскими, они бы его убили и пошли бы драться с русскими, потому что это было им необходимо.
Когда они слушали приказ Наполеона, представлявшего им за их увечья и смерть в утешение слова потомства о том, что и они были в битве под Москвою, они кричали «Vive l'Empereur!» точно так же, как они кричали «Vive l'Empereur!» при виде изображения мальчика, протыкающего земной шар палочкой от бильбоке; точно так же, как бы они кричали «Vive l'Empereur!» при всякой бессмыслице, которую бы им сказали. Им ничего больше не оставалось делать, как кричать «Vive l'Empereur!» и идти драться, чтобы найти пищу и отдых победителей в Москве. Стало быть, не вследствие приказания Наполеона они убивали себе подобных.
И не Наполеон распоряжался ходом сраженья, потому что из диспозиции его ничего не было исполнено и во время сражения он не знал про то, что происходило впереди его. Стало быть, и то, каким образом эти люди убивали друг друга, происходило не по воле Наполеона, а шло независимо от него, по воле сотен тысяч людей, участвовавших в общем деле. Наполеону казалось только, что все дело происходило по воле его. И потому вопрос о том, был ли или не был у Наполеона насморк, не имеет для истории большего интереса, чем вопрос о насморке последнего фурштатского солдата.
Тем более 26 го августа насморк Наполеона не имел значения, что показания писателей о том, будто вследствие насморка Наполеона его диспозиция и распоряжения во время сражения были не так хороши, как прежние, – совершенно несправедливы.
Выписанная здесь диспозиция нисколько не была хуже, а даже лучше всех прежних диспозиций, по которым выигрывались сражения. Мнимые распоряжения во время сражения были тоже не хуже прежних, а точно такие же, как и всегда. Но диспозиция и распоряжения эти кажутся только хуже прежних потому, что Бородинское сражение было первое, которого не выиграл Наполеон. Все самые прекрасные и глубокомысленные диспозиции и распоряжения кажутся очень дурными, и каждый ученый военный с значительным видом критикует их, когда сражение по ним не выиграно, и самью плохие диспозиции и распоряжения кажутся очень хорошими, и серьезные люди в целых томах доказывают достоинства плохих распоряжений, когда по ним выиграно сражение.
Диспозиция, составленная Вейротером в Аустерлицком сражении, была образец совершенства в сочинениях этого рода, но ее все таки осудили, осудили за ее совершенство, за слишком большую подробность.
Наполеон в Бородинском сражении исполнял свое дело представителя власти так же хорошо, и еще лучше, чем в других сражениях. Он не сделал ничего вредного для хода сражения; он склонялся на мнения более благоразумные; он не путал, не противоречил сам себе, не испугался и не убежал с поля сражения, а с своим большим тактом и опытом войны спокойно и достойно исполнял свою роль кажущегося начальствованья.
Вернувшись после второй озабоченной поездки по линии, Наполеон сказал:
– Шахматы поставлены, игра начнется завтра.
Велев подать себе пуншу и призвав Боссе, он начал с ним разговор о Париже, о некоторых изменениях, которые он намерен был сделать в maison de l'imperatrice [в придворном штате императрицы], удивляя префекта своею памятливостью ко всем мелким подробностям придворных отношений.
Он интересовался пустяками, шутил о любви к путешествиям Боссе и небрежно болтал так, как это делает знаменитый, уверенный и знающий свое дело оператор, в то время как он засучивает рукава и надевает фартук, а больного привязывают к койке: «Дело все в моих руках и в голове, ясно и определенно. Когда надо будет приступить к делу, я сделаю его, как никто другой, а теперь могу шутить, и чем больше я шучу и спокоен, тем больше вы должны быть уверены, спокойны и удивлены моему гению».
Окончив свой второй стакан пунша, Наполеон пошел отдохнуть пред серьезным делом, которое, как ему казалось, предстояло ему назавтра.
Он так интересовался этим предстоящим ему делом, что не мог спать и, несмотря на усилившийся от вечерней сырости насморк, в три часа ночи, громко сморкаясь, вышел в большое отделение палатки. Он спросил о том, не ушли ли русские? Ему отвечали, что неприятельские огни всё на тех же местах. Он одобрительно кивнул головой.
Дежурный адъютант вошел в палатку.
– Eh bien, Rapp, croyez vous, que nous ferons do bonnes affaires aujourd'hui? [Ну, Рапп, как вы думаете: хороши ли будут нынче наши дела?] – обратился он к нему.
– Sans aucun doute, Sire, [Без всякого сомнения, государь,] – отвечал Рапп.
Наполеон посмотрел на него.
– Vous rappelez vous, Sire, ce que vous m'avez fait l'honneur de dire a Smolensk, – сказал Рапп, – le vin est tire, il faut le boire. [Вы помните ли, сударь, те слова, которые вы изволили сказать мне в Смоленске, вино откупорено, надо его пить.]
Наполеон нахмурился и долго молча сидел, опустив голову на руку.
– Cette pauvre armee, – сказал он вдруг, – elle a bien diminue depuis Smolensk. La fortune est une franche courtisane, Rapp; je le disais toujours, et je commence a l'eprouver. Mais la garde, Rapp, la garde est intacte? [Бедная армия! она очень уменьшилась от Смоленска. Фортуна настоящая распутница, Рапп. Я всегда это говорил и начинаю испытывать. Но гвардия, Рапп, гвардия цела?] – вопросительно сказал он.
– Oui, Sire, [Да, государь.] – отвечал Рапп.
Наполеон взял пастильку, положил ее в рот и посмотрел на часы. Спать ему не хотелось, до утра было еще далеко; а чтобы убить время, распоряжений никаких нельзя уже было делать, потому что все были сделаны и приводились теперь в исполнение.
– A t on distribue les biscuits et le riz aux regiments de la garde? [Роздали ли сухари и рис гвардейцам?] – строго спросил Наполеон.
– Oui, Sire. [Да, государь.]
– Mais le riz? [Но рис?]
Рапп отвечал, что он передал приказанья государя о рисе, но Наполеон недовольно покачал головой, как будто он не верил, чтобы приказание его было исполнено. Слуга вошел с пуншем. Наполеон велел подать другой стакан Раппу и молча отпивал глотки из своего.
– У меня нет ни вкуса, ни обоняния, – сказал он, принюхиваясь к стакану. – Этот насморк надоел мне. Они толкуют про медицину. Какая медицина, когда они не могут вылечить насморка? Корвизар дал мне эти пастильки, но они ничего не помогают. Что они могут лечить? Лечить нельзя. Notre corps est une machine a vivre. Il est organise pour cela, c'est sa nature; laissez y la vie a son aise, qu'elle s'y defende elle meme: elle fera plus que si vous la paralysiez en l'encombrant de remedes. Notre corps est comme une montre parfaite qui doit aller un certain temps; l'horloger n'a pas la faculte de l'ouvrir, il ne peut la manier qu'a tatons et les yeux bandes. Notre corps est une machine a vivre, voila tout. [Наше тело есть машина для жизни. Оно для этого устроено. Оставьте в нем жизнь в покое, пускай она сама защищается, она больше сделает одна, чем когда вы ей будете мешать лекарствами. Наше тело подобно часам, которые должны идти известное время; часовщик не может открыть их и только ощупью и с завязанными глазами может управлять ими. Наше тело есть машина для жизни. Вот и все.] – И как будто вступив на путь определений, definitions, которые любил Наполеон, он неожиданно сделал новое определение. – Вы знаете ли, Рапп, что такое военное искусство? – спросил он. – Искусство быть сильнее неприятеля в известный момент. Voila tout. [Вот и все.]
Рапп ничего не ответил.
– Demainnous allons avoir affaire a Koutouzoff! [Завтра мы будем иметь дело с Кутузовым!] – сказал Наполеон. – Посмотрим! Помните, в Браунау он командовал армией и ни разу в три недели не сел на лошадь, чтобы осмотреть укрепления. Посмотрим!
Он поглядел на часы. Было еще только четыре часа. Спать не хотелось, пунш был допит, и делать все таки было нечего. Он встал, прошелся взад и вперед, надел теплый сюртук и шляпу и вышел из палатки. Ночь была темная и сырая; чуть слышная сырость падала сверху. Костры не ярко горели вблизи, во французской гвардии, и далеко сквозь дым блестели по русской линии. Везде было тихо, и ясно слышались шорох и топот начавшегося уже движения французских войск для занятия позиции.
Наполеон прошелся перед палаткой, посмотрел на огни, прислушался к топоту и, проходя мимо высокого гвардейца в мохнатой шапке, стоявшего часовым у его палатки и, как черный столб, вытянувшегося при появлении императора, остановился против него.
– С которого года в службе? – спросил он с той привычной аффектацией грубой и ласковой воинственности, с которой он всегда обращался с солдатами. Солдат отвечал ему.
– Ah! un des vieux! [А! из стариков!] Получили рис в полк?
– Получили, ваше величество.
Наполеон кивнул головой и отошел от него.
В половине шестого Наполеон верхом ехал к деревне Шевардину.
Начинало светать, небо расчистило, только одна туча лежала на востоке. Покинутые костры догорали в слабом свете утра.
Вправо раздался густой одинокий пушечный выстрел, пронесся и замер среди общей тишины. Прошло несколько минут. Раздался второй, третий выстрел, заколебался воздух; четвертый, пятый раздались близко и торжественно где то справа.
Еще не отзвучали первые выстрелы, как раздались еще другие, еще и еще, сливаясь и перебивая один другой.
Наполеон подъехал со свитой к Шевардинскому редуту и слез с лошади. Игра началась.
Вернувшись от князя Андрея в Горки, Пьер, приказав берейтору приготовить лошадей и рано утром разбудить его, тотчас же заснул за перегородкой, в уголке, который Борис уступил ему.
Когда Пьер совсем очнулся на другое утро, в избе уже никого не было. Стекла дребезжали в маленьких окнах. Берейтор стоял, расталкивая его.
– Ваше сиятельство, ваше сиятельство, ваше сиятельство… – упорно, не глядя на Пьера и, видимо, потеряв надежду разбудить его, раскачивая его за плечо, приговаривал берейтор.
– Что? Началось? Пора? – заговорил Пьер, проснувшись.
– Изволите слышать пальбу, – сказал берейтор, отставной солдат, – уже все господа повышли, сами светлейшие давно проехали.
Пьер поспешно оделся и выбежал на крыльцо. На дворе было ясно, свежо, росисто и весело. Солнце, только что вырвавшись из за тучи, заслонявшей его, брызнуло до половины переломленными тучей лучами через крыши противоположной улицы, на покрытую росой пыль дороги, на стены домов, на окна забора и на лошадей Пьера, стоявших у избы. Гул пушек яснее слышался на дворе. По улице прорысил адъютант с казаком.
– Пора, граф, пора! – прокричал адъютант.
Приказав вести за собой лошадь, Пьер пошел по улице к кургану, с которого он вчера смотрел на поле сражения. На кургане этом была толпа военных, и слышался французский говор штабных, и виднелась седая голова Кутузова с его белой с красным околышем фуражкой и седым затылком, утонувшим в плечи. Кутузов смотрел в трубу вперед по большой дороге.
Войдя по ступенькам входа на курган, Пьер взглянул впереди себя и замер от восхищенья перед красотою зрелища. Это была та же панорама, которою он любовался вчера с этого кургана; но теперь вся эта местность была покрыта войсками и дымами выстрелов, и косые лучи яркого солнца, поднимавшегося сзади, левее Пьера, кидали на нее в чистом утреннем воздухе пронизывающий с золотым и розовым оттенком свет и темные, длинные тени. Дальние леса, заканчивающие панораму, точно высеченные из какого то драгоценного желто зеленого камня, виднелись своей изогнутой чертой вершин на горизонте, и между ними за Валуевым прорезывалась большая Смоленская дорога, вся покрытая войсками. Ближе блестели золотые поля и перелески. Везде – спереди, справа и слева – виднелись войска. Все это было оживленно, величественно и неожиданно; но то, что более всего поразило Пьера, – это был вид самого поля сражения, Бородина и лощины над Колочею по обеим сторонам ее.
Над Колочею, в Бородине и по обеим сторонам его, особенно влево, там, где в болотистых берегах Во йна впадает в Колочу, стоял тот туман, который тает, расплывается и просвечивает при выходе яркого солнца и волшебно окрашивает и очерчивает все виднеющееся сквозь него. К этому туману присоединялся дым выстрелов, и по этому туману и дыму везде блестели молнии утреннего света – то по воде, то по росе, то по штыкам войск, толпившихся по берегам и в Бородине. Сквозь туман этот виднелась белая церковь, кое где крыши изб Бородина, кое где сплошные массы солдат, кое где зеленые ящики, пушки. И все это двигалось или казалось движущимся, потому что туман и дым тянулись по всему этому пространству. Как в этой местности низов около Бородина, покрытых туманом, так и вне его, выше и особенно левее по всей линии, по лесам, по полям, в низах, на вершинах возвышений, зарождались беспрестанно сами собой, из ничего, пушечные, то одинокие, то гуртовые, то редкие, то частые клубы дымов, которые, распухая, разрастаясь, клубясь, сливаясь, виднелись по всему этому пространству.
Эти дымы выстрелов и, странно сказать, звуки их производили главную красоту зрелища.
Пуфф! – вдруг виднелся круглый, плотный, играющий лиловым, серым и молочно белым цветами дым, и бумм! – раздавался через секунду звук этого дыма.
«Пуф пуф» – поднимались два дыма, толкаясь и сливаясь; и «бум бум» – подтверждали звуки то, что видел глаз.
Пьер оглядывался на первый дым, который он оставил округлым плотным мячиком, и уже на месте его были шары дыма, тянущегося в сторону, и пуф… (с остановкой) пуф пуф – зарождались еще три, еще четыре, и на каждый, с теми же расстановками, бум… бум бум бум – отвечали красивые, твердые, верные звуки. Казалось то, что дымы эти бежали, то, что они стояли, и мимо них бежали леса, поля и блестящие штыки. С левой стороны, по полям и кустам, беспрестанно зарождались эти большие дымы с своими торжественными отголосками, и ближе еще, по низам и лесам, вспыхивали маленькие, не успевавшие округляться дымки ружей и точно так же давали свои маленькие отголоски. Трах та та тах – трещали ружья хотя и часто, но неправильно и бедно в сравнении с орудийными выстрелами.
Пьеру захотелось быть там, где были эти дымы, эти блестящие штыки и пушки, это движение, эти звуки. Он оглянулся на Кутузова и на его свиту, чтобы сверить свое впечатление с другими. Все точно так же, как и он, и, как ему казалось, с тем же чувством смотрели вперед, на поле сражения. На всех лицах светилась теперь та скрытая теплота (chaleur latente) чувства, которое Пьер замечал вчера и которое он понял совершенно после своего разговора с князем Андреем.
– Поезжай, голубчик, поезжай, Христос с тобой, – говорил Кутузов, не спуская глаз с поля сражения, генералу, стоявшему подле него.
Выслушав приказание, генерал этот прошел мимо Пьера, к сходу с кургана.
– К переправе! – холодно и строго сказал генерал в ответ на вопрос одного из штабных, куда он едет. «И я, и я», – подумал Пьер и пошел по направлению за генералом.
Генерал садился на лошадь, которую подал ему казак. Пьер подошел к своему берейтору, державшему лошадей. Спросив, которая посмирнее, Пьер взлез на лошадь, схватился за гриву, прижал каблуки вывернутых ног к животу лошади и, чувствуя, что очки его спадают и что он не в силах отвести рук от гривы и поводьев, поскакал за генералом, возбуждая улыбки штабных, с кургана смотревших на него.
Генерал, за которым скакал Пьер, спустившись под гору, круто повернул влево, и Пьер, потеряв его из вида, вскакал в ряды пехотных солдат, шедших впереди его. Он пытался выехать из них то вправо, то влево; но везде были солдаты, с одинаково озабоченными лицами, занятыми каким то невидным, но, очевидно, важным делом. Все с одинаково недовольно вопросительным взглядом смотрели на этого толстого человека в белой шляпе, неизвестно для чего топчущего их своею лошадью.
– Чего ездит посерёд батальона! – крикнул на него один. Другой толконул прикладом его лошадь, и Пьер, прижавшись к луке и едва удерживая шарахнувшуюся лошадь, выскакал вперед солдат, где было просторнее.
Впереди его был мост, а у моста, стреляя, стояли другие солдаты. Пьер подъехал к ним. Сам того не зная, Пьер заехал к мосту через Колочу, который был между Горками и Бородиным и который в первом действии сражения (заняв Бородино) атаковали французы. Пьер видел, что впереди его был мост и что с обеих сторон моста и на лугу, в тех рядах лежащего сена, которые он заметил вчера, в дыму что то делали солдаты; но, несмотря на неумолкающую стрельбу, происходившую в этом месте, он никак не думал, что тут то и было поле сражения. Он не слыхал звуков пуль, визжавших со всех сторон, и снарядов, перелетавших через него, не видал неприятеля, бывшего на той стороне реки, и долго не видал убитых и раненых, хотя многие падали недалеко от него. С улыбкой, не сходившей с его лица, он оглядывался вокруг себя.
– Что ездит этот перед линией? – опять крикнул на него кто то.
– Влево, вправо возьми, – кричали ему. Пьер взял вправо и неожиданно съехался с знакомым ему адъютантом генерала Раевского. Адъютант этот сердито взглянул на Пьера, очевидно, сбираясь тоже крикнуть на него, но, узнав его, кивнул ему головой.
– Вы как тут? – проговорил он и поскакал дальше.
Пьер, чувствуя себя не на своем месте и без дела, боясь опять помешать кому нибудь, поскакал за адъютантом.
– Это здесь, что же? Можно мне с вами? – спрашивал он.
– Сейчас, сейчас, – отвечал адъютант и, подскакав к толстому полковнику, стоявшему на лугу, что то передал ему и тогда уже обратился к Пьеру.
– Вы зачем сюда попали, граф? – сказал он ему с улыбкой. – Все любопытствуете?
– Да, да, – сказал Пьер. Но адъютант, повернув лошадь, ехал дальше.
– Здесь то слава богу, – сказал адъютант, – но на левом фланге у Багратиона ужасная жарня идет.
– Неужели? – спросил Пьер. – Это где же?
– Да вот поедемте со мной на курган, от нас видно. А у нас на батарее еще сносно, – сказал адъютант. – Что ж, едете?
– Да, я с вами, – сказал Пьер, глядя вокруг себя и отыскивая глазами своего берейтора. Тут только в первый раз Пьер увидал раненых, бредущих пешком и несомых на носилках. На том самом лужке с пахучими рядами сена, по которому он проезжал вчера, поперек рядов, неловко подвернув голову, неподвижно лежал один солдат с свалившимся кивером. – А этого отчего не подняли? – начал было Пьер; но, увидав строгое лицо адъютанта, оглянувшегося в ту же сторону, он замолчал.
Пьер не нашел своего берейтора и вместе с адъютантом низом поехал по лощине к кургану Раевского. Лошадь Пьера отставала от адъютанта и равномерно встряхивала его.
– Вы, видно, не привыкли верхом ездить, граф? – спросил адъютант.
– Нет, ничего, но что то она прыгает очень, – с недоуменьем сказал Пьер.
– Ээ!.. да она ранена, – сказал адъютант, – правая передняя, выше колена. Пуля, должно быть. Поздравляю, граф, – сказал он, – le bapteme de feu [крещение огнем].
Проехав в дыму по шестому корпусу, позади артиллерии, которая, выдвинутая вперед, стреляла, оглушая своими выстрелами, они приехали к небольшому лесу. В лесу было прохладно, тихо и пахло осенью. Пьер и адъютант слезли с лошадей и пешком вошли на гору.
– Здесь генерал? – спросил адъютант, подходя к кургану.
– Сейчас были, поехали сюда, – указывая вправо, отвечали ему.
Адъютант оглянулся на Пьера, как бы не зная, что ему теперь с ним делать.
– Не беспокойтесь, – сказал Пьер. – Я пойду на курган, можно?
– Да пойдите, оттуда все видно и не так опасно. А я заеду за вами.
Пьер пошел на батарею, и адъютант поехал дальше. Больше они не видались, и уже гораздо после Пьер узнал, что этому адъютанту в этот день оторвало руку.
Курган, на который вошел Пьер, был то знаменитое (потом известное у русских под именем курганной батареи, или батареи Раевского, а у французов под именем la grande redoute, la fatale redoute, la redoute du centre [большого редута, рокового редута, центрального редута] место, вокруг которого положены десятки тысяч людей и которое французы считали важнейшим пунктом позиции.
Редут этот состоял из кургана, на котором с трех сторон были выкопаны канавы. В окопанном канавами место стояли десять стрелявших пушек, высунутых в отверстие валов.
В линию с курганом стояли с обеих сторон пушки, тоже беспрестанно стрелявшие. Немного позади пушек стояли пехотные войска. Входя на этот курган, Пьер никак не думал, что это окопанное небольшими канавами место, на котором стояло и стреляло несколько пушек, было самое важное место в сражении.
Пьеру, напротив, казалось, что это место (именно потому, что он находился на нем) было одно из самых незначительных мест сражения.
Войдя на курган, Пьер сел в конце канавы, окружающей батарею, и с бессознательно радостной улыбкой смотрел на то, что делалось вокруг него. Изредка Пьер все с той же улыбкой вставал и, стараясь не помешать солдатам, заряжавшим и накатывавшим орудия, беспрестанно пробегавшим мимо него с сумками и зарядами, прохаживался по батарее. Пушки с этой батареи беспрестанно одна за другой стреляли, оглушая своими звуками и застилая всю окрестность пороховым дымом.
В противность той жуткости, которая чувствовалась между пехотными солдатами прикрытия, здесь, на батарее, где небольшое количество людей, занятых делом, бело ограничено, отделено от других канавой, – здесь чувствовалось одинаковое и общее всем, как бы семейное оживление.
Появление невоенной фигуры Пьера в белой шляпе сначала неприятно поразило этих людей. Солдаты, проходя мимо его, удивленно и даже испуганно косились на его фигуру. Старший артиллерийский офицер, высокий, с длинными ногами, рябой человек, как будто для того, чтобы посмотреть на действие крайнего орудия, подошел к Пьеру и любопытно посмотрел на него.
Молоденький круглолицый офицерик, еще совершенный ребенок, очевидно, только что выпущенный из корпуса, распоряжаясь весьма старательно порученными ему двумя пушками, строго обратился к Пьеру.
– Господин, позвольте вас попросить с дороги, – сказал он ему, – здесь нельзя.
Солдаты неодобрительно покачивали головами, глядя на Пьера. Но когда все убедились, что этот человек в белой шляпе не только не делал ничего дурного, но или смирно сидел на откосе вала, или с робкой улыбкой, учтиво сторонясь перед солдатами, прохаживался по батарее под выстрелами так же спокойно, как по бульвару, тогда понемногу чувство недоброжелательного недоуменья к нему стало переходить в ласковое и шутливое участие, подобное тому, которое солдаты имеют к своим животным: собакам, петухам, козлам и вообще животным, живущим при воинских командах. Солдаты эти сейчас же мысленно приняли Пьера в свою семью, присвоили себе и дали ему прозвище. «Наш барин» прозвали его и про него ласково смеялись между собой.
Одно ядро взрыло землю в двух шагах от Пьера. Он, обчищая взбрызнутую ядром землю с платья, с улыбкой оглянулся вокруг себя.
– И как это вы не боитесь, барин, право! – обратился к Пьеру краснорожий широкий солдат, оскаливая крепкие белые зубы.
– А ты разве боишься? – спросил Пьер.
– А то как же? – отвечал солдат. – Ведь она не помилует. Она шмякнет, так кишки вон. Нельзя не бояться, – сказал он, смеясь.
Несколько солдат с веселыми и ласковыми лицами остановились подле Пьера. Они как будто не ожидали того, чтобы он говорил, как все, и это открытие обрадовало их.
– Наше дело солдатское. А вот барин, так удивительно. Вот так барин!
– По местам! – крикнул молоденький офицер на собравшихся вокруг Пьера солдат. Молоденький офицер этот, видимо, исполнял свою должность в первый или во второй раз и потому с особенной отчетливостью и форменностью обращался и с солдатами и с начальником.
Перекатная пальба пушек и ружей усиливалась по всему полю, в особенности влево, там, где были флеши Багратиона, но из за дыма выстрелов с того места, где был Пьер, нельзя было почти ничего видеть. Притом, наблюдения за тем, как бы семейным (отделенным от всех других) кружком людей, находившихся на батарее, поглощали все внимание Пьера. Первое его бессознательно радостное возбуждение, произведенное видом и звуками поля сражения, заменилось теперь, в особенности после вида этого одиноко лежащего солдата на лугу, другим чувством. Сидя теперь на откосе канавы, он наблюдал окружавшие его лица.
К десяти часам уже человек двадцать унесли с батареи; два орудия были разбиты, чаще и чаще на батарею попадали снаряды и залетали, жужжа и свистя, дальние пули. Но люди, бывшие на батарее, как будто не замечали этого; со всех сторон слышался веселый говор и шутки.
– Чиненка! – кричал солдат на приближающуюся, летевшую со свистом гранату. – Не сюда! К пехотным! – с хохотом прибавлял другой, заметив, что граната перелетела и попала в ряды прикрытия.
– Что, знакомая? – смеялся другой солдат на присевшего мужика под пролетевшим ядром.
Несколько солдат собрались у вала, разглядывая то, что делалось впереди.
– И цепь сняли, видишь, назад прошли, – говорили они, указывая через вал.
– Свое дело гляди, – крикнул на них старый унтер офицер. – Назад прошли, значит, назади дело есть. – И унтер офицер, взяв за плечо одного из солдат, толкнул его коленкой. Послышался хохот.
– К пятому орудию накатывай! – кричали с одной стороны.
– Разом, дружнее, по бурлацки, – слышались веселые крики переменявших пушку.
– Ай, нашему барину чуть шляпку не сбила, – показывая зубы, смеялся на Пьера краснорожий шутник. – Эх, нескладная, – укоризненно прибавил он на ядро, попавшее в колесо и ногу человека.
– Ну вы, лисицы! – смеялся другой на изгибающихся ополченцев, входивших на батарею за раненым.
– Аль не вкусна каша? Ах, вороны, заколянились! – кричали на ополченцев, замявшихся перед солдатом с оторванной ногой.
– Тое кое, малый, – передразнивали мужиков. – Страсть не любят.
Пьер замечал, как после каждого попавшего ядра, после каждой потери все более и более разгоралось общее оживление.
Как из придвигающейся грозовой тучи, чаще и чаще, светлее и светлее вспыхивали на лицах всех этих людей (как бы в отпор совершающегося) молнии скрытого, разгорающегося огня.
Пьер не смотрел вперед на поле сражения и не интересовался знать о том, что там делалось: он весь был поглощен в созерцание этого, все более и более разгорающегося огня, который точно так же (он чувствовал) разгорался и в его душе.
В десять часов пехотные солдаты, бывшие впереди батареи в кустах и по речке Каменке, отступили. С батареи видно было, как они пробегали назад мимо нее, неся на ружьях раненых. Какой то генерал со свитой вошел на курган и, поговорив с полковником, сердито посмотрев на Пьера, сошел опять вниз, приказав прикрытию пехоты, стоявшему позади батареи, лечь, чтобы менее подвергаться выстрелам. Вслед за этим в рядах пехоты, правее батареи, послышался барабан, командные крики, и с батареи видно было, как ряды пехоты двинулись вперед.
Пьер смотрел через вал. Одно лицо особенно бросилось ему в глаза. Это был офицер, который с бледным молодым лицом шел задом, неся опущенную шпагу, и беспокойно оглядывался.
Ряды пехотных солдат скрылись в дыму, послышался их протяжный крик и частая стрельба ружей. Через несколько минут толпы раненых и носилок прошли оттуда. На батарею еще чаще стали попадать снаряды. Несколько человек лежали неубранные. Около пушек хлопотливее и оживленнее двигались солдаты. Никто уже не обращал внимания на Пьера. Раза два на него сердито крикнули за то, что он был на дороге. Старший офицер, с нахмуренным лицом, большими, быстрыми шагами переходил от одного орудия к другому. Молоденький офицерик, еще больше разрумянившись, еще старательнее командовал солдатами. Солдаты подавали заряды, поворачивались, заряжали и делали свое дело с напряженным щегольством. Они на ходу подпрыгивали, как на пружинах.
Грозовая туча надвинулась, и ярко во всех лицах горел тот огонь, за разгоранием которого следил Пьер. Он стоял подле старшего офицера. Молоденький офицерик подбежал, с рукой к киверу, к старшему.
– Имею честь доложить, господин полковник, зарядов имеется только восемь, прикажете ли продолжать огонь? – спросил он.
– Картечь! – не отвечая, крикнул старший офицер, смотревший через вал.
Вдруг что то случилось; офицерик ахнул и, свернувшись, сел на землю, как на лету подстреленная птица. Все сделалось странно, неясно и пасмурно в глазах Пьера.
Одно за другим свистели ядра и бились в бруствер, в солдат, в пушки. Пьер, прежде не слыхавший этих звуков, теперь только слышал одни эти звуки. Сбоку батареи, справа, с криком «ура» бежали солдаты не вперед, а назад, как показалось Пьеру.
Ядро ударило в самый край вала, перед которым стоял Пьер, ссыпало землю, и в глазах его мелькнул черный мячик, и в то же мгновенье шлепнуло во что то. Ополченцы, вошедшие было на батарею, побежали назад.
– Все картечью! – кричал офицер.
Унтер офицер подбежал к старшему офицеру и испуганным шепотом (как за обедом докладывает дворецкий хозяину, что нет больше требуемого вина) сказал, что зарядов больше не было.
– Разбойники, что делают! – закричал офицер, оборачиваясь к Пьеру. Лицо старшего офицера было красно и потно, нахмуренные глаза блестели. – Беги к резервам, приводи ящики! – крикнул он, сердито обходя взглядом Пьера и обращаясь к своему солдату.
– Я пойду, – сказал Пьер. Офицер, не отвечая ему, большими шагами пошел в другую сторону.
– Не стрелять… Выжидай! – кричал он.
Солдат, которому приказано было идти за зарядами, столкнулся с Пьером.
– Эх, барин, не место тебе тут, – сказал он и побежал вниз. Пьер побежал за солдатом, обходя то место, на котором сидел молоденький офицерик.
Одно, другое, третье ядро пролетало над ним, ударялось впереди, с боков, сзади. Пьер сбежал вниз. «Куда я?» – вдруг вспомнил он, уже подбегая к зеленым ящикам. Он остановился в нерешительности, идти ему назад или вперед. Вдруг страшный толчок откинул его назад, на землю. В то же мгновенье блеск большого огня осветил его, и в то же мгновенье раздался оглушающий, зазвеневший в ушах гром, треск и свист.
Пьер, очнувшись, сидел на заду, опираясь руками о землю; ящика, около которого он был, не было; только валялись зеленые обожженные доски и тряпки на выжженной траве, и лошадь, трепля обломками оглобель, проскакала от него, а другая, так же как и сам Пьер, лежала на земле и пронзительно, протяжно визжала.
Пьер, не помня себя от страха, вскочил и побежал назад на батарею, как на единственное убежище от всех ужасов, окружавших его.
В то время как Пьер входил в окоп, он заметил, что на батарее выстрелов не слышно было, но какие то люди что то делали там. Пьер не успел понять того, какие это были люди. Он увидел старшего полковника, задом к нему лежащего на валу, как будто рассматривающего что то внизу, и видел одного, замеченного им, солдата, который, прорываясь вперед от людей, державших его за руку, кричал: «Братцы!» – и видел еще что то странное.
Но он не успел еще сообразить того, что полковник был убит, что кричавший «братцы!» был пленный, что в глазах его был заколон штыком в спину другой солдат. Едва он вбежал в окоп, как худощавый, желтый, с потным лицом человек в синем мундире, со шпагой в руке, набежал на него, крича что то. Пьер, инстинктивно обороняясь от толчка, так как они, не видав, разбежались друг против друга, выставил руки и схватил этого человека (это был французский офицер) одной рукой за плечо, другой за гордо. Офицер, выпустив шпагу, схватил Пьера за шиворот.
Несколько секунд они оба испуганными глазами смотрели на чуждые друг другу лица, и оба были в недоумении о том, что они сделали и что им делать. «Я ли взят в плен или он взят в плен мною? – думал каждый из них. Но, очевидно, французский офицер более склонялся к мысли, что в плен взят он, потому что сильная рука Пьера, движимая невольным страхом, все крепче и крепче сжимала его горло. Француз что то хотел сказать, как вдруг над самой головой их низко и страшно просвистело ядро, и Пьеру показалось, что голова французского офицера оторвана: так быстро он согнул ее.
Пьер тоже нагнул голову и отпустил руки. Не думая более о том, кто кого взял в плен, француз побежал назад на батарею, а Пьер под гору, спотыкаясь на убитых и раненых, которые, казалось ему, ловят его за ноги. Но не успел он сойти вниз, как навстречу ему показались плотные толпы бегущих русских солдат, которые, падая, спотыкаясь и крича, весело и бурно бежали на батарею. (Это была та атака, которую себе приписывал Ермолов, говоря, что только его храбрости и счастью возможно было сделать этот подвиг, и та атака, в которой он будто бы кидал на курган Георгиевские кресты, бывшие у него в кармане.)
Французы, занявшие батарею, побежали. Наши войска с криками «ура» так далеко за батарею прогнали французов, что трудно было остановить их.
С батареи свезли пленных, в том числе раненого французского генерала, которого окружили офицеры. Толпы раненых, знакомых и незнакомых Пьеру, русских и французов, с изуродованными страданием лицами, шли, ползли и на носилках неслись с батареи. Пьер вошел на курган, где он провел более часа времени, и из того семейного кружка, который принял его к себе, он не нашел никого. Много было тут мертвых, незнакомых ему. Но некоторых он узнал. Молоденький офицерик сидел, все так же свернувшись, у края вала, в луже крови. Краснорожий солдат еще дергался, но его не убирали.
Пьер побежал вниз.
«Нет, теперь они оставят это, теперь они ужаснутся того, что они сделали!» – думал Пьер, бесцельно направляясь за толпами носилок, двигавшихся с поля сражения.
Но солнце, застилаемое дымом, стояло еще высоко, и впереди, и в особенности налево у Семеновского, кипело что то в дыму, и гул выстрелов, стрельба и канонада не только не ослабевали, но усиливались до отчаянности, как человек, который, надрываясь, кричит из последних сил.
Главное действие Бородинского сражения произошло на пространстве тысячи сажен между Бородиным и флешами Багратиона. (Вне этого пространства с одной стороны была сделана русскими в половине дня демонстрация кавалерией Уварова, с другой стороны, за Утицей, было столкновение Понятовского с Тучковым; но это были два отдельные и слабые действия в сравнении с тем, что происходило в середине поля сражения.) На поле между Бородиным и флешами, у леса, на открытом и видном с обеих сторон протяжении, произошло главное действие сражения, самым простым, бесхитростным образом.
Сражение началось канонадой с обеих сторон из нескольких сотен орудий.
Потом, когда дым застлал все поле, в этом дыму двинулись (со стороны французов) справа две дивизии, Дессе и Компана, на флеши, и слева полки вице короля на Бородино.
От Шевардинского редута, на котором стоял Наполеон, флеши находились на расстоянии версты, а Бородино более чем в двух верстах расстояния по прямой линии, и поэтому Наполеон не мог видеть того, что происходило там, тем более что дым, сливаясь с туманом, скрывал всю местность. Солдаты дивизии Дессе, направленные на флеши, были видны только до тех пор, пока они не спустились под овраг, отделявший их от флеш. Как скоро они спустились в овраг, дым выстрелов орудийных и ружейных на флешах стал так густ, что застлал весь подъем той стороны оврага. Сквозь дым мелькало там что то черное – вероятно, люди, и иногда блеск штыков. Но двигались ли они или стояли, были ли это французы или русские, нельзя было видеть с Шевардинского редута.
Солнце взошло светло и било косыми лучами прямо в лицо Наполеона, смотревшего из под руки на флеши. Дым стлался перед флешами, и то казалось, что дым двигался, то казалось, что войска двигались. Слышны были иногда из за выстрелов крики людей, но нельзя было знать, что они там делали.
Наполеон, стоя на кургане, смотрел в трубу, и в маленький круг трубы он видел дым и людей, иногда своих, иногда русских; но где было то, что он видел, он не знал, когда смотрел опять простым глазом.
Он сошел с кургана и стал взад и вперед ходить перед ним.
Изредка он останавливался, прислушивался к выстрелам и вглядывался в поле сражения.
Не только с того места внизу, где он стоял, не только с кургана, на котором стояли теперь некоторые его генералы, но и с самых флешей, на которых находились теперь вместе и попеременно то русские, то французские, мертвые, раненые и живые, испуганные или обезумевшие солдаты, нельзя было понять того, что делалось на этом месте. В продолжение нескольких часов на этом месте, среди неумолкаемой стрельбы, ружейной и пушечной, то появлялись одни русские, то одни французские, то пехотные, то кавалерийские солдаты; появлялись, падали, стреляли, сталкивались, не зная, что делать друг с другом, кричали и бежали назад.
С поля сражения беспрестанно прискакивали к Наполеону его посланные адъютанты и ординарцы его маршалов с докладами о ходе дела; но все эти доклады были ложны: и потому, что в жару сражения невозможно сказать, что происходит в данную минуту, и потому, что многие адъютапты не доезжали до настоящего места сражения, а передавали то, что они слышали от других; и еще потому, что пока проезжал адъютант те две три версты, которые отделяли его от Наполеона, обстоятельства изменялись и известие, которое он вез, уже становилось неверно. Так от вице короля прискакал адъютант с известием, что Бородино занято и мост на Колоче в руках французов. Адъютант спрашивал у Наполеона, прикажет ли он пореходить войскам? Наполеон приказал выстроиться на той стороне и ждать; но не только в то время как Наполеон отдавал это приказание, но даже когда адъютант только что отъехал от Бородина, мост уже был отбит и сожжен русскими, в той самой схватке, в которой участвовал Пьер в самом начале сраженья.
Прискакавший с флеш с бледным испуганным лицом адъютант донес Наполеону, что атака отбита и что Компан ранен и Даву убит, а между тем флеши были заняты другой частью войск, в то время как адъютанту говорили, что французы были отбиты, и Даву был жив и только слегка контужен. Соображаясь с таковыми необходимо ложными донесениями, Наполеон делал свои распоряжения, которые или уже были исполнены прежде, чем он делал их, или же не могли быть и не были исполняемы.
Маршалы и генералы, находившиеся в более близком расстоянии от поля сражения, но так же, как и Наполеон, не участвовавшие в самом сражении и только изредка заезжавшие под огонь пуль, не спрашиваясь Наполеона, делали свои распоряжения и отдавали свои приказания о том, куда и откуда стрелять, и куда скакать конным, и куда бежать пешим солдатам. Но даже и их распоряжения, точно так же как распоряжения Наполеона, точно так же в самой малой степени и редко приводились в исполнение. Большей частью выходило противное тому, что они приказывали. Солдаты, которым велено было идти вперед, подпав под картечный выстрел, бежали назад; солдаты, которым велено было стоять на месте, вдруг, видя против себя неожиданно показавшихся русских, иногда бежали назад, иногда бросались вперед, и конница скакала без приказания догонять бегущих русских. Так, два полка кавалерии поскакали через Семеновский овраг и только что въехали на гору, повернулись и во весь дух поскакали назад. Так же двигались и пехотные солдаты, иногда забегая совсем не туда, куда им велено было. Все распоряжение о том, куда и когда подвинуть пушки, когда послать пеших солдат – стрелять, когда конных – топтать русских пеших, – все эти распоряжения делали сами ближайшие начальники частей, бывшие в рядах, не спрашиваясь даже Нея, Даву и Мюрата, не только Наполеона. Они не боялись взыскания за неисполнение приказания или за самовольное распоряжение, потому что в сражении дело касается самого дорогого для человека – собственной жизни, и иногда кажется, что спасение заключается в бегстве назад, иногда в бегстве вперед, и сообразно с настроением минуты поступали эти люди, находившиеся в самом пылу сражения. В сущности же, все эти движения вперед и назад не облегчали и не изменяли положения войск. Все их набегания и наскакивания друг на друга почти не производили им вреда, а вред, смерть и увечья наносили ядра и пули, летавшие везде по тому пространству, по которому метались эти люди. Как только эти люди выходили из того пространства, по которому летали ядра и пули, так их тотчас же стоявшие сзади начальники формировали, подчиняли дисциплине и под влиянием этой дисциплины вводили опять в область огня, в которой они опять (под влиянием страха смерти) теряли дисциплину и метались по случайному настроению толпы.
Генералы Наполеона – Даву, Ней и Мюрат, находившиеся в близости этой области огня и даже иногда заезжавшие в нее, несколько раз вводили в эту область огня стройные и огромные массы войск. Но противно тому, что неизменно совершалось во всех прежних сражениях, вместо ожидаемого известия о бегстве неприятеля, стройные массы войск возвращались оттуда расстроенными, испуганными толпами. Они вновь устроивали их, но людей все становилось меньше. В половине дня Мюрат послал к Наполеону своего адъютанта с требованием подкрепления.
Наполеон сидел под курганом и пил пунш, когда к нему прискакал адъютант Мюрата с уверениями, что русские будут разбиты, ежели его величество даст еще дивизию.
– Подкрепления? – сказал Наполеон с строгим удивлением, как бы не понимая его слов и глядя на красивого мальчика адъютанта с длинными завитыми черными волосами (так же, как носил волоса Мюрат). «Подкрепления! – подумал Наполеон. – Какого они просят подкрепления, когда у них в руках половина армии, направленной на слабое, неукрепленное крыло русских!»
– Dites au roi de Naples, – строго сказал Наполеон, – qu'il n'est pas midi et que je ne vois pas encore clair sur mon echiquier. Allez… [Скажите неаполитанскому королю, что теперь еще не полдень и что я еще не ясно вижу на своей шахматной доске. Ступайте…]
Красивый мальчик адъютанта с длинными волосами, не отпуская руки от шляпы, тяжело вздохнув, поскакал опять туда, где убивали людей.
Наполеон встал и, подозвав Коленкура и Бертье, стал разговаривать с ними о делах, не касающихся сражения.
В середине разговора, который начинал занимать Наполеона, глаза Бертье обратились на генерала с свитой, который на потной лошади скакал к кургану. Это был Бельяр. Он, слезши с лошади, быстрыми шагами подошел к императору и смело, громким голосом стал доказывать необходимость подкреплений. Он клялся честью, что русские погибли, ежели император даст еще дивизию.
Наполеон вздернул плечами и, ничего не ответив, продолжал свою прогулку. Бельяр громко и оживленно стал говорить с генералами свиты, окружившими его.
– Вы очень пылки, Бельяр, – сказал Наполеон, опять подходя к подъехавшему генералу. – Легко ошибиться в пылу огня. Поезжайте и посмотрите, и тогда приезжайте ко мне.
Не успел еще Бельяр скрыться из вида, как с другой стороны прискакал новый посланный с поля сражения.
– Eh bien, qu'est ce qu'il y a? [Ну, что еще?] – сказал Наполеон тоном человека, раздраженного беспрестанными помехами.
– Sire, le prince… [Государь, герцог…] – начал адъютант.
– Просит подкрепления? – с гневным жестом проговорил Наполеон. Адъютант утвердительно наклонил голову и стал докладывать; но император отвернулся от него, сделав два шага, остановился, вернулся назад и подозвал Бертье. – Надо дать резервы, – сказал он, слегка разводя руками. – Кого послать туда, как вы думаете? – обратился он к Бертье, к этому oison que j'ai fait aigle [гусенку, которого я сделал орлом], как он впоследствии называл его.
– Государь, послать дивизию Клапареда? – сказал Бертье, помнивший наизусть все дивизии, полки и батальоны.
Наполеон утвердительно кивнул головой.
Адъютант поскакал к дивизии Клапареда. И чрез несколько минут молодая гвардия, стоявшая позади кургана, тронулась с своего места. Наполеон молча смотрел по этому направлению.
– Нет, – обратился он вдруг к Бертье, – я не могу послать Клапареда. Пошлите дивизию Фриана, – сказал он.
Хотя не было никакого преимущества в том, чтобы вместо Клапареда посылать дивизию Фриана, и даже было очевидное неудобство и замедление в том, чтобы остановить теперь Клапареда и посылать Фриана, но приказание было с точностью исполнено. Наполеон не видел того, что он в отношении своих войск играл роль доктора, который мешает своими лекарствами, – роль, которую он так верно понимал и осуждал.
Дивизия Фриана, так же как и другие, скрылась в дыму поля сражения. С разных сторон продолжали прискакивать адъютанты, и все, как бы сговорившись, говорили одно и то же. Все просили подкреплений, все говорили, что русские держатся на своих местах и производят un feu d'enfer [адский огонь], от которого тает французское войско.
Наполеон сидел в задумчивости на складном стуле.
Проголодавшийся с утра m r de Beausset, любивший путешествовать, подошел к императору и осмелился почтительно предложить его величеству позавтракать.
– Я надеюсь, что теперь уже я могу поздравить ваше величество с победой, – сказал он.
Наполеон молча отрицательно покачал головой. Полагая, что отрицание относится к победе, а не к завтраку, m r de Beausset позволил себе игриво почтительно заметить, что нет в мире причин, которые могли бы помешать завтракать, когда можно это сделать.
– Allez vous… [Убирайтесь к…] – вдруг мрачно сказал Наполеон и отвернулся. Блаженная улыбка сожаления, раскаяния и восторга просияла на лице господина Боссе, и он плывущим шагом отошел к другим генералам.
Наполеон испытывал тяжелое чувство, подобное тому, которое испытывает всегда счастливый игрок, безумно кидавший свои деньги, всегда выигрывавший и вдруг, именно тогда, когда он рассчитал все случайности игры, чувствующий, что чем более обдуман его ход, тем вернее он проигрывает.
Войска были те же, генералы те же, те же были приготовления, та же диспозиция, та же proclamation courte et energique [прокламация короткая и энергическая], он сам был тот же, он это знал, он знал, что он был даже гораздо опытнее и искуснее теперь, чем он был прежде, даже враг был тот же, как под Аустерлицем и Фридландом; но страшный размах руки падал волшебно бессильно.
Все те прежние приемы, бывало, неизменно увенчиваемые успехом: и сосредоточение батарей на один пункт, и атака резервов для прорвания линии, и атака кавалерии des hommes de fer [железных людей], – все эти приемы уже были употреблены, и не только не было победы, но со всех сторон приходили одни и те же известия об убитых и раненых генералах, о необходимости подкреплений, о невозможности сбить русских и о расстройстве войск.