Маймон, Соломон
| Соломон Маймон | |
| Salomon Maimon | |
 нем. Arndt, портрет Соломона Маймона | |
| Имя при рождении: |
Шлойме Хайман |
|---|---|
| Дата рождения: |
между 1751 и 1754 |
| Место рождения: |
Жуков-Борок около Мира, Великое княжество Литовское ныне Столбцовский район Минской области |
| Дата смерти: | |
| Место смерти: |
Нидерзигерсдорф у Фрайштадта, Силезия |
| Школа/традиция: | |
| Направление: |
Западная философия, немецкая классическая философия |
| Период: | |
| Основные интересы: | |
| Значительные идеи: |
отрицание имманентности вещей в себе, дифференциал определённого сознания[1], принцип определимости в сознании |
| Оказавшие влияние: | |
| Испытавшие влияние: | |
Соломо́н Маймо́н (нем. Salomon Maimon, ивр. שלמה מימון; между 1751 и 1754[2], Жуков-Борок[3] (около Мира, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая; ныне — в Столбцовском районе Минской области Белоруссии)[4] — 22 ноября 1800, Нидерзигерсдорф близ Фрайштадта, Силезия (ныне — польск. Podbrzezie Dolne) близ Кожухува в Польше) — немецкий философ еврейского происхождения, критик Канта. Известен более всего как автор книги воспоминаний, где ярко описал состояние евреев Речи Посполитой XVIII века, а также свою собственную биографию как раннего представителя движения Хаскалы. Будучи самоучкой, сумел войти в высшую интеллектуальную элиту Германии. Был единственным из оппонентов Канта, критику которого Кант одобрил.
Содержание
Биография
Ранние годы жизни
 Соломон Хайман (Маймон) родился и вырос в государстве Речь Посполитая, которую он сам называл просто Польша. Позже он сменил фамилию на Маймон в честь Маймонида. Дед и отец были потомственными арендаторами поместья во владениях князей Радзивиллов; отец получил раввинское образование. Имущественное положение семьи было поначалу относительно неплохое, но ненадёжное и бесправное. Среди детских впечатлений Соломона — семья прячется в лесу от гнева местных панов, дед подвергнут пыткам по навету.
Соломон Хайман (Маймон) родился и вырос в государстве Речь Посполитая, которую он сам называл просто Польша. Позже он сменил фамилию на Маймон в честь Маймонида. Дед и отец были потомственными арендаторами поместья во владениях князей Радзивиллов; отец получил раввинское образование. Имущественное положение семьи было поначалу относительно неплохое, но ненадёжное и бесправное. Среди детских впечатлений Соломона — семья прячется в лесу от гнева местных панов, дед подвергнут пыткам по навету.
Отец-раввин начал обучать мальчика в шесть лет книге Бытия, позднее — Талмуду. Мальчик проявлял пытливый ум, спросил отца: «Кто сотворил самого Бога?»; иногда за дерзкие вопросы получал от отца пощёчины. Когда он немного подрос, отец запретил сыну читать что-либо кроме Талмуда, но Соломон тайно изучал немногие книги на иврите, бывшие в доме, например, искажённый перевод на иврит сочинений Иосифа Флавия.[5][6] Как описывает Маймон в своей автобиографии, наибольшее впечатление на него произвела книга Давида Ганса «Цемах Давид», она открыла мальчику существование математики и астрономии. По описанию книги Соломон соорудил армиллярную сферу, которую скрывал от отца.[5]
Семилетний Соломон и его старший брат, двенадцатилетний Йосеф, были отданы в еврейскую школу в местечке Мир. В воспоминаниях Маймона школа выступает в самом мрачном свете, там практиковались телесные наказания, иногда довольно жестокие. Учитель Йосефа, например, мог выбить глаз или оторвать ухо. Дети были там целый день, обучение сводилось к чтению недельных разделов Торы, более всего — начальных стихов разделов. Грамматике иврита при этом не уделялось никакого внимания, да и о грамматике родного идиша никто не имел представления. Учитель и его помощники вели себя по-диктаторски и даже отбирали у детей еду. Все сидели в одном классе на скамьях или на земляном полу. Словарей не было тоже, к тому же учителя не проводили чёткого разделения между собственным значением слова и его толкованием в Мидраше. Комментаторы-грамматисты, такие как рабби Давид Кимхи и Ибн Эзра, тоже не входили в программу.[7]
- Армиллярная сфера
- Ошибка создания миниатюры: Файл не найден
Из книги Давида Ганса «Маген Давид», на полях справа даны объяснения, как построить прибор.
- Armillary sphere.png
Армиллярная сфера, как её делали мастера в старину.
Отец Соломона испортил отношения с управляющим, выиграв против него судебный процесс. В отместку управляющий при первой возможности согнал семью Хайманов с насиженного места. Это произошло в середине зимы, и они потеряли и хранившийся в амбарах урожай последнего года, поэтому положение семьи быстро стало тяжёлым. Мать Соломона временно лишилась рассудка.[8]
Семья обосновалась в местечке Могильно, которое князь К. С. Радзивилл объявил слободой. При этом было поставлено условие, чтобы семейство Хайман построило дом не хуже местного арендатора, что привело к окончательной утрате оставшегося у них капитала.[9]
Соломон был послан в Ивенец, в еврейскую школу следующей степени, где учат Талмуд. Преподавание в этой школе тоже не удовлетворяло пытливый ум подростка. К счастью для него, им заинтересовался раввин города и стал обучать его сам. Рабби стимулировал ум ученика к самостоятельной работе над главными вопросами, предварительно объяснив второстепенные детали. Обучение пошло настолько успешно, что уже к 11 годам Соломон имел репутацию выдающегося талмудиста и, как следствие, завидного жениха.[10] За Соломона боролось несколько семей — в ход шла торговля, интриги, судебный процесс и даже попытка похищения. В итоге победила содержательница постоялого двора в Несвиже, мадам Рися, и одиннадцатилетнего Соломона женили на её дочери Соре (Сарре). К этому моменту мать Соломона скончалась.[11]
Период семейной жизни
Брак с Саррой был заключён в 1764 году. Семейная жизнь проходила под знаком постоянной войны тёщи и одиннадцатилетнего зятя. Про жену Маймон сообщает только то, что она придерживалась нейтралитета, имела решительный характер и была очень хороша собой. У Сарры и Соломона в 1767 году родился сын Давид; его отцу было всего 14 лет. Маймон занял должность семейного учителя с проживанием, а домой возвращался лишь по праздникам. Семья, где он учительствовал, была многодетной и довольно бедной, преподавание шло в углу трактира, который они держали.[12]
Помимо бытовых неурядиц, Маймону не давала покоя жажда знаний. Он уже был полноценным раввином и обладал разрозненными знаниями в истории, астрономии и математике. Из языков — лишь идиш и иврит. В автобиографии Маймона описывается удивительный способ изучения иностранных языков — расшифровка. Маймон заметил, что у некоторых книг имеется пагинация и еврейскими, и латинскими буквами. Таким образом, можно было сопоставить буквы. Затем к нему попали листы из какой-то немецкой книги, Маймон стал составлять из букв слова и проверять, имеют ли они звучание, сходное с известными ему словами на идише.[13]
Затем Маймон предпринял попытку расширить знания, изучая самостоятельно каббалистические книги соседа, и даже пытался применить каббалу на практике — безуспешно пытался стать невидимым. К этому времени Маймон уже прочёл «Путеводитель растерянных» Маймонида и правильно понял, что каббалистические описания Сотворения Мира подразумевают не временную последовательность, а цепочку причин и следствий. В более поздние годы он утверждал, что главная идея каббалы — в том, что всё происходит от Бога по определённым каналам и через сокрытие, стало быть, всё происходит из единой субстанции. Это дало Маймону основание считать каббалу расширенным спинозизмом (в учении самого Спинозы многие тоже усматривают влияние каббалы, см. Спиноза и каббала). Десять сфирот Маймон отождествил с десятью категориями Аристотеля.[14]
Следующий поход за знаниями Маймон предпринял пешком. Пройдя 150 миль, он пришёл к раввину, уроженцу Германии, у которого были немецкие книги. Удивлённый раввин, к которому за 30 лет, прошедшие от переезда из Германии, никто с такой просьбой не обращался, дал Маймону несколько книг, из которых наиболее важной была книга по оптике.
В автобиографии Маймона упоминается без указания времени, что его ввели в среду «новых хасидов» при дворе Дов Бера из Межерича (1704—1772). Маймон был свидетелем того, как Дов Бер угадывал имена прибывших гостей и цитировал библейские стихи, в которых есть намёки на жизненные обстоятельства гостя. Маймон быстро разочаровался в хасидах и даже одобрил отлучение хасидов Виленским гаоном.[15] Судя по всему, это имело место в начале 1770-х годов, когда Маймон был ещё юношей.[6] В качестве основателя этой новой секты Маймон указывает р. Йоэля Бааль Шем[16], а не общепринятого р. Исраэля Бааль Шем Тов.
Первая долгая поездка в Берлин
 Неудовлетворённый жизнью и движимый жаждой знаний, Маймон решает летом 1776 года посетить Германию. Довольно легко он добирается до Кёнигсберга. Там Маймон имеет беседу с еврейским доктором и несколькими студентами-евреями. Облик двадцатилетнего Маймона в грязной одежде, с бородой и говорящего на малопонятном им варианте идиша возбуждает смех, который, однако, немедленно прекратился, когда Маймон продемонстрировал способность переводить с листа незнакомое ему дотоле сочинение с немецкого на иврит. Это была книга Моисея Мендельсона «Федон, или О бессмертии души». Студенты приняли участие в судьбе Маймона, помогли ему и посоветовали ехать в Берлин. Из-за неблагополучного ветра дорога через Штеттин и Франкфурт-на-Одере и далее по суше заняла целых пять недель вместо обещанных двух. Маймон практически не имел припасов, не понимал диалекта матросов и прибыл в Штеттин к посту Девятого Ава в самом жалком виде. Евреи Штеттина быстро поняли, что перед ними — выдающийся раввин, покормили его, оказали почёт и отправили дальше с рекомендательным письмом. Сильно потрёпанный, страдающий от голода и жажды, Маймон прибыл в Берлин.[17]
Неудовлетворённый жизнью и движимый жаждой знаний, Маймон решает летом 1776 года посетить Германию. Довольно легко он добирается до Кёнигсберга. Там Маймон имеет беседу с еврейским доктором и несколькими студентами-евреями. Облик двадцатилетнего Маймона в грязной одежде, с бородой и говорящего на малопонятном им варианте идиша возбуждает смех, который, однако, немедленно прекратился, когда Маймон продемонстрировал способность переводить с листа незнакомое ему дотоле сочинение с немецкого на иврит. Это была книга Моисея Мендельсона «Федон, или О бессмертии души». Студенты приняли участие в судьбе Маймона, помогли ему и посоветовали ехать в Берлин. Из-за неблагополучного ветра дорога через Штеттин и Франкфурт-на-Одере и далее по суше заняла целых пять недель вместо обещанных двух. Маймон практически не имел припасов, не понимал диалекта матросов и прибыл в Штеттин к посту Девятого Ава в самом жалком виде. Евреи Штеттина быстро поняли, что перед ними — выдающийся раввин, покормили его, оказали почёт и отправили дальше с рекомендательным письмом. Сильно потрёпанный, страдающий от голода и жажды, Маймон прибыл в Берлин.[17]
В Берлин не допускались нищие евреи, все подозрительные прибывшие помещались в дом при воротах Розенталер (нем. Rosenthaler Platz) и подлежали досмотру. Маймон разговорился с раввином из Польши, поделился своими планами и показал главное сокровище — «Путеводитель растерянных» Маймонида. На эту книгу Маймон надеялся когда-нибудь написать комментарий и даже взял фамилию Маймон в честь Маймонида. В результате беседы власти получили информацию, что приехал субъект, склонный к ереси, и Маймон был выслан из Берлина.[17]
В гостинице Маймон свёл знакомство с профессиональным еврейским нищим. В силу угнетённого и разорённого положения евреев Германии, таких нем. Betteljuden (евреев-попрошаек) было в Пруссии довольно много,[18] и Маймон стал одним из них. Старший товарищ обучал Маймона, как именно должен вести себя попрошайка — просить и проклинать, но Маймон оказался к этому малоспособен. В нищем состоянии Маймон странствовал полгода — без нормального питания, проводящий ночи на земле или сене, полураздетый, босой, Маймон решает вернуться на восток — в Позен. Вместе с осенью 1777 года приближались еврейские осенние праздники. В Позене Маймон явился в еврейскую школу и сел там читать. Его нездешний говор и необычный вид снова возбудили смех, но Маймон вспомнил, что у него есть шанс, ведь раввин Позена приехал туда из Польши с помощником — другом Маймона. Оказалось, что и раввин, и друг к тому времени уехали на новое место в Венгрию, но в Позене оставался двенадцатилетний сын друга. Он сразу узнал Маймона и был поражён его жалким видом.[19]
Раввин города Позена, рано умерший святой аскет Цви Гирш бен Авраам,[2] и другие лучшие люди приняли горячее участие в судьбе Маймона. В автобиографии Маймон пишет, как он был поражён, что ему постелили настоящую кровать. Маймон отдал все бывшие у него деньги товарищу-нищему и расстался с ним. Люди города, особенно сам раввин, стали содержать Маймона и очень быстро дали ему работу домашнего учителя. В Позене он провёл два года довольно счастливо, пока не проявилась черта, мешавшая ему и в дальнейшем — он легко ссорился с обществом, бравировал своим вольнодумством и желал перемены мест. Маймон покидает Позен в 1780 году и направляется в Берлин.[19]
На сей раз Маймон прибыл на почтовой карете прямо в гостиницу, где, впрочем, должен был пройти беседу со специальным еврейским чиновником с деспотическим характером. В багаже Маймона нашлась книга Маймонида ивр. מילות הגיון (Миллот Хигайон — Руководство по логике), что вызвало ярость чиновника, и угроза высылки нависла снова. Маймон смог найти людей, которые поручились за него, и остался в Берлине.[20]
Вскоре Маймон увидел, что в магазине используют в качестве обёртки книгу Христиана Вольфа, Маймон купил книгу, внимательно её изучил, написал критику и послал Моисею Мендельсону, стороннику Вольфа. Поражённый Мендельсон пригласил Маймона и принял участие в его судьбе, открыл двери в салоны и дал рекомендательные письма.[20]
В этот период Маймон научился ценить художественную литературу и поэзию, сошёлся с компанией молодых учителей и вёл с ними довольно разгульный образ жизни. Попытки изучать медицину не удались из-за нелюбви Маймона к предмету, заниматься живописью было уже поздно. Маймон получил формальный диплом фармацевта, но никогда им не пользовался. Неопределённость планов, рассеянный образ жизни, конфликты привели к необходимости покинуть Берлин, что и сообщил Маймону Мендельсон. Впрочем, Маймон отправляется в путешествие в Голландию с хорошими рекомендательными письмами.[21]
Странствия по Голландии и Германии
Данное путешествие мало что дало Маймону. В Голландии он был опять «без языка», в других местах ссорился с людьми из-за того, что сомневался в каббале. В Амстердаме в праздник Пурим Маймон, будучи совершенно пьяным, перегнулся через перила глубокого канала и долго колебался, не покончить ли с собой. После Амстердама Маймон вернулся в Германию, и тут, в Гамбурге, предпринял вялую попытку перейти в лютеранство. Маймон подготовил письмо с изложением просьбы, но оно было настолько нестандартным и не христианским, что пастор отверг его.[22]
В Гамбурге ему подали другую идею: поучиться в местной гимназии, чтобы ликвидировать постоянный языковый барьер, а также освоить науки в рамках гимназического курса. Там Маймон провёл три года на всём готовом и учась с школьниками, бывшими намного моложе его. В архивах гимназии Соломон Маймон числится в 1783-1785 годах. В число предметов входила математика, которую он освоил блестяще, а также латынь, английский и французский языки.[22] Греческий Маймону давался плохо, и в его книгах встречаются грубые ошибки в немецкой орфографии слов греческого происхождения.[23]
В Гамбурге его нашёл агент жены, брошенной в 1777 году, и попытался принудить к разводу, в чём Маймон отказал. И снова выехал в Берлин.[22]
 На этот раз Мендельсон и другие благожелатели придумали способ трудоустроить Маймона, коль скоро он овладел языками в гимназии. Они начали проект по подготовке переводов на иврит книг для просвещения восточноевропейского еврейства — по математике с латинского и по истории евреев с французского. Маймон должен был работать в Дессау, а результаты привозить в Берлин. Из затеи ничего путного не вышло,[24] отношения Маймона с берлинскими знакомыми снова испортились, и он выехал в Бреслау.
На этот раз Мендельсон и другие благожелатели придумали способ трудоустроить Маймона, коль скоро он овладел языками в гимназии. Они начали проект по подготовке переводов на иврит книг для просвещения восточноевропейского еврейства — по математике с латинского и по истории евреев с французского. Маймон должен был работать в Дессау, а результаты привозить в Берлин. Из затеи ничего путного не вышло,[24] отношения Маймона с берлинскими знакомыми снова испортились, и он выехал в Бреслау.
Там он убедился, что рекомендательные письма более не работают, так как берлинцы послали другие письма с неблагоприятной характеристикой Маймона. Единственный, кто проявил участие — ранний еврейско-немецкий поэт Эфраим Ку (Ephraim Kuh, 1731—1790). Через него Маймон познакомился с известным профессором Христианом Гарве, который впечатлился личностью Маймона и познакомил его с видными евреями города, после чего Маймон нашёл работу как домашний учитель. По совету друзей Маймон снова попытался заняться медициной, но снова без успеха. Зато Маймон перевёл на иврит книгу Мендельсона «Утренние часы» и написал, видимо, первый в истории, трактат на иврите по ньютоновской физике «ивр. Таалумот хохма (Тайны мудрости)». Тем временем подопечные Маймона выросли, а новые уроки находились с трудом, так что дела его снова ухудшились.[25]
К тому же в Бреслау прибыла решительная жена вместе со старшим двенадцатилетним сыном и поставила его перед выбором: вернуться с ней после восьми лет разлуки на родину или дать развод. Маймон некоторое время уговаривал сына остаться и вообще не очень хотел разводиться, но всё-таки ему пришлось. После развода Маймон опять выехал в Берлин.[25]
Мендельсон умер в 1786 году, остальные не очень хотели снова поддерживать Маймона. Правда, один из старых друзей, известный кантианец Лазарус Бендавид[26] свёл Маймона с местным меценатом, что дало ему возможность как-то устроиться. Маймон снял квартиру и засел за изучение книги, о которой много слышал — «Критика чистого разума» Иммануила Канта, опубликованная в 1781 году.[27]
Кант и Маймон


 Сам Маймон объяснял свой метод восприятия трудных книг так: сначала он составляет смутное представление по прочтении главы и потом думает, как бы он сам решил вопрос. Так он «вдумывает себя в книгу». Как это ни невероятно, но Маймон, самоучка, никогда не бывший в университете и не так хорошо владеющий немецким, не только смог понять «Критику чистого разума», но даже уловил в ней слабые места и послал самому Канту критику «Критики» с сопроводительным письмом общего знакомого Маркуса Герца. Сам Герц сказал Маймону, что, хотя и является одним из главных учеников Канта, пока не готов высказать о «Критике» суждение, равно как и про письмо Маймона. Ответ довольно долго не поступал, так как Кант был очень занят, а рукопись от незнакомого человека была довольно объёмной. Но когда Кант начал её читать, он пришёл в восторг: «Никто из моих оппонентов не понял моё сочинение так хорошо как господин Маймон» — писал Кант Герцу.[28] Самому Маймону Кант тоже направил письмо с похвалами и с ответом на критику. Это защитило на будущее Маймона от упрёков, что он просто не понял Канта.[29] У Канта никогда не было времени на переписку, так что это письмо — одно из самых длинных писем Канта. Маймон изложил своё исследование в печати в 1790, не принимая во внимания ответных возражений Канта. После этого он написал ещё одну критическую статью, где сравнивал Канта с Бэконом и выслал Канту. Ни на это, ни на последующие письма и сочинения Маймона Кант более не отзывался, как ни умолял Маймон: «Заклинаю святостью Вашей морали, не откажите в ответе… Пусть Ваш ответ будет кратким, мне важно получить от Вас хотя бы несколько строк». В письме к Рейнгольду (Karl Leonhard Reinhold, 1757—1823) Кант пишет, что надвигающаяся старость не позволяет ему воспринимать чужие идеи: «Не могу понять, что, собственно, хочет Маймон с его попыткой улучшить критическую философию, и предоставляю другим возможность поставить его на место».[30] Другая цитата: «евреи охотно предпринимают такие попытки, чтобы на чужой счет придать себе значительный вид».[31][32]
Сам Маймон объяснял свой метод восприятия трудных книг так: сначала он составляет смутное представление по прочтении главы и потом думает, как бы он сам решил вопрос. Так он «вдумывает себя в книгу». Как это ни невероятно, но Маймон, самоучка, никогда не бывший в университете и не так хорошо владеющий немецким, не только смог понять «Критику чистого разума», но даже уловил в ней слабые места и послал самому Канту критику «Критики» с сопроводительным письмом общего знакомого Маркуса Герца. Сам Герц сказал Маймону, что, хотя и является одним из главных учеников Канта, пока не готов высказать о «Критике» суждение, равно как и про письмо Маймона. Ответ довольно долго не поступал, так как Кант был очень занят, а рукопись от незнакомого человека была довольно объёмной. Но когда Кант начал её читать, он пришёл в восторг: «Никто из моих оппонентов не понял моё сочинение так хорошо как господин Маймон» — писал Кант Герцу.[28] Самому Маймону Кант тоже направил письмо с похвалами и с ответом на критику. Это защитило на будущее Маймона от упрёков, что он просто не понял Канта.[29] У Канта никогда не было времени на переписку, так что это письмо — одно из самых длинных писем Канта. Маймон изложил своё исследование в печати в 1790, не принимая во внимания ответных возражений Канта. После этого он написал ещё одну критическую статью, где сравнивал Канта с Бэконом и выслал Канту. Ни на это, ни на последующие письма и сочинения Маймона Кант более не отзывался, как ни умолял Маймон: «Заклинаю святостью Вашей морали, не откажите в ответе… Пусть Ваш ответ будет кратким, мне важно получить от Вас хотя бы несколько строк». В письме к Рейнгольду (Karl Leonhard Reinhold, 1757—1823) Кант пишет, что надвигающаяся старость не позволяет ему воспринимать чужие идеи: «Не могу понять, что, собственно, хочет Маймон с его попыткой улучшить критическую философию, и предоставляю другим возможность поставить его на место».[30] Другая цитата: «евреи охотно предпринимают такие попытки, чтобы на чужой счет придать себе значительный вид».[31][32]
Проникновение самоучки Маймона в книгу Канта — поразительный факт, особенно удивительный в свете того, что профессиональные рецензии на первое издание книги Канта показали непонимание рецензентов. Такова, например, была рецензия профессора Гарве (Christian Garve, 1742—1798), знакомого Маймону по Бреслау. Из-за этого Кант выпустил в 1787 году второе издание, затрудняющее неправильное понимание.[33]
Заключительный период жизни
Маймон так никогда и не смог благополучно существовать, зарабатывая на жизнь. Философские сочинения давали мало, другой литературный труд — тоже. Добытые деньги Маймон обычно растрачивал. К тому же он имел пристрастие к алкоголю: бывало, что Маймон продавал в трактире беседу за выпивку. Всегда имел неопрятный вид, даже пренебрегал париком и пудрой для волос, вёл нерегулярный образ жизни, зачастую возвращался навеселе домой по ночному Берлину, громко рассуждая о метафизике. Писал всегда в физически неудобных условиях, часто в трактире, иногда терял рукописи.[34] В 1791 году выходит в свет автобиография Маймона, имевшая большой успех.[35] Гёте даже подумывает пригласить Маймона к себе.
 В 1791 году появляются две фундаментальные книги Маймона: «Исследования по трансцендентальной философии» на немецком и комментарий к «Путеводителю растерянных» на иврите «Гиват аМоре».[36][37] Особенно плодотворными явились для Маймона 1793-1794 годы: вышли собственные книги: «О прогрессе в философии» и «Исследование по новой логике и теории мышления», а также три комментария на работы других: Аристотеля, Бэкона и аннотированный перевод книги Пембертона по ньютоновской физике. Кроме того, он издал переписку с Рейнгольдом, скандальным образом не спросив разрешения у последнего.[6]
В 1791 году появляются две фундаментальные книги Маймона: «Исследования по трансцендентальной философии» на немецком и комментарий к «Путеводителю растерянных» на иврите «Гиват аМоре».[36][37] Особенно плодотворными явились для Маймона 1793-1794 годы: вышли собственные книги: «О прогрессе в философии» и «Исследование по новой логике и теории мышления», а также три комментария на работы других: Аристотеля, Бэкона и аннотированный перевод книги Пембертона по ньютоновской физике. Кроме того, он издал переписку с Рейнгольдом, скандальным образом не спросив разрешения у последнего.[6]
 С 1795 года у Маймона появился постоянный меценат — граф Калькрайт,[38] поселивший его у себя и предоставивший полную свободу.[4] Творческая активность Маймона несколько снизилась, он мечтал снова вернуться в Берлин. По некоторым мнениям, много пил, хотя в переписке сохранял остроту ума в полной мере, например, защищал философию Фихте от Канта. В 1797 году появляется последняя книга Маймона — попытка сформулировать синтетическую систему. Он ещё мечтает вернуться в Берлин, а также написать работу, где «наконец будет объяснено, что есть Абсолют».[6]
С 1795 года у Маймона появился постоянный меценат — граф Калькрайт,[38] поселивший его у себя и предоставивший полную свободу.[4] Творческая активность Маймона несколько снизилась, он мечтал снова вернуться в Берлин. По некоторым мнениям, много пил, хотя в переписке сохранял остроту ума в полной мере, например, защищал философию Фихте от Канта. В 1797 году появляется последняя книга Маймона — попытка сформулировать синтетическую систему. Он ещё мечтает вернуться в Берлин, а также написать работу, где «наконец будет объяснено, что есть Абсолют».[6]
Умер одиноким в 46 или 47 лет от алкоголизма,[39] по другим мнениям — от болезни лёгких.[34] Маймон и на смертном одре утверждал, что индивидуальное бессмертие души есть лишь красивая мечта, и что он, хоть и имеет такие убеждения, находится в мире с собой.[40] Похоронен в Глогау за забором еврейского кладбища в могиле без указания имени как еретик. Историки сообщают, что похороны включали в себя и другие элементы унижения покойного: мальчишки кидали камни в гроб с криками: «Апикойрес!» (с иврита — «еретик»). Покровитель Маймона, граф Калькрайт, всё же заказал надгробный камень.[6][41][42]
Смерть Маймона не вызвала в Берлине большого резонанса. Лазарь Бендавид написал небольшое эссе в память о покойном. Десять лет спустя друг Маймона Саббатия Вольф написал книгу воспоминаний о Маймоне, под названием «Маймониана или рапсодии к характеристике Соломона Маймона».[6][43]
Литературное наследие Маймона
В проекте [www.salomon-maimon.de/edition/baende.html Salomon-Maimon-Gesellschaft e.V.] (нем.) критического издания полного собрания сочинений Соломона Маймона планируется 7 томов немецких и 3 тома сочинений на иврите. Ниже перечислены только часть произведений.
Автобиография
 Вышла в печати в 1791 году.[35] Начинается с описания деда и отца героя, доходит до переписки с Кантом и завершается списком работ. Написана живо и захватывающе, иногда — с шокирующей откровенностью. За образец явно взята «Исповедь» Руссо.[44] Автобиография содержит ценные для историков характеристики тогдашнего польского общества, яркие картины тягот жизни евреев Польши и Германии. Кроме того, даны живые портреты таких известных и рядовых людей как Мендельсон и князь Радзивилл, хасидов и аскетов, неучей и учёных. Книга явилась, по сути, первой современной еврейской книгой из жанра автобиографии.[6]
Вышла в печати в 1791 году.[35] Начинается с описания деда и отца героя, доходит до переписки с Кантом и завершается списком работ. Написана живо и захватывающе, иногда — с шокирующей откровенностью. За образец явно взята «Исповедь» Руссо.[44] Автобиография содержит ценные для историков характеристики тогдашнего польского общества, яркие картины тягот жизни евреев Польши и Германии. Кроме того, даны живые портреты таких известных и рядовых людей как Мендельсон и князь Радзивилл, хасидов и аскетов, неучей и учёных. Книга явилась, по сути, первой современной еврейской книгой из жанра автобиографии.[6]
В книге высказывается, с одной стороны, сильная критика схоластического изучения Талмуда, являвшегося главным образовательным занятием. Маймон описывает, как он не мог убедить других учеников иешивы в существовании антиподов. С другой стороны, он описывает, как ценят традиционные евреи талмудическую учёность, не начётничество, а способность вести тонкий, хоть и схоластический, анализ понятий.
В книге содержится также критика социального устройства еврейского общества, где правит учёная элита талмудистов, в то время как остальные не получают никакого светского образования. Маймон, радикальный представитель движения Просвещения, провозглашает, что все беды евреев происходят от довлеющих над ними предрассудков.[45]
Известный историк философии Куно Фишер считает, что наиболее привлекательным в биографии является не характер Маймона, «на который беспорядочный и неопрятный склад жизни положил глубокие следы — привлекательна его жажда истины, его острый ум, через целый колючий лес препятствий пробивающийся на свежий воздух.»[23]
Это наиболее читаемое произведение Маймона переведено на английский, иврит, идиш, русский, польский и итальянский. Его обсуждали в переписке Гёте и Шиллер.[6]
Философские произведения
- «Эссе по трансцендентальной философии с введением в символическое знание и примечаниями» ([tiss.zdv.uni-tuebingen.de/webroot/fp/fpsfr01_SoSe_2004/dokumente/Maimon-VTP-Normal.pdf Versuchüber die Transscendentalphilosophie mit einem Anhang über die symbolische Erkenntniß und Anmerkungen]) — развернутая критика Канта на базе исходной журнальной публикации. Содержит также направления нового пути, использованные затем Фихте. Эта книга — главное философское сочинение Маймона. Кант не ответил Маймону никак — ни в печати, ни письмом; в переписке с Рейнгольдом Кант ссылался на старость и «что, собственно, хочет сказать Маймон своим улучшением критической философии (такие улучшения евреи вообще охотно предпринимают, чтобы на чужой счет придать себе важности), я никогда не мог хорошенько понять и потому должен предоставить опровержение его другим».[46] В 2010 году эссе печатается в английском переводе, несколько ранее появились переводы на французский и иврит.[47]
Эссе написано довольно хаотически, в нём сильнейшим образом видна привычка комментировать источники. Первая часть — критика Канта, вторая является комментарием к первой части, а третья и четвёртая — комментарии к предыдущим частям.[2] - «Критические исследования о человеческом духе или о высшей способности познания и воли» Берлин, 1797. Дальнейшее развитие идей «Эссе по трансцендентальной философии». Написано в виде диалога Критона и Филалета, причём Критон излагает мысли Канта и Рейнгольда, а Филалет — самого Маймона.
- «Философский словарь, или освещение важнейших предметов философии в алфавитном порядке» — точные определения философских понятий в алфавитном порядке. Вызвал бурную полемику с молодым К. Л. Рейнгольдом. Берлин, 1791.
- «Категории Аристотеля, истолкованные в примечаниях и изложенные как пропедевтика к новой теории мышления». Берлин, 1794. Краткое и чёткое изложение позиции Маймона.
- «Вершина Учителя» — Комментарий к «Путеводителю растерянных» Маймонида на иврите. Часть 1 была издана в Берлине анонимно в 1791 году, части 2 и 3 пропали.[48] Несмотря на анонимность, в книге содержится намёк: автора можно найти в плену (в слове «плен»). Слово плен (ивр. שבי, «шви») на иврите является акронимом от имени автора «Шломо бен Иеошуа». Введение книги является историей мировой философии. Анализирует средневековые представления Маймонида с точки зрения физики Ньютона и критической философии Канта, излагает систему Коперника. По-видимому, является первой книгой по новой философии на иврите.[6] Параллельно с комментарием Маймона книга содержит радикальный аристотелевский комментарий Моше Нарбони, до того не печатавшийся. Из всех философских книг Маймона только данная книга переиздавалась в течение XIX века, в общей сложности, три раза. Необычным является использование взглядов Джордано Бруно, возможно, в качестве литературного приёма.[49]
- «О прогрессе философии, по поводу задачи Берлинской академии на 1792 год: какие успехи сделала метафизика со времен Лейбница и Вольфа». Берлин, 1793. Сочинение, поданное на конкурс Прусской Академии наук в 1792 году.[50] Развитие скептицизма Маймона по отношению к критической и догматической философии.
- «Наброски в области философии» (1793) об отношении Маймона к Рейнгольду.
- «Опыт новой логики, или теория мышления с приложением письма Филалета к Энезидему» (1798) ([tiss.zdv.uni-tuebingen.de/webroot/fp/fpsfr01_SoSe_2004/dokumente/Maimon-Logik--Rohfassung.pdf Versuch einer neuen Logik oder Theorie des Denkens]). Об отношении Маймона к Энезидему (Gottlob Ernst Schulze).
- Множество статей в берлинских философских журналах — в «Берлинском ежемесячнике» ([www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/Berlinische_Monatsschrift/ «Berlinischen Monatsschrift»]), в «Немецком ежемесячнике», в «Берлинском журнале просвещения», в «Берлинском современном архиве», в «Журнале опытной психологии», соиздателем которого он стал впоследствии.
Неизданные произведения
- «Желание Соломона» (ивр. חשק שלמה, Hesheq Shlomo). Написана в бытность автора в Позене в 1778 году. Состоит из пяти разрозненных частей. Не издавалась. Рукопись из 300 страниц хранится в Иерусалиме. Три части представляют собой комментарии на средневековых авторов: Раббейну Ниссим (ивр. מעשה ניסים, «Маасе Ниссим»), Авраам Ибн-Эзра (ивр. עבד אברהם, «Эвед Авраам»), Бахия ибн-Пекуда (Bahya ibn Paquda, часть называется ивр. עברחה בחיי, «Авархеха Бахия»). Ещё одна часть — учебник алгебры на 108 страницах (ивр. מעשה חושב, «Маасе Хошев»), и, наконец, попытка совместить каббалу с Маймонидом (ивр. מעשה ליבנת הספיר, «Маасе Ливнат АСапир»).[51]
- «Тайны мудрости» (ивр. תעלומות חוכמה, Ta’alumoth Hochma). Написана в бытность автора в Бреслау в 1786 году. Видимо, первый трактат на иврите о ньютоновской физике. Не издана.[52]
- «Тайны философии». Готовая к печати рукопись пропала.[48]
Идеи и философия
Он один из самых замечательных самоучек, когда-либо выступавших в философии. Критик Канта, проложил дорогу для дальнейшего развития философии. Особенно сильно повлиял на Фихте.[23]
Эволюция взглядов
В Позене Маймон считался ещё евреем-ортодоксом, хотя и подозревался в ереси.[23] В Берлине он усвоил систему Спинозы и нападал на Мендельсона, стоявшего на позициях Лейбница и Вольфа, которых Маймон изучил в тот же период.[20] Там же он пришёл к выводу, что каббала, которую изучал самостоятельно ещё на родине, есть, по сути, спинозизм, так как утверждает единую субстанцию для всего сущего.[14][20] В Берлине, судя по всему, под влиянием Спинозы Маймон отошёл от практических заповедей еврейской религии, а позднее в Амстердаме отказался поддерживать предрассудки «антропоморфной религии».[21] В Бреслау вообще привёл местного раввина в ужас своим видом и взглядами. То был раввин Рафаэль Коген, знавший Маймона ещё в Польше как одарённого подростка.[53] Маймон заявил даже, что «как политически, так и нравственно дурное положение еврейской нации коренится в её религиозных предрассудках».[45]
К моменту знакомства с трудами Канта Маймон уже овладел тремя главными философскими системами Нового времени: Спинозы (1632—1677), Юма (1711—1776) и Лейбница (1646—1716).[54] Когда Маймон прибыл в Берлин четвёртый и последний раз, он сел изучать «Критику чистого разума», одно из самых значительных произведений философии Нового времени. Маймон делает значительные усилия по выявлению слабых мест у Канта и возможности продвижения дальше. Он, по его словам, помышлял о создании общей согласительной системы (нем. Koalizion-system, буквально — «коалиционная система») и утверждал, что создал её в своём «Эссе по трансцендентальной философии».[27] Она действительно несёт черты разных теорий, парадоксальным образом объединяя Канта и Юма; иногда её называют «критическим скептицизмом».[23] Данная система не приобрела такой известности как системы Фихте, Шеллинга или Гегеля, некоторые историки полагают, что Маймон не развил грандиозной системы из-за скептицизма по отношению к возможностям философии.[48] Сказалось, возможно, и отсутствие благоприятных условий для творчества, а, может быть, и другая привычка Маймона — комментировать, а не создавать собственную теорию.[23] Куно Фишер указывает также другую довольно очевидную причину — недостаток образования и дисциплины.[23]
Вещи-в-себе и дифференциал сознания
Согласно «Критике чистого разума», каждый предмет дан нам в виде многообразия ощущений, упорядоченных априорными формами опыта — пространством и временем. Но ни ощущения, ни априорные формы, их упорядочивающие, не принадлежат предмету самому по себе. Значит, предмет, как он дан в созерцании, не есть предмет сам по себе. Но наш познающий рассудок, то есть, наша способность осмысливать явления понятийно, имеет дело только с созерцаниями. Поэтому предмет сам по себе остается вне сферы познания. Кант и называет его вещью-в-себе. Очень рано критики Канта узрели в этом понятии противоречие: получается, что вещь в себе является в явлении, в котором она не является. Гегель, например, говорит о Кантовой вещи-в-себе, что «„в себе“ — это лишь caput mortuum, мертвая абстракция другого, бессодержательная, неопределенная потусторонность».[55]
Вопрос, как обойти эту кардинальную трудность, решался по-разному. Маймон заявил один из первых, что вещь-в-себе невозможна[23] и предложил теорию, согласно которой познаваемый объект находится в сознании с самого начала как неопределённое сознание, а при познании он переходит в определённое сознание. Тем самым, познание становится чисто рациональным.
Процесс этот происходит не одним скачком, а в виде приближения к полному познанию в виде последовательности бесконечно большого количества уменьшающихся шагов, аналогично сумме рядов бесконечно малых величин. Маймон вводит термин «дифференциал определенного сознания» по аналогии с терминами дифференциального исчисления в математике. Маймон пользуется аналогом суммирования ряда, при котором мы можем подойти к полному познанию бесконечно близко, как к иррациональному числу. Познание же чего-то вне сознания из опыта обречено оставаться принципиально неполным, как корень из минус единицы. Другими словами, разница между полным и частичным сознанием не принципиальна, а познание чего-то вне сознания — принципиально невозможно. Маймон упоминает бесконечное сознание, которое обладает полным познанием объекта, но неясно, имеет ли Маймон в виду актуально бесконечное сознание или только недостижимый для человека предел. Вещь-в-себе есть то, как она выглядит или выглядела бы в бесконечном сознании.[23][56]
Трансцендентальная логика и принцип определённости
Маймон, вслед за Кантом, разделяет логику на общую и трансцендентальную. Последняя, как и всё трансцендентальное у Канта, используется до опыта, она находится целиком внутри сознания. Маймон идёт несколько дальше и вскрывает незамеченный дотоле эффект, что обычная формальная логика связана на самом деле с метафизикой, на ней лежит отпечаток предметов мира. Из-за этого у Маймона трансцендентальная логика имеет бо́льшее значение, чем у Канта. Обычная логика занимается формой суждений, а трансцендентальная логика находит их скрытое содержание.[56]
Предмет дан в сознании, такое «данное сознание» не является полным. По Маймону, человек создаёт познание предмета и только такое «созданное сознание» может обладать полнотой. Такую мыслительную деятельность Маймон называет реальным мышлением (нем. das reelle Denken). Только в таком априорном мышлении, по мысли Маймона, возможны синтетические суждения. В них происходит объединение разнородных элементов в один объект сознания только одним способом: когда один элемент может мыслиться без другого, но не наоборот. Так относятся друг к другу, например, линия и прямая, их отношение есть отношение определимого и определения. Это ограничение на мышление Маймон называет «принцип определённости» (Satz des Bestimmbarkeit).[23][56]. При этом пространство и время не создаются сознанием, а даны априорно, и могут быть только определимым, но не определением.[23]
Мышление и созерцание
Объекты возникают в созерцании, а познаются в мышлении. Кант ставит два вопроса: как мы знаем, что созерцание даёт мышлению правильный материал — qiud facti? И каким образом созерцание и мышление могут соединиться — quid juris?[23] Каким образом рассудочные концепты взаимодействуют с чувственными интуициями? Кант пытался ответить на этот вопрос, но замечал, что это непросто.
Маймон указал, что этот вопрос есть эпистемиологическая форма mind-body problem, о которой много говорил Декарт. «Вопрос о применимости разумных форм к данным в чувствах объектам есть вопрос, которым задавались все серьёзные философы».[57][58] Другое описание нерешённой проблемы Канта дано Маймоном в сравнении с понятием эманации, идущей ещё от учения Плотина об эманации активного разума. А именно: каким образом активный разум даёт форму материи?
Маймон фактически снова ввёл скептицизм Юма теперь уже в саму критическую философию Канта. В письме Рейнгольду Маймон утверждал, что Кант не разрешил эту проблему. Сам Маймон пытается дать решение, и историки философии расходятся во мнениях о том, считал ли он своё решение исчерпывающим. Решение неожиданно использует идею Маймонида, идущую ещё от Аристотеля.
А именно Маймон утверждает, что чувственное познание и интеллектуальное познание отличаются лишь степенью. В процессе познания человек стремится установить единство интуиции, познания и самой идеи. Совершенство достигается путём достижения такого единства. При этом человек в любой момент времени обладает ограниченным познанием, стремящимся достичь бесконечного познания, как у Бога, но разница между знанием Бога и знанием человека не принципиальная, а количественная.
В качестве модели Маймон рассматривает постижение математического объекта: сначала объект представляется в чувственном воображении, как фигура, ограниченная тремя линиями, потом разум осознаёт, что из этого следует наличие трёх углов. В конечном итоге оба вида познания сливаются в одно единство с этим объектом, и здесь человек уподобляется Богу.[58][59]
В этом духе Маймон толкует библейские стихи, фактически — по Маймониду. Так, стих о том, что Бог стоит вверху лестницы Иакова означает, что человеческое познание стремится к бесконечному познанию. А подобие Божие у человека по стиху Быт. 1:26 означает, что человеческое познание аналогично Божественному, хоть и с поправкой на конечность.Бесконечное понимание, да будет благословенно, определяет понимание и отличает его от всего другого. Из этого вытекает, что интеллигибельные сущности, то есть разумные формы, понимают самих себя. Интеллект, который есть причина этих форм, совпадает с познанием, и вся операция познания есть познание самого себя.[58][60]
Некоторые философы считают, что Маймон открыл антиномию человеческого познания между пассивным восприятием и активным творчеством.[61]
Пространство и время
Кант утверждал, что пространство и время суть априорные интуиции, представления лежащие в основе всех внешних явлений, и, если отвлечься от субъективных условий, «представление о пространстве не означает ровно ничего».[62] В этом Кант радикально разошёлся с Лейбницем и утверждал, что разница в пространстве и времени вносит разницу, которой нет в самих объектах. Согласно Маймону, однако, разница в объектах находит отражение в рамках пространства и времени. Тем самым, Маймон снова водит в философию взгляды Лейбница, отвергнутые Кантом.[63]
O Боге
В «Вершине Учителя» Маймон обсуждает аристотелевский тезис Маймонида, что Бог есть формальная, целевая и действующая причина Мира. Маймон вместе с Моше Нарбони, напечатанном в том же издании, утверждает что Бог является и материальной причиной Мира. Кант воспринял идеи Маймона как особую форму спинозизма, сам Маймон предпочитал термин «акосмизм».
Как уже говорилось, Маймон считал, что человеческое познание стремится к бесконечности как ряд в математике. Вопрос о том, существует ли бесконечный разум или он введён Маймоном в качестве абстрактного предела, исследователи не могут разрешить однозначно. Не помогает и то, что Маймон временами говорит о Мировой душе и Интеллекте, имманентном Миру, согласно Джордано Бруно (нем. Weltseele,ивр. ruah-haolam). Большая часть исследователей склоняется к мнению, что Маймон полагал реальное существование бесконечного разума,[64] особенно учитывая, что Маймон считал конечный разум ограничением бесконечного.[58]
Математика
Саббатия Вольф, друг Маймона, написал о нём мемуары,[65] в которых сообщает, что Маймон так увлекался чтением сочинений великого математика Леонарда Эйлера, что начинал раскачиваться и читать нараспев, как в иешиве.[66] В сочинениях Маймона заметную роль играют математические образы: дифференциал познания, возможность бесконечного познания, слияние в полном знании разных форм познания, а также и самого объекта. Мышление именно математика уподобляется мышлению Бога.
Математика представляла для Маймона удобную модель познания, например, для исследования важного для Канта вопроса, как возможны синтетические суждения a priori.[67] Маймон возражал, как и Кант,[68] против введения математических методов в философию по образцу «геометрического метода» Спинозы.[69]
Объект, данный в ощущениях, с самого начала находится в сознании; по мере продвижения в познании математического объекта интуиции и концепты непрерывно сближаются. В пределе человек достигает бесконечного познания, когда, используя терминологию Канта, все синтетические суждения превращаются в аналитические.[58]
Представляет значительный интерес отношение Маймона к аксиомам математики. Они не обязательно истинны, но полезны для познания истины. Маймон, по-видимому, допускал возможность других аксиом геометрии, особенно вне человеческого разума. Некоторые исследователи считали, поэтому, Маймона предтечей неевклидовой геометрии (Ф.Кунтце) или даже аксиоматического метода в математике (Х. Берман). Другие отмечали, что представление Маймона о превращении всех синтетических суждений в аналитические в бесконечном разуме плохо сочетается с аксиоматическим подходом, где выбор аксиом произволен.[69]
Маймона можно считать предтечей структурализма в современной математике, в частности, маймоновские мотивы отчётливо видны в работах Рихарда Дедекинда, тем самым именно Маймона следует считать основоположником структурализма в математике.[70]
Этика
Маймон раскритиковал обоснования морали по Канту в серии статей.[71] Категорический императив является лишь вынуждением, но не моральной обязанностью. Вместо императива Маймон видит более надёжное основание — универсальное стремление людей к правде, которое, в свою очередь, базируется на стремлении верифицировать человеческие представления. Критерием истинности поступка является всеобщее согласие, а разум даст наилучший способ выполнить это действие. В качестве примера: смертная казнь будет морально допустима, только если сам осуждённый согласится с её необходимостью.[56]
В последнем крупном философском сочинении («Критические исследования в области человеческого духа» 1797 года) Маймон развивает теорию морали в духе Аристотеля. Категорический императив Канта есть лишь формальная причина морали, в то время как целевой причиной является эвдемония, достигаемая по обретении истинного знания.[58]
В последнем опубликованном эссе под названием «Моральный скептик» Маймон описывает полную философскую этическую систему как нечто, далеко не реализованное, и, может быть, невозможное. И кантианский моральный философ, и скептический моральный философ видят такую систему издалека, по сравнению Маймона, как Моисей видит Землю Обетованную — издалека, но не может войти.[58]
Язык
Исследования Маймона о роли языка в познании до недавнего времени не вызывали особенного интереса. Между тем, Маймон посвятил этой теме целую главу «О символическом познании и философском языке» в своём главном эссе. Среди прочего, Маймон делает там далеко идущее зявление, что философия — это исключительно наука о структуре языка.[72]
Значение Маймона
В дальнейшей истории философии
Фихте писал о Маймоне так: «Моё уважение к Маймону не имеет границ. Я уверенно полагаю и имею доказательства, что он перевернул философии Канта с ног на голову, он сделал это незаметно для других. Я думаю, что будущие столетия посмеются над нами за это.»[73] В другом месте он называет Маймона «одним из крупнейших мыслителей нашего времени».[74] Вначале о Маймоне уважительно отзывался Кант, и в ранних произведениях — Шеллинг. С большим уважением относился к нему Мендельсон и менее значительные фигуры, как Рейнгольд и Герц. Его изучал, чтобы понять Канта, и Шопенгауэр.[75] Маймон вернул в философию идеи Лейбница и Спинозы и оказал большое влияние на Фихте, а через него — и на развитие всего немецкого идеализма.[48]
Стэнфордовская интернетная философская энциклопедия считает, что Маймон повлиял на трактовку философии Спинозы Гегелем. Спиноза, по мнению Маймона, не считает, что Бога не существует, а наоборот — что не существует Мира. Тем самым, спинозизм трактуется не как атеизм, а как религиозный акосмизм, то есть, всё-таки, религия, хотя и далёкая от ортодоксальной. И действительно, такой взгляд на Спинозу встречается в лекции Гегеля по истории философии и является основным подходом Гегеля к философии Спинозы.[48]
В первой половине XIX века Маймон был наполовину забыт; его философские сочинения на немецком не переиздавались. Позднее его переоткрыл историк философии Иоганн Эрдман в исследовании, опубликованном в 1848 году. В ещё более полной мере оценил значение Маймона для развития немецкого идеализма Вильгельм Дильтей в книге 1889 года.[58] Примерно тогда же известный историк новой философии Куно Фишер писал, что «признание, доставшееся на долю Маймона, далеко не соответствует его значению». Причину этого Фишер видит в недостатках сочинений Маймона: недостаточное владение немецким языком и недостаточные дисциплина труда и образование.[23] Шадворт Ходжсон (англ. Shadworth Hodgson) в Англии считал Маймона важнейшим представителем кантианской мысли и истинным продолжателем кантианства (в книге «Philosophy of Reflection»).[2]
Затем идеи Маймона использовал Ханс Файхингер в своём сочинении «Философия „Как если бы“». Он называл Маймона «самым проницательным умом из всех непосредственных последователей Канта».[2] Позже философией Маймона занимались Эрнст Кассирер[48] и Хуго Бергман.[63] Многие исследователи отмечали маймоновские мотивы в творчестве известного неокантианца Германa Когенa, хотя последний яростно отрицал какое бы то ни было влияние Маймона.[58] Теодор Адорно, защищая Канта, пишет, что не следует думать, «что критические достижения Канта были забыты последующими пост-кантианскими философами, начиная с Соломона Маймона».[76]
Франц Розенцвейг считал Маймона ключевой фигурой — где-то между Фихте и Гегелем.[66] Рабби Йосеф Дов Соловейчик цитирует комментарии Маймона к Маймониду и упоминает Маймона вместе с Германом Когеном в примечаниях к своей главной работе «Человек Галахи».[66][77]
Жиль Делёз подчёркивал важность теории дифференциала в познании. Манфред Франк многие годы вёл семинары по философии Маймона[78] и назвал его в 2004 году «последним великим философом, которого надо открыть»[79]
Интерес к идеям Маймона постепенно растёт; свидетельством этому является рост числа книг и статей, посвящённых Маймону,[6] и первый английский перевод «Эссе по трансцендентальной философии»,[63] в связи с которым Манчестерский Университет объявил конференцию.[79]
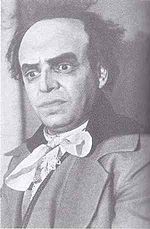
В культуре
В мировой культуре запечатлелся трагический образ Маймона как талантливого самородка-бунтаря.
В Московском государственном еврейском театре 22 октября 1940 года состоялась премьера спектакля «Соломон Маймон» (постановка Соломона Михоэлса по пьесе М. Даниэля, художник Р. Фальк, композитор Л. Пульвер).[80] Вениамин Зускин был в заглавной роли Маймона; Зиновий Каминский сыграл свою первую роль в ГОСЕТе — Моисея Мендельсона.[81] Зускин удачно выступил в роли философа Маймона, хотя первоначально уговаривал Соломона Михоэлса взять эту роль себе.[82] Спектакль позитивно освещался в печати. Лейб Квитко, например, писал, что «Зускин сумел сделать незримое событие — процесс мышления — зримым и ощутимым».[83]
В последнем романе Джордж Элиот «Даниэль Деронда» (1876) главный герой чувствует притяжение к евреям. Он специально отправляется в букинистический магазин и покупает «Автобиографию» Маймона такого формата, чтобы её было легко спрятать в карман. Продавец спрашивает его: «Не из нашей ли вы расы?» Деронда, сильно покраснев, ответил: «Нет». На самом деле он был еврейский сирота, воспитанный лордом.[84]
Судьба Маймона описана в известном романе Хаима Потока «Избранники» из жизни американских ортодоксальных евреев. Там Маймон фигурирует как иллюстрация трагедии еврея, стремящегося к нееврейской мудрости.[85] Интересно, что Поток за несколько лет до написания романа получил докторскую степень за исследование по Маймону.[66] Биографию Маймона внимательно читали Вальтер Беньямин, Гершом Шолем и Лео Штраус. Шолем, как нетрудно предвидеть, интересовался более всего отношением Маймона к каббале.[66]
Многие источники поддерживают представление о Маймоне как о своего рода дикаре из восточно-европейских лесов. Начало положил сам Маймон, а также Маркус Герц, применивший к Маймону слово «неотёсанный».[66] Позднее в Германии произошла идеализация образа патриархального восточно-европейского еврея.[18] Так, классик еврейского экзистенциализма Франц Розенцвейг прочёл на фронте очередной раз переизданную биографию Маймона и раздражённо написал домой, что «описывать евреев с востока как варваров есть ужасная глупость. Там налицо самодостаточная культура, и только такой индивидуум, который бросил эту культуру, становится дикарём».[66]
Другая трактовка образа Маймона встречается у Ханны Арендт. Она считает, что в то время еврейский интеллектуал в Европе мог быть или парвеню, или парией. Примером последнего приводится Маймон.[86]
Напишите отзыв о статье "Маймон, Соломон"
Примечания
- ↑ Термин введённый Маймоном по аналогии с дифференциальным исчислением в математике
- ↑ 1 2 3 4 5 Сэмюэль Атлас во введении к своей книге «От критического к спекулятивному идеализму. Философия Соломона Маймона» указывает, что принятое значение года рождения как 1754 нигде не указывается Маймоном в явном виде, напротив, из того, что он прибыл в Позен осенью 1777 года в возрасте 25 лет и из некоторых других деталей биографии, можно вывести 1752 год рождения. Атлас не исключает возможность рождения и в 1751 году. Дата приезда в Позен ограничена тем, что раввин Позена Цви Гирш бен Авраам в 1778 году переехал в Фюрт.
- ↑ [www.ctv.by/tvprogram/~news=54699 Деревня Могильно (Минская область): Здесь родился и жил до 25 лет философ Соломон Маймон, критиковавший идеи Канта]
- ↑ 1 2 нем. [www.salomon-maimon.de/maimon/chronologie.html#1 Salomon Maimon: Chronologie]
- ↑ 1 2 Salomon Maimon, Samuel Hugo Bergmann. The Autobiography of Salomon Maimon with an Essay on Maimon’s Philosophy, London, The East and West Library, 1954, гл. 3. Замечание здесь и далее, все события из автобиографии, везде, где возможно подтверждаются другими источниками: Фишер, Куно. «Жизнь и труды Соломона Маймона», энциклопедии. Abraham P. Socher критически пересмотрел всю биографию в книге «The Radical Enlightenment of Solomon Maimon». Никаких серьёзных отклонений от истины не нашёл.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A. Socher, 2006, chapter 1.
- ↑ стр. 31 и далее
- ↑ S.Maimon. Autobiography, 1954, chapters 6-7.
- ↑ S.Maimon. Autobiography, 1954, chapter 7.
- ↑ S.Maimon. Autobiography, 1954, chapters 7-8.
- ↑ S.Maimon. Autobiography, 1954, chapters 9-11.
- ↑ S.Maimon. Autobiography, 1954, chapter 11,13,17.
- ↑ S.Maimon. Autobiography, 1954, chapter 13.
- ↑ 1 2 S.Maimon. Autobiography, 1954, chapter 14.
- ↑ S.Maimon. Autobiography, 1954, Appendix 2.
- ↑ Immanuel Elkes в книге «[books.google.co.il/books?id=LBxQGSNIzoQC&lpg=PA34&ots=2cdskH9Y7f&dq=who%20wrote%20netzah%20israel&pg=PP1#v=onepage&q=who%20wrote%20netzah%20israel&f=true The BESHT. Magician, mystic and leader]», ch. 2, отождествляет его с рабби Йоэлем бен Ури Хальперном из города Замосць (1690—1757), которого Маймон считал обманщиком
- ↑ 1 2 S.Maimon. Autobiography, 1954, chapter 18.
- ↑ 1 2 «A pity of it all. A portrait of German-Jewish Epoch, 1743—1933», Amos Elon, Picador, NY, 2002, pp.29-31
- ↑ 1 2 S.Maimon. Autobiography, 1954, chapter 19.
- ↑ 1 2 3 4 S.Maimon. Autobiography, 1954, chapter 20.
- ↑ 1 2 S.Maimon. Autobiography, 1954, chapter 21.
- ↑ 1 2 3 S.Maimon. Autobiography, 1954, chapters 21-22.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Фишер, Куно. «Жизнь и труды Соломона Маймона» История Новой философии. Книга 6, Фихте. Часть 6.
- ↑ По-видимому, ни Мендельсон, ни другие не знали, что Барух Шик из Шклова уже перевёл на иврит учебники по алгебре и тригонометрии «ивр. Keneh leMiddah», изданный в 1783 году в Праге, а также часть «Начал» Эвклида, изданные в 1780 году. В 1777 году Шик посетил Берлин и получил там поддержку. (Abraham P. Socher. «The Radical Enlightenment of Solomon Maimon», chapter 1, p.39)
- ↑ 1 2 S.Maimon. Autobiography, 1954, chapter 23.
- ↑ [www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=671&letter=B BENDAVID, LAZARUS] in «Jewish Encyclopedia»
- ↑ 1 2 S.Maimon. Autobiography, 1954, chapter 24.
- ↑ Письмо Канта Герцу 26.05.1789.
- ↑ Автобиография Маймона, гл. 24, последняя. На этом эпизоде и кратком перечне дальнейших работ завершается автобиография Маймона
- ↑ Гулыга А. В. в книге [www.easyschool.ru/books/19/17/22/ «Кант»] приводит историю переписки
- ↑ Фишер К. «История новой философии. Иммануил Кант и его учение.»
- ↑ Иммануил Кант. Философская переписка, 1759-1799 = Philosophical Correspondence, 1759-1799. — Cambridge: Cambridge University Press, 1999. — С. 211-12. — ISBN 978-0521354011.: «For the past three years or so, age has effected my thinking — not that I have suffered any dramatic change in the mechanics of health, or even a great decline in my mental powers, as I strive to continue my reflections in accordance with my plan. It is rather that I feel an inexplicable difficulty when I try to project myself onto other people’s ideas, so that I seem unable to grasp anyone else’s system and to form a mature judgment of it… This is the reason why I can turn out essays of my own, but, for example, as regards the ‘improvement’ of the critical philosophy by Maimon (Jews always like to do that sort of thing, to gain an air of importance for themselves at someone else’s expense), I have never really understood what he is after and must leave the reproof to others.»
- ↑ Куно Фишер. «История новой философии. Кант. Критика разума и пролегомены. Возникновение пролегомен».
- ↑ 1 2 The Autobiography of Salomon Maimon with an Essay on Maimon’s Philosophy. Эпилог переводчика на английский Кларка Мюррея.
- ↑ 1 2 [www.zeno.org/Philosophie/M/Maimon,+Salomon/Salomon+Maimons+Lebensgeschichte Maimon, Solomon «нем. Geschichte des eigenen Lebens»]
- ↑ [www.teachittome.com/seforim2/seforim/moreh_nevuchim_1.pdf Гиват аМоре] Seforim online
- ↑ [aleph500.huji.ac.il/nnl/dig/books/bk001769524.html Гиват аМоре] (недоступная ссылка с 20-05-2013 (3993 дня)) Jewish National and University Library digitalized
- ↑ [www.salomon-maimon.de/maimon/zeitgenossen.html Salomon Maimon: Zeitgenossen] нем. Kalckreuth, Graf Heinrich (Hans) Wilhelm Adolph (12.12.1766 Nieder-Siegersdorf - 27.06.1830 Nieder-Siegersdorf)
- ↑ Elon, Amos. The pity of it all. A portrait of the German-Jewish Epoch, 1743—1933. Picador, A metropolitanan book. NY, Henry Holt and Company, 2002. Page 59
- ↑ Последние беседа Маймона записана соседским пастором Чегги (Tscheggey), навещавшим больного. «The Autobiography of Salomon Maimon with an Essay on Maimon’s Philosophy». Эпилог переводчика на английский Кларка Мюррея со ссылкой на немецкий журнал нем. «Kronos».
- ↑ Сообщения Симона Бернфельда и Яакова Фромера
- ↑ По сообщениям Флориана Эренспергера (Florian Ehrensperger) и Ицхака Меламеда, посетивших Силезию, еврейское кладбище в Глогау было уничтожено во время Холокоста. Нет никаких оснований считать, что камень на фотографии [www.sztetl.org.pl/en/article/podbrzezie-dolne/12,cemeteries/12585,szlomo-majmon-s-tombstone/ Podbrzezie Dolne — Szlomo Majmon’s Tombstone] имеет отношение к надгробному камню Маймона.
- ↑ [www.perlentaucher.de/buch/17339.html Sabbattia Joseph Wolff «Maimoniana Oder Rhapsodien zur Charakteristik Salomon Maimons»]
- ↑ Маймон упоминает Руссо в главе 8 в описании эпизода детского воровства
- ↑ 1 2 Гаскала // Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. — СПб., 1908—1913.
- ↑ Письмо к Рейнгольду от 28 марта 1794 года.
- ↑ Предисловие к английскому переводу Эссе
- ↑ 1 2 3 4 5 6 [plato.stanford.edu/entries/maimon/ Maimon.] Stanford philosophy library
- ↑ A. Socher, 2006, chapter 2.
- ↑ Lachterman, David. «Mathematical Construction, Symbolic Cognition and the Infinite Intellect: Reflections on Maimon and Maimonides» Journal of the History of Philosophy
- ↑ [plato.stanford.edu/entries/maimon/ Stanford Encyclopedia of Philosophy]. Currently held by the National and University Library, Jerusalem (MS 806426)
- ↑ [plato.stanford.edu/entries/maimon/ Stanford Encyclopedia of Philosophy]. Currently held by the Bodleian Library, Oxford (MS Mich.186)
- ↑ S.Maimon. Autobiography, 1954, chapter 22.
- ↑ В таком порядке Маймон перечисляет их в 24 главе Автобиографии.
- ↑ Гегель. Лекции по истории философии. Книга третья. Книга третья. Санкт-Петербург, 1994, с. 510.
- ↑ 1 2 3 4 [www.iep.utm.edu/m/maimon.htm Entry from the Internet Encyclopedia of Philosophy]
- ↑ Соломон Маймон. «Исследование по трансцендентальной философии.» 1790.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A. Socher, 2006, chapter 3.
- ↑ Маймон. «О прогрессе в философии.»
- ↑ Маймон. Вершина учителя.
- ↑ Jan Bransen. «Антиномия мысли: Маймоновский скептицизм и отношения мысли с объектом». Dordrecht, 1991.
- ↑ И. Кант. «Критика чистого разума». Изд. «Мысль». М. 1994. [filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000497/st001.shtml ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЙ ЭСТЕТИКИ ГЛАВА ПЕРВАЯ, параграф 2] и далее
- ↑ 1 2 3 эссе Хуго Бергмана о философии Маймона в эпилоге к Автобиографии «The Autobiography of Salomon Maimon with an Essay on Maimon’s Philosophy»
- ↑ С. Атлас, Э. Кассирер, Х. Бергман, но не Ф. Кунтце
- ↑ Саббатия Вольф. «Маймониана или рапсодии к характеристике Соломона Маймона»
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 A. Socher, 2006, chapter 5.
- ↑ [www.mpiwg-berlin.mpg.de/Preprints/P317.PDF «Definition and Construction Salomon Maimon’s Philosophy of Geometry». Gideon Freudenthal. Preprint]
- ↑ Фишер К. «История новой философии. Иммануил Кант и его учение.» Часть 2.
- ↑ 1 2 Atlas, Samuel From Critical to Speculative Idealism: The Philosophy of Solomon Maimon. Chapter 11
- ↑ M.Buzaglo, 2002, Appendix.
- ↑ Например, «Versuch einer neuen Darstellung des Moralprinzips und Dedukzion seiner Realität» («Попытка нового представления морального принципа и вывода его реальности») С. Маймон
- ↑ [cjs.utoronto.ca/tjjt/node/11 «The Philosophical Significance of Salomon Maimon’s Essay on Transcendental Philosophy»] by Florian Ehrensperger
- ↑ Daniel Breazeale. Fichte’s early philosophical writings. Ithaca NY, Cornell Univ. Press, 1988, pp.383-384
- ↑ «Один из крупнейших мыслителей нашего времени, который, насколько я понимаю, учит то же самое, называет это обманом посредством силы воображения» И. Г. Фихте. ОСНОВА ОБЩЕГО НАУКОУЧЕНИЯ. В кн.: И. Г. Фихте. Сочинения. Работы 1792—1801 гг. М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1995. С. 275—473. В примечаниях в этом издании разъясняется, что имеется в виду следующее место из Маймона: «Изобретение фикций для расширения и систематического упорядочения наук есть дело разума. Представление этих фикций как реальных объектов есть дело силы воображения» (Maimon S. Versuch einer neuen Logik oder Theorie des Denkens. S. XXXV—XXXVI).
- ↑ Куно Фишер: Артур Шопенгауэр. История новой философии, книга первая, глава вторая, 2:4
- ↑ Adorno, "Kant’s 'Critique of Pure Reason' ", Stanford, 2001, p. 49. Abraham P. Socher. «The Radical Enlightenment of Solomon Maimon», note 57 to chapter 3, p. 199
- ↑ . R J.B. Soloveitchik. «Halachic Man», translation by Lawrence Kaplan, pp. 144, 162
- ↑ [tiss.zdv.uni-tuebingen.de/webroot/fp/fpsfr01_W0304/seminarmaterial.html Philosophisches Seminar. Prof. Dr. Manfred Frank. Salomon Maimon — zwischen Kant und Fichte]
- ↑ 1 2 [maimonconference.wordpress.com/ Salomon Maimon and the Essay on Transcendental Philosophy.] Manchester Metropolitan University, August 19th, 2010
- ↑ [vivovoco.ibmh.msk.su/VV/PAPERS/BIO/GOSET/GOSET01.HTM Краткая летопись жизни и творчества С. М. Михоэлса]
- ↑ [www.e-slovo.ru/353/10pol1.htm ЗИНОВИЙ КАМИНСКИЙ]
- ↑ Путешествие Вениамина. Алла Зускин-Перельман. Гешарим. Иерусалим. 5762.
- ↑ Комсомольская правда. 26.12.1940.
- ↑ англ. [www.gutenberg.org/files/7469/7469.txt Daniel Deronda, chapter 23]
- ↑ Chaim Potok. [vidimfigu.ru/?06014779521455804449#1251:21 «The Chosen»], book 2, chapter 6.
- ↑ Abraham P. Socher. «The Radical Enlightenment of Solomon Maimon». Stanford, Ca., US, 2006. Introduction. В качестве примера парвеню Зохер приводит Маркуса Герца.
Литература
- Solomon Maimon, English translation by: Alistair Welchman, Henry Somers-Hall, Merten Reglitz, Nick Midgley. [www.continuumbooks.com/books/detail.aspx?BookId=134368&SearchType=Basic Эссе о трансцендентальной философии] = Essay on Transcendental Philosophy. — 1-е изд. — London: Continuum, 2010. — Т. 1. — 352 с. — ISBN 9781441113849. (англ.)
- by Nick Midgley (Ник Миджли). [cipg.codemantra.us/UI_TRANSACTIONS/Marketing/UI_Marketing.aspx?ID=WP9781441113849&ISBN=9781441113849&sts=b Предисловие к переводу] = Preface to Essay on Transcendental Philosophy. — 1-е изд. — London: Continuum, 2010. — Т. 1. — С. 1-73. — 352 с. — ISBN 9781441113849. (англ.)
- Salomon Maimon, Samuel Hugo Bergmann. Автобиография Соломона Маймона с эссе Хуго Бергмана о философии Маймона = The Autobiography of Salomon Maimon with an Essay on Maimon’s Philosophy. — 1-е изд. — London: The East and West Library, 1954. — Т. 1. (англ.)
- Salomon Maimon. Автобиография Соломона Маймона с эссе Хуго Бергмана о философии Маймона = Gesammelte Werke / V. Verra. — Hildesheim: Georg Olms, 1970. — Т. 1-7. (нем.)
- Куно Фишер. История Новой философии. — СПб, 1906. — Т. 6. Часть 6. «Жизнь и труды Соломона Маймона».
- Buzaglo, Meir. Соломон Маймон: монизм, скептицизм и математика = Solomon Maimon: Monism, Skepticism and Mathematics. — Pittsburgh: Pittsburgh University Press, 2002. — ISBN 978-0822941767. (англ.)
- Socher, Abraham. Радикальное Просвещение Соломона Маймона: иудаизм, ересь и философия = The Radical Enlightenment of Solomon Maimon: Judaism, Heresy, and Philosophy. — Stanford: Stanford University Press, 2006. (англ.)
- Atlas, Samuel. From Critical to Speculative Idealism: The Philosophy of Solomon Maimon. — The Hague: Martinus Nijhoff, 1965. (англ.)
- Bansen, Jan. The Antinomy of Thought: Maimonian Skepticism and the Relation between Thoughts and Objects. — place: Dordrecht, 1991. (англ.)
- Bergmann, Samuel , Hugo. Translated from the Hebrew by Noah J. Jacobs. The Philosophy of Salomon Maimon. — Jerusalem: The Magnes Press. — Jerusalem, 1967. (англ.)
- Elon, Amos. The pity of it all. A portrait of the German-Jewish Epoch, 1743—1933. — Picador, A metropolitanan book. NY, Henry Holt and Company. — NY, 2002. (англ.)
- Yitzhak Y. Melamud. «Salomon Maimon and the Rise of Spinozism in German Idealism,» Journal of the History of Philosophy. — 2004. — Т. 42:1. — С. 67-96. (англ.)
- Lachterman, David. «Mathematical Construction, Symbolic Cognition and the Infinite Intellect: Reflections on Maimon and Maimonides,» Journal of the History of Philosophy. — 1992. — Т. 30. — С. 497-522. (англ.)
- Файн, Вениамин Моисеевич, перевод с иврита: М. Китросская, Зеев Дашевский, Юлия Винер, Ирена Верник. Вера и разум, глава 2.6 «Шломо Маймон» = ивр. יש מאין. — 1-е изд. — Иерусалим: Маханаим..
- Lazarus Bendavid. «Ueber Salomon Maimon». — National-Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und Gewerbe in den preußischen Staaten: nebst einem Korrespondenz-Blatte. — 1801. — Т. 1. — С. 88-104. (нем.)
- [www.mpiwg-berlin.mpg.de/Preprints/P317.PDF «Definition and Construction Salomon Maimon’s Philosophy of Geometry». Gideon Freudenthal. Preprint] (англ.)
- Salomon Maimon, перевод с немецкого на иврит: Шмуэль Хуго Бергман, Натан Ротенштрейх. Вершина учителя = ивр. גבעת המורה לשלמה מימון. — 1-е изд. — Иерусалим: Israel Academy of Sciences and Humanities, Keterpress Enterprize, 2002. (англ.)
Ссылки
- Маймон, Соломон // Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. — СПб., 1908—1913.
- [www.eleven.co.il/article/12579 Шломо Маймон] — статья из Электронной еврейской энциклопедии
- Маймон Соломон — статья из Большой советской энциклопедии.
- [plato.stanford.edu/entries/maimon/ Salomon Maimon]. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Проверено 30 августа 2010. [www.webcitation.org/615GWYc4q Архивировано из первоисточника 20 августа 2011].
- [www.iep.utm.edu/m/maimon.htm Salomon Maimon]. Internet Encyclopedia of Philosophy. Проверено 30 августа 2010. [www.webcitation.org/615GX0RM5 Архивировано из первоисточника 20 августа 2011].
- [www.salomon-maimon.de/edition/baende.html Salomon-Maimon-Gesellschaft e.V.] (нем.). — Проект критического издания полного собрания сочинений Соломона Маймона, 7 томов немецких и 3 тома сочинений на иврите. Проверено 30 августа 2010. [www.webcitation.org/615GXtdJU Архивировано из первоисточника 20 августа 2011].
- Фишер, Куно. «Жизнь и труды Соломона Маймона» из «Фихте, жизнь, сочинения и труды», часть 6.
- Florian Ehrensperger. [cjs.utoronto.ca/tjjt/node/11 The Philosophical Significance of Salomon Maimon’s Essay on Transcendental Philosophy]. Journal for Jewish Thought, Toronto. Проверено 30 августа 2010. [www.webcitation.org/615GYOjtx Архивировано из первоисточника 20 августа 2011].
- [www.pbi.edu.pl/site.php?s=MmVlNTFlMGMwOTY4&tyt=&aut=majmon&x=45&y=8 Дигитализированные сочинения Маймона]. Polska Biblioteka Internetowa. Проверено 30 августа 2010.
- [www.ub.uni-bielefeld.de/netacgi/nph-brs?s1=&s2=maimon$&s5=&s3=&Sect5=AUFK&Sect6=HITOFF&Sect4=AND&l=20&d=AUFK&p=1&u=/diglib/aufklaerung/suchmaske.htm&r=0&f=S Дигитализированные сочинения Маймона]. University of Bielefeld. Проверено 30 августа 2010. [www.webcitation.org/615GZSoGg Архивировано из первоисточника 20 августа 2011].
| ||||||||||||||
| Эта статья входит в число избранных статей русскоязычного раздела Википедии. |
Отрывок, характеризующий Маймон, Соломон
Все четверо, как спугнутая стая птиц, поднялись и пошли из комнаты.– Мне наговорили неприятностей, а я никому ничего, – сказала Вера.
– Madame de Genlis! Madame de Genlis! – проговорили смеющиеся голоса из за двери.
Красивая Вера, производившая на всех такое раздражающее, неприятное действие, улыбнулась и видимо не затронутая тем, что ей было сказано, подошла к зеркалу и оправила шарф и прическу. Глядя на свое красивое лицо, она стала, повидимому, еще холоднее и спокойнее.
В гостиной продолжался разговор.
– Ah! chere, – говорила графиня, – и в моей жизни tout n'est pas rose. Разве я не вижу, что du train, que nous allons, [не всё розы. – при нашем образе жизни,] нашего состояния нам не надолго! И всё это клуб, и его доброта. В деревне мы живем, разве мы отдыхаем? Театры, охоты и Бог знает что. Да что обо мне говорить! Ну, как же ты это всё устроила? Я часто на тебя удивляюсь, Annette, как это ты, в свои годы, скачешь в повозке одна, в Москву, в Петербург, ко всем министрам, ко всей знати, со всеми умеешь обойтись, удивляюсь! Ну, как же это устроилось? Вот я ничего этого не умею.
– Ах, душа моя! – отвечала княгиня Анна Михайловна. – Не дай Бог тебе узнать, как тяжело остаться вдовой без подпоры и с сыном, которого любишь до обожания. Всему научишься, – продолжала она с некоторою гордостью. – Процесс мой меня научил. Ежели мне нужно видеть кого нибудь из этих тузов, я пишу записку: «princesse une telle [княгиня такая то] желает видеть такого то» и еду сама на извозчике хоть два, хоть три раза, хоть четыре, до тех пор, пока не добьюсь того, что мне надо. Мне всё равно, что бы обо мне ни думали.
– Ну, как же, кого ты просила о Бореньке? – спросила графиня. – Ведь вот твой уже офицер гвардии, а Николушка идет юнкером. Некому похлопотать. Ты кого просила?
– Князя Василия. Он был очень мил. Сейчас на всё согласился, доложил государю, – говорила княгиня Анна Михайловна с восторгом, совершенно забыв всё унижение, через которое она прошла для достижения своей цели.
– Что он постарел, князь Василий? – спросила графиня. – Я его не видала с наших театров у Румянцевых. И думаю, забыл про меня. Il me faisait la cour, [Он за мной волочился,] – вспомнила графиня с улыбкой.
– Всё такой же, – отвечала Анна Михайловна, – любезен, рассыпается. Les grandeurs ne lui ont pas touriene la tete du tout. [Высокое положение не вскружило ему головы нисколько.] «Я жалею, что слишком мало могу вам сделать, милая княгиня, – он мне говорит, – приказывайте». Нет, он славный человек и родной прекрасный. Но ты знаешь, Nathalieie, мою любовь к сыну. Я не знаю, чего я не сделала бы для его счастья. А обстоятельства мои до того дурны, – продолжала Анна Михайловна с грустью и понижая голос, – до того дурны, что я теперь в самом ужасном положении. Мой несчастный процесс съедает всё, что я имею, и не подвигается. У меня нет, можешь себе представить, a la lettre [буквально] нет гривенника денег, и я не знаю, на что обмундировать Бориса. – Она вынула платок и заплакала. – Мне нужно пятьсот рублей, а у меня одна двадцатипятирублевая бумажка. Я в таком положении… Одна моя надежда теперь на графа Кирилла Владимировича Безухова. Ежели он не захочет поддержать своего крестника, – ведь он крестил Борю, – и назначить ему что нибудь на содержание, то все мои хлопоты пропадут: мне не на что будет обмундировать его.
Графиня прослезилась и молча соображала что то.
– Часто думаю, может, это и грех, – сказала княгиня, – а часто думаю: вот граф Кирилл Владимирович Безухой живет один… это огромное состояние… и для чего живет? Ему жизнь в тягость, а Боре только начинать жить.
– Он, верно, оставит что нибудь Борису, – сказала графиня.
– Бог знает, chere amie! [милый друг!] Эти богачи и вельможи такие эгоисты. Но я всё таки поеду сейчас к нему с Борисом и прямо скажу, в чем дело. Пускай обо мне думают, что хотят, мне, право, всё равно, когда судьба сына зависит от этого. – Княгиня поднялась. – Теперь два часа, а в четыре часа вы обедаете. Я успею съездить.
И с приемами петербургской деловой барыни, умеющей пользоваться временем, Анна Михайловна послала за сыном и вместе с ним вышла в переднюю.
– Прощай, душа моя, – сказала она графине, которая провожала ее до двери, – пожелай мне успеха, – прибавила она шопотом от сына.
– Вы к графу Кириллу Владимировичу, ma chere? – сказал граф из столовой, выходя тоже в переднюю. – Коли ему лучше, зовите Пьера ко мне обедать. Ведь он у меня бывал, с детьми танцовал. Зовите непременно, ma chere. Ну, посмотрим, как то отличится нынче Тарас. Говорит, что у графа Орлова такого обеда не бывало, какой у нас будет.
– Mon cher Boris, [Дорогой Борис,] – сказала княгиня Анна Михайловна сыну, когда карета графини Ростовой, в которой они сидели, проехала по устланной соломой улице и въехала на широкий двор графа Кирилла Владимировича Безухого. – Mon cher Boris, – сказала мать, выпрастывая руку из под старого салопа и робким и ласковым движением кладя ее на руку сына, – будь ласков, будь внимателен. Граф Кирилл Владимирович всё таки тебе крестный отец, и от него зависит твоя будущая судьба. Помни это, mon cher, будь мил, как ты умеешь быть…
– Ежели бы я знал, что из этого выйдет что нибудь, кроме унижения… – отвечал сын холодно. – Но я обещал вам и делаю это для вас.
Несмотря на то, что чья то карета стояла у подъезда, швейцар, оглядев мать с сыном (которые, не приказывая докладывать о себе, прямо вошли в стеклянные сени между двумя рядами статуй в нишах), значительно посмотрев на старенький салоп, спросил, кого им угодно, княжен или графа, и, узнав, что графа, сказал, что их сиятельству нынче хуже и их сиятельство никого не принимают.
– Мы можем уехать, – сказал сын по французски.
– Mon ami! [Друг мой!] – сказала мать умоляющим голосом, опять дотрогиваясь до руки сына, как будто это прикосновение могло успокоивать или возбуждать его.
Борис замолчал и, не снимая шинели, вопросительно смотрел на мать.
– Голубчик, – нежным голоском сказала Анна Михайловна, обращаясь к швейцару, – я знаю, что граф Кирилл Владимирович очень болен… я затем и приехала… я родственница… Я не буду беспокоить, голубчик… А мне бы только надо увидать князя Василия Сергеевича: ведь он здесь стоит. Доложи, пожалуйста.
Швейцар угрюмо дернул снурок наверх и отвернулся.
– Княгиня Друбецкая к князю Василию Сергеевичу, – крикнул он сбежавшему сверху и из под выступа лестницы выглядывавшему официанту в чулках, башмаках и фраке.
Мать расправила складки своего крашеного шелкового платья, посмотрелась в цельное венецианское зеркало в стене и бодро в своих стоптанных башмаках пошла вверх по ковру лестницы.
– Mon cher, voue m'avez promis, [Мой друг, ты мне обещал,] – обратилась она опять к Сыну, прикосновением руки возбуждая его.
Сын, опустив глаза, спокойно шел за нею.
Они вошли в залу, из которой одна дверь вела в покои, отведенные князю Василью.
В то время как мать с сыном, выйдя на середину комнаты, намеревались спросить дорогу у вскочившего при их входе старого официанта, у одной из дверей повернулась бронзовая ручка и князь Василий в бархатной шубке, с одною звездой, по домашнему, вышел, провожая красивого черноволосого мужчину. Мужчина этот был знаменитый петербургский доктор Lorrain.
– C'est donc positif? [Итак, это верно?] – говорил князь.
– Mon prince, «errare humanum est», mais… [Князь, человеку ошибаться свойственно.] – отвечал доктор, грассируя и произнося латинские слова французским выговором.
– C'est bien, c'est bien… [Хорошо, хорошо…]
Заметив Анну Михайловну с сыном, князь Василий поклоном отпустил доктора и молча, но с вопросительным видом, подошел к ним. Сын заметил, как вдруг глубокая горесть выразилась в глазах его матери, и слегка улыбнулся.
– Да, в каких грустных обстоятельствах пришлось нам видеться, князь… Ну, что наш дорогой больной? – сказала она, как будто не замечая холодного, оскорбительного, устремленного на нее взгляда.
Князь Василий вопросительно, до недоумения, посмотрел на нее, потом на Бориса. Борис учтиво поклонился. Князь Василий, не отвечая на поклон, отвернулся к Анне Михайловне и на ее вопрос отвечал движением головы и губ, которое означало самую плохую надежду для больного.
– Неужели? – воскликнула Анна Михайловна. – Ах, это ужасно! Страшно подумать… Это мой сын, – прибавила она, указывая на Бориса. – Он сам хотел благодарить вас.
Борис еще раз учтиво поклонился.
– Верьте, князь, что сердце матери никогда не забудет того, что вы сделали для нас.
– Я рад, что мог сделать вам приятное, любезная моя Анна Михайловна, – сказал князь Василий, оправляя жабо и в жесте и голосе проявляя здесь, в Москве, перед покровительствуемою Анною Михайловной еще гораздо большую важность, чем в Петербурге, на вечере у Annette Шерер.
– Старайтесь служить хорошо и быть достойным, – прибавил он, строго обращаясь к Борису. – Я рад… Вы здесь в отпуску? – продиктовал он своим бесстрастным тоном.
– Жду приказа, ваше сиятельство, чтоб отправиться по новому назначению, – отвечал Борис, не выказывая ни досады за резкий тон князя, ни желания вступить в разговор, но так спокойно и почтительно, что князь пристально поглядел на него.
– Вы живете с матушкой?
– Я живу у графини Ростовой, – сказал Борис, опять прибавив: – ваше сиятельство.
– Это тот Илья Ростов, который женился на Nathalie Шиншиной, – сказала Анна Михайловна.
– Знаю, знаю, – сказал князь Василий своим монотонным голосом. – Je n'ai jamais pu concevoir, comment Nathalieie s'est decidee a epouser cet ours mal – leche l Un personnage completement stupide et ridicule.Et joueur a ce qu'on dit. [Я никогда не мог понять, как Натали решилась выйти замуж за этого грязного медведя. Совершенно глупая и смешная особа. К тому же игрок, говорят.]
– Mais tres brave homme, mon prince, [Но добрый человек, князь,] – заметила Анна Михайловна, трогательно улыбаясь, как будто и она знала, что граф Ростов заслуживал такого мнения, но просила пожалеть бедного старика. – Что говорят доктора? – спросила княгиня, помолчав немного и опять выражая большую печаль на своем исплаканном лице.
– Мало надежды, – сказал князь.
– А мне так хотелось еще раз поблагодарить дядю за все его благодеяния и мне и Боре. C'est son filleuil, [Это его крестник,] – прибавила она таким тоном, как будто это известие должно было крайне обрадовать князя Василия.
Князь Василий задумался и поморщился. Анна Михайловна поняла, что он боялся найти в ней соперницу по завещанию графа Безухого. Она поспешила успокоить его.
– Ежели бы не моя истинная любовь и преданность дяде, – сказала она, с особенною уверенностию и небрежностию выговаривая это слово: – я знаю его характер, благородный, прямой, но ведь одни княжны при нем…Они еще молоды… – Она наклонила голову и прибавила шопотом: – исполнил ли он последний долг, князь? Как драгоценны эти последние минуты! Ведь хуже быть не может; его необходимо приготовить ежели он так плох. Мы, женщины, князь, – она нежно улыбнулась, – всегда знаем, как говорить эти вещи. Необходимо видеть его. Как бы тяжело это ни было для меня, но я привыкла уже страдать.
Князь, видимо, понял, и понял, как и на вечере у Annette Шерер, что от Анны Михайловны трудно отделаться.
– Не было бы тяжело ему это свидание, chere Анна Михайловна, – сказал он. – Подождем до вечера, доктора обещали кризис.
– Но нельзя ждать, князь, в эти минуты. Pensez, il у va du salut de son ame… Ah! c'est terrible, les devoirs d'un chretien… [Подумайте, дело идет о спасения его души! Ах! это ужасно, долг христианина…]
Из внутренних комнат отворилась дверь, и вошла одна из княжен племянниц графа, с угрюмым и холодным лицом и поразительно несоразмерною по ногам длинною талией.
Князь Василий обернулся к ней.
– Ну, что он?
– Всё то же. И как вы хотите, этот шум… – сказала княжна, оглядывая Анну Михайловну, как незнакомую.
– Ah, chere, je ne vous reconnaissais pas, [Ах, милая, я не узнала вас,] – с счастливою улыбкой сказала Анна Михайловна, легкою иноходью подходя к племяннице графа. – Je viens d'arriver et je suis a vous pour vous aider a soigner mon oncle . J`imagine, combien vous avez souffert, [Я приехала помогать вам ходить за дядюшкой. Воображаю, как вы настрадались,] – прибавила она, с участием закатывая глаза.
Княжна ничего не ответила, даже не улыбнулась и тотчас же вышла. Анна Михайловна сняла перчатки и в завоеванной позиции расположилась на кресле, пригласив князя Василья сесть подле себя.
– Борис! – сказала она сыну и улыбнулась, – я пройду к графу, к дяде, а ты поди к Пьеру, mon ami, покаместь, да не забудь передать ему приглашение от Ростовых. Они зовут его обедать. Я думаю, он не поедет? – обратилась она к князю.
– Напротив, – сказал князь, видимо сделавшийся не в духе. – Je serais tres content si vous me debarrassez de ce jeune homme… [Я был бы очень рад, если бы вы меня избавили от этого молодого человека…] Сидит тут. Граф ни разу не спросил про него.
Он пожал плечами. Официант повел молодого человека вниз и вверх по другой лестнице к Петру Кирилловичу.
Пьер так и не успел выбрать себе карьеры в Петербурге и, действительно, был выслан в Москву за буйство. История, которую рассказывали у графа Ростова, была справедлива. Пьер участвовал в связываньи квартального с медведем. Он приехал несколько дней тому назад и остановился, как всегда, в доме своего отца. Хотя он и предполагал, что история его уже известна в Москве, и что дамы, окружающие его отца, всегда недоброжелательные к нему, воспользуются этим случаем, чтобы раздражить графа, он всё таки в день приезда пошел на половину отца. Войдя в гостиную, обычное местопребывание княжен, он поздоровался с дамами, сидевшими за пяльцами и за книгой, которую вслух читала одна из них. Их было три. Старшая, чистоплотная, с длинною талией, строгая девица, та самая, которая выходила к Анне Михайловне, читала; младшие, обе румяные и хорошенькие, отличавшиеся друг от друга только тем, что у одной была родинка над губой, очень красившая ее, шили в пяльцах. Пьер был встречен как мертвец или зачумленный. Старшая княжна прервала чтение и молча посмотрела на него испуганными глазами; младшая, без родинки, приняла точно такое же выражение; самая меньшая, с родинкой, веселого и смешливого характера, нагнулась к пяльцам, чтобы скрыть улыбку, вызванную, вероятно, предстоящею сценой, забавность которой она предвидела. Она притянула вниз шерстинку и нагнулась, будто разбирая узоры и едва удерживаясь от смеха.
– Bonjour, ma cousine, – сказал Пьер. – Vous ne me гесоnnaissez pas? [Здравствуйте, кузина. Вы меня не узнаете?]
– Я слишком хорошо вас узнаю, слишком хорошо.
– Как здоровье графа? Могу я видеть его? – спросил Пьер неловко, как всегда, но не смущаясь.
– Граф страдает и физически и нравственно, и, кажется, вы позаботились о том, чтобы причинить ему побольше нравственных страданий.
– Могу я видеть графа? – повторил Пьер.
– Гм!.. Ежели вы хотите убить его, совсем убить, то можете видеть. Ольга, поди посмотри, готов ли бульон для дяденьки, скоро время, – прибавила она, показывая этим Пьеру, что они заняты и заняты успокоиваньем его отца, тогда как он, очевидно, занят только расстроиванием.
Ольга вышла. Пьер постоял, посмотрел на сестер и, поклонившись, сказал:
– Так я пойду к себе. Когда можно будет, вы мне скажите.
Он вышел, и звонкий, но негромкий смех сестры с родинкой послышался за ним.
На другой день приехал князь Василий и поместился в доме графа. Он призвал к себе Пьера и сказал ему:
– Mon cher, si vous vous conduisez ici, comme a Petersbourg, vous finirez tres mal; c'est tout ce que je vous dis. [Мой милый, если вы будете вести себя здесь, как в Петербурге, вы кончите очень дурно; больше мне нечего вам сказать.] Граф очень, очень болен: тебе совсем не надо его видеть.
С тех пор Пьера не тревожили, и он целый день проводил один наверху, в своей комнате.
В то время как Борис вошел к нему, Пьер ходил по своей комнате, изредка останавливаясь в углах, делая угрожающие жесты к стене, как будто пронзая невидимого врага шпагой, и строго взглядывая сверх очков и затем вновь начиная свою прогулку, проговаривая неясные слова, пожимая плечами и разводя руками.
– L'Angleterre a vecu, [Англии конец,] – проговорил он, нахмуриваясь и указывая на кого то пальцем. – M. Pitt comme traitre a la nation et au droit des gens est condamiene a… [Питт, как изменник нации и народному праву, приговаривается к…] – Он не успел договорить приговора Питту, воображая себя в эту минуту самим Наполеоном и вместе с своим героем уже совершив опасный переезд через Па де Кале и завоевав Лондон, – как увидал входившего к нему молодого, стройного и красивого офицера. Он остановился. Пьер оставил Бориса четырнадцатилетним мальчиком и решительно не помнил его; но, несмотря на то, с свойственною ему быстрою и радушною манерой взял его за руку и дружелюбно улыбнулся.
– Вы меня помните? – спокойно, с приятной улыбкой сказал Борис. – Я с матушкой приехал к графу, но он, кажется, не совсем здоров.
– Да, кажется, нездоров. Его всё тревожат, – отвечал Пьер, стараясь вспомнить, кто этот молодой человек.
Борис чувствовал, что Пьер не узнает его, но не считал нужным называть себя и, не испытывая ни малейшего смущения, смотрел ему прямо в глаза.
– Граф Ростов просил вас нынче приехать к нему обедать, – сказал он после довольно долгого и неловкого для Пьера молчания.
– А! Граф Ростов! – радостно заговорил Пьер. – Так вы его сын, Илья. Я, можете себе представить, в первую минуту не узнал вас. Помните, как мы на Воробьевы горы ездили c m me Jacquot… [мадам Жако…] давно.
– Вы ошибаетесь, – неторопливо, с смелою и несколько насмешливою улыбкой проговорил Борис. – Я Борис, сын княгини Анны Михайловны Друбецкой. Ростова отца зовут Ильей, а сына – Николаем. И я m me Jacquot никакой не знал.
Пьер замахал руками и головой, как будто комары или пчелы напали на него.
– Ах, ну что это! я всё спутал. В Москве столько родных! Вы Борис…да. Ну вот мы с вами и договорились. Ну, что вы думаете о булонской экспедиции? Ведь англичанам плохо придется, ежели только Наполеон переправится через канал? Я думаю, что экспедиция очень возможна. Вилльнев бы не оплошал!
Борис ничего не знал о булонской экспедиции, он не читал газет и о Вилльневе в первый раз слышал.
– Мы здесь в Москве больше заняты обедами и сплетнями, чем политикой, – сказал он своим спокойным, насмешливым тоном. – Я ничего про это не знаю и не думаю. Москва занята сплетнями больше всего, – продолжал он. – Теперь говорят про вас и про графа.
Пьер улыбнулся своей доброю улыбкой, как будто боясь за своего собеседника, как бы он не сказал чего нибудь такого, в чем стал бы раскаиваться. Но Борис говорил отчетливо, ясно и сухо, прямо глядя в глаза Пьеру.
– Москве больше делать нечего, как сплетничать, – продолжал он. – Все заняты тем, кому оставит граф свое состояние, хотя, может быть, он переживет всех нас, чего я от души желаю…
– Да, это всё очень тяжело, – подхватил Пьер, – очень тяжело. – Пьер всё боялся, что этот офицер нечаянно вдастся в неловкий для самого себя разговор.
– А вам должно казаться, – говорил Борис, слегка краснея, но не изменяя голоса и позы, – вам должно казаться, что все заняты только тем, чтобы получить что нибудь от богача.
«Так и есть», подумал Пьер.
– А я именно хочу сказать вам, чтоб избежать недоразумений, что вы очень ошибетесь, ежели причтете меня и мою мать к числу этих людей. Мы очень бедны, но я, по крайней мере, за себя говорю: именно потому, что отец ваш богат, я не считаю себя его родственником, и ни я, ни мать никогда ничего не будем просить и не примем от него.
Пьер долго не мог понять, но когда понял, вскочил с дивана, ухватил Бориса за руку снизу с свойственною ему быстротой и неловкостью и, раскрасневшись гораздо более, чем Борис, начал говорить с смешанным чувством стыда и досады.
– Вот это странно! Я разве… да и кто ж мог думать… Я очень знаю…
Но Борис опять перебил его:
– Я рад, что высказал всё. Может быть, вам неприятно, вы меня извините, – сказал он, успокоивая Пьера, вместо того чтоб быть успокоиваемым им, – но я надеюсь, что не оскорбил вас. Я имею правило говорить всё прямо… Как же мне передать? Вы приедете обедать к Ростовым?
И Борис, видимо свалив с себя тяжелую обязанность, сам выйдя из неловкого положения и поставив в него другого, сделался опять совершенно приятен.
– Нет, послушайте, – сказал Пьер, успокоиваясь. – Вы удивительный человек. То, что вы сейчас сказали, очень хорошо, очень хорошо. Разумеется, вы меня не знаете. Мы так давно не видались…детьми еще… Вы можете предполагать во мне… Я вас понимаю, очень понимаю. Я бы этого не сделал, у меня недостало бы духу, но это прекрасно. Я очень рад, что познакомился с вами. Странно, – прибавил он, помолчав и улыбаясь, – что вы во мне предполагали! – Он засмеялся. – Ну, да что ж? Мы познакомимся с вами лучше. Пожалуйста. – Он пожал руку Борису. – Вы знаете ли, я ни разу не был у графа. Он меня не звал… Мне его жалко, как человека… Но что же делать?
– И вы думаете, что Наполеон успеет переправить армию? – спросил Борис, улыбаясь.
Пьер понял, что Борис хотел переменить разговор, и, соглашаясь с ним, начал излагать выгоды и невыгоды булонского предприятия.
Лакей пришел вызвать Бориса к княгине. Княгиня уезжала. Пьер обещался приехать обедать затем, чтобы ближе сойтись с Борисом, крепко жал его руку, ласково глядя ему в глаза через очки… По уходе его Пьер долго еще ходил по комнате, уже не пронзая невидимого врага шпагой, а улыбаясь при воспоминании об этом милом, умном и твердом молодом человеке.
Как это бывает в первой молодости и особенно в одиноком положении, он почувствовал беспричинную нежность к этому молодому человеку и обещал себе непременно подружиться с ним.
Князь Василий провожал княгиню. Княгиня держала платок у глаз, и лицо ее было в слезах.
– Это ужасно! ужасно! – говорила она, – но чего бы мне ни стоило, я исполню свой долг. Я приеду ночевать. Его нельзя так оставить. Каждая минута дорога. Я не понимаю, чего мешкают княжны. Может, Бог поможет мне найти средство его приготовить!… Adieu, mon prince, que le bon Dieu vous soutienne… [Прощайте, князь, да поддержит вас Бог.]
– Adieu, ma bonne, [Прощайте, моя милая,] – отвечал князь Василий, повертываясь от нее.
– Ах, он в ужасном положении, – сказала мать сыну, когда они опять садились в карету. – Он почти никого не узнает.
– Я не понимаю, маменька, какие его отношения к Пьеру? – спросил сын.
– Всё скажет завещание, мой друг; от него и наша судьба зависит…
– Но почему вы думаете, что он оставит что нибудь нам?
– Ах, мой друг! Он так богат, а мы так бедны!
– Ну, это еще недостаточная причина, маменька.
– Ах, Боже мой! Боже мой! Как он плох! – восклицала мать.
Когда Анна Михайловна уехала с сыном к графу Кириллу Владимировичу Безухому, графиня Ростова долго сидела одна, прикладывая платок к глазам. Наконец, она позвонила.
– Что вы, милая, – сказала она сердито девушке, которая заставила себя ждать несколько минут. – Не хотите служить, что ли? Так я вам найду место.
Графиня была расстроена горем и унизительною бедностью своей подруги и поэтому была не в духе, что выражалось у нее всегда наименованием горничной «милая» и «вы».
– Виновата с, – сказала горничная.
– Попросите ко мне графа.
Граф, переваливаясь, подошел к жене с несколько виноватым видом, как и всегда.
– Ну, графинюшка! Какое saute au madere [сотэ на мадере] из рябчиков будет, ma chere! Я попробовал; не даром я за Тараску тысячу рублей дал. Стоит!
Он сел подле жены, облокотив молодецки руки на колена и взъерошивая седые волосы.
– Что прикажете, графинюшка?
– Вот что, мой друг, – что это у тебя запачкано здесь? – сказала она, указывая на жилет. – Это сотэ, верно, – прибавила она улыбаясь. – Вот что, граф: мне денег нужно.
Лицо ее стало печально.
– Ах, графинюшка!…
И граф засуетился, доставая бумажник.
– Мне много надо, граф, мне пятьсот рублей надо.
И она, достав батистовый платок, терла им жилет мужа.
– Сейчас, сейчас. Эй, кто там? – крикнул он таким голосом, каким кричат только люди, уверенные, что те, кого они кличут, стремглав бросятся на их зов. – Послать ко мне Митеньку!
Митенька, тот дворянский сын, воспитанный у графа, который теперь заведывал всеми его делами, тихими шагами вошел в комнату.
– Вот что, мой милый, – сказал граф вошедшему почтительному молодому человеку. – Принеси ты мне… – он задумался. – Да, 700 рублей, да. Да смотри, таких рваных и грязных, как тот раз, не приноси, а хороших, для графини.
– Да, Митенька, пожалуйста, чтоб чистенькие, – сказала графиня, грустно вздыхая.
– Ваше сиятельство, когда прикажете доставить? – сказал Митенька. – Изволите знать, что… Впрочем, не извольте беспокоиться, – прибавил он, заметив, как граф уже начал тяжело и часто дышать, что всегда было признаком начинавшегося гнева. – Я было и запамятовал… Сию минуту прикажете доставить?
– Да, да, то то, принеси. Вот графине отдай.
– Экое золото у меня этот Митенька, – прибавил граф улыбаясь, когда молодой человек вышел. – Нет того, чтобы нельзя. Я же этого терпеть не могу. Всё можно.
– Ах, деньги, граф, деньги, сколько от них горя на свете! – сказала графиня. – А эти деньги мне очень нужны.
– Вы, графинюшка, мотовка известная, – проговорил граф и, поцеловав у жены руку, ушел опять в кабинет.
Когда Анна Михайловна вернулась опять от Безухого, у графини лежали уже деньги, всё новенькими бумажками, под платком на столике, и Анна Михайловна заметила, что графиня чем то растревожена.
– Ну, что, мой друг? – спросила графиня.
– Ах, в каком он ужасном положении! Его узнать нельзя, он так плох, так плох; я минутку побыла и двух слов не сказала…
– Annette, ради Бога, не откажи мне, – сказала вдруг графиня, краснея, что так странно было при ее немолодом, худом и важном лице, доставая из под платка деньги.
Анна Михайловна мгновенно поняла, в чем дело, и уж нагнулась, чтобы в должную минуту ловко обнять графиню.
– Вот Борису от меня, на шитье мундира…
Анна Михайловна уж обнимала ее и плакала. Графиня плакала тоже. Плакали они о том, что они дружны; и о том, что они добры; и о том, что они, подруги молодости, заняты таким низким предметом – деньгами; и о том, что молодость их прошла… Но слезы обеих были приятны…
Графиня Ростова с дочерьми и уже с большим числом гостей сидела в гостиной. Граф провел гостей мужчин в кабинет, предлагая им свою охотницкую коллекцию турецких трубок. Изредка он выходил и спрашивал: не приехала ли? Ждали Марью Дмитриевну Ахросимову, прозванную в обществе le terrible dragon, [страшный дракон,] даму знаменитую не богатством, не почестями, но прямотой ума и откровенною простотой обращения. Марью Дмитриевну знала царская фамилия, знала вся Москва и весь Петербург, и оба города, удивляясь ей, втихомолку посмеивались над ее грубостью, рассказывали про нее анекдоты; тем не менее все без исключения уважали и боялись ее.
В кабинете, полном дыма, шел разговор о войне, которая была объявлена манифестом, о наборе. Манифеста еще никто не читал, но все знали о его появлении. Граф сидел на отоманке между двумя курившими и разговаривавшими соседями. Граф сам не курил и не говорил, а наклоняя голову, то на один бок, то на другой, с видимым удовольствием смотрел на куривших и слушал разговор двух соседей своих, которых он стравил между собой.
Один из говоривших был штатский, с морщинистым, желчным и бритым худым лицом, человек, уже приближавшийся к старости, хотя и одетый, как самый модный молодой человек; он сидел с ногами на отоманке с видом домашнего человека и, сбоку запустив себе далеко в рот янтарь, порывисто втягивал дым и жмурился. Это был старый холостяк Шиншин, двоюродный брат графини, злой язык, как про него говорили в московских гостиных. Он, казалось, снисходил до своего собеседника. Другой, свежий, розовый, гвардейский офицер, безупречно вымытый, застегнутый и причесанный, держал янтарь у середины рта и розовыми губами слегка вытягивал дымок, выпуская его колечками из красивого рта. Это был тот поручик Берг, офицер Семеновского полка, с которым Борис ехал вместе в полк и которым Наташа дразнила Веру, старшую графиню, называя Берга ее женихом. Граф сидел между ними и внимательно слушал. Самое приятное для графа занятие, за исключением игры в бостон, которую он очень любил, было положение слушающего, особенно когда ему удавалось стравить двух говорливых собеседников.
– Ну, как же, батюшка, mon tres honorable [почтеннейший] Альфонс Карлыч, – говорил Шиншин, посмеиваясь и соединяя (в чем и состояла особенность его речи) самые народные русские выражения с изысканными французскими фразами. – Vous comptez vous faire des rentes sur l'etat, [Вы рассчитываете иметь доход с казны,] с роты доходец получать хотите?
– Нет с, Петр Николаич, я только желаю показать, что в кавалерии выгод гораздо меньше против пехоты. Вот теперь сообразите, Петр Николаич, мое положение…
Берг говорил всегда очень точно, спокойно и учтиво. Разговор его всегда касался только его одного; он всегда спокойно молчал, пока говорили о чем нибудь, не имеющем прямого к нему отношения. И молчать таким образом он мог несколько часов, не испытывая и не производя в других ни малейшего замешательства. Но как скоро разговор касался его лично, он начинал говорить пространно и с видимым удовольствием.
– Сообразите мое положение, Петр Николаич: будь я в кавалерии, я бы получал не более двухсот рублей в треть, даже и в чине поручика; а теперь я получаю двести тридцать, – говорил он с радостною, приятною улыбкой, оглядывая Шиншина и графа, как будто для него было очевидно, что его успех всегда будет составлять главную цель желаний всех остальных людей.
– Кроме того, Петр Николаич, перейдя в гвардию, я на виду, – продолжал Берг, – и вакансии в гвардейской пехоте гораздо чаще. Потом, сами сообразите, как я мог устроиться из двухсот тридцати рублей. А я откладываю и еще отцу посылаю, – продолжал он, пуская колечко.
– La balance у est… [Баланс установлен…] Немец на обухе молотит хлебец, comme dit le рroverbe, [как говорит пословица,] – перекладывая янтарь на другую сторону ртa, сказал Шиншин и подмигнул графу.
Граф расхохотался. Другие гости, видя, что Шиншин ведет разговор, подошли послушать. Берг, не замечая ни насмешки, ни равнодушия, продолжал рассказывать о том, как переводом в гвардию он уже выиграл чин перед своими товарищами по корпусу, как в военное время ротного командира могут убить, и он, оставшись старшим в роте, может очень легко быть ротным, и как в полку все любят его, и как его папенька им доволен. Берг, видимо, наслаждался, рассказывая всё это, и, казалось, не подозревал того, что у других людей могли быть тоже свои интересы. Но всё, что он рассказывал, было так мило степенно, наивность молодого эгоизма его была так очевидна, что он обезоруживал своих слушателей.
– Ну, батюшка, вы и в пехоте, и в кавалерии, везде пойдете в ход; это я вам предрекаю, – сказал Шиншин, трепля его по плечу и спуская ноги с отоманки.
Берг радостно улыбнулся. Граф, а за ним и гости вышли в гостиную.
Было то время перед званым обедом, когда собравшиеся гости не начинают длинного разговора в ожидании призыва к закуске, а вместе с тем считают необходимым шевелиться и не молчать, чтобы показать, что они нисколько не нетерпеливы сесть за стол. Хозяева поглядывают на дверь и изредка переглядываются между собой. Гости по этим взглядам стараются догадаться, кого или чего еще ждут: важного опоздавшего родственника или кушанья, которое еще не поспело.
Пьер приехал перед самым обедом и неловко сидел посредине гостиной на первом попавшемся кресле, загородив всем дорогу. Графиня хотела заставить его говорить, но он наивно смотрел в очки вокруг себя, как бы отыскивая кого то, и односложно отвечал на все вопросы графини. Он был стеснителен и один не замечал этого. Большая часть гостей, знавшая его историю с медведем, любопытно смотрели на этого большого толстого и смирного человека, недоумевая, как мог такой увалень и скромник сделать такую штуку с квартальным.
– Вы недавно приехали? – спрашивала у него графиня.
– Oui, madame, [Да, сударыня,] – отвечал он, оглядываясь.
– Вы не видали моего мужа?
– Non, madame. [Нет, сударыня.] – Он улыбнулся совсем некстати.
– Вы, кажется, недавно были в Париже? Я думаю, очень интересно.
– Очень интересно..
Графиня переглянулась с Анной Михайловной. Анна Михайловна поняла, что ее просят занять этого молодого человека, и, подсев к нему, начала говорить об отце; но так же, как и графине, он отвечал ей только односложными словами. Гости были все заняты между собой. Les Razoumovsky… ca a ete charmant… Vous etes bien bonne… La comtesse Apraksine… [Разумовские… Это было восхитительно… Вы очень добры… Графиня Апраксина…] слышалось со всех сторон. Графиня встала и пошла в залу.
– Марья Дмитриевна? – послышался ее голос из залы.
– Она самая, – послышался в ответ грубый женский голос, и вслед за тем вошла в комнату Марья Дмитриевна.
Все барышни и даже дамы, исключая самых старых, встали. Марья Дмитриевна остановилась в дверях и, с высоты своего тучного тела, высоко держа свою с седыми буклями пятидесятилетнюю голову, оглядела гостей и, как бы засучиваясь, оправила неторопливо широкие рукава своего платья. Марья Дмитриевна всегда говорила по русски.
– Имениннице дорогой с детками, – сказала она своим громким, густым, подавляющим все другие звуки голосом. – Ты что, старый греховодник, – обратилась она к графу, целовавшему ее руку, – чай, скучаешь в Москве? Собак гонять негде? Да что, батюшка, делать, вот как эти пташки подрастут… – Она указывала на девиц. – Хочешь – не хочешь, надо женихов искать.
– Ну, что, казак мой? (Марья Дмитриевна казаком называла Наташу) – говорила она, лаская рукой Наташу, подходившую к ее руке без страха и весело. – Знаю, что зелье девка, а люблю.
Она достала из огромного ридикюля яхонтовые сережки грушками и, отдав их именинно сиявшей и разрумянившейся Наташе, тотчас же отвернулась от нее и обратилась к Пьеру.
– Э, э! любезный! поди ка сюда, – сказала она притворно тихим и тонким голосом. – Поди ка, любезный…
И она грозно засучила рукава еще выше.
Пьер подошел, наивно глядя на нее через очки.
– Подойди, подойди, любезный! Я и отцу то твоему правду одна говорила, когда он в случае был, а тебе то и Бог велит.
Она помолчала. Все молчали, ожидая того, что будет, и чувствуя, что было только предисловие.
– Хорош, нечего сказать! хорош мальчик!… Отец на одре лежит, а он забавляется, квартального на медведя верхом сажает. Стыдно, батюшка, стыдно! Лучше бы на войну шел.
Она отвернулась и подала руку графу, который едва удерживался от смеха.
– Ну, что ж, к столу, я чай, пора? – сказала Марья Дмитриевна.
Впереди пошел граф с Марьей Дмитриевной; потом графиня, которую повел гусарский полковник, нужный человек, с которым Николай должен был догонять полк. Анна Михайловна – с Шиншиным. Берг подал руку Вере. Улыбающаяся Жюли Карагина пошла с Николаем к столу. За ними шли еще другие пары, протянувшиеся по всей зале, и сзади всех по одиночке дети, гувернеры и гувернантки. Официанты зашевелились, стулья загремели, на хорах заиграла музыка, и гости разместились. Звуки домашней музыки графа заменились звуками ножей и вилок, говора гостей, тихих шагов официантов.
На одном конце стола во главе сидела графиня. Справа Марья Дмитриевна, слева Анна Михайловна и другие гостьи. На другом конце сидел граф, слева гусарский полковник, справа Шиншин и другие гости мужского пола. С одной стороны длинного стола молодежь постарше: Вера рядом с Бергом, Пьер рядом с Борисом; с другой стороны – дети, гувернеры и гувернантки. Граф из за хрусталя, бутылок и ваз с фруктами поглядывал на жену и ее высокий чепец с голубыми лентами и усердно подливал вина своим соседям, не забывая и себя. Графиня так же, из за ананасов, не забывая обязанности хозяйки, кидала значительные взгляды на мужа, которого лысина и лицо, казалось ей, своею краснотой резче отличались от седых волос. На дамском конце шло равномерное лепетанье; на мужском всё громче и громче слышались голоса, особенно гусарского полковника, который так много ел и пил, всё более и более краснея, что граф уже ставил его в пример другим гостям. Берг с нежной улыбкой говорил с Верой о том, что любовь есть чувство не земное, а небесное. Борис называл новому своему приятелю Пьеру бывших за столом гостей и переглядывался с Наташей, сидевшей против него. Пьер мало говорил, оглядывал новые лица и много ел. Начиная от двух супов, из которых он выбрал a la tortue, [черепаховый,] и кулебяки и до рябчиков он не пропускал ни одного блюда и ни одного вина, которое дворецкий в завернутой салфеткою бутылке таинственно высовывал из за плеча соседа, приговаривая или «дрей мадера», или «венгерское», или «рейнвейн». Он подставлял первую попавшуюся из четырех хрустальных, с вензелем графа, рюмок, стоявших перед каждым прибором, и пил с удовольствием, всё с более и более приятным видом поглядывая на гостей. Наташа, сидевшая против него, глядела на Бориса, как глядят девочки тринадцати лет на мальчика, с которым они в первый раз только что поцеловались и в которого они влюблены. Этот самый взгляд ее иногда обращался на Пьера, и ему под взглядом этой смешной, оживленной девочки хотелось смеяться самому, не зная чему.
Николай сидел далеко от Сони, подле Жюли Карагиной, и опять с той же невольной улыбкой что то говорил с ней. Соня улыбалась парадно, но, видимо, мучилась ревностью: то бледнела, то краснела и всеми силами прислушивалась к тому, что говорили между собою Николай и Жюли. Гувернантка беспокойно оглядывалась, как бы приготавливаясь к отпору, ежели бы кто вздумал обидеть детей. Гувернер немец старался запомнить вое роды кушаний, десертов и вин с тем, чтобы описать всё подробно в письме к домашним в Германию, и весьма обижался тем, что дворецкий, с завернутою в салфетку бутылкой, обносил его. Немец хмурился, старался показать вид, что он и не желал получить этого вина, но обижался потому, что никто не хотел понять, что вино нужно было ему не для того, чтобы утолить жажду, не из жадности, а из добросовестной любознательности.
На мужском конце стола разговор всё более и более оживлялся. Полковник рассказал, что манифест об объявлении войны уже вышел в Петербурге и что экземпляр, который он сам видел, доставлен ныне курьером главнокомандующему.
– И зачем нас нелегкая несет воевать с Бонапартом? – сказал Шиншин. – II a deja rabattu le caquet a l'Autriche. Je crains, que cette fois ce ne soit notre tour. [Он уже сбил спесь с Австрии. Боюсь, не пришел бы теперь наш черед.]
Полковник был плотный, высокий и сангвинический немец, очевидно, служака и патриот. Он обиделся словами Шиншина.
– А затэ м, мы лосты вый государ, – сказал он, выговаривая э вместо е и ъ вместо ь . – Затэм, что импэ ратор это знаэ т. Он в манифэ стэ сказал, что нэ можэ т смотрэт равнодушно на опасности, угрожающие России, и что бэ зопасност империи, достоинство ее и святост союзов , – сказал он, почему то особенно налегая на слово «союзов», как будто в этом была вся сущность дела.
И с свойственною ему непогрешимою, официальною памятью он повторил вступительные слова манифеста… «и желание, единственную и непременную цель государя составляющее: водворить в Европе на прочных основаниях мир – решили его двинуть ныне часть войска за границу и сделать к достижению „намерения сего новые усилия“.
– Вот зачэм, мы лосты вый государ, – заключил он, назидательно выпивая стакан вина и оглядываясь на графа за поощрением.
– Connaissez vous le proverbe: [Знаете пословицу:] «Ерема, Ерема, сидел бы ты дома, точил бы свои веретена», – сказал Шиншин, морщась и улыбаясь. – Cela nous convient a merveille. [Это нам кстати.] Уж на что Суворова – и того расколотили, a plate couture, [на голову,] а где y нас Суворовы теперь? Je vous demande un peu, [Спрашиваю я вас,] – беспрестанно перескакивая с русского на французский язык, говорил он.
– Мы должны и драться до послэ днэ капли кров, – сказал полковник, ударяя по столу, – и умэ р р рэ т за своэ го импэ ратора, и тогда всэ й будэ т хорошо. А рассуждать как мо о ожно (он особенно вытянул голос на слове «можно»), как мо о ожно менше, – докончил он, опять обращаясь к графу. – Так старые гусары судим, вот и всё. А вы как судитэ , молодой человек и молодой гусар? – прибавил он, обращаясь к Николаю, который, услыхав, что дело шло о войне, оставил свою собеседницу и во все глаза смотрел и всеми ушами слушал полковника.
– Совершенно с вами согласен, – отвечал Николай, весь вспыхнув, вертя тарелку и переставляя стаканы с таким решительным и отчаянным видом, как будто в настоящую минуту он подвергался великой опасности, – я убежден, что русские должны умирать или побеждать, – сказал он, сам чувствуя так же, как и другие, после того как слово уже было сказано, что оно было слишком восторженно и напыщенно для настоящего случая и потому неловко.
– C'est bien beau ce que vous venez de dire, [Прекрасно! прекрасно то, что вы сказали,] – сказала сидевшая подле него Жюли, вздыхая. Соня задрожала вся и покраснела до ушей, за ушами и до шеи и плеч, в то время как Николай говорил. Пьер прислушался к речам полковника и одобрительно закивал головой.
– Вот это славно, – сказал он.
– Настоящэ й гусар, молодой человэк, – крикнул полковник, ударив опять по столу.
– О чем вы там шумите? – вдруг послышался через стол басистый голос Марьи Дмитриевны. – Что ты по столу стучишь? – обратилась она к гусару, – на кого ты горячишься? верно, думаешь, что тут французы перед тобой?
– Я правду говору, – улыбаясь сказал гусар.
– Всё о войне, – через стол прокричал граф. – Ведь у меня сын идет, Марья Дмитриевна, сын идет.
– А у меня четыре сына в армии, а я не тужу. На всё воля Божья: и на печи лежа умрешь, и в сражении Бог помилует, – прозвучал без всякого усилия, с того конца стола густой голос Марьи Дмитриевны.
– Это так.
И разговор опять сосредоточился – дамский на своем конце стола, мужской на своем.
– А вот не спросишь, – говорил маленький брат Наташе, – а вот не спросишь!
– Спрошу, – отвечала Наташа.
Лицо ее вдруг разгорелось, выражая отчаянную и веселую решимость. Она привстала, приглашая взглядом Пьера, сидевшего против нее, прислушаться, и обратилась к матери:
– Мама! – прозвучал по всему столу ее детски грудной голос.
– Что тебе? – спросила графиня испуганно, но, по лицу дочери увидев, что это была шалость, строго замахала ей рукой, делая угрожающий и отрицательный жест головой.
Разговор притих.
– Мама! какое пирожное будет? – еще решительнее, не срываясь, прозвучал голосок Наташи.
Графиня хотела хмуриться, но не могла. Марья Дмитриевна погрозила толстым пальцем.
– Казак, – проговорила она с угрозой.
Большинство гостей смотрели на старших, не зная, как следует принять эту выходку.
– Вот я тебя! – сказала графиня.
– Мама! что пирожное будет? – закричала Наташа уже смело и капризно весело, вперед уверенная, что выходка ее будет принята хорошо.
Соня и толстый Петя прятались от смеха.
– Вот и спросила, – прошептала Наташа маленькому брату и Пьеру, на которого она опять взглянула.
– Мороженое, только тебе не дадут, – сказала Марья Дмитриевна.
Наташа видела, что бояться нечего, и потому не побоялась и Марьи Дмитриевны.
– Марья Дмитриевна? какое мороженое! Я сливочное не люблю.
– Морковное.
– Нет, какое? Марья Дмитриевна, какое? – почти кричала она. – Я хочу знать!
Марья Дмитриевна и графиня засмеялись, и за ними все гости. Все смеялись не ответу Марьи Дмитриевны, но непостижимой смелости и ловкости этой девочки, умевшей и смевшей так обращаться с Марьей Дмитриевной.
Наташа отстала только тогда, когда ей сказали, что будет ананасное. Перед мороженым подали шампанское. Опять заиграла музыка, граф поцеловался с графинюшкою, и гости, вставая, поздравляли графиню, через стол чокались с графом, детьми и друг с другом. Опять забегали официанты, загремели стулья, и в том же порядке, но с более красными лицами, гости вернулись в гостиную и кабинет графа.
Раздвинули бостонные столы, составили партии, и гости графа разместились в двух гостиных, диванной и библиотеке.
Граф, распустив карты веером, с трудом удерживался от привычки послеобеденного сна и всему смеялся. Молодежь, подстрекаемая графиней, собралась около клавикорд и арфы. Жюли первая, по просьбе всех, сыграла на арфе пьеску с вариациями и вместе с другими девицами стала просить Наташу и Николая, известных своею музыкальностью, спеть что нибудь. Наташа, к которой обратились как к большой, была, видимо, этим очень горда, но вместе с тем и робела.
– Что будем петь? – спросила она.
– «Ключ», – отвечал Николай.
– Ну, давайте скорее. Борис, идите сюда, – сказала Наташа. – А где же Соня?
Она оглянулась и, увидав, что ее друга нет в комнате, побежала за ней.
Вбежав в Сонину комнату и не найдя там свою подругу, Наташа пробежала в детскую – и там не было Сони. Наташа поняла, что Соня была в коридоре на сундуке. Сундук в коридоре был место печалей женского молодого поколения дома Ростовых. Действительно, Соня в своем воздушном розовом платьице, приминая его, лежала ничком на грязной полосатой няниной перине, на сундуке и, закрыв лицо пальчиками, навзрыд плакала, подрагивая своими оголенными плечиками. Лицо Наташи, оживленное, целый день именинное, вдруг изменилось: глаза ее остановились, потом содрогнулась ее широкая шея, углы губ опустились.
– Соня! что ты?… Что, что с тобой? У у у!…
И Наташа, распустив свой большой рот и сделавшись совершенно дурною, заревела, как ребенок, не зная причины и только оттого, что Соня плакала. Соня хотела поднять голову, хотела отвечать, но не могла и еще больше спряталась. Наташа плакала, присев на синей перине и обнимая друга. Собравшись с силами, Соня приподнялась, начала утирать слезы и рассказывать.
– Николенька едет через неделю, его… бумага… вышла… он сам мне сказал… Да я бы всё не плакала… (она показала бумажку, которую держала в руке: то были стихи, написанные Николаем) я бы всё не плакала, но ты не можешь… никто не может понять… какая у него душа.
И она опять принялась плакать о том, что душа его была так хороша.
– Тебе хорошо… я не завидую… я тебя люблю, и Бориса тоже, – говорила она, собравшись немного с силами, – он милый… для вас нет препятствий. А Николай мне cousin… надобно… сам митрополит… и то нельзя. И потом, ежели маменьке… (Соня графиню и считала и называла матерью), она скажет, что я порчу карьеру Николая, у меня нет сердца, что я неблагодарная, а право… вот ей Богу… (она перекрестилась) я так люблю и ее, и всех вас, только Вера одна… За что? Что я ей сделала? Я так благодарна вам, что рада бы всем пожертвовать, да мне нечем…
Соня не могла больше говорить и опять спрятала голову в руках и перине. Наташа начинала успокоиваться, но по лицу ее видно было, что она понимала всю важность горя своего друга.
– Соня! – сказала она вдруг, как будто догадавшись о настоящей причине огорчения кузины. – Верно, Вера с тобой говорила после обеда? Да?
– Да, эти стихи сам Николай написал, а я списала еще другие; она и нашла их у меня на столе и сказала, что и покажет их маменьке, и еще говорила, что я неблагодарная, что маменька никогда не позволит ему жениться на мне, а он женится на Жюли. Ты видишь, как он с ней целый день… Наташа! За что?…
И опять она заплакала горьче прежнего. Наташа приподняла ее, обняла и, улыбаясь сквозь слезы, стала ее успокоивать.
– Соня, ты не верь ей, душенька, не верь. Помнишь, как мы все втроем говорили с Николенькой в диванной; помнишь, после ужина? Ведь мы всё решили, как будет. Я уже не помню как, но, помнишь, как было всё хорошо и всё можно. Вот дяденьки Шиншина брат женат же на двоюродной сестре, а мы ведь троюродные. И Борис говорил, что это очень можно. Ты знаешь, я ему всё сказала. А он такой умный и такой хороший, – говорила Наташа… – Ты, Соня, не плачь, голубчик милый, душенька, Соня. – И она целовала ее, смеясь. – Вера злая, Бог с ней! А всё будет хорошо, и маменьке она не скажет; Николенька сам скажет, и он и не думал об Жюли.
И она целовала ее в голову. Соня приподнялась, и котеночек оживился, глазки заблистали, и он готов был, казалось, вот вот взмахнуть хвостом, вспрыгнуть на мягкие лапки и опять заиграть с клубком, как ему и было прилично.
– Ты думаешь? Право? Ей Богу? – сказала она, быстро оправляя платье и прическу.
– Право, ей Богу! – отвечала Наташа, оправляя своему другу под косой выбившуюся прядь жестких волос.
И они обе засмеялись.
– Ну, пойдем петь «Ключ».
– Пойдем.
– А знаешь, этот толстый Пьер, что против меня сидел, такой смешной! – сказала вдруг Наташа, останавливаясь. – Мне очень весело!
И Наташа побежала по коридору.
Соня, отряхнув пух и спрятав стихи за пазуху, к шейке с выступавшими костями груди, легкими, веселыми шагами, с раскрасневшимся лицом, побежала вслед за Наташей по коридору в диванную. По просьбе гостей молодые люди спели квартет «Ключ», который всем очень понравился; потом Николай спел вновь выученную им песню.
В приятну ночь, при лунном свете,
Представить счастливо себе,
Что некто есть еще на свете,
Кто думает и о тебе!
Что и она, рукой прекрасной,
По арфе золотой бродя,
Своей гармониею страстной
Зовет к себе, зовет тебя!
Еще день, два, и рай настанет…
Но ах! твой друг не доживет!
И он не допел еще последних слов, когда в зале молодежь приготовилась к танцам и на хорах застучали ногами и закашляли музыканты.
Пьер сидел в гостиной, где Шиншин, как с приезжим из за границы, завел с ним скучный для Пьера политический разговор, к которому присоединились и другие. Когда заиграла музыка, Наташа вошла в гостиную и, подойдя прямо к Пьеру, смеясь и краснея, сказала:
– Мама велела вас просить танцовать.
– Я боюсь спутать фигуры, – сказал Пьер, – но ежели вы хотите быть моим учителем…
И он подал свою толстую руку, низко опуская ее, тоненькой девочке.
Пока расстанавливались пары и строили музыканты, Пьер сел с своей маленькой дамой. Наташа была совершенно счастлива; она танцовала с большим , с приехавшим из за границы . Она сидела на виду у всех и разговаривала с ним, как большая. У нее в руке был веер, который ей дала подержать одна барышня. И, приняв самую светскую позу (Бог знает, где и когда она этому научилась), она, обмахиваясь веером и улыбаясь через веер, говорила с своим кавалером.
– Какова, какова? Смотрите, смотрите, – сказала старая графиня, проходя через залу и указывая на Наташу.
Наташа покраснела и засмеялась.
– Ну, что вы, мама? Ну, что вам за охота? Что ж тут удивительного?
В середине третьего экосеза зашевелились стулья в гостиной, где играли граф и Марья Дмитриевна, и большая часть почетных гостей и старички, потягиваясь после долгого сиденья и укладывая в карманы бумажники и кошельки, выходили в двери залы. Впереди шла Марья Дмитриевна с графом – оба с веселыми лицами. Граф с шутливою вежливостью, как то по балетному, подал округленную руку Марье Дмитриевне. Он выпрямился, и лицо его озарилось особенною молодецки хитрою улыбкой, и как только дотанцовали последнюю фигуру экосеза, он ударил в ладоши музыкантам и закричал на хоры, обращаясь к первой скрипке:
– Семен! Данилу Купора знаешь?
Это был любимый танец графа, танцованный им еще в молодости. (Данило Купор была собственно одна фигура англеза .)
– Смотрите на папа, – закричала на всю залу Наташа (совершенно забыв, что она танцует с большим), пригибая к коленам свою кудрявую головку и заливаясь своим звонким смехом по всей зале.
Действительно, всё, что только было в зале, с улыбкою радости смотрело на веселого старичка, который рядом с своею сановитою дамой, Марьей Дмитриевной, бывшей выше его ростом, округлял руки, в такт потряхивая ими, расправлял плечи, вывертывал ноги, слегка притопывая, и всё более и более распускавшеюся улыбкой на своем круглом лице приготовлял зрителей к тому, что будет. Как только заслышались веселые, вызывающие звуки Данилы Купора, похожие на развеселого трепачка, все двери залы вдруг заставились с одной стороны мужскими, с другой – женскими улыбающимися лицами дворовых, вышедших посмотреть на веселящегося барина.
– Батюшка то наш! Орел! – проговорила громко няня из одной двери.
Граф танцовал хорошо и знал это, но его дама вовсе не умела и не хотела хорошо танцовать. Ее огромное тело стояло прямо с опущенными вниз мощными руками (она передала ридикюль графине); только одно строгое, но красивое лицо ее танцовало. Что выражалось во всей круглой фигуре графа, у Марьи Дмитриевны выражалось лишь в более и более улыбающемся лице и вздергивающемся носе. Но зато, ежели граф, всё более и более расходясь, пленял зрителей неожиданностью ловких выверток и легких прыжков своих мягких ног, Марья Дмитриевна малейшим усердием при движении плеч или округлении рук в поворотах и притопываньях, производила не меньшее впечатление по заслуге, которую ценил всякий при ее тучности и всегдашней суровости. Пляска оживлялась всё более и более. Визави не могли ни на минуту обратить на себя внимания и даже не старались о том. Всё было занято графом и Марьею Дмитриевной. Наташа дергала за рукава и платье всех присутствовавших, которые и без того не спускали глаз с танцующих, и требовала, чтоб смотрели на папеньку. Граф в промежутках танца тяжело переводил дух, махал и кричал музыкантам, чтоб они играли скорее. Скорее, скорее и скорее, лише, лише и лише развертывался граф, то на цыпочках, то на каблуках, носясь вокруг Марьи Дмитриевны и, наконец, повернув свою даму к ее месту, сделал последнее па, подняв сзади кверху свою мягкую ногу, склонив вспотевшую голову с улыбающимся лицом и округло размахнув правою рукой среди грохота рукоплесканий и хохота, особенно Наташи. Оба танцующие остановились, тяжело переводя дыхание и утираясь батистовыми платками.
– Вот как в наше время танцовывали, ma chere, – сказал граф.
– Ай да Данила Купор! – тяжело и продолжительно выпуская дух и засучивая рукава, сказала Марья Дмитриевна.
В то время как у Ростовых танцовали в зале шестой англез под звуки от усталости фальшививших музыкантов, и усталые официанты и повара готовили ужин, с графом Безухим сделался шестой удар. Доктора объявили, что надежды к выздоровлению нет; больному дана была глухая исповедь и причастие; делали приготовления для соборования, и в доме была суетня и тревога ожидания, обыкновенные в такие минуты. Вне дома, за воротами толпились, скрываясь от подъезжавших экипажей, гробовщики, ожидая богатого заказа на похороны графа. Главнокомандующий Москвы, который беспрестанно присылал адъютантов узнавать о положении графа, в этот вечер сам приезжал проститься с знаменитым Екатерининским вельможей, графом Безухим.
Великолепная приемная комната была полна. Все почтительно встали, когда главнокомандующий, пробыв около получаса наедине с больным, вышел оттуда, слегка отвечая на поклоны и стараясь как можно скорее пройти мимо устремленных на него взглядов докторов, духовных лиц и родственников. Князь Василий, похудевший и побледневший за эти дни, провожал главнокомандующего и что то несколько раз тихо повторил ему.
Проводив главнокомандующего, князь Василий сел в зале один на стул, закинув высоко ногу на ногу, на коленку упирая локоть и рукою закрыв глаза. Посидев так несколько времени, он встал и непривычно поспешными шагами, оглядываясь кругом испуганными глазами, пошел чрез длинный коридор на заднюю половину дома, к старшей княжне.
Находившиеся в слабо освещенной комнате неровным шопотом говорили между собой и замолкали каждый раз и полными вопроса и ожидания глазами оглядывались на дверь, которая вела в покои умирающего и издавала слабый звук, когда кто нибудь выходил из нее или входил в нее.
– Предел человеческий, – говорил старичок, духовное лицо, даме, подсевшей к нему и наивно слушавшей его, – предел положен, его же не прейдеши.
– Я думаю, не поздно ли соборовать? – прибавляя духовный титул, спрашивала дама, как будто не имея на этот счет никакого своего мнения.
– Таинство, матушка, великое, – отвечало духовное лицо, проводя рукою по лысине, по которой пролегало несколько прядей зачесанных полуседых волос.
– Это кто же? сам главнокомандующий был? – спрашивали в другом конце комнаты. – Какой моложавый!…
– А седьмой десяток! Что, говорят, граф то не узнает уж? Хотели соборовать?
– Я одного знал: семь раз соборовался.
Вторая княжна только вышла из комнаты больного с заплаканными глазами и села подле доктора Лоррена, который в грациозной позе сидел под портретом Екатерины, облокотившись на стол.
– Tres beau, – говорил доктор, отвечая на вопрос о погоде, – tres beau, princesse, et puis, a Moscou on se croit a la campagne. [прекрасная погода, княжна, и потом Москва так похожа на деревню.]
– N'est ce pas? [Не правда ли?] – сказала княжна, вздыхая. – Так можно ему пить?
Лоррен задумался.
– Он принял лекарство?
– Да.
Доктор посмотрел на брегет.
– Возьмите стакан отварной воды и положите une pincee (он своими тонкими пальцами показал, что значит une pincee) de cremortartari… [щепотку кремортартара…]
– Не пило слушай , – говорил немец доктор адъютанту, – чтопи с третий удар шивь оставался .
– А какой свежий был мужчина! – говорил адъютант. – И кому пойдет это богатство? – прибавил он шопотом.
– Окотник найдутся , – улыбаясь, отвечал немец.
Все опять оглянулись на дверь: она скрипнула, и вторая княжна, сделав питье, показанное Лорреном, понесла его больному. Немец доктор подошел к Лоррену.
– Еще, может, дотянется до завтрашнего утра? – спросил немец, дурно выговаривая по французски.
Лоррен, поджав губы, строго и отрицательно помахал пальцем перед своим носом.
– Сегодня ночью, не позже, – сказал он тихо, с приличною улыбкой самодовольства в том, что ясно умеет понимать и выражать положение больного, и отошел.
Между тем князь Василий отворил дверь в комнату княжны.
В комнате было полутемно; только две лампадки горели перед образами, и хорошо пахло куреньем и цветами. Вся комната была установлена мелкою мебелью шифоньерок, шкапчиков, столиков. Из за ширм виднелись белые покрывала высокой пуховой кровати. Собачка залаяла.
– Ах, это вы, mon cousin?
Она встала и оправила волосы, которые у нее всегда, даже и теперь, были так необыкновенно гладки, как будто они были сделаны из одного куска с головой и покрыты лаком.
– Что, случилось что нибудь? – спросила она. – Я уже так напугалась.
– Ничего, всё то же; я только пришел поговорить с тобой, Катишь, о деле, – проговорил князь, устало садясь на кресло, с которого она встала. – Как ты нагрела, однако, – сказал он, – ну, садись сюда, causons. [поговорим.]
– Я думала, не случилось ли что? – сказала княжна и с своим неизменным, каменно строгим выражением лица села против князя, готовясь слушать.
– Хотела уснуть, mon cousin, и не могу.
– Ну, что, моя милая? – сказал князь Василий, взяв руку княжны и пригибая ее по своей привычке книзу.
Видно было, что это «ну, что» относилось ко многому такому, что, не называя, они понимали оба.
Княжна, с своею несообразно длинною по ногам, сухою и прямою талией, прямо и бесстрастно смотрела на князя выпуклыми серыми глазами. Она покачала головой и, вздохнув, посмотрела на образа. Жест ее можно было объяснить и как выражение печали и преданности, и как выражение усталости и надежды на скорый отдых. Князь Василий объяснил этот жест как выражение усталости.
– А мне то, – сказал он, – ты думаешь, легче? Je suis ereinte, comme un cheval de poste; [Я заморен, как почтовая лошадь;] а всё таки мне надо с тобой поговорить, Катишь, и очень серьезно.
Князь Василий замолчал, и щеки его начинали нервически подергиваться то на одну, то на другую сторону, придавая его лицу неприятное выражение, какое никогда не показывалось на лице князя Василия, когда он бывал в гостиных. Глаза его тоже были не такие, как всегда: то они смотрели нагло шутливо, то испуганно оглядывались.
Княжна, своими сухими, худыми руками придерживая на коленях собачку, внимательно смотрела в глаза князю Василию; но видно было, что она не прервет молчания вопросом, хотя бы ей пришлось молчать до утра.
– Вот видите ли, моя милая княжна и кузина, Катерина Семеновна, – продолжал князь Василий, видимо, не без внутренней борьбы приступая к продолжению своей речи, – в такие минуты, как теперь, обо всём надо подумать. Надо подумать о будущем, о вас… Я вас всех люблю, как своих детей, ты это знаешь.
Княжна так же тускло и неподвижно смотрела на него.
– Наконец, надо подумать и о моем семействе, – сердито отталкивая от себя столик и не глядя на нее, продолжал князь Василий, – ты знаешь, Катишь, что вы, три сестры Мамонтовы, да еще моя жена, мы одни прямые наследники графа. Знаю, знаю, как тебе тяжело говорить и думать о таких вещах. И мне не легче; но, друг мой, мне шестой десяток, надо быть ко всему готовым. Ты знаешь ли, что я послал за Пьером, и что граф, прямо указывая на его портрет, требовал его к себе?
Князь Василий вопросительно посмотрел на княжну, но не мог понять, соображала ли она то, что он ей сказал, или просто смотрела на него…
– Я об одном не перестаю молить Бога, mon cousin, – отвечала она, – чтоб он помиловал его и дал бы его прекрасной душе спокойно покинуть эту…
– Да, это так, – нетерпеливо продолжал князь Василий, потирая лысину и опять с злобой придвигая к себе отодвинутый столик, – но, наконец…наконец дело в том, ты сама знаешь, что прошлою зимой граф написал завещание, по которому он всё имение, помимо прямых наследников и нас, отдавал Пьеру.
– Мало ли он писал завещаний! – спокойно сказала княжна. – Но Пьеру он не мог завещать. Пьер незаконный.
– Ma chere, – сказал вдруг князь Василий, прижав к себе столик, оживившись и начав говорить скорей, – но что, ежели письмо написано государю, и граф просит усыновить Пьера? Понимаешь, по заслугам графа его просьба будет уважена…
Княжна улыбнулась, как улыбаются люди, которые думают что знают дело больше, чем те, с кем разговаривают.
– Я тебе скажу больше, – продолжал князь Василий, хватая ее за руку, – письмо было написано, хотя и не отослано, и государь знал о нем. Вопрос только в том, уничтожено ли оно, или нет. Ежели нет, то как скоро всё кончится , – князь Василий вздохнул, давая этим понять, что он разумел под словами всё кончится , – и вскроют бумаги графа, завещание с письмом будет передано государю, и просьба его, наверно, будет уважена. Пьер, как законный сын, получит всё.
– А наша часть? – спросила княжна, иронически улыбаясь так, как будто всё, но только не это, могло случиться.
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Столбцовском районе
- Умершие 22 ноября
- Умершие в 1800 году
- Умершие в Силезии
- Философы по алфавиту
- Философы немецкой философской школы
- Кантианство
- Эпистемология
- Персоналии:Этика
- Эпоха Просвещения
- История XVIII века
- Персоналии:История еврейского народа
- Персоналии:Иудаизм
- История евреев Германии
- Хаскала
- Писатели на иврите
- Похороненные в Глогау
- Родившиеся в 1750-е годы


