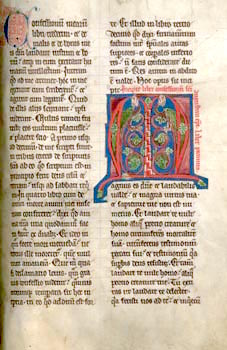Манихейство
Манихе́йство или манихеи́зм[1] (греч. Μανιχαϊσμός, кит. трад. 摩尼教, пиньинь: móníjiào) — синкретическое религиозное учение, возникшее в III веке в государстве Сасанидов (на территории современного Ирака). Названо по имени своего основателя — Мани с добавлением эпитета «живой» (сир. ܡܐܢܝ ܚܝܐ, Mānī ḥayyā’). Учение Мани было составлено в основном из христианско-гностических представлений, опиравшихся на специфическое понимание Библии, однако со временем впитало большое число заимствований из других религий — зороастризма и буддизма — по мере проповеди в странах их распространения. Также манихейство не было напрямую связано с западными и восточными учениями, которым была свойственна дуалистическая доктрина (катаризм, павликианство, зиндики), а определение «манихейский» использовалось христианским и мусульманским духовенством как инвектива. Для собственно манихейского учения было характерно представление о вселенском характере истинной религии, которое проходит через скрытую и явленную стадии. Именно это позволило манихейству встраиваться в самые разные культурные контексты — от античного до китайского[2]. Однако, по определению Е. Б. Смагиной, манихейство стало не мировой религией, а «мировой ересью»[3].
К IV веку манихейские общины существовали почти на всей территории Римской и Сасанидской империй и в окрестных странах. Римские власти с манихейством боролись: первый антиманихейский указ издал Диоклетиан в 297 году, в дальнейшем такие указы издавали христианские императоры в 326, 372 и 381—383 годах. К VI веку манихейство на Западе пришло в упадок. В этот же период в государстве Сасанидов началась борьба со всеми незороастрийскими религиозными организациями, из-за чего большинство манихеев осели в Центральной Азии, центр религиозной организации был перенесён в Самарканд. В VII—VIII веках манихейство проникает в Китай. В 762 году в манихейство обратился Бегю-каган — глава уйгурского государства; официальной религией оно было до разгрома каганата в 840 году, но впоследствии сохранилось в уйгурском Гаочанском государстве, а также проникло в Южную Сибирь, где просуществовало до монгольского завоевания. С IX века начинается преследование манихейства в Китае, аналогичные процессы происходили в мусульманских государствах. Тем не менее, манихейские общины зафиксированы на территории Туркестана и Китая до XIV века, как минимум один манихейский текст вошёл в даосский канон. Манихейство под видом буддийской секты сохранялось в Южном Китае до начала XVII века, единственный манихейский храм остался в Фуцзяни, но он принадлежит буддийской общине.
Содержание
Источники по истории манихейской доктрины. Историография
Христианские и мусульманские источники
До начала ХХ века историки могли судить о манихействе только по свидетельствам его идейных оппонентов, чаще всего, недоброжелательным[4]. Преимущественно, это труды христианских ересиологов и мусульманских авторов, за единственным исключением: самый ранний антиманихейский труд написан неоплатоником Александром Ликопольским, он позволяет судить о ранней догматике манихеев[4].
Христианские источники представлены на греческом, латинском, сирийском и арабском языках. Одно из самых ранних антиманихейских сочинений — «Деяния Архелая[de]» о диспуте Мани с епископом Архелаем, этим текстом пользовался Епифаний Кипрский при написании 66-й главы «Панариона» (Patrologia Graeca, том 42). Особое место среди христианских авторов занимают Ефрем Сирин и Августин Аврелий. Ефрем читал оригинальные труды манихеев и написал об этом учении много. Августин в молодости сам состоял в манихейской церкви (в низшем ранге) и хорошо был знаком с манихейской проповедью и писаниями, поэтому его антиманихейские труды, написанные между 388—405 годами, являются источниками первостепенного значения. В «Латинской патрологии» Миня они опубликованы в томах 32, 34 и 42. Некоторые сведения содержатся в «Катехизисе» Кирилла Иерусалимского (Patrologia Graeca, том 33) и у Серапиона (Patrologia Graeca, том 60). От V века дошли труды Феодорита Кирского (Patrologia Graeca, том 66) и латинская формула отречения, которую произносил манихей, отрекаясь от догматов своего учения. В «Латинской патрологии» Миня она опубликована в томе 42. В VI веке изложение доктрины со множеством цитат давал Север Антиохийский в своих «Гомилиях», к этому же времени относится малая греческая формула отречения (Patrologia Graeca, том 86).
О существовании манихейства в VIII веке подробно свидетельствовал сирийский патриарх Феодор бар Кони в «Схолиях», он цитировал и некоторые труды Мани и представил связный и последовательный пересказ манихейской мифологии[5]. Греческие авторы IX века — Фотий и Пётр Сицилийский[fr] — приводили некоторые отсутствующие у прочих авторов подробности (Patrologia Graeca, тома 102, 104). К этому же времени относится большая греческая формула отречения. Последующие ересиологи X—XIII веков (Бар-Эбрей) писали только на основании трудов своих предшественников и могли относить это название к сектам или ересям, уже никакого отношения к собственно манихейству не имеющих[6].
Среди мусульманских авторов о манихействе много писал Бируни в своих трактатах «Индия» и «Памятники минувших поколений». Здесь приводятся не только сведения о доктрине, но и факты биографии Мани. Большой раздел посвятил манихейству Ибн ан-Надим в сочинении «Фихрист аль-улум»[7].
Археологические находки
Четыре археологические экспедиции Берлинского этнографического музея в Турфанский оазис (в Синьцзяне) в период 1902—1916 годов обнаружили многочисленные фрагменты рукописей на среднеперсидском, парфянском, согдийском, уйгурском и китайском языках, которые фиксировали манихейские сочинения, в том числе собственные труды Мани, отстоящие от времени жизни основателя доктрины на 400 лет[8]. Первые находки в 1903 году поступили для исследования Ф. Мюллеру, специалисту по дальневосточным языкам, знавшему также арабский и персидский. На основе описания ан-Надима он впервые отождествил фрагменты «Шапуракана»[9]. Турфанские рукописи дают наиболее широкий круг оригинальных источников для исследования манихейства, но все фрагменты книг Мани — переводные, поскольку языком манихейского канона был арамейский. Многие манихейские рукописи были обнаружены в Дуньхуане, в 1907—1908 годах они были приобретены А. Стейном и П. Пеллио. Среди находок Стейна выделялась первая половина неизвестного ранее сочинения под названием «Краткое содержание учений и правил религии Будды Света, Мани» на китайском языке, вторая его половина оказалась среди находок Пеллио[10].
На латинском языке представлен манихейский текст из находок в Северной Африке 1918 года (близ Тебесса в Алжире). Имеются единичные находки манихейских надгробных стел на адриатическом побережье, дающие представление о наличии манихеев в Далмации примерно в IV—V веке. К 1920 году некоторые обрывки на сирийском и коптском языке были обнаружены и в Египте, в том числе в Оксиринхе. Большого резонанса на фоне китайских находок эти материалы не вызвали, но были учтены в 1925 году семитологом-библеистом Ф. Бёркиттом[en] в книге о манихействе, в которой он опубликовал арамейские манихейские тексты из египетских находок[11].
Из греческих манихейских текстов получил известность Кёльнский кодекс, приобретённый Кёльнским университетом в 1968 году. Эта рукопись на 192 страницах миниатюрного формата (3,5 × 4,5 см) датируется V—VI веками, и содержит жизнеописание Мани на греческом языке. Собственно подробностей о манихейской доктрине здесь немного[12].
В 1928 году К. Шмидт приобрёл в Египте коптскую рукопись, в которой опознал книгу «Главы» («Кефалайа»), цитируемую Епифанием Кипрским. Рукопись была датирована IV веком, купить её удалось с большим трудом (специалисты Британского музея отказывались считать текст подлинным, а государство отказалось приобретать рукопись, и это сделали за счёт анонимного мецената). Шмидту не удалось купить всех фрагментов рукописи, «Манихейская псалтирь» и «Манихейские гомилии» оказались в собрании Честера Битти. Всего в распоряжении исследователей оказалось 6 объёмных текстов на субахмимском диалекте коптского языка. Из этих текстов во время Второй мировой войны были утрачены послания Мани и его биография, которые так и не были опубликованы. Судя по всему, они отстояли от времени жизни основателя учения не более чем на 100 лет[13].
Историография
До обнаружения манихейских текстов
Первое исследование манихейства выпустил в 1578 году К. Шпагенберг[14] — лютеранский теолог, который задался целью опровергнуть обвинения в адрес Лютера, что он возрождает к жизни манихейскую ересь[15]. В XVIII веке французский протестант Исаак де Бособр[fr] выпустил фундаментальную работу[16], основанную на западной ересиологической традиции, но преследовал при этом прямо противоположную цель: он попытался доказать, что манихейство не противоречило христианской доктрине и являлось своего рода «протестантизмом древности» — сознательной оппозицией ортодоксальной церкви. Бособр, ещё не определяя манихейство самостоятельной религией, впервые описал воздействие на его доктрину зороастризма, буддизма (влияние которого сильно преувеличил) и гностицизма[17].
Первым исследователем, который определил манихейство как новую религию, был известный теолог Ф. Баур, монография которого была опубликована в 1831 году[18]. Все доступные ему греческие и латинские источники — святоотеческие тексты — он классифицировал по двум группам: представляющим манихейскую мифологию в её конкретных формах и представляющих манихейское учение в философских абстрактных формах. Баур отмечал сходство манихейства с христианством (Христос в обоих учениях является посредником между Богом и миром), но доказывал, что корни манихейства — в зороастризме, а их отличия объяснял буддийским влиянием. Именно Баур впервые писал о необходимости изыскания источников на восточных языках, которые прольют новый свет на историю манихейства[19].
Большой пласт восточных (арабских) источников по манихейству ввёл в научный оборот поколением позже Г. Флюгель[20]. В своей работе 1862 года Флюгель перевёл часть «Фихриста» ан-Надима, посвящённую манихейству, для комментария к которому привлёк все известные западные и восточные источники. Он также доказал, что ан-Надим и Шахрастани пользовались манихейскими текстами, переведёнными на арабский язык с персидского и сирийского, и, следовательно, их свидетельства весьма надёжны. Также Флюгель убедительно доказал, что на учение Мани сильно повлияли Вардансан и Маркион[21].
Дискуссия о западных и восточных корнях манихейства
В 1925 году вышла в свет небольшая книга кембриджского семитолога и специалиста по Новому Завету Ф. Бёркитта «Религия манихеев»[22]. Он решительно отстаивал христианское (еретическое) происхождение манихейства и убедительно показал, что «это здание, построенное из различного материала»[23]. По мнению Бёркитта, наилучшее понимание природы этого материала дают труды Ефрема Сирина[24]. В 1927 году к его точке зрения присоединился немецкий иранист Ганс Шедер, который писал, что духовные истоки доктрины самого Мани следует искать в греческой науке и философии; причём в той среде, в которой манихейство возникло, общей религиозной идеей был гнозис, то есть «подлинное и искупительное знание». Исходя из этого, следует доверять ранним критикам манихейства — в том числе Александру Ликопольскому, — в то время как мусульманские авторы излагали поздние доктрины, сильно перемешанные с восточными мифологиями в угоду местной традиции[25].
В 1949 году линию Бёркитта продолжил в своей монографии французский историк ранней церкви и раннехристианской литературы А.-Ш. Пюэш. Он показал, что манихейство имеет три характеристики:
- Манихейство претендовало на статус универсальной религии, объединяющей всё то, что было и есть в других религиях;
- Манихейство — миссионерская религия, которая в идеале стремилась стать единственной в мире;
- Манихейство — «религия книги» par excellence, которая осуществляла переводческую деятельность в масштабах, неведомых ни одной современной ей религии[26].
Пюэшу, Шедеру и Бёркитту оппонировал шведский исследователь Гео Виденгрен, который последовательно отстаивал иранское происхождение манихейства. Он доказывал, что в основе доктрины Мани лежал зурванизм, который в свою очередь многое позаимствовал из древнемесопотамской религии. Серьёзной его инновацией было то, что старые идеи Мани выражал языком, почерпнутым из современной ему гностической литературы[26].
Современное состояние
С 1987 года проводятся регулярные международные конгрессы по манихейству, создана Международная ассоциация манихейских исследований[27], которая издаёт научный бюллетень и выпускает серию источников Corpus fontium Manichaeorum, распределённых по языкам, а также словари манихейской терминологии, имеющейся в текстах[28]. В 1985 и 1992 годах выходила работа «Манихейство в поздней Римской империи и в средневековом Китае» Самуэля Лью, в которой систематизировался весь имеющийся к тому времени источниковый материал[29]. В 1999 году он же опубликовал книгу о манихействе в Месопотамии и восточных провинциях Римской империи[30].
В СССР и России манихейству уделялось мало внимания практически до начала 1990-х годов[31]. В 1955 году в престижном академическом журнале «Вестник древней истории» вышла статья А. Л. Каца о манихействе в Римской империи[32]. В 1983 году была защищена диссертация А. И. Сидорова «Проблема гностицизма и синкретизма позднеантичной культуры (учение наассенов)», в которой автор принципиально возражал против применения к манихейству термина «синкретизм» ввиду цельности и непротиворечивости его доктрины. С 1990-х годов к исследованию этой религии обратились коптологи — Е. Б. Смагина и специалист по раннему христианству А. Л. Хосроев. Е. Смагина в 1998 году опубликовала полный комментированный перевод трактата «Кефалайа». В 2001 году на русском языке публиковалась популярная работа Г. Виденгрена с послесловием Р. В. Светлова, в котором манихейство трактовалось как «мировая ересь». Практически одновременно были написаны и вышли в свет монографии А. Хосроева и Е. Смагиной (в 2007 и 2011 годах соответственно), последовательно рассматривающие манихейскую доктрину и историю их церкви, а также снабжённые переводами оригинальных источников и христианских ересиологов. В 2008 году Институтом Дальнего Востока РАН была опубликована монография А. Алексаняна, посвящённая развитию и бытованию манихейства в Китае. В приложении к ней приводятся переводы двух китайских манихейских текстов.
Манихейский канон
Сам Мани, сравнивая свою деятельность с осноположниками буддизма, зороастризма и христианства, заявлял:
…Моя церковь (др.-греч. έκκλησία) превосходит (другие) в мудрости (др.-греч. σοφία)… Эту [великую] мудрость написал я в своих святых книгах, а именно: в Великом [Евангел]ии и в других сочинениях, чтобы она [после] меня не подверглась искажению… Ведь все а[постол]ы, мои братья, которые приходили до меня, не [записали] свою мудрость в книгах, как записал её я, и [не] изобразили её в образе (др.-греч. είκών), как я её изобразил. Моя церковь и в этом пункте превосходит (все) предыдущие церкви[33].— Кефалайа, 151
Это означает, что Мани ставил себе в заслугу то, что был первым основателем религии, который лично зафиксировал своё учение, в отличие от предшественников, где доктрина была кодифицирована только учениками. Согласно Мани, это должно было обезопасить учение от последующих искажений, а также устанавливался канон, к которому ничего нельзя было прибавить[33].
Учение Мани было зафиксировано и последовательно изложено им самим в 10 книгах, написанных на арамейском языке (за исключением «Шапуракана», написанного на среднеперсидском). Турфанские тексты записаны манихейским письмом — производным от арамейского, которое считается изобретением самого Мани. Ни одна из канонических книг не дошла целиком, в лучшем случае сохранились фрагменты, цитаты и пересказы на разных языках. Перечень манихейских книг совпадает в коптских, арабских, греческих, сирийских и китайских источниках. Характерно, что все эти книги приписывались самому Мани, но в канонический свод вошло только семь из них[34]. Их порядок и содержание в коптском варианте таковы:
- «Евангелие[en]» или «Великое Евангелие». Содержание известно из арабских пересказов, а также цитирования в коптских и турфанских текстах; начало приведено в «Кёльнском кодексе». Включало 22 главы — по числу букв арамейского алфавита. В манихейском каноне ставилось на первое место, ибо излагало космогонию. К христианским и гностическим Евангелиям отношения не имеет, о чём свидетельствовал Пётр Сицилийский[35].
- «Сокровищница жизни». Эту книгу цитировал Августин в двух своих трудах, а также Еводий и арабские авторы. По-видимому, её главным содержанием было описание очищения душ, смешанных с мраком, и их освобождение; а также вознесение человеческих душ и Души живой из материального мира.
- «Трактат» (или «Прагматия»). Не сохранилось ни цитат, ни отрывков, содержание не поддаётся реконструкции.
- «Книга таинств». Известна только из арабских источников: у Бируни приводится цитата из неё, ан-Надим приводит её оглавление. По-видимому, эта книга — полемический трактат против сирийского гностика Бардесана. Структура её, по-видимому, сходна с коптским текстом «Кефалайа».
- «Книга гигантов». Фрагментарно сохранилась в турфанских текстах. По-видимому, это перевод или переработка библейского псевдэпиграфа «Первой книги Еноха».
- «Послания». Сборник писем Мани к своим последователям, в том числе Сисинию, возглавившему церковь после него. Цитируется у Августина, Епифания, других христианских ересиологов, а также арабских авторов. Тексты частично сохранились среди турфанских находок, вероятно, часть посланий была написана и приписана Мани позднее. У ан-Надима приводится список 76 посланий Мани в разные города Ирана, Армении и Индии. Послания затрагивают самые разные практические и теоретические проблемы.
- «Псалмы». Псалмы самого Мани не сохранились, однако вариантов манихейских псалмов дошло много в парфянском, коптском и китайском переводах. Вероятно, в этих циклах могут содержатся и подлинные псалмы Мани.
- «Шапуракан». Книга написана Мани на среднеперсидском языке для шаха Шапура I. Сохранилась фрагментарно среди турфанских находок, а также цитируется у арабских авторов. Представляет собой краткое изложение манихейской доктрины, адаптированное к зороастризму (все божества именуются исключительно зороастрийскими именами). Трактату предпослана автобиография Мани и текст о реинкарнации апостолов — основателей всех мировых религий.
- «Образ». Книга иллюстраций к доктрине, по преданию, нарисованных самим Мани, который был искусным художником. Сохранились турфанские комментарии и упоминания в коптском трактате «Кефалайа». Видимо, иллюстрации касались загробной жизни праведного Избранного и загробное воздаяние грешнику.
- «Молитвы». Вероятно, собрание молитв, которыми Мани наставлял общину, то есть это молитвы Солнцу и Луне, одинаковые для Избранных и Слушателей.
Турфанские и коптские манихейские тексты отличаются друг от друга; по-видимому, они представляют разные вероучения западного и восточного манихейства. На Западе в число канонических входили также «Кефалайа», «Жизнеописание Мани» и «Гомилии»; кроме того, в круг чтения манихеев входили и некоторые гностические тексты и христианские апокрифы, изобильно цитируемые в Кёльнском кодексе[36].
Манихейская догматика и мифология
Мани создал цельную религиозную систему, которую представил в форме сложного драматического мифа, главные сюжеты которого — творение мира и человека, судьба человека в мире и пути его спасения. Поскольку от собственных сочинений Мани остались лишь незначительные отрывки, при реконструкции манихейской доктрины не всегда можно отделить наследие основателя от продукта творчества его последователей[37].
Первооснова бытия. Дуализм
Во Вселенной существуют два начала и две силы, изначально чужеродные, противоположные, никак не связанные и не имеющие ничего общего — Свет и Мрак. Свет представляет собой нерасторжимое единство, его персонификация и активное начало — верховное божество. Его имя Отец Величия или Бог Истины, он же — Бог-отец. С ним неразрывно связаны четыре качества: собственно Божественность (или Чистота), Свет, Сила и Мудрость. Поэтому Бога называют ещё и «четырехликим Отцом Величия». Сущность Отца Величия выражается пятью абстрактными понятиями: Ум, Мысль, Разумение, Помышление, Размышление, которые являются его ипостасями и атрибутами[38].
Мир Света разделён на многочисленные эоны — обители светлых богов, делящихся на три категории.
- Боги есть эманации Отца Величия первого уровня,
- богатые — эманации второго уровня, произведённые богами,
- Ангелы — эманация третьего уровня, произведённая богатыми[39].
Страна Света есть обитель покоя, характеризуемого как единство, гармония и согласие. Свет полностью благ — он не знает никакого зла, полностью духовен, нематериален. Все творения Света — бессмертны и совершенны по красоте. Свет разделён на двенадцать эонов — это персонифицированные и в то же время пространственно-временные единства, обители светлых божеств, которые в то же самое время — часть Отца Величия, являющиеся им самим, а не его эманациями[40].
Противоположная Свету сила — Мрак. Его активное начало и персонификация — Материя, она же Грех и помысел смерти. Порождения Мрака распределены по пяти жилищам, порождающим пять тёмных стихий и миры Сухого (жар и огонь) и Влажного (холод и наслаждение). Мрак полностью бездуховен, лишён блага и гармонии, его творения безобразны. Мрак беспокоен и агрессивен, его силы извечно заняты борьбой друг с другом. Пространственно Свет и Мрак расположены вертикально один относительно другого. Свет пребывает «в высоте», мрак — в самой нижней части вселенной — «бездне»[41].
Согласно А. Л. Хосроеву приведённая дуалистическая концепция сильно отличается от гностической, которую он именует вторично- или относительно-дуальной. Согласно христианским гностикам, творившим во времена Мани, дуализм не изначально присутствовал в божественном мире, а возник как следствие отпадения из совершенной Плеромы одного из эонов, и таким образом был следствием своего рода деградации (такая доктрина была у валентиниан). Напротив, А. Хосроев полагает дуализм манихейского учения изначальным, или радикальным, поскольку в своей картине мира Мани исходил из изначального и равноправного сосуществования двух противоположных принципов, не зависимых друг от друга. Иными словами, манихейский дуализм двухуровневый. С одной стороны это дуализм философский, в котором изначально раздельно существуют дух и материя, и этико-религиозный, в котором изначально противостоят друг другу доброе и злое начало, отождествляемое с духом и материей[42]. Дуализм Мани порождался проблемой теодицеи, ради чего он «освободил» Бога от ответственности за существование в мире зла[43].
Теогония
Поначалу Свет и Мрак существовали отдельно, не соприкасаясь и не смешиваясь: граница между ними была непреодолима. Манихейская история мира начинается с момента, когда Материя — активное начало Мрака — позавидовала красоте Света и пожелала захватить его. Открылись пять стихий Мрака — они же пять миров плоти — из них излились пять стихий мрака: дым, огонь, ветер, вода и тьма. Материя стала выращивать из них пять видов деревьев, своих воплощений. Узнав о помыслах Материи, Отец Величия вызвал свои первые эманации — Мать Жизни, она же — Великий Дух, и Первочеловека. Материя же воплотилась в плоды пяти видов деревьев и дала им созреть[44].
В то же самое время Первочеловек отделил от себя пять своих эманаций — пять сынов, они же светлые стихии: воздух, огонь, вода, ветер и свет. Они служили Первочеловеку доспехами — защитой от пяти миров мрака — ибо он был рождён для битвы. Из плодов пяти деревьев Материи вышли пять архонтов (владык) — демонов мрака. Архонты мира дыма — двуногие; архонты мира огня — четвероногие; от мира ветра произошли крылатые архонты; архонты мира воды — плавающие; порождения мира тьмы — пресмыкающиеся. Впоследствии при сотворении мира из деревьев и демонов произошли животные и растения[44].
У каждого мира имеется один верховный архонт — царь этого мира. Царь мира огня — лев, царь мира ветра — орёл, царь мира воды — рыба, царь мира тьмы — дракон. Ими правит сильнейший из пяти — царь мира дыма, пятиликий: у него львиная голова, орлиные крылья, туловище дракона, четыре лапы, как у демонов, и рыбий хвост. Он возглавил поход сил тьмы, поднятых Материей, в наступление на Свет; всего в походе участвовали Материя, семь её царей и двенадцать слуг во главе всех демонов. Они захватили некоторую часть Страны Света и смешались с ним[45].
Тогда Мать Света и все светлые боги отправили Первочеловека на битву. Он облачился в пять светлых стихий и спустился в область смешения и вступил в битву, но побеждая, он отдавал одну за другой свои одеяния, ибо стихии света связывали стихии мрака и не давали им распространяться. Воздухом был связан дым, огнём — пожар, ветром — тёмный ветер, водой — тёмная вода (или яд), светом — тьма[45].
Тем временем Отец Величия произвёл ещё одну эманацию — Дух живой (он же Отец жизни), — воззвавшего с высоты к Первочеловеку. Зов и Ответ персонифицировались и стали самостоятельным двуединым божеством. Дух живой поднял безоружного Первочеловека в Страну Света, но он уже не мог вновь слиться с богами, поскольку познал смешение и соприкоснулся с мраком. На границе света и мрака — высоты и бездны — осталась область смешения, где пять светлых стихий были раздроблены, связаны и смешаны с мраком[45].
Материальный мир. Астрология и астрономия
Дух живой и Мать жизни спустились и начали возносить частицы Света из смешения наверх. Так началось творение материального мира из суши, влаги и пяти стихий. Божества-творцы связали архонтов и других демонов, поставив их в разные области мира. Из тел архонтов была сотворена земля, поставленная посреди моря (на основе сухого и влажного); над землей были установлены десять твердей, где связаны души архонтов и демонов. Под твердями Дух живой создал Колесо звезд, или Сферу, где связаны и вращаются души архонтов, светящие светом разорванных ими одеяний Первочеловека — стихий. Цари пяти миров мрака, сухого и влажного и другие вожди стали пятью планетами, двумя «Восходящими» (астрологические аналоги Солнца и Луны) и двенадцатью зодиакальными созвездиями. Они могут оказывать влияние на земные дела, а планеты могут передвигаться по сфере звезд[46].
Каждый из этажей царства тьмы — то есть планета — ассоциируется с определенным металлом. Юпитер — мир дыма, его элемент — золото. Мир огня — Венера, её элемент — медь; Марс — мир ветра (железо); Меркурий — мир воды (серебро); мир тьмы — Сатурн (свинец). Каждый этаж связан и с определённым вкусом — мир дыма (Юпитер) солёный; мир огня (Венера) — кислый; мир ветра (Марс) — жгучий; мир воды (Меркурий) — сладкий; мир тьмы (Сатурн) — горький[47].
Дух живой поставил стражами над миром пять своих эманаций — «пять сынов Духа живого»: Светодержец стоит над всеми твердями, Царь чести — в седьмой тверди и следит за восхождением Света; Адамант света сторожит архонтов Материи, Царь славы вращает три колеса стихий, Омофор держит землю и тверди. У каждого из пяти духов в услужении ангелы[48].
Сотворение человека. Доктрина церкви
Отец величия направил вниз свою эманацию — Третьего посланца, чтобы свет восходил из мира. Однако его образ увидела Материя и её силы, позавидовала красоте посланца и пожелала создать аналогичное существо — божество, светоч и защита от высших сил. Материя, гоняясь за Посланцем, упала, и из её части, упавшей на влагу, возникло некое творение, укрощённое Адамантом света. Из остальной части Материи вновь выросло древо, давшее плоды — архонтов мужского и женского пола. Соблазняясь красотой образа Посланца они совокуплялись, желая породить лучезарное потомство, но породили только недоносков — Выкидышей, которые пошли в область под стражей Адаманта и остановили восхождение воды, ветра и огня. Сильнейший из них — Сакла — со своей подругой собрал семя всех Выкидышей и сотворил перволюдей — Адама и Еву, вложив в них весь свет, имевшийся в материальном мире. Адам и Ева были дики, и ничего не знали о своей светлой части — душе. Далее Сакла, совокупившись с Евой, породил Каина и Авеля[49].
В ответ Отец величия сотворил Иисуса-Сияние и Деву света. Иисус-Сияние сошёл в стражу Адаманта света, смирил мятеж Выкидышей и архонтов и восстановил восхождение трёх стихий. Затем он сошёл на землю и воплотился в Еву, дав Адаму знание о божественном происхождении его души и пути спасения. Дав это знание, Иисус-Сияние вознёсся. Были созданы два Корабля света — Солнце и Луна, предназначенные для очищения и вознесения человеческих душ. Солнце состоит из светлой стихии огня, Луна же — воды. Дух живой поселился на Солнце, Иисус-Сияние и Дева света — на Луне, исторгая из них свет[49].
Оставшиеся на земле просветлёнными Адам и Ева породили сына Сифа, которому Адам передал Откровение, поведанное ему Иисусом. От Сифа пошёл род праведников-Апостолов, завершавшийся самим Мани — каждому из них являлся Двойник — эманация Иисуса-Сияния или его порождения — Разума света. Когда Апостолу являлся Двойник — он основывал истинную церковь, излагая в её учении всё услышанное[49]. После смерти Апостола его церковь некоторое время хранит истинную веру, когда же наступает упадок, Иисус посылает другого Апостола, чтобы восстановить истинную веру и истинную церковь[50].
Манихейская сотериология и эсхатология
Обычный человек, соблюдающий заповеди истинной веры, обязан прежде всего не вредить свету и жизни, ибо в материальном мире они связаны; его задача — не задерживать их пребывание на земле. Так он спасает свою светлую душу, которая после смерти устремляется к Свету. Разум света есть эманация Иисуса-Сияния, она вселяется в праведника и после исхода из тела препровождает на пути восхождения. Сначала душа восходит в воздух, где её принимает Столп славы — совершенный человек. По Столпу душа поднимается к Луне, где очищается. Смена лунных фаз объясняется тем, что от новолуния до полнолуния Луна наполняется душами, а при убывании Луны души восходят к Солнцу. Однако Душа живая — частицы света в материальном мире — поднимаются к свету другими путями[50].
Материя борется за душу человека, стремясь задержать свет во мраке. Из знаков зодиака спускаются 12 духов заблуждения, вселяются в души людей и влекут к пяти видам лжеучений. Душа человека, не имеющего силы освободиться от заблуждений и греха, после смерти не возносится, а перерождается в другом теле и в другом творении Материи. Пройдя несколько перерождений, душа очищается и в конце-концов возносится. Однако есть души, окончательно погрязшие во грехе; такие идут в геенну, где должны пребывать до конца света[50].
На протяжении всей истории мира свет освобождается от смешения и возносится наверх, поэтому количество света в душах людей убывает, при этом свет всё время дробится по причине умножения человеческого рода. Перед концом света останется совсем немного, и начнётся великая война, в которой грешники на короткое время возьмут верх над праведниками. После победы сил тьмы, Зов и Слух образуют божественное двуединство — Помысел жизни — соберут оставшийся в мире свет и создадут из него Последнее изваяние, которое вознесётся. После его вознесения великий Огонь пожрёт мир за 1468 лет. Дата конца света неизвестна, ибо даже если высшие силы и назовут её, из-за противодействия архонтов всё может измениться[51]. Божества воссядут на престолы, чтобы судить души. Праведники воспарят в новый эон, построенный Великим строителем, где и будут вечно жить с богами. В новом эоне они проведут срок, равный сроку пребывания богов в смешении, забудут страдание и воссоединятся с чистым Светом, который не знал смешения. Души грешников доставят в Болос (др.-греч. βώλος — Мани пользовался греческим словом, которое не имеет в данном контексте точного перевода), расположенный посреди эона, откуда им уже не суждено выбраться никогда[52][53].
Структура манихейской церкви. Богослужебная практика
По мнению А. Л. Хосроева, успех манихейства не в последнюю очередь был связан с хорошо налаженной церковной организацией. По-видимому, структуру церкви разработал сам Мани, и при этом он отказался от трёхступенчатой иерархии христианской церкви, сложившейся к тому времени, и попытался вернуться к временам первых апостолов[54].
Дуализм манихейской доктрины сказался на чётком разделении всех членов церкви на две неравные категории. Августин Аврелий писал об этом так: «(Манихеи) утверждают, что из двух категорий (верующих), а именно из избранных и слушателей (лат. auditores), состоит их церковь»[54]. Обе категории должны были жить в ожидании смерти и посмертного вознесения к Свету, однако Избранные попадали в страну Света сразу, в то время как слушатели (др.-греч. άκροατής, а в коптской терминологии — наставляемые, «катехумены») должны были перерождаться несколько раз. Членами церкви были и мужчины, и женщины, но последние не могли занимать церковных должностей[54]. Слушатели принимали определённые обеты, но весьма ограниченные. Например, запрещалось убийство людей и животных, но не было запрета на покупку и поедание мяса; строгим был запрет употребления вина[55].
Об Избранных и структуре манихейской церкви свидетельствовал Августин:
Сам Мани имел двенадцать апостолов, равное числу апостолов, и это число манихеи сохраняют и по сей день. Ведь из своих избранных они имеют двенадцать, которых называют учителями, а тринадцатого (они называют) главой; (есть у них) также и семьдесят два епископа, которые назначаются учителями, и неопределенное число пресвитеров, которые назначаются епископами; епископы имеют также диаконов. А прочие называются только избранными. Но и они посылаются (на проповедь), если они оказываются способными для (проповеди) этого заблуждения, или туда, где его нужно поддержать и распространить, или туда, где его ещё нет и где его нужно посеять[56]— De haer. 46. 16
В турфанских и китайских манихейских источниках вся эта информация подтверждается, что также свидетельствует о стабильности структуры манихейской церкви, восходящей к её основателю. Даже в китайских текстах упоминаются 72 епископа, однако, по-видимому, это было символическое число, восходящее к общему количеству учеников Иисуса Христа, упоминаемых в Евангелиях — 70 или 72[57]. Неясен только вопрос о внешних отличиях Избранных — в китайских текстах (и на турфанских изображениях) указано, что Избранные должны даже внешне отличаться от прочих верующих, нося белые одеяния и высокие шапки. Впрочем, Пеллио и Шаванн допускали, что здесь речь идёт о сугубо местной дальневосточной практике, не существовавшей в других общинах[58].
Название «Избранные» восходит к собственным словам Мани («Кефалайа», 67):
Все мои дети, праведные (др.-греч. δίκαιος) избранные (др.-греч. έκλεκτός), которые есть у меня в каждой стране, подобны лучам солнца; во время же, после того как я уйду из мира (др.-греч. κόσμος) и отправлюсь в дом моих людей (то есть в царство Света), соберу я всех избранных, которые уверовали в меня, в том месте; возьму я каждого к себе при его уходе (из этого мира) и не оставлю ни одного из них во Тьме[59].
Именно из числа Избранных пополнялись четыре категории служителей церкви: 1. Учителя. 2. Епископы. 3. Пресвитеры. 4. Диаконы. Спасение человека как после смерти, так и после Страшного Суда зависело в первую очередь от того, был ли он манихеем, а если был — какую категорию верующих занимал. Избранные должны были вести строго аскетический образ жизни и соблюдать пять заповедей: 1) не лгать, 2) не убивать, 3) не есть мяса, 4) держать себя в чистоте и 5) пребывать в бедности. Августин утверждал, что Избранные строго постились по воскресеньям и понедельникам, в эти дни они принимали исповедь у слушателей и сами каялись и исповедовались друг другу, молитву творили семь раз в день[60]. Избранные были обоих полов, в Египте они заимствовали у христиан идею раздельного проживания в монастырях, да и обязанности их напоминали христианское монашество: молитвы, переписывание книг, проведение служб, проповедей и исповедь мирян. Важнейший вид деятельности Избранных — миссионерство, но очевидно, что лишь немногие постоянно занимались распространением веры[55].
Приняв манихейство и став слушателем, человек смывал с себя все прошлые грехи и получал возможность спасения (но только через цепь перерождений). Слушатели были обязаны соблюдать десять заповедей: 1) не почитать идолов, 2) не лгать, 3) не стяжать, 4) не убивать, 5) не прелюбодействовать, 6) не красть, 7) не учить обману, 8) не учить магии, 9) не иметь двух мнений (поскольку это свидетельствует о сомнении в истинности религии), 10) не быть лодырем и нерадивым в работе. Слушатель должен был поститься по воскресеньям, по понедельникам исповедоваться, молитву творить четыре раза в день[61]. Христианские таинства и обряд манихеи отвергли. Принятие в церковь сопровождалось елеопомазанием, а переход из слушателей в Избранные происходил через рукоположение. Поскольку манихеи не признавали телесной смерти Христа, главным их праздником стала Бема, посвящённая самому Мани[62]. Его название восходит к греческому слову «кафедра/трон» (др.-греч. βῆμα). Согласно манихейской доктрине на беме из 5 ступеней восседал Мани при жизни, также она символизирует престол Судии после конца света. Праздник отмечался весной, начинался в воскресенье, ему предшествовал строгий 30-дневный пост для всех — Избранных и слушателей. Во время праздничной службы на храмовую бему возлагали «Живое Евангелие», читалась особая молитва и пелся цикл «Псалмов Бемы», но в общем точная его продолжительность и совершаемые обряды неизвестны. Поскольку праздник Бемы был приурочен к освобождению Мани от уз плоти, 30-дневный пост соответствовал времени его заточения в темницу. Существовал у манихеев и сложный погребальный ритуал, что следует из 144 главы «Кефалайа»[63].
История манихейской церкви
Деятельность Мани
Биография Мани содержится практически во всех манихейских источниках, причём с их данными совпадают сведения, приводимые мусульманскими авторами; напротив, христианские ересиологи основываются на совершенно другой традиции. Бируни, ссылаясь на «Шапуракан», приводил дату рождения Мани — 8 нисана 527 года Селевкидской эры, то есть 14 апреля 216 года. Он родился в Вавилонии, для которой характерна многонациональная и многоязычная среда, благоприятная для создания синкретических учений. В разных источниках ему приписывали царское происхождение, относительно которого современные исследователи расходятся во мнениях. С одной стороны, царское происхождение приписывалось всем основателями мировых религий, с другой, О. Клима предполагал, что мать Мани принадлежала к армянскому роду Камсаридов, что позволяло ему на равных общаться с шахом Шапуром[64]. Отец Мани — Патик — незадолго до его рождения перешёл из зороастризма в христианство, и состоял в секте. В этой же секте Мани провёл 20 лет жизни — до собственного 24-летия. По ан-Надиму, это была секта элхасаитов, неоднократно упоминаемая у христианских ересиархов. Располагалась она близ Басры, её члены вели крайне аскетический образ жизни, соблюдали целибат, были вегетарианцами, не употребляли вина и практиковали ежедневные омовения и очищение пищи. В дальнейшем структура манихейской общины унаследовала некоторые черты элхасаитского образа жизни[65].
Считается, что первое озарение снизошло к Мани в возрасте 12 или 13 лет, когда ему явился божественный «Двойник» (у арабских авторов — ангел ат-Таум, то есть «Близнец»; у греческих авторов «Спутник», у коптских авторов — Параклет). Он открыл ему призвание — нести в мир изначальную истинную вселенскую религию для всех стран и народов. В «Кефалайа» (14) это описано так:
…Живой Параклет сошёл на [меня и говорил] со мной. Он открыл мне скрытое таинство (др.-греч. μυστήριον), которое было сокрыто от миров (др.-греч. κόσμος) и поколений (др.-греч. γενεά), тайное учение о Глубине и Высоте. Он открыл мне тайное учение о Свете и Тьме (и) тайное учение о [войне?] и великом сражении…[66]
Первую проповедь Мани прочитал после получения им второго откровения в апреле 240 года[67][68], то есть в 24-летнем возрасте, перед единоверцами, выступив против водосвятия и ограничений в еде. Мани был вынужден покинуть общину вместе с отцом и двумя юношами, которые и стали его первыми учениками. Первая проповедь Мани длилась 2 года и охватывала иудео-христианские общины, подобные элхасаитам. Результаты его деятельности были весьма успешными: по-видимому, он из Вавилонии отправился в Армению. В турфанских документах ему приписывалось обращение страны «Варуджан» (по-видимому, Иверия). Своего отца Патика он отправил в Римскую империю, а сам Мани отправился в Индию. В Индии он смог побывать только в долине Инда, откуда отправился в Туран. Всё перечисленное известно только из турфанских фрагментов, которые не слишком согласуются между собой и весьма кратки. В 242 году Мани написал некоторые из своих книг и обратил правителя Месены — брата шаха Шапура.
При шахском дворе он явился в начале 243 года, а первую проповедь его перед Шапуром арабские авторы относили ко дню его коронации (9 апреля). Шах благосклонно отнёсся к проповеднику, выдал ему охранную грамоту и дозволил распространять учение. По мнению Е. Б. Смагиной, вероятно, он увидел в манихействе потенциальную общеимперскую религию[69]. Именно при шахском дворе был написан по-персидски «Шапуракан». Согласно мусульманским авторам, Мани провёл при дворе шаха 10 лет, но конец его влияния описывается противоречиво: по некоторым данным, Шапур охладел к нему или даже Мани пришлось бежать из Ирана. С этим не слишком согласуются турфанские и коптские сведения, что в последнее миссионерское путешествие Мани отправился с шахскими грамотами. Скончался он, по-видимому, в заключении после ссоры с падишахом в 273 году; однако приводятся и другие даты от 274 до 277 года[70]. О смерти Мани в тюрьме свидетельствовали только манихейские источники (все они единодушны), греческие, сирийские и арабские источники утверждали, что он был казнён по приказу шаха Бахрама I. Бируни утверждал, что с него живьём содрали кожу, а Бар-Эбрей — что его распяли. Однако, по мнению Е. Б. Смагиной, верна именно манихейская версия: мученическая смерть за веру для них была, по крайней мере, не позорной, и если бы Мани был казнён, его последователи не стали бы этого замалчивать[71].
Манихейское миссионерство
Учеников у Мани было много. Христианские авторы называли в числе первых из них Фому, Адду и Герму. Из турфанских документов следует, что епископ мар Адда — глава Западной миссии (на территории Римской империи), Фома — автор манихейской псалтири, названной его именем. В псалтири Фомы упоминается также Сисинний — преемник Мани. По турфанским документам, главой миссии в Армении был — Габриаб. Манихейским апостолом Египта был Паппос (по Александру Ликопольскому). Западная миссия Адды успешно работала в Римской империи в 244—261 годах, согласно турфанским текстам, миссионеры дошли до Александрии, причём по пути обратили супругу или сестру правителя Тадмора (Пальмира), предполагается даже, что это могла быть царица Зенобия. Один согдийский фрагмент, однако, утверждает, что это была Нафша — свояченица Одената[3].
Также при жизни Мани отправилась миссия в Кушанское царство, возглавлял её мар Аммо. В турфанских текстах утверждается, что он дошёл через Маргиану и Бактрию до Окса. Адда, после возвращения из Римской империи, около 262 года отправился в Киркук. Сам Мани в тот же период проповедовал в Парсе, а на западе доходил до Нисибина. Александр Ликопольский утверждал, что Мани был в свите Шапура во время его похода против римлян в 259 году[72]. В конце III века в Александрии существовали два монастыря манихеев — мужской и женский, но центром общины Александрия так и не стала, и большинство манихеев поселилось в Асьюте (античный Ликополь)[3]. По словам А. Хосроева, «манихейская миссия в Александрию в известном смысле запоздала. Ведь их появление здесь как раз совпало с усилением церковного христианства, которое уже ко времени епископства Дионисия (247—264) стало преобладающим»[73].
Имеющиеся в распоряжении историков свидетельства и первоисточники касаются, в основном, жизни и деятельности самого Мани и его ближайших сподвижников. О географии и хронологии дальнейшего распространения манихейства сведения более или менее отрывочны, и построить из них связную историю манихейства невозможно[74].
Манихейство на Западе и Среднем Востоке
После смерти Мани его церковь возглавил Сисинний (есть вероятность, что это произошло после пятилетнего раскола между последователями). История иранского манихейства документирована в «Гомилиях» до конца III века. Из этого, в частности, следует, что при шахе Бахраме II началась вторая волна гонений на манихеев, и на 10 году своего правления мученически погиб Сисинний с пресвитерами, церковь возглавил Иннай — ещё один прижизненный ученик Мани. Предание гласит, что ему удалось остановить гонения, излечив шаха от некой болезни, которую другие врачи не смогли одолеть[75]. Согласно арабским источникам, в V—VI веках в манихейской церкви произошёл раскол, который удалось преодолеть с большим трудом. Центром манихейства по-прежнему оставалась Вавилония, и только с X века глава церкви перебрался в Самарканд[75]. На протяжении всего IV века манихеи легально исповедовали свою религию в Ликополе и Гипселе, конкурируя с христианами и гностиками, отсюда же происходят все коптские манихейские тексты. В начале V века усилиями римских властей и епископата Египетской церкви, манихейская община прекратила своё существование, а большинство её членов было обращено в христианство[76]. Ещё при жизни Мани его религия стала достаточно широко распространённой в Сирии и Палестине, со временем манихейство дошло до Рима, что следует из того, что с III века Отцы Церкви в течение нескольких столетий постоянно выпускали антиманихейские труды. К IV веку манихейство достигло Северной Африки (где продержалось до арабского завоевания — VIII века), Италии, Галлии, Испании, распространилось по Греции и всей Малой Азии. Первый антиманихейский указ издал Диоклетиан (297 год), характерно, что адресован он проконсулу Африки. Известны антиманихейские декреты Константина (326 год), Валента (372 год) и Феодосия (381 и 383 годов). Благодаря позиции ортодоксальной христианской церкви и имперских властей, к VI веку манихейство на Западе оказалось практически искоренено, однако в этот период и позже ересиологи ошибочно именовали «манихеями» представителей других ересей и сект, если усматривали в их учении схожие черты. Таковы павликиане, богумилы и альбигойцы[77]. В Сасанидской державе и Арабском халифате манихейство продолжало существовать, его вероучение оказывало влияние на оппозиционные и сектантские течения: в V веке — маздакитства, в Х веке — на ересь зиндиков. Дольше всего манихейство продержалось в Средней Азии, где с VII века церковь официально перешла на согдийский язык[78].
Манихейство в Уйгурском каганате и у племён Южной Сибири
Уйгурский каганат
Уйгуры к середине VIII века в значительной степени находились под влиянием центральноазиатской версии буддизма, который после завоевания Турфана в 604 году был провозглашён государственной религией. Уйгурский каган принял титул «принца-бодхисатвы». Уйгурское государство, имея активные связи с Танской империей, во время восстания Ань Лушаня в 755 году активно вмешалось во внутренние дела Китая и помогло правительству разгромить мятежников. Ещё ранее — в 744 году — уйгурский Бегю-каган стал правителем всех восточных тюрок и оказался перед необходимостью выбора единой государственной религии. В Китае и Тибете в тот период шло активное преследование буддизма, в то время как традиционные шаманские практики не могли обеспечить идеологической поддержки сильной военной власти. Поскольку уйгуры претендовали на оазисы Таримской впадины с согдийским населением, манихейство, широко распространённое в Восточном Туркестане, оставалось единственной альтернативой, обеспечивающей политическое влияние на Великом Шёлковом пути. В результате в 762 году Бегю-каган провозгласил манихейство государственной религией Уйгурского каганата. Кочевым уйгурам и тюркам, видимо, импонировала манихейская доктрина борьбы и победы сил света над силами тьмы, в качестве олицетворения последней выступал буддизм. Бегю-каган во время военных действий в Китае приказывал уничтожать буддийские монастыри и храмы, гонения были перенесены и на его собственную территорию[79]. Карабалгасунская надпись, ознаменовавшая принятие кочевыми уйгурами манихейства, содержала следующие слова:
|
Принятие манихейства уйгурами было в значительной степени насильственной акцией. Для наставления в вере население было разделено на десятки, главы которых были ответственными за соблюдение ритуала и правил. Новое учение распространилось среди знати, а большинство простолюдинов оставались буддистами и шаманистами. Принятие манихейства вызывало и вооружённое сопротивление: в 780 году Бегю-каган был убит из-за слишком резких мер по внедрению новой религии, его преемник обратился в несторианство, которое, впрочем, не было широко распространено. В дальнейшем существование в уйгурских государствах несторианства, видимо, послужило первоосновой легенды о Пресвитере Иоанне[79].
Л. Н. Гумилёв, крайне негативно относившийся к манихейству, считал его главной причиной вырождения уйгурской знати, конфликта власти и народа и упадка Уйгурского каганата. Эти взгляды он продемонстрировал в ряде книг, в том числе «Древние тюрки», «Конец и вновь начало». Выводы Гумилёва подвергались критике профессиональных историков[81], поскольку он не видел разницы между религиозными предписаниями и повседневной практикой, фактически подменив «реконструкцию фантазией автора»[82].
Гаочан-Уйгурское государство
В 840 году Уйгурский каганат был разгромлен кыргызами, после чего уйгуры-кочевники начали массовое переселение с территории Монголии в оазисы восточной части Таримской впадины. В 866 году уйгурский хан Буку Чин захватил Турфанский оазис и район Бешбалика (Бэйтина), выбив оттуда тибетский гарнизон, и основал новую династию, сохранив при этом манихейство в качестве государственной религии[83]. Манихейство кочевых уйгур было воинственным, и первоначально активно противостояло буддизму большинства жителей оазисов Таримской котловины. Постепенно, однако, манихейство, вобравшее множество буддийских элементов, стало сближаться с этой религией, выражаясь в идентичных культурных и социальных формах. В 960-х годах Гаочан-Уйгурское государство посылало посольства в Китай с буддийскими реликвиями, китайские путешественники также описывали расцвет буддизма в манихейском государстве в 980-е годы[84].
Манихейство сохранило в Гаочане статус второй по значимости религии, в значительной степени ассимилировавшись с буддизмом. В уйгурских манихейских документах Мани часто стал отождествляться с Майтрейей, манихейские монастыри копировали иерархическую структуру и экономическую политику буддистов. Манихейские монастыри были крупными землевладельцами, государство предоставляло им крестьян для обработки земли. Манихейское жречество постепенно влилось в общую систему феодальной иерархии, высшие священнослужители имели множество разнообразных привилегий. Однако ранняя манихейская система духовного самосовершенствования через аскезу присутствовала и здесь: в некоторых храмах, например, чтобы получить привилегированный статус священнослужителя более высокого ранга, надо было пройти через телесные истязания[85].
В Турфане сохранились многочисленные манихейские документы на среднеперсидском, парфянском, уйгурском и согдийском языках; официальной письменностью манихейской церкви было манихейское письмо, которое активно использовалось и Гаочанским государством. В Гаочане и Бешбалике также остались многочисленные произведения манихейского искусства[86].
Южная Сибирь
После разгрома Уйгурского каганата кыргызами, манихейство распространилось на север — до Хакасско-Минусинской впадины. Археологические раскопки в долине Уйбата показали существование там манихейского центра, включавшего 6 храмов и 5 святилищ стихий, причём архитектурно он был подобен согдийским сооружениям в Туве и Синьцзяне. В 90 км от Уйбатского центра в долине Пююр-сух в 1970-е годы был раскопан манихейский храм, существовавший в VIII—X веках. Эти находки Л. Кызласов интерпретировал как свидетельство принятия манихейства как официальной религии и в Кыргызском каганате. Немногие хакасские манихейские эпитафии подтверждают эту версию; также манихейское письмо оказало влияние на енисейскую руническую письменность на позднем этапе её развития. Южносибирское манихейство существовало до монгольского завоевания. В дальнейшем оно повлияло на становление культуры саяно-алтайских тюрков (алтайцев, хакасов, тувинцев), а также на хантов, селькупов, кетов и эвенков. Это влияние сказалось на бытовых верованиях коренных народов, и на лексическом составе их языков[87].
Манихейство в Китае
Манихейство проникло в Китай с согдийскими купцами. С VII века в Китае фиксируется существование манихейской общины, считавшей своим основателем мар Аммо — одного из апостолов Мани. Она возникла, вероятно, в результате раскола вавилонской общины; согдийское «отделение» манихейской церкви в Самарканде активно занялось миссионерской деятельностью к востоку от Амударьи. В этот период среднеазиатская ветвь манихейства усвоила многие элементы буддизма, в манихейских текстах начинается использование буддийской лексики[88].
Китайская традиция сохранила предание, что впервые манихейская проповедь была произнесена Михр-Ормуздом перед императрицей У Цзэтянь (684—704). После восстаний 721 года танское правительство установило надзор за иноземными общинами, манихеям было разрешено проповедовать только в среде некитайцев. В 731 году манихейские жрецы вновь предстали перед двором и принесли с собой текст манихейского катехизиса — «Краткое изложение учения и обрядов Мани, Будды света». Учение было квалифицировано как еретическое и не имеющее отношения к буддизму, но не было запрещено; более того, манихеи пользовались авторитетом искусных астрологов и магов, им было велено молиться о дожде[89]. Легальный статус манихейства в Китае поддерживался тем, что оно стало официальной религией уйгуров, которые помогли в подавлении восстания Ань Лушаня. В 768 году было дозволено строительство манихейского монастыря в Лояне, император лично пожаловал ему название «Великий облачный свет» (кит. 大雲光明寺). В 843 году манихейские храмы были закрыты в связи с обострением уйгуро-китайских отношений, во время гонений были убиты 72 манихейские монахини. После этого китайское манихейство перешло на нелегальное положение, но закрепилось в южных провинциях Китая. Сохранилось предание эпохи Пяти династий (907—960) о бегстве манихейского проповедника из столицы в Фуцзянь, где он стал активно обращать местных жителей. В буддийских источниках упоминается о восстании манихеев в Чэньчжоу в 920 году, причём некий У И ими был провозглашён императором; восстание было жестоко подавлено властями[90].
При династии Сун манихейство, названное «Учением света» (кит. трад. 明教, пиньинь: míngjiào), окончательно китаизируется и чаще всего выступает в источниках как даосская секта; даосам покровительствовали императоры, а разные секты отличались сильными доктринальными расхождениями. В даосский канон в XI веке оказалась включена «Сутра о двух началах и трёх периодах», атрибутируемая специалистами как перевод центральноазиатской версии «Шапуракана» или как альтернативное название «Краткого изложения учения и обрядов Мани, Будды света»[91].
В XII веке манихеи участвовали в нескольких народных восстаниях (особенно Фан Ла, которого считают манихеем или испытавшим влияние манихейства), после чего были взяты под наблюдение властями. Чиновники-конфуцианцы классифицировали разнообразные секты — в том числе манихеев — как чи цай ши мо (кит. 喫菜事魔, буквально: «едящие постное и почитающие демонов»). В одном из официальных докладов сохранились достоверные данные о нравах и устройстве последователей «Учения света», а также дан перечень священных книг; в другом докладе описан погребальный обряд, аналогичный манихейскому центральноазиатскому[92].
При монгольской династии отношение к манихеям стало более терпимым, были возведены несколько храмов, даже Марко Поло посетил в Фуцзяни манихейскую молельню. С 1370 года при новой династии Мин гонения возобновились, поскольку император Чжу Юаньчжан сам когда-то был членом манихейской секты и считал её название вызовом своей династии (Мин — «династия света»). Официальные конфуцианцы также достаточно корректно излагали доктринальные установки и биографию Мани. Несмотря на гонения, манихейство активно существовало в Южном Китае примерно до начала 1600-х годов. Позднее название «Светлое учение» было перенесено на несторианство, но историки эпохи Цин ещё помнили, что манихейство не являлось разновидностью буддизма. До наших дней сохранился единственный манихейский храм Цаоань[en] (кит. 草庵), расположенный на холме Хуабяо в уезде Цзиньцзян округа Цюаньчжоу провинции Фуцзянь. Он был построен в XIV веке с девизом — «Чистота, свет, сила, мудрость и Мани, Будда света» (кит. 清净, 光明, 大力, 智慧, 摩尼光佛). В начале ХХ века храм перешёл к буддистам, которые полагали, что посвящение Мани означает Муни, то есть Будду Шакьямуни[92].
Характер манихейского синкретизма
Практически все исследователи определяют манихейство как синкретическую религию. Исключение здесь составляет А. И. Сидоров, который трактует термин «синкретизм» как соединение разнородных элементов, и подчёркивает при этом целостность и непротиворечивость манихейской доктрины. Поскольку в учении Мани были сплавлены христианские, гностические, иудаистские, зороастрийские, митраистские, даже буддийские и древневавилонские элементы, основной вопрос для исследователей состоял в определении субстрата учения и его второстепенных элементов[93].
Основные точки зрения условно именуются «восточной» и «западной», что диктуется дисциплинарной принадлежностью исследователей: иранисты чаще всего приходили к выводу о зороастрийской основе учения, исследователи западных текстов — иудео-христианско-гностической[93]. Это означает, что первичным является вопрос о первооснове религиозного учения основателя манихейства. По Мани существует изначальная истинная вера, которую божество возвестило первочеловеку, некий первоначальный архетип истинной универсальной религии. Периодически истинная вера искажается ложными толкованиями, так возникли все основные религии: иудаизм, буддизм, зороастризм, христианство. Соответственно, свыше ниспосылается новый пророк, который в очередной раз должен восстановить истинную веру и вновь основать истинную церковь. По Е. Б. Смагиной, такие взгляды привели к тому, что, не обретя архетипическую роль, манихейство повсеместно стало ересью: христианской — для христиан, зороастрийской — для зороастрийцев, исламской — для мусульман, и только буддизм и даосизм сумели в какой-то степени его адаптировать[94].
Для реконструкции собственного религиозного учения Мани много дали находки в Наг-Хаммади. Сопоставление гностического и манихейского учений позволило сделать вывод о том, что большинство персонажей и мифологем Мани имели аналогов в гностических системах. Е. Б. Смагина определяла манихейство как одно из гностических учений, сформированных на основе раннего христианства, неортодоксального иудаизма с некоторым влиянием греческой философии. Прямыми аналогами ему являются системы Бардесана и Маркиона[94].
Космология и антропология манихеев восходит как к античным философским доктринам, так и к апокалиптической литературе иудаизма межзаветного периода. Астрология и демонология также основана на позднеантичных греко-восточных представлениях. Соответственно, дуализм манихейства восходит не к зороастризму, а к переработанным под влиянием греческой философии гетеродоксальным иудейским воззрениям. По Е. Б. Смагиной, дуализм манихейского учения о двух началах восходит к доктрине ранних стоиков о существовании двух основных начал — Бога и материи[95]. Судя по материалам Кёльнского кодекса, посвящённого дискуссиям Мани и элхасаитов, их доктрина почти совершенно идентична, а Мани выглядит ревнителем чистоты учения, опираясь при этом на авторитет его основателя — Элхасая. Дискуссии членов секты и Мани практически не касаются вопросов вероучения, а только обрядности (например, имеет ли смысл водосвятие пищи). Предполагается, что и панпсихизм манихейской доктрины — гностического происхождения[95].
С точки зрения Р. В. Светлова, манихейство имеет и определённое созвучие с возникшим позже исламом. Оно выражается прежде всего в ряду апостолов-праведников, которые служили проводниками истинной веры на каждом определённом периоде истории мира. Мани приводил следующие имена апостолов: Адам, Сиф, Енос, Енох, Сим, Будда, Аурентис, Заратуштра, Иисус, апостол Павел и Истинный Праведник (вероятно, Элхасай), предшествующий самому Мани. В исламе также существует последовательность пророков, в чей ряд вписаны ветхозаветные патриархи и Иисус Христос[96].
Напишите отзыв о статье "Манихейство"
Примечания
- ↑ Крысин Л. П. [slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20иноязычных%20слов/Манихеизм/ Манихеизм] // Толковый словарь иноязычных слов. — М.: Эксмо, 2008. — 944 с. — (Библиотека словарей).
- ↑ Виденгрен, 2001, с. 242.
- ↑ 1 2 3 Смагина, 1998, с. 32.
- ↑ 1 2 Смагина, 1998, с. 9.
- ↑ Хосроев, 2007, с. 42, 124.
- ↑ Смагина, 1998, с. 10.
- ↑ Смагина, 1998, с. 10–11.
- ↑ Смагина, 1998, с. 11.
- ↑ Хосроев, 2007, с. 18—19.
- ↑ Хосроев, 2007, с. 19.
- ↑ Burkitt, 1925, p. 111.
- ↑ Смагина, 1998, с. 12.
- ↑ Смагина, 1998, с. 12–15.
- ↑ С. Spangenberg. Historia Manichaeorum, de furiosae et pestiferae hujus sectae origine. — Ursel, 1578.
- ↑ Смагина, 2011, с. 20.
- ↑ I. de Beausobre. Histoire critique de Manichee et du Manicheisme. T. 1—2. — Amsterdam: J. Frederic Bernard, 1734, 1739.
- ↑ Хосроев, 2007, с. 13—14.
- ↑ F. C. Baur. Das manichaische Religionssystem nach den Quellen neu untersucht und entwickelt. — Tubingen: C. F. Ostander, 1831.
- ↑ Хосроев, 2007, с. 14—15.
- ↑ G. Flügel. Mani, seine Lehre und seine Schriften. — Lpz, 1862.
- ↑ Хосроев, 2007, с. 16.
- ↑ Burkitt, 1925.
- ↑ Burkitt, 1925, p. VIII.
- ↑ Burkitt, 1925, p. 14.
- ↑ Хосроев, 2007, с. 24—25.
- ↑ 1 2 Хосроев, 2007, с. 28.
- ↑ [www.manichaeism.de/index.html The International Association of Manichaean Studies] (англ.). Проверено 26 февраля 2015.
- ↑ Хосроев, 2007, с. 29—30.
- ↑ Хосроев, 2007, с. 30.
- ↑ Lieu, 1999.
- ↑ Смагина, 2011, с. 8.
- ↑ Кац А. Л. Манихейство в Римской Империи по данным «Acta Archelai» // ВДИ. — 1955. — № 3. — С. 168—179.
- ↑ 1 2 Хосроев, 2007, с. 71.
- ↑ Смагина, 1998, с. 35.
- ↑ Klima, 1962, p. 414.
- ↑ Смагина, 1998, с. 35–37.
- ↑ Хосроев, 2007, с. 123—124.
- ↑ Хосроев, 2007, с. 129—130.
- ↑ Смагина, 1998, с. 38.
- ↑ Смагина, 2011, с. 124—125.
- ↑ Смагина, 2011, с. 125.
- ↑ Хосроев, 2007, с. 124—125.
- ↑ Хосроев, 2007, с. 125.
- ↑ 1 2 Смагина, 2011, с. 125—126.
- ↑ 1 2 3 Смагина, 2011, с. 126.
- ↑ Смагина, 2011, с. 127.
- ↑ Хосроев, 2007, с. 171—172.
- ↑ Смагина, 2011, с. 127—128.
- ↑ 1 2 3 Смагина, 2011, с. 128.
- ↑ 1 2 3 Смагина, 2011, с. 129.
- ↑ Хосроев, 2007, с. 162—163.
- ↑ Смагина, 2011, с. 129—130.
- ↑ Хосроев, 2007, с. 164.
- ↑ 1 2 3 Хосроев, 2007, с. 203.
- ↑ 1 2 Смагина, 1998, с. 34.
- ↑ Хосроев, 2007, с. 203—205.
- ↑ Хосроев, 2007, с. 204.
- ↑ Хосроев, 2007, с. 205.
- ↑ Хосроев, 2007, с. 206.
- ↑ Хосроев, 2007, с. 208—209.
- ↑ Хосроев, 2007, с. 209—210.
- ↑ Хосроев, 2007, с. 212—213.
- ↑ Смагина, 2011, с. 78.
- ↑ Klima, 1962, p. 119–122.
- ↑ Смагина, 1998, с. 19—20.
- ↑ Хосроев, 2007, с. 157.
- ↑ Lieu, 1999, p. 22.
- ↑ Хосроев, 2007, с. 93.
- ↑ Смагина, 1998, с. 22–23.
- ↑ Смагина, 1998, с. 23, 26.
- ↑ Смагина, 1998, с. 26–27.
- ↑ Смагина, 1998, с. 24–25.
- ↑ Хосроев, 2007, с. 224.
- ↑ Хосроев, 2007, с. 234.
- ↑ 1 2 Смагина, 1998, с. 30.
- ↑ Смагина, 1998, с. 32–33.
- ↑ Смагина, 1998, с. 30–33.
- ↑ Смагина, 1998, с. 31.
- ↑ 1 2 Александр Берзин. [www.berzinarchives.com/web/ru/archives/e-books/unpublished_manuscripts/historical_interaction/pt2/history_cultures_09.html 9. Смена религий уйгурами]. Историческое взаимодействие буддийской и исламской культур до возникновения Монгольской империи. Библиотека Берзина (1996). Проверено 25 февраля 2015.
- ↑ Желобов, 2012, с. 8.
- ↑ Гомбожапов, 2010, с. 95—96, 102.
- ↑ Беляков, 2013, с. 344—345.
- ↑ Желобов, 2012, с. 7.
- ↑ Желобов, 2012, с. 8—9.
- ↑ Желобов, 2012, с. 11—12.
- ↑ Желобов, 2012, с. 12—13.
- ↑ Кызласов, Л. Р. [e-lib.gasu.ru/da/archive/2000/05/10.html Северное манихейство и его роль в культурном развитии народов Сибири и Центральной Азии]. Древности Алтая. Горно-Алтайский государственный университет (2000). Проверено 25 февраля 2015.
- ↑ Алексанян, 2007, с. 329.
- ↑ Алексанян, 2007, с. 329—330.
- ↑ Алексанян, 2007, с. 330.
- ↑ Алексанян, 2007, с. 330—331.
- ↑ 1 2 Алексанян, 2007, с. 331.
- ↑ 1 2 Смагина, 1998, с. 43.
- ↑ 1 2 Смагина, 1998, с. 44.
- ↑ 1 2 Смагина, 1998, с. 45.
- ↑ Виденгрен, 2001, с. 241.
Литература
- Алексанян, А. Г. [www.synologia.ru/a/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Манихейство] // Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. — М.: Вост. лит., 2007. — Т. 2. — С. 329—331. — ISBN 978-5-02-018430-5.
- Алексанян, А. Г. Манихейство в Китае (опыт историко-философского исследования). — М.: ИДВ РАН, 2008. — 165 с. — ISBN 9785838101525.
- Беляков С. С. Гумилёв сын Гумилёва: [биография Льва Гумилёва]. — М.: АСТ, 2013. — 797 с. — ISBN 978-5-17-077567-5.
- Виденгрен, Г. Мани и манихейство / Пер. Иванов С. В.; Науч. ред. Светлов Р. В. — СПб.: Евразия, 2001. — 256 с. — ISBN 5-8071-0094-8.
- Гомбожапов, А. Д. [books.google.ru/books?id=gZNoxRGwybIC&pg=PA102&lpg=PA102&dq=%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B2+%D1%83%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0&source=bl&ots=N1ArlhDajD&sig=ikRYaGfGF6OlfhVbZ7PnafnsbQw&hl=ru&sa=X&ei=JJj9VOzpE4SNywObhYFQ&ved=0CCkQ6AEwAg#v=onepage&q=%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&f=false Кочевые цивилизации Центральной Азии в трудах Л. Н. Гумилева]. — Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2010. — 148 с. — ISBN 9785792503335.
- Желобов, Д. Е. [cyberleninka.ru/article/n/tri-religii-gaochanskih-uygurov-ix-xii-vv «Три религии» гаочанских уйгуров (IX—XII вв.)] // Научный диалог. — 2012. — № 9. — С. 6—16.
- Кефалайа («Главы»). Коптский манихейский трактат / Пер. с коптского, исслед., комм. Е. Б. Смагиной. — М.: Вост. лит., 1998. — 512 с. — (Памятники письменности Востока. CXV). — ISBN 5-02-017988-4.
- Смагина, Е. Б. Манихейство: по ранним источникам. — М.: Вост. лит., 2011. — 519 с. — ISBN 978-5-02-036474-5.
- Хосроев, А. Л. История манихейства (Prolegomena). — СПб.: Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, 2007. — 480 с. — (Азиатика). — ISBN 5-8465-0484-1.
- Burkitt, F. C. The Religion of the Manichees: Donnellan Lectures for 1924. — Cambridge: the University Press, 1925. — 146 p.
- Klíma, Otakar. Manis Zeit und Leben. — Praha: Verlag der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften, 1962. — 559 S. — (Monographien des Orientinstituts der TschAW. Band 18).
- Lieu S. N. C. Manichaeism in Mesopotamia & the Roman East. — Leiden, Boston: Brill, 1999. — 325 p. — ISBN 90 04 09742 2.
- Stoop É. [archive.org/details/essaisurladiffus00stoouoft Essai sur la diffusion du manichéisme dans l'Empire romain]. — 151 p.
Ссылки
- [www.sacred-texts.com/chr/giants/giants.htm The Book of the Giants] (англ.). Internet Sacred Book Archive. Проверено 26 февраля 2015.
- [archive.org/details/DictionaryOfManichaeanVol2 Corpus Fontium Manichaeorum: Dictionary of Manichaean Texts. Vol II] (англ.). Internet Archive. Проверено 26 февраля 2015.
- [www.uni-koeln.de/phil-fak/ifa/NRWakademie/papyrologie/Manikodex/mani.html Der Kölner Mani-Kodex] (нем.). Digitalisierung der Kölner Papyrusbestände. Проверено 26 февраля 2015.
- [www.manichaeism.de/index.html The International Association of Manichaean Studies] (англ.). Проверено 26 февраля 2015.
- [www.fas.harvard.edu/~iranian/Manicheism/ An Introduction into Manicheism] (англ.). Проверено 26 февраля 2015.
- [gnosis.org/library/manis.htm Manichaean Writings] (англ.). The Gnostic Society Library. Проверено 26 февраля 2015.
- [turfan.bbaw.de/dta/m/dta_m_index.htm Mitteliranische Texte in manichäischer Schrift] (нем.). Digitales Turfan-Archiv. Проверено 26 февраля 2015.
- [www.azargoshnasp.net/languages/Pahlavi/pahlavi.htm Middle Persian and Parthian Texts]. The Middle Persian Inscription from Meshkinshahr. Проверено 26 февраля 2015.
- [www.guoxue.com/study/monijiao/mxh_001.htm 摩尼教简介] (кит.). 北京国学时代文化传播有限公司. Проверено 26 февраля 2015.
| Эта статья входит в число избранных статей русскоязычного раздела Википедии. |
Отрывок, характеризующий Манихейство
Наташа, направляясь к ужину, прошла мимо его.Мрачное, несчастное лицо Пьера поразило ее. Она остановилась против него. Ей хотелось помочь ему, передать ему излишек своего счастия.
– Как весело, граф, – сказала она, – не правда ли?
Пьер рассеянно улыбнулся, очевидно не понимая того, что ему говорили.
– Да, я очень рад, – сказал он.
«Как могут они быть недовольны чем то, думала Наташа. Особенно такой хороший, как этот Безухов?» На глаза Наташи все бывшие на бале были одинаково добрые, милые, прекрасные люди, любящие друг друга: никто не мог обидеть друг друга, и потому все должны были быть счастливы.
На другой день князь Андрей вспомнил вчерашний бал, но не на долго остановился на нем мыслями. «Да, очень блестящий был бал. И еще… да, Ростова очень мила. Что то в ней есть свежее, особенное, не петербургское, отличающее ее». Вот всё, что он думал о вчерашнем бале, и напившись чаю, сел за работу.
Но от усталости или бессонницы (день был нехороший для занятий, и князь Андрей ничего не мог делать) он всё критиковал сам свою работу, как это часто с ним бывало, и рад был, когда услыхал, что кто то приехал.
Приехавший был Бицкий, служивший в различных комиссиях, бывавший во всех обществах Петербурга, страстный поклонник новых идей и Сперанского и озабоченный вестовщик Петербурга, один из тех людей, которые выбирают направление как платье – по моде, но которые по этому то кажутся самыми горячими партизанами направлений. Он озабоченно, едва успев снять шляпу, вбежал к князю Андрею и тотчас же начал говорить. Он только что узнал подробности заседания государственного совета нынешнего утра, открытого государем, и с восторгом рассказывал о том. Речь государя была необычайна. Это была одна из тех речей, которые произносятся только конституционными монархами. «Государь прямо сказал, что совет и сенат суть государственные сословия ; он сказал, что правление должно иметь основанием не произвол, а твердые начала . Государь сказал, что финансы должны быть преобразованы и отчеты быть публичны», рассказывал Бицкий, ударяя на известные слова и значительно раскрывая глаза.
– Да, нынешнее событие есть эра, величайшая эра в нашей истории, – заключил он.
Князь Андрей слушал рассказ об открытии государственного совета, которого он ожидал с таким нетерпением и которому приписывал такую важность, и удивлялся, что событие это теперь, когда оно совершилось, не только не трогало его, но представлялось ему более чем ничтожным. Он с тихой насмешкой слушал восторженный рассказ Бицкого. Самая простая мысль приходила ему в голову: «Какое дело мне и Бицкому, какое дело нам до того, что государю угодно было сказать в совете! Разве всё это может сделать меня счастливее и лучше?»
И это простое рассуждение вдруг уничтожило для князя Андрея весь прежний интерес совершаемых преобразований. В этот же день князь Андрей должен был обедать у Сперанского «en petit comite«, [в маленьком собрании,] как ему сказал хозяин, приглашая его. Обед этот в семейном и дружеском кругу человека, которым он так восхищался, прежде очень интересовал князя Андрея, тем более что до сих пор он не видал Сперанского в его домашнем быту; но теперь ему не хотелось ехать.
В назначенный час обеда, однако, князь Андрей уже входил в собственный, небольшой дом Сперанского у Таврического сада. В паркетной столовой небольшого домика, отличавшегося необыкновенной чистотой (напоминающей монашескую чистоту) князь Андрей, несколько опоздавший, уже нашел в пять часов собравшееся всё общество этого petit comite, интимных знакомых Сперанского. Дам не было никого кроме маленькой дочери Сперанского (с длинным лицом, похожим на отца) и ее гувернантки. Гости были Жерве, Магницкий и Столыпин. Еще из передней князь Андрей услыхал громкие голоса и звонкий, отчетливый хохот – хохот, похожий на тот, каким смеются на сцене. Кто то голосом, похожим на голос Сперанского, отчетливо отбивал: ха… ха… ха… Князь Андрей никогда не слыхал смеха Сперанского, и этот звонкий, тонкий смех государственного человека странно поразил его.
Князь Андрей вошел в столовую. Всё общество стояло между двух окон у небольшого стола с закуской. Сперанский в сером фраке с звездой, очевидно в том еще белом жилете и высоком белом галстухе, в которых он был в знаменитом заседании государственного совета, с веселым лицом стоял у стола. Гости окружали его. Магницкий, обращаясь к Михайлу Михайловичу, рассказывал анекдот. Сперанский слушал, вперед смеясь тому, что скажет Магницкий. В то время как князь Андрей вошел в комнату, слова Магницкого опять заглушились смехом. Громко басил Столыпин, пережевывая кусок хлеба с сыром; тихим смехом шипел Жерве, и тонко, отчетливо смеялся Сперанский.
Сперанский, всё еще смеясь, подал князю Андрею свою белую, нежную руку.
– Очень рад вас видеть, князь, – сказал он. – Минутку… обратился он к Магницкому, прерывая его рассказ. – У нас нынче уговор: обед удовольствия, и ни слова про дела. – И он опять обратился к рассказчику, и опять засмеялся.
Князь Андрей с удивлением и грустью разочарования слушал его смех и смотрел на смеющегося Сперанского. Это был не Сперанский, а другой человек, казалось князю Андрею. Всё, что прежде таинственно и привлекательно представлялось князю Андрею в Сперанском, вдруг стало ему ясно и непривлекательно.
За столом разговор ни на мгновение не умолкал и состоял как будто бы из собрания смешных анекдотов. Еще Магницкий не успел докончить своего рассказа, как уж кто то другой заявил свою готовность рассказать что то, что было еще смешнее. Анекдоты большею частью касались ежели не самого служебного мира, то лиц служебных. Казалось, что в этом обществе так окончательно было решено ничтожество этих лиц, что единственное отношение к ним могло быть только добродушно комическое. Сперанский рассказал, как на совете сегодняшнего утра на вопрос у глухого сановника о его мнении, сановник этот отвечал, что он того же мнения. Жерве рассказал целое дело о ревизии, замечательное по бессмыслице всех действующих лиц. Столыпин заикаясь вмешался в разговор и с горячностью начал говорить о злоупотреблениях прежнего порядка вещей, угрожая придать разговору серьезный характер. Магницкий стал трунить над горячностью Столыпина, Жерве вставил шутку и разговор принял опять прежнее, веселое направление.
Очевидно, Сперанский после трудов любил отдохнуть и повеселиться в приятельском кружке, и все его гости, понимая его желание, старались веселить его и сами веселиться. Но веселье это казалось князю Андрею тяжелым и невеселым. Тонкий звук голоса Сперанского неприятно поражал его, и неумолкавший смех своей фальшивой нотой почему то оскорблял чувство князя Андрея. Князь Андрей не смеялся и боялся, что он будет тяжел для этого общества. Но никто не замечал его несоответственности общему настроению. Всем было, казалось, очень весело.
Он несколько раз желал вступить в разговор, но всякий раз его слово выбрасывалось вон, как пробка из воды; и он не мог шутить с ними вместе.
Ничего не было дурного или неуместного в том, что они говорили, всё было остроумно и могло бы быть смешно; но чего то, того самого, что составляет соль веселья, не только не было, но они и не знали, что оно бывает.
После обеда дочь Сперанского с своей гувернанткой встали. Сперанский приласкал дочь своей белой рукой, и поцеловал ее. И этот жест показался неестественным князю Андрею.
Мужчины, по английски, остались за столом и за портвейном. В середине начавшегося разговора об испанских делах Наполеона, одобряя которые, все были одного и того же мнения, князь Андрей стал противоречить им. Сперанский улыбнулся и, очевидно желая отклонить разговор от принятого направления, рассказал анекдот, не имеющий отношения к разговору. На несколько мгновений все замолкли.
Посидев за столом, Сперанский закупорил бутылку с вином и сказав: «нынче хорошее винцо в сапожках ходит», отдал слуге и встал. Все встали и также шумно разговаривая пошли в гостиную. Сперанскому подали два конверта, привезенные курьером. Он взял их и прошел в кабинет. Как только он вышел, общее веселье замолкло и гости рассудительно и тихо стали переговариваться друг с другом.
– Ну, теперь декламация! – сказал Сперанский, выходя из кабинета. – Удивительный талант! – обратился он к князю Андрею. Магницкий тотчас же стал в позу и начал говорить французские шутливые стихи, сочиненные им на некоторых известных лиц Петербурга, и несколько раз был прерываем аплодисментами. Князь Андрей, по окончании стихов, подошел к Сперанскому, прощаясь с ним.
– Куда вы так рано? – сказал Сперанский.
– Я обещал на вечер…
Они помолчали. Князь Андрей смотрел близко в эти зеркальные, непропускающие к себе глаза и ему стало смешно, как он мог ждать чего нибудь от Сперанского и от всей своей деятельности, связанной с ним, и как мог он приписывать важность тому, что делал Сперанский. Этот аккуратный, невеселый смех долго не переставал звучать в ушах князя Андрея после того, как он уехал от Сперанского.
Вернувшись домой, князь Андрей стал вспоминать свою петербургскую жизнь за эти четыре месяца, как будто что то новое. Он вспоминал свои хлопоты, искательства, историю своего проекта военного устава, который был принят к сведению и о котором старались умолчать единственно потому, что другая работа, очень дурная, была уже сделана и представлена государю; вспомнил о заседаниях комитета, членом которого был Берг; вспомнил, как в этих заседаниях старательно и продолжительно обсуживалось всё касающееся формы и процесса заседаний комитета, и как старательно и кратко обходилось всё что касалось сущности дела. Он вспомнил о своей законодательной работе, о том, как он озабоченно переводил на русский язык статьи римского и французского свода, и ему стало совестно за себя. Потом он живо представил себе Богучарово, свои занятия в деревне, свою поездку в Рязань, вспомнил мужиков, Дрона старосту, и приложив к ним права лиц, которые он распределял по параграфам, ему стало удивительно, как он мог так долго заниматься такой праздной работой.
На другой день князь Андрей поехал с визитами в некоторые дома, где он еще не был, и в том числе к Ростовым, с которыми он возобновил знакомство на последнем бале. Кроме законов учтивости, по которым ему нужно было быть у Ростовых, князю Андрею хотелось видеть дома эту особенную, оживленную девушку, которая оставила ему приятное воспоминание.
Наташа одна из первых встретила его. Она была в домашнем синем платье, в котором она показалась князю Андрею еще лучше, чем в бальном. Она и всё семейство Ростовых приняли князя Андрея, как старого друга, просто и радушно. Всё семейство, которое строго судил прежде князь Андрей, теперь показалось ему составленным из прекрасных, простых и добрых людей. Гостеприимство и добродушие старого графа, особенно мило поразительное в Петербурге, было таково, что князь Андрей не мог отказаться от обеда. «Да, это добрые, славные люди, думал Болконский, разумеется, не понимающие ни на волос того сокровища, которое они имеют в Наташе; но добрые люди, которые составляют наилучший фон для того, чтобы на нем отделялась эта особенно поэтическая, переполненная жизни, прелестная девушка!»
Князь Андрей чувствовал в Наташе присутствие совершенно чуждого для него, особенного мира, преисполненного каких то неизвестных ему радостей, того чуждого мира, который еще тогда, в отрадненской аллее и на окне, в лунную ночь, так дразнил его. Теперь этот мир уже более не дразнил его, не был чуждый мир; но он сам, вступив в него, находил в нем новое для себя наслаждение.
После обеда Наташа, по просьбе князя Андрея, пошла к клавикордам и стала петь. Князь Андрей стоял у окна, разговаривая с дамами, и слушал ее. В середине фразы князь Андрей замолчал и почувствовал неожиданно, что к его горлу подступают слезы, возможность которых он не знал за собой. Он посмотрел на поющую Наташу, и в душе его произошло что то новое и счастливое. Он был счастлив и ему вместе с тем было грустно. Ему решительно не об чем было плакать, но он готов был плакать. О чем? О прежней любви? О маленькой княгине? О своих разочарованиях?… О своих надеждах на будущее?… Да и нет. Главное, о чем ему хотелось плакать, была вдруг живо сознанная им страшная противуположность между чем то бесконечно великим и неопределимым, бывшим в нем, и чем то узким и телесным, чем он был сам и даже была она. Эта противуположность томила и радовала его во время ее пения.
Только что Наташа кончила петь, она подошла к нему и спросила его, как ему нравится ее голос? Она спросила это и смутилась уже после того, как она это сказала, поняв, что этого не надо было спрашивать. Он улыбнулся, глядя на нее, и сказал, что ему нравится ее пение так же, как и всё, что она делает.
Князь Андрей поздно вечером уехал от Ростовых. Он лег спать по привычке ложиться, но увидал скоро, что он не может спать. Он то, зажжа свечку, сидел в постели, то вставал, то опять ложился, нисколько не тяготясь бессонницей: так радостно и ново ему было на душе, как будто он из душной комнаты вышел на вольный свет Божий. Ему и в голову не приходило, чтобы он был влюблен в Ростову; он не думал о ней; он только воображал ее себе, и вследствие этого вся жизнь его представлялась ему в новом свете. «Из чего я бьюсь, из чего я хлопочу в этой узкой, замкнутой рамке, когда жизнь, вся жизнь со всеми ее радостями открыта мне?» говорил он себе. И он в первый раз после долгого времени стал делать счастливые планы на будущее. Он решил сам собою, что ему надо заняться воспитанием своего сына, найдя ему воспитателя и поручив ему; потом надо выйти в отставку и ехать за границу, видеть Англию, Швейцарию, Италию. «Мне надо пользоваться своей свободой, пока так много в себе чувствую силы и молодости, говорил он сам себе. Пьер был прав, говоря, что надо верить в возможность счастия, чтобы быть счастливым, и я теперь верю в него. Оставим мертвым хоронить мертвых, а пока жив, надо жить и быть счастливым», думал он.
В одно утро полковник Адольф Берг, которого Пьер знал, как знал всех в Москве и Петербурге, в чистеньком с иголочки мундире, с припомаженными наперед височками, как носил государь Александр Павлович, приехал к нему.
– Я сейчас был у графини, вашей супруги, и был так несчастлив, что моя просьба не могла быть исполнена; надеюсь, что у вас, граф, я буду счастливее, – сказал он, улыбаясь.
– Что вам угодно, полковник? Я к вашим услугам.
– Я теперь, граф, уж совершенно устроился на новой квартире, – сообщил Берг, очевидно зная, что это слышать не могло не быть приятно; – и потому желал сделать так, маленький вечерок для моих и моей супруги знакомых. (Он еще приятнее улыбнулся.) Я хотел просить графиню и вас сделать мне честь пожаловать к нам на чашку чая и… на ужин.
– Только графиня Елена Васильевна, сочтя для себя унизительным общество каких то Бергов, могла иметь жестокость отказаться от такого приглашения. – Берг так ясно объяснил, почему он желает собрать у себя небольшое и хорошее общество, и почему это ему будет приятно, и почему он для карт и для чего нибудь дурного жалеет деньги, но для хорошего общества готов и понести расходы, что Пьер не мог отказаться и обещался быть.
– Только не поздно, граф, ежели смею просить, так без 10 ти минут в восемь, смею просить. Партию составим, генерал наш будет. Он очень добр ко мне. Поужинаем, граф. Так сделайте одолжение.
Противно своей привычке опаздывать, Пьер в этот день вместо восьми без 10 ти минут, приехал к Бергам в восемь часов без четверти.
Берги, припася, что нужно было для вечера, уже готовы были к приему гостей.
В новом, чистом, светлом, убранном бюстиками и картинками и новой мебелью, кабинете сидел Берг с женою. Берг, в новеньком, застегнутом мундире сидел возле жены, объясняя ей, что всегда можно и должно иметь знакомства людей, которые выше себя, потому что тогда только есть приятность от знакомств. – «Переймешь что нибудь, можешь попросить о чем нибудь. Вот посмотри, как я жил с первых чинов (Берг жизнь свою считал не годами, а высочайшими наградами). Мои товарищи теперь еще ничто, а я на ваканции полкового командира, я имею счастье быть вашим мужем (он встал и поцеловал руку Веры, но по пути к ней отогнул угол заворотившегося ковра). И чем я приобрел всё это? Главное умением выбирать свои знакомства. Само собой разумеется, что надо быть добродетельным и аккуратным».
Берг улыбнулся с сознанием своего превосходства над слабой женщиной и замолчал, подумав, что всё таки эта милая жена его есть слабая женщина, которая не может постигнуть всего того, что составляет достоинство мужчины, – ein Mann zu sein [быть мужчиной]. Вера в то же время также улыбнулась с сознанием своего превосходства над добродетельным, хорошим мужем, но который всё таки ошибочно, как и все мужчины, по понятию Веры, понимал жизнь. Берг, судя по своей жене, считал всех женщин слабыми и глупыми. Вера, судя по одному своему мужу и распространяя это замечание, полагала, что все мужчины приписывают только себе разум, а вместе с тем ничего не понимают, горды и эгоисты.
Берг встал и, обняв свою жену осторожно, чтобы не измять кружевную пелеринку, за которую он дорого заплатил, поцеловал ее в середину губ.
– Одно только, чтобы у нас не было так скоро детей, – сказал он по бессознательной для себя филиации идей.
– Да, – отвечала Вера, – я совсем этого не желаю. Надо жить для общества.
– Точно такая была на княгине Юсуповой, – сказал Берг, с счастливой и доброй улыбкой, указывая на пелеринку.
В это время доложили о приезде графа Безухого. Оба супруга переглянулись самодовольной улыбкой, каждый себе приписывая честь этого посещения.
«Вот что значит уметь делать знакомства, подумал Берг, вот что значит уметь держать себя!»
– Только пожалуйста, когда я занимаю гостей, – сказала Вера, – ты не перебивай меня, потому что я знаю чем занять каждого, и в каком обществе что надо говорить.
Берг тоже улыбнулся.
– Нельзя же: иногда с мужчинами мужской разговор должен быть, – сказал он.
Пьер был принят в новенькой гостиной, в которой нигде сесть нельзя было, не нарушив симметрии, чистоты и порядка, и потому весьма понятно было и не странно, что Берг великодушно предлагал разрушить симметрию кресла, или дивана для дорогого гостя, и видимо находясь сам в этом отношении в болезненной нерешительности, предложил решение этого вопроса выбору гостя. Пьер расстроил симметрию, подвинув себе стул, и тотчас же Берг и Вера начали вечер, перебивая один другого и занимая гостя.
Вера, решив в своем уме, что Пьера надо занимать разговором о французском посольстве, тотчас же начала этот разговор. Берг, решив, что надобен и мужской разговор, перебил речь жены, затрогивая вопрос о войне с Австриею и невольно с общего разговора соскочил на личные соображения о тех предложениях, которые ему были деланы для участия в австрийском походе, и о тех причинах, почему он не принял их. Несмотря на то, что разговор был очень нескладный, и что Вера сердилась за вмешательство мужского элемента, оба супруга с удовольствием чувствовали, что, несмотря на то, что был только один гость, вечер был начат очень хорошо, и что вечер был, как две капли воды похож на всякий другой вечер с разговорами, чаем и зажженными свечами.
Вскоре приехал Борис, старый товарищ Берга. Он с некоторым оттенком превосходства и покровительства обращался с Бергом и Верой. За Борисом приехала дама с полковником, потом сам генерал, потом Ростовы, и вечер уже совершенно, несомненно стал похож на все вечера. Берг с Верой не могли удерживать радостной улыбки при виде этого движения по гостиной, при звуке этого бессвязного говора, шуршанья платьев и поклонов. Всё было, как и у всех, особенно похож был генерал, похваливший квартиру, потрепавший по плечу Берга, и с отеческим самоуправством распорядившийся постановкой бостонного стола. Генерал подсел к графу Илье Андреичу, как к самому знатному из гостей после себя. Старички с старичками, молодые с молодыми, хозяйка у чайного стола, на котором были точно такие же печенья в серебряной корзинке, какие были у Паниных на вечере, всё было совершенно так же, как у других.
Пьер, как один из почетнейших гостей, должен был сесть в бостон с Ильей Андреичем, генералом и полковником. Пьеру за бостонным столом пришлось сидеть против Наташи и странная перемена, происшедшая в ней со дня бала, поразила его. Наташа была молчалива, и не только не была так хороша, как она была на бале, но она была бы дурна, ежели бы она не имела такого кроткого и равнодушного ко всему вида.
«Что с ней?» подумал Пьер, взглянув на нее. Она сидела подле сестры у чайного стола и неохотно, не глядя на него, отвечала что то подсевшему к ней Борису. Отходив целую масть и забрав к удовольствию своего партнера пять взяток, Пьер, слышавший говор приветствий и звук чьих то шагов, вошедших в комнату во время сбора взяток, опять взглянул на нее.
«Что с ней сделалось?» еще удивленнее сказал он сам себе.
Князь Андрей с бережливо нежным выражением стоял перед нею и говорил ей что то. Она, подняв голову, разрумянившись и видимо стараясь удержать порывистое дыхание, смотрела на него. И яркий свет какого то внутреннего, прежде потушенного огня, опять горел в ней. Она вся преобразилась. Из дурной опять сделалась такою же, какою она была на бале.
Князь Андрей подошел к Пьеру и Пьер заметил новое, молодое выражение и в лице своего друга.
Пьер несколько раз пересаживался во время игры, то спиной, то лицом к Наташе, и во всё продолжение 6 ти роберов делал наблюдения над ней и своим другом.
«Что то очень важное происходит между ними», думал Пьер, и радостное и вместе горькое чувство заставляло его волноваться и забывать об игре.
После 6 ти роберов генерал встал, сказав, что эдак невозможно играть, и Пьер получил свободу. Наташа в одной стороне говорила с Соней и Борисом, Вера о чем то с тонкой улыбкой говорила с князем Андреем. Пьер подошел к своему другу и спросив не тайна ли то, что говорится, сел подле них. Вера, заметив внимание князя Андрея к Наташе, нашла, что на вечере, на настоящем вечере, необходимо нужно, чтобы были тонкие намеки на чувства, и улучив время, когда князь Андрей был один, начала с ним разговор о чувствах вообще и о своей сестре. Ей нужно было с таким умным (каким она считала князя Андрея) гостем приложить к делу свое дипломатическое искусство.
Когда Пьер подошел к ним, он заметил, что Вера находилась в самодовольном увлечении разговора, князь Андрей (что с ним редко бывало) казался смущен.
– Как вы полагаете? – с тонкой улыбкой говорила Вера. – Вы, князь, так проницательны и так понимаете сразу характер людей. Что вы думаете о Натали, может ли она быть постоянна в своих привязанностях, может ли она так, как другие женщины (Вера разумела себя), один раз полюбить человека и навсегда остаться ему верною? Это я считаю настоящею любовью. Как вы думаете, князь?
– Я слишком мало знаю вашу сестру, – отвечал князь Андрей с насмешливой улыбкой, под которой он хотел скрыть свое смущение, – чтобы решить такой тонкий вопрос; и потом я замечал, что чем менее нравится женщина, тем она бывает постояннее, – прибавил он и посмотрел на Пьера, подошедшего в это время к ним.
– Да это правда, князь; в наше время, – продолжала Вера (упоминая о нашем времени, как вообще любят упоминать ограниченные люди, полагающие, что они нашли и оценили особенности нашего времени и что свойства людей изменяются со временем), в наше время девушка имеет столько свободы, что le plaisir d'etre courtisee [удовольствие иметь поклонников] часто заглушает в ней истинное чувство. Et Nathalie, il faut l'avouer, y est tres sensible. [И Наталья, надо признаться, на это очень чувствительна.] Возвращение к Натали опять заставило неприятно поморщиться князя Андрея; он хотел встать, но Вера продолжала с еще более утонченной улыбкой.
– Я думаю, никто так не был courtisee [предметом ухаживанья], как она, – говорила Вера; – но никогда, до самого последнего времени никто серьезно ей не нравился. Вот вы знаете, граф, – обратилась она к Пьеру, – даже наш милый cousin Борис, который был, entre nous [между нами], очень и очень dans le pays du tendre… [в стране нежностей…]
Князь Андрей нахмурившись молчал.
– Вы ведь дружны с Борисом? – сказала ему Вера.
– Да, я его знаю…
– Он верно вам говорил про свою детскую любовь к Наташе?
– А была детская любовь? – вдруг неожиданно покраснев, спросил князь Андрей.
– Да. Vous savez entre cousin et cousine cette intimite mene quelquefois a l'amour: le cousinage est un dangereux voisinage, N'est ce pas? [Знаете, между двоюродным братом и сестрой эта близость приводит иногда к любви. Такое родство – опасное соседство. Не правда ли?]
– О, без сомнения, – сказал князь Андрей, и вдруг, неестественно оживившись, он стал шутить с Пьером о том, как он должен быть осторожным в своем обращении с своими 50 ти летними московскими кузинами, и в середине шутливого разговора встал и, взяв под руку Пьера, отвел его в сторону.
– Ну что? – сказал Пьер, с удивлением смотревший на странное оживление своего друга и заметивший взгляд, который он вставая бросил на Наташу.
– Мне надо, мне надо поговорить с тобой, – сказал князь Андрей. – Ты знаешь наши женские перчатки (он говорил о тех масонских перчатках, которые давались вновь избранному брату для вручения любимой женщине). – Я… Но нет, я после поговорю с тобой… – И с странным блеском в глазах и беспокойством в движениях князь Андрей подошел к Наташе и сел подле нее. Пьер видел, как князь Андрей что то спросил у нее, и она вспыхнув отвечала ему.
Но в это время Берг подошел к Пьеру, настоятельно упрашивая его принять участие в споре между генералом и полковником об испанских делах.
Берг был доволен и счастлив. Улыбка радости не сходила с его лица. Вечер был очень хорош и совершенно такой, как и другие вечера, которые он видел. Всё было похоже. И дамские, тонкие разговоры, и карты, и за картами генерал, возвышающий голос, и самовар, и печенье; но одного еще недоставало, того, что он всегда видел на вечерах, которым он желал подражать.
Недоставало громкого разговора между мужчинами и спора о чем нибудь важном и умном. Генерал начал этот разговор и к нему то Берг привлек Пьера.
На другой день князь Андрей поехал к Ростовым обедать, так как его звал граф Илья Андреич, и провел у них целый день.
Все в доме чувствовали для кого ездил князь Андрей, и он, не скрывая, целый день старался быть с Наташей. Не только в душе Наташи испуганной, но счастливой и восторженной, но во всем доме чувствовался страх перед чем то важным, имеющим совершиться. Графиня печальными и серьезно строгими глазами смотрела на князя Андрея, когда он говорил с Наташей, и робко и притворно начинала какой нибудь ничтожный разговор, как скоро он оглядывался на нее. Соня боялась уйти от Наташи и боялась быть помехой, когда она была с ними. Наташа бледнела от страха ожидания, когда она на минуты оставалась с ним с глазу на глаз. Князь Андрей поражал ее своей робостью. Она чувствовала, что ему нужно было сказать ей что то, но что он не мог на это решиться.
Когда вечером князь Андрей уехал, графиня подошла к Наташе и шопотом сказала:
– Ну что?
– Мама, ради Бога ничего не спрашивайте у меня теперь. Это нельзя говорить, – сказала Наташа.
Но несмотря на то, в этот вечер Наташа, то взволнованная, то испуганная, с останавливающимися глазами лежала долго в постели матери. То она рассказывала ей, как он хвалил ее, то как он говорил, что поедет за границу, то, что он спрашивал, где они будут жить это лето, то как он спрашивал ее про Бориса.
– Но такого, такого… со мной никогда не бывало! – говорила она. – Только мне страшно при нем, мне всегда страшно при нем, что это значит? Значит, что это настоящее, да? Мама, вы спите?
– Нет, душа моя, мне самой страшно, – отвечала мать. – Иди.
– Все равно я не буду спать. Что за глупости спать? Maмаша, мамаша, такого со мной никогда не бывало! – говорила она с удивлением и испугом перед тем чувством, которое она сознавала в себе. – И могли ли мы думать!…
Наташе казалось, что еще когда она в первый раз увидала князя Андрея в Отрадном, она влюбилась в него. Ее как будто пугало это странное, неожиданное счастье, что тот, кого она выбрала еще тогда (она твердо была уверена в этом), что тот самый теперь опять встретился ей, и, как кажется, неравнодушен к ней. «И надо было ему нарочно теперь, когда мы здесь, приехать в Петербург. И надо было нам встретиться на этом бале. Всё это судьба. Ясно, что это судьба, что всё это велось к этому. Еще тогда, как только я увидала его, я почувствовала что то особенное».
– Что ж он тебе еще говорил? Какие стихи то эти? Прочти… – задумчиво сказала мать, спрашивая про стихи, которые князь Андрей написал в альбом Наташе.
– Мама, это не стыдно, что он вдовец?
– Полно, Наташа. Молись Богу. Les Marieiages se font dans les cieux. [Браки заключаются в небесах.]
– Голубушка, мамаша, как я вас люблю, как мне хорошо! – крикнула Наташа, плача слезами счастья и волнения и обнимая мать.
В это же самое время князь Андрей сидел у Пьера и говорил ему о своей любви к Наташе и о твердо взятом намерении жениться на ней.
В этот день у графини Елены Васильевны был раут, был французский посланник, был принц, сделавшийся с недавнего времени частым посетителем дома графини, и много блестящих дам и мужчин. Пьер был внизу, прошелся по залам, и поразил всех гостей своим сосредоточенно рассеянным и мрачным видом.
Пьер со времени бала чувствовал в себе приближение припадков ипохондрии и с отчаянным усилием старался бороться против них. Со времени сближения принца с его женою, Пьер неожиданно был пожалован в камергеры, и с этого времени он стал чувствовать тяжесть и стыд в большом обществе, и чаще ему стали приходить прежние мрачные мысли о тщете всего человеческого. В это же время замеченное им чувство между покровительствуемой им Наташей и князем Андреем, своей противуположностью между его положением и положением его друга, еще усиливало это мрачное настроение. Он одинаково старался избегать мыслей о своей жене и о Наташе и князе Андрее. Опять всё ему казалось ничтожно в сравнении с вечностью, опять представлялся вопрос: «к чему?». И он дни и ночи заставлял себя трудиться над масонскими работами, надеясь отогнать приближение злого духа. Пьер в 12 м часу, выйдя из покоев графини, сидел у себя наверху в накуренной, низкой комнате, в затасканном халате перед столом и переписывал подлинные шотландские акты, когда кто то вошел к нему в комнату. Это был князь Андрей.
– А, это вы, – сказал Пьер с рассеянным и недовольным видом. – А я вот работаю, – сказал он, указывая на тетрадь с тем видом спасения от невзгод жизни, с которым смотрят несчастливые люди на свою работу.
Князь Андрей с сияющим, восторженным и обновленным к жизни лицом остановился перед Пьером и, не замечая его печального лица, с эгоизмом счастия улыбнулся ему.
– Ну, душа моя, – сказал он, – я вчера хотел сказать тебе и нынче за этим приехал к тебе. Никогда не испытывал ничего подобного. Я влюблен, мой друг.
Пьер вдруг тяжело вздохнул и повалился своим тяжелым телом на диван, подле князя Андрея.
– В Наташу Ростову, да? – сказал он.
– Да, да, в кого же? Никогда не поверил бы, но это чувство сильнее меня. Вчера я мучился, страдал, но и мученья этого я не отдам ни за что в мире. Я не жил прежде. Теперь только я живу, но я не могу жить без нее. Но может ли она любить меня?… Я стар для нее… Что ты не говоришь?…
– Я? Я? Что я говорил вам, – вдруг сказал Пьер, вставая и начиная ходить по комнате. – Я всегда это думал… Эта девушка такое сокровище, такое… Это редкая девушка… Милый друг, я вас прошу, вы не умствуйте, не сомневайтесь, женитесь, женитесь и женитесь… И я уверен, что счастливее вас не будет человека.
– Но она!
– Она любит вас.
– Не говори вздору… – сказал князь Андрей, улыбаясь и глядя в глаза Пьеру.
– Любит, я знаю, – сердито закричал Пьер.
– Нет, слушай, – сказал князь Андрей, останавливая его за руку. – Ты знаешь ли, в каком я положении? Мне нужно сказать все кому нибудь.
– Ну, ну, говорите, я очень рад, – говорил Пьер, и действительно лицо его изменилось, морщина разгладилась, и он радостно слушал князя Андрея. Князь Андрей казался и был совсем другим, новым человеком. Где была его тоска, его презрение к жизни, его разочарованность? Пьер был единственный человек, перед которым он решался высказаться; но зато он ему высказывал всё, что у него было на душе. То он легко и смело делал планы на продолжительное будущее, говорил о том, как он не может пожертвовать своим счастьем для каприза своего отца, как он заставит отца согласиться на этот брак и полюбить ее или обойдется без его согласия, то он удивлялся, как на что то странное, чуждое, от него независящее, на то чувство, которое владело им.
– Я бы не поверил тому, кто бы мне сказал, что я могу так любить, – говорил князь Андрей. – Это совсем не то чувство, которое было у меня прежде. Весь мир разделен для меня на две половины: одна – она и там всё счастье надежды, свет; другая половина – всё, где ее нет, там всё уныние и темнота…
– Темнота и мрак, – повторил Пьер, – да, да, я понимаю это.
– Я не могу не любить света, я не виноват в этом. И я очень счастлив. Ты понимаешь меня? Я знаю, что ты рад за меня.
– Да, да, – подтверждал Пьер, умиленными и грустными глазами глядя на своего друга. Чем светлее представлялась ему судьба князя Андрея, тем мрачнее представлялась своя собственная.
Для женитьбы нужно было согласие отца, и для этого на другой день князь Андрей уехал к отцу.
Отец с наружным спокойствием, но внутренней злобой принял сообщение сына. Он не мог понять того, чтобы кто нибудь хотел изменять жизнь, вносить в нее что нибудь новое, когда жизнь для него уже кончалась. – «Дали бы только дожить так, как я хочу, а потом бы делали, что хотели», говорил себе старик. С сыном однако он употребил ту дипломацию, которую он употреблял в важных случаях. Приняв спокойный тон, он обсудил всё дело.
Во первых, женитьба была не блестящая в отношении родства, богатства и знатности. Во вторых, князь Андрей был не первой молодости и слаб здоровьем (старик особенно налегал на это), а она была очень молода. В третьих, был сын, которого жалко было отдать девчонке. В четвертых, наконец, – сказал отец, насмешливо глядя на сына, – я тебя прошу, отложи дело на год, съезди за границу, полечись, сыщи, как ты и хочешь, немца, для князя Николая, и потом, ежели уж любовь, страсть, упрямство, что хочешь, так велики, тогда женись.
– И это последнее мое слово, знай, последнее… – кончил князь таким тоном, которым показывал, что ничто не заставит его изменить свое решение.
Князь Андрей ясно видел, что старик надеялся, что чувство его или его будущей невесты не выдержит испытания года, или что он сам, старый князь, умрет к этому времени, и решил исполнить волю отца: сделать предложение и отложить свадьбу на год.
Через три недели после своего последнего вечера у Ростовых, князь Андрей вернулся в Петербург.
На другой день после своего объяснения с матерью, Наташа ждала целый день Болконского, но он не приехал. На другой, на третий день было то же самое. Пьер также не приезжал, и Наташа, не зная того, что князь Андрей уехал к отцу, не могла себе объяснить его отсутствия.
Так прошли три недели. Наташа никуда не хотела выезжать и как тень, праздная и унылая, ходила по комнатам, вечером тайно от всех плакала и не являлась по вечерам к матери. Она беспрестанно краснела и раздражалась. Ей казалось, что все знают о ее разочаровании, смеются и жалеют о ней. При всей силе внутреннего горя, это тщеславное горе усиливало ее несчастие.
Однажды она пришла к графине, хотела что то сказать ей, и вдруг заплакала. Слезы ее были слезы обиженного ребенка, который сам не знает, за что он наказан.
Графиня стала успокоивать Наташу. Наташа, вслушивавшаяся сначала в слова матери, вдруг прервала ее:
– Перестаньте, мама, я и не думаю, и не хочу думать! Так, поездил и перестал, и перестал…
Голос ее задрожал, она чуть не заплакала, но оправилась и спокойно продолжала: – И совсем я не хочу выходить замуж. И я его боюсь; я теперь совсем, совсем, успокоилась…
На другой день после этого разговора Наташа надела то старое платье, которое было ей особенно известно за доставляемую им по утрам веселость, и с утра начала тот свой прежний образ жизни, от которого она отстала после бала. Она, напившись чаю, пошла в залу, которую она особенно любила за сильный резонанс, и начала петь свои солфеджи (упражнения пения). Окончив первый урок, она остановилась на середине залы и повторила одну музыкальную фразу, особенно понравившуюся ей. Она прислушалась радостно к той (как будто неожиданной для нее) прелести, с которой эти звуки переливаясь наполнили всю пустоту залы и медленно замерли, и ей вдруг стало весело. «Что об этом думать много и так хорошо», сказала она себе и стала взад и вперед ходить по зале, ступая не простыми шагами по звонкому паркету, но на всяком шагу переступая с каблучка (на ней были новые, любимые башмаки) на носок, и так же радостно, как и к звукам своего голоса прислушиваясь к этому мерному топоту каблучка и поскрипыванью носка. Проходя мимо зеркала, она заглянула в него. – «Вот она я!» как будто говорило выражение ее лица при виде себя. – «Ну, и хорошо. И никого мне не нужно».
Лакей хотел войти, чтобы убрать что то в зале, но она не пустила его, опять затворив за ним дверь, и продолжала свою прогулку. Она возвратилась в это утро опять к своему любимому состоянию любви к себе и восхищения перед собою. – «Что за прелесть эта Наташа!» сказала она опять про себя словами какого то третьего, собирательного, мужского лица. – «Хороша, голос, молода, и никому она не мешает, оставьте только ее в покое». Но сколько бы ни оставляли ее в покое, она уже не могла быть покойна и тотчас же почувствовала это.
В передней отворилась дверь подъезда, кто то спросил: дома ли? и послышались чьи то шаги. Наташа смотрелась в зеркало, но она не видала себя. Она слушала звуки в передней. Когда она увидала себя, лицо ее было бледно. Это был он. Она это верно знала, хотя чуть слышала звук его голоса из затворенных дверей.
Наташа, бледная и испуганная, вбежала в гостиную.
– Мама, Болконский приехал! – сказала она. – Мама, это ужасно, это несносно! – Я не хочу… мучиться! Что же мне делать?…
Еще графиня не успела ответить ей, как князь Андрей с тревожным и серьезным лицом вошел в гостиную. Как только он увидал Наташу, лицо его просияло. Он поцеловал руку графини и Наташи и сел подле дивана.
– Давно уже мы не имели удовольствия… – начала было графиня, но князь Андрей перебил ее, отвечая на ее вопрос и очевидно торопясь сказать то, что ему было нужно.
– Я не был у вас всё это время, потому что был у отца: мне нужно было переговорить с ним о весьма важном деле. Я вчера ночью только вернулся, – сказал он, взглянув на Наташу. – Мне нужно переговорить с вами, графиня, – прибавил он после минутного молчания.
Графиня, тяжело вздохнув, опустила глаза.
– Я к вашим услугам, – проговорила она.
Наташа знала, что ей надо уйти, но она не могла этого сделать: что то сжимало ей горло, и она неучтиво, прямо, открытыми глазами смотрела на князя Андрея.
«Сейчас? Сию минуту!… Нет, это не может быть!» думала она.
Он опять взглянул на нее, и этот взгляд убедил ее в том, что она не ошиблась. – Да, сейчас, сию минуту решалась ее судьба.
– Поди, Наташа, я позову тебя, – сказала графиня шопотом.
Наташа испуганными, умоляющими глазами взглянула на князя Андрея и на мать, и вышла.
– Я приехал, графиня, просить руки вашей дочери, – сказал князь Андрей. Лицо графини вспыхнуло, но она ничего не сказала.
– Ваше предложение… – степенно начала графиня. – Он молчал, глядя ей в глаза. – Ваше предложение… (она сконфузилась) нам приятно, и… я принимаю ваше предложение, я рада. И муж мой… я надеюсь… но от нее самой будет зависеть…
– Я скажу ей тогда, когда буду иметь ваше согласие… даете ли вы мне его? – сказал князь Андрей.
– Да, – сказала графиня и протянула ему руку и с смешанным чувством отчужденности и нежности прижалась губами к его лбу, когда он наклонился над ее рукой. Она желала любить его, как сына; но чувствовала, что он был чужой и страшный для нее человек. – Я уверена, что мой муж будет согласен, – сказала графиня, – но ваш батюшка…
– Мой отец, которому я сообщил свои планы, непременным условием согласия положил то, чтобы свадьба была не раньше года. И это то я хотел сообщить вам, – сказал князь Андрей.
– Правда, что Наташа еще молода, но так долго.
– Это не могло быть иначе, – со вздохом сказал князь Андрей.
– Я пошлю вам ее, – сказала графиня и вышла из комнаты.
– Господи, помилуй нас, – твердила она, отыскивая дочь. Соня сказала, что Наташа в спальне. Наташа сидела на своей кровати, бледная, с сухими глазами, смотрела на образа и, быстро крестясь, шептала что то. Увидав мать, она вскочила и бросилась к ней.
– Что? Мама?… Что?
– Поди, поди к нему. Он просит твоей руки, – сказала графиня холодно, как показалось Наташе… – Поди… поди, – проговорила мать с грустью и укоризной вслед убегавшей дочери, и тяжело вздохнула.
Наташа не помнила, как она вошла в гостиную. Войдя в дверь и увидав его, она остановилась. «Неужели этот чужой человек сделался теперь всё для меня?» спросила она себя и мгновенно ответила: «Да, всё: он один теперь дороже для меня всего на свете». Князь Андрей подошел к ней, опустив глаза.
– Я полюбил вас с той минуты, как увидал вас. Могу ли я надеяться?
Он взглянул на нее, и серьезная страстность выражения ее лица поразила его. Лицо ее говорило: «Зачем спрашивать? Зачем сомневаться в том, чего нельзя не знать? Зачем говорить, когда нельзя словами выразить того, что чувствуешь».
Она приблизилась к нему и остановилась. Он взял ее руку и поцеловал.
– Любите ли вы меня?
– Да, да, – как будто с досадой проговорила Наташа, громко вздохнула, другой раз, чаще и чаще, и зарыдала.
– Об чем? Что с вами?
– Ах, я так счастлива, – отвечала она, улыбнулась сквозь слезы, нагнулась ближе к нему, подумала секунду, как будто спрашивая себя, можно ли это, и поцеловала его.
Князь Андрей держал ее руки, смотрел ей в глаза, и не находил в своей душе прежней любви к ней. В душе его вдруг повернулось что то: не было прежней поэтической и таинственной прелести желания, а была жалость к ее женской и детской слабости, был страх перед ее преданностью и доверчивостью, тяжелое и вместе радостное сознание долга, навеки связавшего его с нею. Настоящее чувство, хотя и не было так светло и поэтично как прежнее, было серьезнее и сильнее.
– Сказала ли вам maman, что это не может быть раньше года? – сказал князь Андрей, продолжая глядеть в ее глаза. «Неужели это я, та девочка ребенок (все так говорили обо мне) думала Наташа, неужели я теперь с этой минуты жена , равная этого чужого, милого, умного человека, уважаемого даже отцом моим. Неужели это правда! неужели правда, что теперь уже нельзя шутить жизнию, теперь уж я большая, теперь уж лежит на мне ответственность за всякое мое дело и слово? Да, что он спросил у меня?»
– Нет, – отвечала она, но она не понимала того, что он спрашивал.
– Простите меня, – сказал князь Андрей, – но вы так молоды, а я уже так много испытал жизни. Мне страшно за вас. Вы не знаете себя.
Наташа с сосредоточенным вниманием слушала, стараясь понять смысл его слов и не понимала.
– Как ни тяжел мне будет этот год, отсрочивающий мое счастье, – продолжал князь Андрей, – в этот срок вы поверите себя. Я прошу вас через год сделать мое счастье; но вы свободны: помолвка наша останется тайной и, ежели вы убедились бы, что вы не любите меня, или полюбили бы… – сказал князь Андрей с неестественной улыбкой.
– Зачем вы это говорите? – перебила его Наташа. – Вы знаете, что с того самого дня, как вы в первый раз приехали в Отрадное, я полюбила вас, – сказала она, твердо уверенная, что она говорила правду.
– В год вы узнаете себя…
– Целый год! – вдруг сказала Наташа, теперь только поняв то, что свадьба отсрочена на год. – Да отчего ж год? Отчего ж год?… – Князь Андрей стал ей объяснять причины этой отсрочки. Наташа не слушала его.
– И нельзя иначе? – спросила она. Князь Андрей ничего не ответил, но в лице его выразилась невозможность изменить это решение.
– Это ужасно! Нет, это ужасно, ужасно! – вдруг заговорила Наташа и опять зарыдала. – Я умру, дожидаясь года: это нельзя, это ужасно. – Она взглянула в лицо своего жениха и увидала на нем выражение сострадания и недоумения.
– Нет, нет, я всё сделаю, – сказала она, вдруг остановив слезы, – я так счастлива! – Отец и мать вошли в комнату и благословили жениха и невесту.
С этого дня князь Андрей женихом стал ездить к Ростовым.
Обручения не было и никому не было объявлено о помолвке Болконского с Наташей; на этом настоял князь Андрей. Он говорил, что так как он причиной отсрочки, то он и должен нести всю тяжесть ее. Он говорил, что он навеки связал себя своим словом, но что он не хочет связывать Наташу и предоставляет ей полную свободу. Ежели она через полгода почувствует, что она не любит его, она будет в своем праве, ежели откажет ему. Само собою разумеется, что ни родители, ни Наташа не хотели слышать об этом; но князь Андрей настаивал на своем. Князь Андрей бывал каждый день у Ростовых, но не как жених обращался с Наташей: он говорил ей вы и целовал только ее руку. Между князем Андреем и Наташей после дня предложения установились совсем другие чем прежде, близкие, простые отношения. Они как будто до сих пор не знали друг друга. И он и она любили вспоминать о том, как они смотрели друг на друга, когда были еще ничем , теперь оба они чувствовали себя совсем другими существами: тогда притворными, теперь простыми и искренними. Сначала в семействе чувствовалась неловкость в обращении с князем Андреем; он казался человеком из чуждого мира, и Наташа долго приучала домашних к князю Андрею и с гордостью уверяла всех, что он только кажется таким особенным, а что он такой же, как и все, и что она его не боится и что никто не должен бояться его. После нескольких дней, в семействе к нему привыкли и не стесняясь вели при нем прежний образ жизни, в котором он принимал участие. Он про хозяйство умел говорить с графом и про наряды с графиней и Наташей, и про альбомы и канву с Соней. Иногда домашние Ростовы между собою и при князе Андрее удивлялись тому, как всё это случилось и как очевидны были предзнаменования этого: и приезд князя Андрея в Отрадное, и их приезд в Петербург, и сходство между Наташей и князем Андреем, которое заметила няня в первый приезд князя Андрея, и столкновение в 1805 м году между Андреем и Николаем, и еще много других предзнаменований того, что случилось, было замечено домашними.
В доме царствовала та поэтическая скука и молчаливость, которая всегда сопутствует присутствию жениха и невесты. Часто сидя вместе, все молчали. Иногда вставали и уходили, и жених с невестой, оставаясь одни, всё также молчали. Редко они говорили о будущей своей жизни. Князю Андрею страшно и совестно было говорить об этом. Наташа разделяла это чувство, как и все его чувства, которые она постоянно угадывала. Один раз Наташа стала расспрашивать про его сына. Князь Андрей покраснел, что с ним часто случалось теперь и что особенно любила Наташа, и сказал, что сын его не будет жить с ними.
– Отчего? – испуганно сказала Наташа.
– Я не могу отнять его у деда и потом…
– Как бы я его любила! – сказала Наташа, тотчас же угадав его мысль; но я знаю, вы хотите, чтобы не было предлогов обвинять вас и меня.
Старый граф иногда подходил к князю Андрею, целовал его, спрашивал у него совета на счет воспитания Пети или службы Николая. Старая графиня вздыхала, глядя на них. Соня боялась всякую минуту быть лишней и старалась находить предлоги оставлять их одних, когда им этого и не нужно было. Когда князь Андрей говорил (он очень хорошо рассказывал), Наташа с гордостью слушала его; когда она говорила, то со страхом и радостью замечала, что он внимательно и испытующе смотрит на нее. Она с недоумением спрашивала себя: «Что он ищет во мне? Чего то он добивается своим взглядом! Что, как нет во мне того, что он ищет этим взглядом?» Иногда она входила в свойственное ей безумно веселое расположение духа, и тогда она особенно любила слушать и смотреть, как князь Андрей смеялся. Он редко смеялся, но зато, когда он смеялся, то отдавался весь своему смеху, и всякий раз после этого смеха она чувствовала себя ближе к нему. Наташа была бы совершенно счастлива, ежели бы мысль о предстоящей и приближающейся разлуке не пугала ее, так как и он бледнел и холодел при одной мысли о том.
Накануне своего отъезда из Петербурга, князь Андрей привез с собой Пьера, со времени бала ни разу не бывшего у Ростовых. Пьер казался растерянным и смущенным. Он разговаривал с матерью. Наташа села с Соней у шахматного столика, приглашая этим к себе князя Андрея. Он подошел к ним.
– Вы ведь давно знаете Безухого? – спросил он. – Вы любите его?
– Да, он славный, но смешной очень.
И она, как всегда говоря о Пьере, стала рассказывать анекдоты о его рассеянности, анекдоты, которые даже выдумывали на него.
– Вы знаете, я поверил ему нашу тайну, – сказал князь Андрей. – Я знаю его с детства. Это золотое сердце. Я вас прошу, Натали, – сказал он вдруг серьезно; – я уеду, Бог знает, что может случиться. Вы можете разлю… Ну, знаю, что я не должен говорить об этом. Одно, – чтобы ни случилось с вами, когда меня не будет…
– Что ж случится?…
– Какое бы горе ни было, – продолжал князь Андрей, – я вас прошу, m lle Sophie, что бы ни случилось, обратитесь к нему одному за советом и помощью. Это самый рассеянный и смешной человек, но самое золотое сердце.
Ни отец и мать, ни Соня, ни сам князь Андрей не могли предвидеть того, как подействует на Наташу расставанье с ее женихом. Красная и взволнованная, с сухими глазами, она ходила этот день по дому, занимаясь самыми ничтожными делами, как будто не понимая того, что ожидает ее. Она не плакала и в ту минуту, как он, прощаясь, последний раз поцеловал ее руку. – Не уезжайте! – только проговорила она ему таким голосом, который заставил его задуматься о том, не нужно ли ему действительно остаться и который он долго помнил после этого. Когда он уехал, она тоже не плакала; но несколько дней она не плача сидела в своей комнате, не интересовалась ничем и только говорила иногда: – Ах, зачем он уехал!
Но через две недели после его отъезда, она так же неожиданно для окружающих ее, очнулась от своей нравственной болезни, стала такая же как прежде, но только с измененной нравственной физиогномией, как дети с другим лицом встают с постели после продолжительной болезни.
Здоровье и характер князя Николая Андреича Болконского, в этот последний год после отъезда сына, очень ослабели. Он сделался еще более раздражителен, чем прежде, и все вспышки его беспричинного гнева большей частью обрушивались на княжне Марье. Он как будто старательно изыскивал все больные места ее, чтобы как можно жесточе нравственно мучить ее. У княжны Марьи были две страсти и потому две радости: племянник Николушка и религия, и обе были любимыми темами нападений и насмешек князя. О чем бы ни заговорили, он сводил разговор на суеверия старых девок или на баловство и порчу детей. – «Тебе хочется его (Николеньку) сделать такой же старой девкой, как ты сама; напрасно: князю Андрею нужно сына, а не девку», говорил он. Или, обращаясь к mademoiselle Bourime, он спрашивал ее при княжне Марье, как ей нравятся наши попы и образа, и шутил…
Он беспрестанно больно оскорблял княжну Марью, но дочь даже не делала усилий над собой, чтобы прощать его. Разве мог он быть виноват перед нею, и разве мог отец ее, который, она всё таки знала это, любил ее, быть несправедливым? Да и что такое справедливость? Княжна никогда не думала об этом гордом слове: «справедливость». Все сложные законы человечества сосредоточивались для нее в одном простом и ясном законе – в законе любви и самоотвержения, преподанном нам Тем, Который с любовью страдал за человечество, когда сам он – Бог. Что ей было за дело до справедливости или несправедливости других людей? Ей надо было самой страдать и любить, и это она делала.
Зимой в Лысые Горы приезжал князь Андрей, был весел, кроток и нежен, каким его давно не видала княжна Марья. Она предчувствовала, что с ним что то случилось, но он не сказал ничего княжне Марье о своей любви. Перед отъездом князь Андрей долго беседовал о чем то с отцом и княжна Марья заметила, что перед отъездом оба были недовольны друг другом.
Вскоре после отъезда князя Андрея, княжна Марья писала из Лысых Гор в Петербург своему другу Жюли Карагиной, которую княжна Марья мечтала, как мечтают всегда девушки, выдать за своего брата, и которая в это время была в трауре по случаю смерти своего брата, убитого в Турции.
«Горести, видно, общий удел наш, милый и нежный друг Julieie».
«Ваша потеря так ужасна, что я иначе не могу себе объяснить ее, как особенную милость Бога, Который хочет испытать – любя вас – вас и вашу превосходную мать. Ах, мой друг, религия, и только одна религия, может нас, уже не говорю утешить, но избавить от отчаяния; одна религия может объяснить нам то, чего без ее помощи не может понять человек: для чего, зачем существа добрые, возвышенные, умеющие находить счастие в жизни, никому не только не вредящие, но необходимые для счастия других – призываются к Богу, а остаются жить злые, бесполезные, вредные, или такие, которые в тягость себе и другим. Первая смерть, которую я видела и которую никогда не забуду – смерть моей милой невестки, произвела на меня такое впечатление. Точно так же как вы спрашиваете судьбу, для чего было умирать вашему прекрасному брату, точно так же спрашивала я, для чего было умирать этому ангелу Лизе, которая не только не сделала какого нибудь зла человеку, но никогда кроме добрых мыслей не имела в своей душе. И что ж, мой друг, вот прошло с тех пор пять лет, и я, с своим ничтожным умом, уже начинаю ясно понимать, для чего ей нужно было умереть, и каким образом эта смерть была только выражением бесконечной благости Творца, все действия Которого, хотя мы их большею частью не понимаем, суть только проявления Его бесконечной любви к Своему творению. Может быть, я часто думаю, она была слишком ангельски невинна для того, чтобы иметь силу перенести все обязанности матери. Она была безупречна, как молодая жена; может быть, она не могла бы быть такою матерью. Теперь, мало того, что она оставила нам, и в особенности князю Андрею, самое чистое сожаление и воспоминание, она там вероятно получит то место, которого я не смею надеяться для себя. Но, не говоря уже о ней одной, эта ранняя и страшная смерть имела самое благотворное влияние, несмотря на всю печаль, на меня и на брата. Тогда, в минуту потери, эти мысли не могли притти мне; тогда я с ужасом отогнала бы их, но теперь это так ясно и несомненно. Пишу всё это вам, мой друг, только для того, чтобы убедить вас в евангельской истине, сделавшейся для меня жизненным правилом: ни один волос с головы не упадет без Его воли. А воля Его руководствуется только одною беспредельною любовью к нам, и потому всё, что ни случается с нами, всё для нашего блага. Вы спрашиваете, проведем ли мы следующую зиму в Москве? Несмотря на всё желание вас видеть, не думаю и не желаю этого. И вы удивитесь, что причиною тому Буонапарте. И вот почему: здоровье отца моего заметно слабеет: он не может переносить противоречий и делается раздражителен. Раздражительность эта, как вы знаете, обращена преимущественно на политические дела. Он не может перенести мысли о том, что Буонапарте ведет дело как с равными, со всеми государями Европы и в особенности с нашим, внуком Великой Екатерины! Как вы знаете, я совершенно равнодушна к политическим делам, но из слов моего отца и разговоров его с Михаилом Ивановичем, я знаю всё, что делается в мире, и в особенности все почести, воздаваемые Буонапарте, которого, как кажется, еще только в Лысых Горах на всем земном шаре не признают ни великим человеком, ни еще менее французским императором. И мой отец не может переносить этого. Мне кажется, что мой отец, преимущественно вследствие своего взгляда на политические дела и предвидя столкновения, которые у него будут, вследствие его манеры, не стесняясь ни с кем, высказывать свои мнения, неохотно говорит о поездке в Москву. Всё, что он выиграет от лечения, он потеряет вследствие споров о Буонапарте, которые неминуемы. Во всяком случае это решится очень скоро. Семейная жизнь наша идет по старому, за исключением присутствия брата Андрея. Он, как я уже писала вам, очень изменился последнее время. После его горя, он теперь только, в нынешнем году, совершенно нравственно ожил. Он стал таким, каким я его знала ребенком: добрым, нежным, с тем золотым сердцем, которому я не знаю равного. Он понял, как мне кажется, что жизнь для него не кончена. Но вместе с этой нравственной переменой, он физически очень ослабел. Он стал худее чем прежде, нервнее. Я боюсь за него и рада, что он предпринял эту поездку за границу, которую доктора уже давно предписывали ему. Я надеюсь, что это поправит его. Вы мне пишете, что в Петербурге о нем говорят, как об одном из самых деятельных, образованных и умных молодых людей. Простите за самолюбие родства – я никогда в этом не сомневалась. Нельзя счесть добро, которое он здесь сделал всем, начиная с своих мужиков и до дворян. Приехав в Петербург, он взял только то, что ему следовало. Удивляюсь, каким образом вообще доходят слухи из Петербурга в Москву и особенно такие неверные, как тот, о котором вы мне пишете, – слух о мнимой женитьбе брата на маленькой Ростовой. Я не думаю, чтобы Андрей когда нибудь женился на ком бы то ни было и в особенности на ней. И вот почему: во первых я знаю, что хотя он и редко говорит о покойной жене, но печаль этой потери слишком глубоко вкоренилась в его сердце, чтобы когда нибудь он решился дать ей преемницу и мачеху нашему маленькому ангелу. Во вторых потому, что, сколько я знаю, эта девушка не из того разряда женщин, которые могут нравиться князю Андрею. Не думаю, чтобы князь Андрей выбрал ее своею женою, и откровенно скажу: я не желаю этого. Но я заболталась, кончаю свой второй листок. Прощайте, мой милый друг; да сохранит вас Бог под Своим святым и могучим покровом. Моя милая подруга, mademoiselle Bourienne, целует вас.
Мари».
В середине лета, княжна Марья получила неожиданное письмо от князя Андрея из Швейцарии, в котором он сообщал ей странную и неожиданную новость. Князь Андрей объявлял о своей помолвке с Ростовой. Всё письмо его дышало любовной восторженностью к своей невесте и нежной дружбой и доверием к сестре. Он писал, что никогда не любил так, как любит теперь, и что теперь только понял и узнал жизнь; он просил сестру простить его за то, что в свой приезд в Лысые Горы он ничего не сказал ей об этом решении, хотя и говорил об этом с отцом. Он не сказал ей этого потому, что княжна Марья стала бы просить отца дать свое согласие, и не достигнув бы цели, раздражила бы отца, и на себе бы понесла всю тяжесть его неудовольствия. Впрочем, писал он, тогда еще дело не было так окончательно решено, как теперь. «Тогда отец назначил мне срок, год, и вот уже шесть месяцев, половина прошло из назначенного срока, и я остаюсь более, чем когда нибудь тверд в своем решении. Ежели бы доктора не задерживали меня здесь, на водах, я бы сам был в России, но теперь возвращение мое я должен отложить еще на три месяца. Ты знаешь меня и мои отношения с отцом. Мне ничего от него не нужно, я был и буду всегда независим, но сделать противное его воле, заслужить его гнев, когда может быть так недолго осталось ему быть с нами, разрушило бы наполовину мое счастие. Я пишу теперь ему письмо о том же и прошу тебя, выбрав добрую минуту, передать ему письмо и известить меня о том, как он смотрит на всё это и есть ли надежда на то, чтобы он согласился сократить срок на три месяца».
После долгих колебаний, сомнений и молитв, княжна Марья передала письмо отцу. На другой день старый князь сказал ей спокойно:
– Напиши брату, чтоб подождал, пока умру… Не долго – скоро развяжу…
Княжна хотела возразить что то, но отец не допустил ее, и стал всё более и более возвышать голос.
– Женись, женись, голубчик… Родство хорошее!… Умные люди, а? Богатые, а? Да. Хороша мачеха у Николушки будет! Напиши ты ему, что пускай женится хоть завтра. Мачеха Николушки будет – она, а я на Бурьенке женюсь!… Ха, ха, ха, и ему чтоб без мачехи не быть! Только одно, в моем доме больше баб не нужно; пускай женится, сам по себе живет. Может, и ты к нему переедешь? – обратился он к княжне Марье: – с Богом, по морозцу, по морозцу… по морозцу!…
После этой вспышки, князь не говорил больше ни разу об этом деле. Но сдержанная досада за малодушие сына выразилась в отношениях отца с дочерью. К прежним предлогам насмешек прибавился еще новый – разговор о мачехе и любезности к m lle Bourienne.
– Отчего же мне на ней не жениться? – говорил он дочери. – Славная княгиня будет! – И в последнее время, к недоуменью и удивлению своему, княжна Марья стала замечать, что отец ее действительно начинал больше и больше приближать к себе француженку. Княжна Марья написала князю Андрею о том, как отец принял его письмо; но утешала брата, подавая надежду примирить отца с этою мыслью.
Николушка и его воспитание, Andre и религия были утешениями и радостями княжны Марьи; но кроме того, так как каждому человеку нужны свои личные надежды, у княжны Марьи была в самой глубокой тайне ее души скрытая мечта и надежда, доставлявшая ей главное утешение в ее жизни. Утешительную эту мечту и надежду дали ей божьи люди – юродивые и странники, посещавшие ее тайно от князя. Чем больше жила княжна Марья, чем больше испытывала она жизнь и наблюдала ее, тем более удивляла ее близорукость людей, ищущих здесь на земле наслаждений и счастия; трудящихся, страдающих, борющихся и делающих зло друг другу, для достижения этого невозможного, призрачного и порочного счастия. «Князь Андрей любил жену, она умерла, ему мало этого, он хочет связать свое счастие с другой женщиной. Отец не хочет этого, потому что желает для Андрея более знатного и богатого супружества. И все они борются и страдают, и мучают, и портят свою душу, свою вечную душу, для достижения благ, которым срок есть мгновенье. Мало того, что мы сами знаем это, – Христос, сын Бога сошел на землю и сказал нам, что эта жизнь есть мгновенная жизнь, испытание, а мы всё держимся за нее и думаем в ней найти счастье. Как никто не понял этого? – думала княжна Марья. Никто кроме этих презренных божьих людей, которые с сумками за плечами приходят ко мне с заднего крыльца, боясь попасться на глаза князю, и не для того, чтобы не пострадать от него, а для того, чтобы его не ввести в грех. Оставить семью, родину, все заботы о мирских благах для того, чтобы не прилепляясь ни к чему, ходить в посконном рубище, под чужим именем с места на место, не делая вреда людям, и молясь за них, молясь и за тех, которые гонят, и за тех, которые покровительствуют: выше этой истины и жизни нет истины и жизни!»
Была одна странница, Федосьюшка, 50 ти летняя, маленькая, тихенькая, рябая женщина, ходившая уже более 30 ти лет босиком и в веригах. Ее особенно любила княжна Марья. Однажды, когда в темной комнате, при свете одной лампадки, Федосьюшка рассказывала о своей жизни, – княжне Марье вдруг с такой силой пришла мысль о том, что Федосьюшка одна нашла верный путь жизни, что она решилась сама пойти странствовать. Когда Федосьюшка пошла спать, княжна Марья долго думала над этим и наконец решила, что как ни странно это было – ей надо было итти странствовать. Она поверила свое намерение только одному духовнику монаху, отцу Акинфию, и духовник одобрил ее намерение. Под предлогом подарка странницам, княжна Марья припасла себе полное одеяние странницы: рубашку, лапти, кафтан и черный платок. Часто подходя к заветному комоду, княжна Марья останавливалась в нерешительности о том, не наступило ли уже время для приведения в исполнение ее намерения.
Часто слушая рассказы странниц, она возбуждалась их простыми, для них механическими, а для нее полными глубокого смысла речами, так что она была несколько раз готова бросить всё и бежать из дому. В воображении своем она уже видела себя с Федосьюшкой в грубом рубище, шагающей с палочкой и котомочкой по пыльной дороге, направляя свое странствие без зависти, без любви человеческой, без желаний от угодников к угодникам, и в конце концов, туда, где нет ни печали, ни воздыхания, а вечная радость и блаженство.
«Приду к одному месту, помолюсь; не успею привыкнуть, полюбить – пойду дальше. И буду итти до тех пор, пока ноги подкосятся, и лягу и умру где нибудь, и приду наконец в ту вечную, тихую пристань, где нет ни печали, ни воздыхания!…» думала княжна Марья.
Но потом, увидав отца и особенно маленького Коко, она ослабевала в своем намерении, потихоньку плакала и чувствовала, что она грешница: любила отца и племянника больше, чем Бога.
Библейское предание говорит, что отсутствие труда – праздность была условием блаженства первого человека до его падения. Любовь к праздности осталась та же и в падшем человеке, но проклятие всё тяготеет над человеком, и не только потому, что мы в поте лица должны снискивать хлеб свой, но потому, что по нравственным свойствам своим мы не можем быть праздны и спокойны. Тайный голос говорит, что мы должны быть виновны за то, что праздны. Ежели бы мог человек найти состояние, в котором он, будучи праздным, чувствовал бы себя полезным и исполняющим свой долг, он бы нашел одну сторону первобытного блаженства. И таким состоянием обязательной и безупречной праздности пользуется целое сословие – сословие военное. В этой то обязательной и безупречной праздности состояла и будет состоять главная привлекательность военной службы.
Николай Ростов испытывал вполне это блаженство, после 1807 года продолжая служить в Павлоградском полку, в котором он уже командовал эскадроном, принятым от Денисова.
Ростов сделался загрубелым, добрым малым, которого московские знакомые нашли бы несколько mauvais genre [дурного тона], но который был любим и уважаем товарищами, подчиненными и начальством и который был доволен своей жизнью. В последнее время, в 1809 году, он чаще в письмах из дому находил сетования матери на то, что дела расстраиваются хуже и хуже, и что пора бы ему приехать домой, обрадовать и успокоить стариков родителей.
Читая эти письма, Николай испытывал страх, что хотят вывести его из той среды, в которой он, оградив себя от всей житейской путаницы, жил так тихо и спокойно. Он чувствовал, что рано или поздно придется опять вступить в тот омут жизни с расстройствами и поправлениями дел, с учетами управляющих, ссорами, интригами, с связями, с обществом, с любовью Сони и обещанием ей. Всё это было страшно трудно, запутано, и он отвечал на письма матери, холодными классическими письмами, начинавшимися: Ma chere maman [Моя милая матушка] и кончавшимися: votre obeissant fils, [Ваш послушный сын,] умалчивая о том, когда он намерен приехать. В 1810 году он получил письма родных, в которых извещали его о помолвке Наташи с Болконским и о том, что свадьба будет через год, потому что старый князь не согласен. Это письмо огорчило, оскорбило Николая. Во первых, ему жалко было потерять из дома Наташу, которую он любил больше всех из семьи; во вторых, он с своей гусарской точки зрения жалел о том, что его не было при этом, потому что он бы показал этому Болконскому, что совсем не такая большая честь родство с ним и что, ежели он любит Наташу, то может обойтись и без разрешения сумасбродного отца. Минуту он колебался не попроситься ли в отпуск, чтоб увидать Наташу невестой, но тут подошли маневры, пришли соображения о Соне, о путанице, и Николай опять отложил. Но весной того же года он получил письмо матери, писавшей тайно от графа, и письмо это убедило его ехать. Она писала, что ежели Николай не приедет и не возьмется за дела, то всё именье пойдет с молотка и все пойдут по миру. Граф так слаб, так вверился Митеньке, и так добр, и так все его обманывают, что всё идет хуже и хуже. «Ради Бога, умоляю тебя, приезжай сейчас же, ежели ты не хочешь сделать меня и всё твое семейство несчастными», писала графиня.