Маньчжурское завоевание Китая
| Маньчжурское завоевание Китая | |||
 Рост Цинской империи | |||
| Дата |
1644-1683 | ||
|---|---|---|---|
| Место | |||
| Причина |
Маньчжурская экспансия | ||
| Итог |
Маньчжурское завоевание Китая | ||
| Противники | |||
| |||
| Командующие | |||
| |||
| Силы сторон | |||
| |||
| Потери | |||
| |||
Маньчжурское завоевание Китая (1644—1683) — процесс распространения власти маньчжурской династии Цин на территорию, принадлежавшую китайской империи Мин.
Содержание
- 1 Предыстория
- 2 Ситуация перед началом маньчжурского вторжения
- 3 Первый этап маньчжурского завоевания
- 4 Второй этап маньчжурского завоевания
- 4.1 Форсирование Янцзы маньчжурами и пленение Фу-вана
- 4.2 Разгром Лу-вана
- 4.3 Восстания на покорённых территориях
- 4.4 Завоевание Цзянси
- 4.5 Завоевание провинций Чжэцзян и Фуцзянь
- 4.6 Завоевание провинции Гуандун
- 4.7 Отступление Армии тринадцати соединений
- 4.8 Завершение второго этапа маньчжурского завоевания Китая
- 5 Покорение маньчжурами Южного Китая
- 6 Китай в стадии разрухи
- 7 Война «трёх князей-данников»
- 8 Завершение и последствия маньчжурского завоевания Китая
- 9 Источники
- 10 Примечания
Предыстория
Возникновение маньчжурского государства
 В начале XVII в. вождь живших в Маньчжурии оседлых чжурчжэней Нурхаци (1559—1626) сумел не только сплотить под своим началом несколько десятков разрозненных племен, но и заложить основы политической организации. Претендуя на родство с чжурчжэньской династией Цзинь, Нурхаци объявил свой клан «Золотым родом» (Айсин Гёро). Роду Нурхаци принадлежало владение Маньчжоу.
В начале XVII в. вождь живших в Маньчжурии оседлых чжурчжэней Нурхаци (1559—1626) сумел не только сплотить под своим началом несколько десятков разрозненных племен, но и заложить основы политической организации. Претендуя на родство с чжурчжэньской династией Цзинь, Нурхаци объявил свой клан «Золотым родом» (Айсин Гёро). Роду Нурхаци принадлежало владение Маньчжоу.
В 1585—1589 годах Нурхаци, подчинив племена минского вэя Цзяньчжоу (своих непосредственных соседей), объединил их с населением Маньчжоу. Затем он приступил к покорению соседних племён. За два десятилетия маньчжуры совершили около 20 военных экспедиций против соседей. Для укрепления своего положения Нурхаци предпринял поездку в Пекин, где был представлен на аудиенции императору Ваньли.
В 1589 году Нурхаци объявил себя ваном (великим князем), а в 1596 году — ваном государства Цзяньчжоу. Его союзники — восточномонгольские князья — поднесли ему в 1606 титул Кундулэн-хана. В 1616 году Нурхаци провозгласил воссоздание чжурчжэньского государства Цзинь (стало известно как «Поздняя Цзинь»), а себя объявил его ханом. Столицей этого государства стал город Синцзин. Благодаря дипломатической и военной активности Нурхаци, к 1619 году в рамках нового государства было объединено большинство чжурчжэньских племён.
Маньчжурское завоевание Ляодуна
В 1621 году маньчжуры вторглись в Ляодун и разбили китайские войска. Нурхаци осадил и взял штурмом город Шэньян (получивший маньчжурское название «Мукден»), и город Ляоян. Весь этот край оказался в руках хана Нурхаци. Решив прочно закрепиться на захваченной территории, он не стал угонять покорённое население в Маньчжоу, оставив его и своё войско в Ляодуне, а столицу из Синцзина перенёс в 1625 г. в Мукден.
Походы Абахая
 После смерти Нурхаци в 1626 году ему наследовал сын Абахай. К своему маньчжурскому имени Абахай присоединил второе, китайское — Хуантайцзи, а для своего правления принял девиз «Тяньцун» («Покорный Велению Неба»). Продолжая дело отца, Абахай подчинил ещё остававшихся независимыми чжурчжэньских вождей. С 1629 года по начало 40-х годов XVII века Абахай совершил около десяти походов на соседние племена.
После смерти Нурхаци в 1626 году ему наследовал сын Абахай. К своему маньчжурскому имени Абахай присоединил второе, китайское — Хуантайцзи, а для своего правления принял девиз «Тяньцун» («Покорный Велению Неба»). Продолжая дело отца, Абахай подчинил ещё остававшихся независимыми чжурчжэньских вождей. С 1629 года по начало 40-х годов XVII века Абахай совершил около десяти походов на соседние племена.
Поход на Китай в 1627 году под руководством самого Абахая не дал ощутимых результатов. Поскольку Корея, как вассал Китая, всячески поддерживала династию Мин, маньчжуры вторглись в эту страну, начались массовые убийства и грабежи. Корейский ван был вынужден уступить силе, заключить мир с Маньчжоу, уплатить ему дань и наладить торговлю с победителями.
В связи с укреплением китайской обороны, для завоевания северного Китая нужно было обойти регион Ляоси (часть Ляонина к западу от реки Ляо), а это было возможно только через Южную Монголию. Абахай привлёк на свою сторону многих монгольских правителей и поддержал их в борьбе против Лигдан-хана — правителя Чахара, пытавшегося восстановить империю Чингис-хана. В обмен на это Абахай обязал монгольских правителей участвовать в войне против Китая. Уже в 1629 году конница Абахая обошла крепости Ляоси с запада, прорвалась через Великую стену и оказалась у стен Пекина, где началась паника. С богатой добычей войска Абахая ушли восвояси. Кроме того, после разгрома Чахара, Абахай заявил, что он завладел императорской печатью монгольской династии Юань, которая именовалась «Печать Чингис-хана».
В 1636 году Абахай дал династии новое имя — «Цин», а подданных повелел именовать не «чжурчжэнями», а «маньчжурами». Новое государство маньчжуров отныне стало называться Цин — по наименованию династии. К титулу «император» Абахай присоединил его монгольский аналог «богдохан», ибо в состав Маньчжурской империи вошла часть Южной Монголии. Годам своего правления он дал девиз «Чундэ». В 1637 году маньчжурская армия разгромила Корею, которая была вынуждена покориться, стать «данником» Цинской империи и разорвать отношения с Китаем.
С этого времени маньчжурская конница стала совершать регулярные набеги на Китай, грабя и увозя в плен, превращая в рабов сотни тысяч китайцев. Всё это вынудило минских императоров не просто стянуть войска к Шаньхайгуаню, но и сконцентрировать здесь едва ли не лучшую, крупнейшую и наиболее боеспособную из всех своих армий во главе с У Саньгуем.
Упадок Минской империи
 В 1628 году в провинции Шэньси разрозненные полуразбойные ватаги стали создавать повстанческие отряды и избирать вождей. С этого момента в северо-восточном Китае началась крестьянская война, которая продолжалась 19 лет. Регулярные войска попали в клещи между маньчжурскими войсками на севере и восставшими провинциями, в них усилилось брожение и дезертирство. Армия, лишённая денег и продовольствия, потерпела поражение от Ли Цзычэна. Предатели открыли ворота перед войсками Ли, и те беспрепятственно смогли войти внутрь столицы. В апреле 1644 года Пекин покорился восставшим; последний минский император Чунчжэнь наложил на себя руки, повесившись на дереве в императорском саду.
В 1628 году в провинции Шэньси разрозненные полуразбойные ватаги стали создавать повстанческие отряды и избирать вождей. С этого момента в северо-восточном Китае началась крестьянская война, которая продолжалась 19 лет. Регулярные войска попали в клещи между маньчжурскими войсками на севере и восставшими провинциями, в них усилилось брожение и дезертирство. Армия, лишённая денег и продовольствия, потерпела поражение от Ли Цзычэна. Предатели открыли ворота перед войсками Ли, и те беспрепятственно смогли войти внутрь столицы. В апреле 1644 года Пекин покорился восставшим; последний минский император Чунчжэнь наложил на себя руки, повесившись на дереве в императорском саду.
Ситуация перед началом маньчжурского вторжения
В сентябре 1643 года умер Абахай, и в Мукдене началась борьба за власть между различными группировками князей — родственников Нурхаци и Абахая. Одна из группировок предложил трон младшему брату Абахая — князю Доргоню, другая — племяннику Нурхаци князю Цзиргалану. Доргонь отказался от императорского титула и пошёл на компромисс: на трон был возведён сын Абахая Фулинь, а Доргонь и Цзиргалан стали равными по званию принцами-регентами. Будучи волевым и умным политиком, Доргонь к 1644 году сделался фактическим правителем Цинского государства, понизив соперника до звания «регент-помощник». Это позволило прекратить борьбу за власть и сохранить единство маньчжур.
Основной ударной силой маньчжур являлась восьмизнамённая армия, составленная из маньчжурских, монгольских и китайско-корейских частей (последние были укомплектованы жителями Ляодуна), численностью свыше 300 тысяч человек. В ходе гражданской войны в Китае на сторону маньчжур также перешли многие китайские армии: обиженные придворной камарильей честолюбивые полководцы, переходя на сторону маньчжуров, считали, что изменяли не родине, а вконец прогнившей династии, потерявшей Небесный мандат на правление. Процесс перехода китайских армий на маньчжурскую сторону начался ещё в 1620-х годах, полководцы переходили вместе с войсками и артиллерией.
В 1644 году Минскую империю с севера у Великой стены прикрывала Восточная армия У Саньгуя, в которой насчитывалось около 120 тысяч отборных солдат. После вступления повстанцев Ли Цзычэна в Пекин в её ряды влились солдаты и полководцы из разбитых повстанцами армий. Желая избежать кровопролития, повстанцы предложили У Саньгую признать власть новой династии Шунь. У Саньгуй наголову разгромил посланное из Пекина 20-тысячное войско Тан Туна и Бай Гуанэня, однако когда в середине мая 1644 года против него двинул основные силы сам Ли Цзычэн, У Саньгуй решился на союз с маньчжурами.
Первый этап маньчжурского завоевания
Маньчжурское завоевание северного Китая
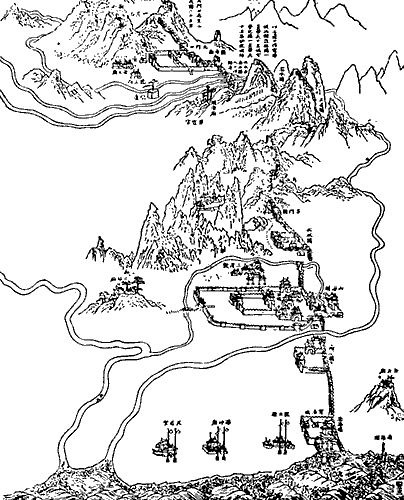 Доргонь поначалу воспринял предложение У Саньгуя как ловушку, и не торопился с ответом, однако обстоятельства толкали маньчжуров на союз: замена разложившейся династии Мин новой сильной властью могла положить конец маньчжурским набегам на северные провинции Китая. Поэтому, когда У Саньгуй лично прибыл в маньчжурскую ставку, было достигнуто соглашение: У Саньгуй принёс клятву верности малолетнему Фулиню, и маньчжурская армия двинулась на юг. К тому времени повстанческая армия уже разгромила выставленный У Саньгуем заслон, а её авангард окольным путём проник за Великую стену. Здесь, у прохода Ипяньши, маньчжуры нанесли ему поражение, и двинулись к Шаньхайгуаню, к которому с юга уже подходил Ли Цзычэн. Шаньхайгуаньская битва закончилась полным разгромом Ли Цзычэна.
Доргонь поначалу воспринял предложение У Саньгуя как ловушку, и не торопился с ответом, однако обстоятельства толкали маньчжуров на союз: замена разложившейся династии Мин новой сильной властью могла положить конец маньчжурским набегам на северные провинции Китая. Поэтому, когда У Саньгуй лично прибыл в маньчжурскую ставку, было достигнуто соглашение: У Саньгуй принёс клятву верности малолетнему Фулиню, и маньчжурская армия двинулась на юг. К тому времени повстанческая армия уже разгромила выставленный У Саньгуем заслон, а её авангард окольным путём проник за Великую стену. Здесь, у прохода Ипяньши, маньчжуры нанесли ему поражение, и двинулись к Шаньхайгуаню, к которому с юга уже подходил Ли Цзычэн. Шаньхайгуаньская битва закончилась полным разгромом Ли Цзычэна.
Разбитая повстанческая армия 3 июня без боя оставила Пекин, куда 6 июня вошли маньчжурские войска. Устроив пышную церемонию похорон повесившегося императора Чунчжэня, Доргонь провозгласил династию Цин его наследницей и мстительницей за последнего монарха династии Мин. Особым манифестом всем китайским чиновникам, перешедшим на сторону Цин, было обещано зачисление на службу, повышение в чине и возможность вести дела вместе с маньчжурами. Пекин был объявлен новой столицей Цин, 30 октября туда был привезён малолетний Фулинь.
Армия Ли Цзычэна, покинув Пекин, двинулась на юго-запад, чтобы соединиться со стоявшими гарнизонами в крупных городах частями. Их неотступно преследовали войска У Саньгуя и Шан Кэси, подкреплённые маньчжурской конницей князей Додо и Боло. Около Чжэндина состоялось большое сражение, длившееся два дня, в его ходе был ранен Ли Цзычэн; однако ни одна из сторон не одержала победы. Начав через некоторое время отход, повстанцы отправились к горам Тайханшань, и через перевал Гугуань вступила в провинцию Шаньси. Воспользовавшись отступлением повстанцев, на местах стали поднимать голову их враги — помещичьи дружины, сельские ополчения, силы деревенской самообороны; лидеры этих отрядов следовали примеру У Саньгуя и переходили на сторону маньчжуров.
В Шаньси армия Ли Цзычэна не получила поддержки со стороны уставшего от войны крестьянства, понесла значительные потери в боях; в ней начались раздоры. Часть командиров со своими частями отделились от главных сил, основная масса войск через перевал Тунгуань перешла в провинцию Шэньси и сделала своей базой Сиань, где повстанцы создали свои органы власти и резко увеличили численность войск. Тем временем войска У Саньгуя и маньчжурская конница малой кровью покорили всю провинцию Шаньси; точно так же были завоёваны южная часть столичной провинции и провинция Шаньдун.
После овладения Пекином началось массовое переселение в провинцию Чжили всех «знамённых», живших на равнине Ляохэ в Южной Маньчжурии. Началось запустение юга Ляодуна, центральные и северные районы Маньчжурии опустели ещё в результате походов Нурхаци и Абахая. Маньчжурия превратилась в пустынный край с более или менее обжитыми, но малолюдными центральными районами. В этих условиях часть северных тунгусских племён начала платить ясак уже не маньчжурским, а русским властям.
Разгром маньчжурами войск Ли Цзычэна
К осени 1644 года против армии Ли Цзычэна Доргонь направил три китайские армии, которыми командовали У Саньгуй, Шан Кэси и Кун Юдэ, а также «знамённые» войска князя Додо и князя Аджигэ. В марте 1645 года в горном проходе Тунгуань произошло грандиозное сражение, в котором была разбита повстанческая армия. С помощью пушек маньчжурам удалось взять и саму крепость Тунгуань, после чего они смогли пройти в Шэньси. Огромные потери и гибель многих вождей сделали для повстанцев невозможной оборону Сианя. Начались внутренние разногласия, часть военачальников дезертировала. Повстанческие войска смогли через хребет Циньлин выйти в долину реки Ханьшуй, переправиться на правый берег Янцзы и в мае 1645 года на короткое время заняли Учан. Под Учаном они столкнулись с войсками Южной Мин. Уклоняясь от битв, повстанческая армия отступила на юг провинции Хубэй в горы Цзюгуншань, где в июне 1645 года погиб Ли Цзычэн.
Окончательный разгром государств повстанцев
После победы у Тунгуаня и покорения Шэньси маньчжуро-китайские войска разделились. Армия У Саньгуя двинулась в долину реки Ханьшуй, но после переправы через Янцзы потерпела поражения от повстанческих войск, которыми командовал племянник Ли Цзычэна — Ли Го. Бросив пушки и прочее снаряжение, армия У Саньгуя отступила за Янцзы, и занялась распространением цинского влияния на севере провинции Хэбэй и юге провинции Хэнань.
Маньчжурская армия Додо направилась в северную часть провинции Хэнань, вступила в Лоян и Кайфэн, и соединилась со свежими «знамёнными» войсками, пришедшими из Шаньдуна. Эта группировка взяла штурмом крепость Гуйдэ, после чего одна колонна двинулась к реке Хуайхэ, а другая — к Великому каналу и овладела Сюйчжоу. Используя раздоры в минском лагере, маньчжуры форсировали Хуайхэ и вышли к Янцзы.
Когда руководство повстанческими войсками перешло к Ли Го, то его 200-тысячная армия оказалась в безвыходном положении: с севера ей угрожали маньжчуры, с юга — Южная Мин. В этих условиях, считая завоевателей главной опасностью, Ли Го в 1646 году сумел договориться с южноминскими властями о совместной борьбе против «северных варваров».
Тем временем в провинции Сычуань существовало ещё одно повстанческое государство — Да Си го («Великое Западное Государство»), которым правил Чжан Сяньчжун. Маньчжуры предлагали Чжан Сяньчжуну перейти на их сторону, но тот отказался, однако, потерпев поражение в боях с южноминскими войсками, был вынужден оставить свою столицу Чэнду. Зимой 1646 года на завоевание Сычуани Доргонь отправил большое маньчжурское войско во главе с сыном Абахая — Хаогэ. На севере Сычуани на сторону маньчжуров перешёл один из повстанческих военачальников — Ли Цзиньчжун. Маньчжуры сумели заманить противников в ловушку в горах Фэнхуан, и в ожесточённом сражении близ Сичуна в январе 1647 года повстанцы были разбиты, понеся огромные потери; сам Чжан Сяньчжун был убит. Часть повстанческих войск, сумев уйти на юг в Гуйчжоу, признали власть Южной Мин. Маньчжуры же без труда подчинили себе всю Сычуань, встретив сопротивление лишь под стенами Чунцина.
Ли Го, объединив свою 200-тысячную армию со 100-тысячной южноминской армией под командованием Хэ Тэнцзяо, находившейся в районе среднего течения Янцзы, реорганизовал свои силы зимой 1647 года в «Армию тринадцати соединений» под общим командованием Хэ Тэнцзяо. Хотя с падением Чунцина цинские войска вышли во фланг южноминской линии обороны, однако поражение У Саньгуя южнее Янцзы и стойкая оборона Армии тринадцати соединений резко затормозило продвижение западной маньчжурской группировки на юг; упорные бои здесь продолжались до лета 1648 года.
Второй этап маньчжурского завоевания
Форсирование Янцзы маньчжурами и пленение Фу-вана
 Когда Ли Цзычэн в 1644 году взял Пекин, в Нанкине развернулась борьба за власть между двумя группировками. Верх одержала клика придворных евнухов, провозгласившая Фу-вана новым императором династии Мин (в историю эта ветвь вошла как династия Южная Мин). Победившая клика евнухов попыталась договориться с Цинами и У Саньгуем о союзе против повстанцев, но это им не удалось. Считая Ли Цзычэна главной угрозой, в Нанкине маньчжурам не придавали серьёзного значения, и особой подготовки к войне не вели.
Когда Ли Цзычэн в 1644 году взял Пекин, в Нанкине развернулась борьба за власть между двумя группировками. Верх одержала клика придворных евнухов, провозгласившая Фу-вана новым императором династии Мин (в историю эта ветвь вошла как династия Южная Мин). Победившая клика евнухов попыталась договориться с Цинами и У Саньгуем о союзе против повстанцев, но это им не удалось. Считая Ли Цзычэна главной угрозой, в Нанкине маньчжурам не придавали серьёзного значения, и особой подготовки к войне не вели.
Между командующими четырьмя военными округами, которые прикрывали Южную Мин с севера, царила вражда. Командующий учанской группой войск Цзо Лянъюй в апреле 1645 года поднял мятеж и повёл своих солдат на Нанкин, однако неожиданно умер. Мятеж был разгромлен, а офицеры Цзо Лянъюя перебежали к маньчжурам. Командующий военным ведомством Ши Кэфа был отстранён от руководства, и назначен командующим четырьмя крепостями, прикрывавшими подступы к Нанкину с севера от Янцзы, а также небольшой группой войск между Хуайхэ и Янцзы. Из-за того, что войска Южной Мин были растянуты вдоль Янцзы на тысячу километров, группировка Ши Кэфа оказалась один на один с маньчжурской конницей князя Додо, которая вышла к Хуайхэ весной 1645 года. Потерпев поражения, войска Ши Кэфа отступили под защиту крепостных стен Янчжоу.
Маньчжуры предложили Ши Кэфа капитулировать, но тот отверг это предложение. Начался семидневный штурм города, стоивший жизни нескольким тысячам маньчжурских «знамённых» войск. Однако просьбы Ши Кэфа о помощи были проигнорированы, к нему на подмогу пришёл лишь Лю Чжаоцзи с небольшим отрядом, и маньчжуры в итоге овладели Янчжоу, после чего устроили кровавую резню, убив за десять дней 800 тысяч человек. Взятый в плен Ши Кэфа отказался служить династии Цин и был казнён, а город Янчжоу — разрушен до основания.
Фу-ван и его приближённые считали, что маньчжуры не смогут преодолеть Янцзы, и проводили время в пьяных оргиях. Когда в середине июня 1645 года армия Додо с помощью предателей-китайцев форсировала Янцзы и подошла к Нанкину, Фу-ван с придворными бежал, бросив столицу на произвол судьбы. 200-тысячный гарнизон, возглавляемый Ма Шиином, не захотел сражаться и отступил на юг. Чиновники открыли ворота и капитулировали, с радостью перейдя на службу завоевателям.
В июле маньчжурские войска подошли к Уху, куда бежал Фу-ван. При приближении врага он был арестован своими же военачальниками, поспешившими перейти в цинское подданство и сдать город. Фу-ван был отправлен в Пекин и там убит. На сторону завоевателей перешли практически все минские военачальники в этом районе вместе со своими войсками, сопротивление оказал лишь Хуан Дэгун, вскоре погибший в бою. Без сопротивления сдался Сучжоу.
Разгром Лу-вана
После пленения Фу-вана государем империи Мин был объявлен Лу-ван, находившийся в Ханчжоу. Маньчжурская конница разгромила и обратила в бегство войска Лу-вана, Ханчжоу капитулировал, Лу-ван и его свита на коленях встретили завоевателей перед открытыми воротами города. Неудачливый претендент на трон был увезён в Пекин и уморен голодом.
Восстания на покорённых территориях
Тем временем жестокость и насилия маньчжур вызвали восстания местных жителей, к которым присоединилась часть минских солдат. Восставшие во главе с шэньши Чэн Цзылуном попытались освободить Сучжоу и Ханчжоу, но были разгромлены. Стремясь сохранить жизни маньчжуров на территории, где проживало огромное количество китайцев, Додо активно использовал перешедшие на его сторону китайские войска, завоёвывая Китай руками китайцев. Его правой рукой стал Хун Чэнчоу, который был назначен наместником Цзяннани и стал карательными мерами приводить в жизнь изданный после взятия Нанкина указ Доргоня о бритье голов и повсеместном переходе на маньчжурскую причёску.
Бритьё голов вызвало бурный взрыв народного негодования. Восставшие жители Цзянъиня оборонялись более месяца; когда стены были проломлены огнём осадных орудий, ворвавшиеся в город войска в течение трёхдневной резни убили более 172 тысяч человек. Восставшие жители Цзядина удерживали город два месяца, а после того, как каратели вырезали 20 тысяч человек — восстали вновь.
Восстания в тылу армии князя Додо измотали войска и сбили темп их наступления. Кроме того, учёный и сановник Хуан Даочжоу совершил героический поход с 10-тысячным войском из провинции Фуцзянь в Цзянсу и Аньхой; хотя его войско и было разбито, а сам он — казнён, этот поход также вынудил маньчжур задержаться.
Завоевание Цзянси
Летом 1645 года цинские войска из провинции Цзяннань двинулись в Цзянси. Минский командующий войсками этой провинции Цзинь Шэнхуань, без боя сдавшийся маньчжурам, был оставлен в этой должности и помог им присоединить большую часть провинции к империи Цин. Не доверяя новому перебежчику, Доргонь назначил наместником Цзяннани Чжан Юйтяня, который занимал видные посты в Маньчжурии ещё до 1644 года, чем смертельно оскорбил Цзинь Шэнхуаня.
К весне 1646 года маньчжурам удалось подавить восстания в покорённой Цзяннани, подчинить Цзянси, получить подкрепления и усилить свои ряды за счёт войск китайских полководцев-изменников. В марте Доргонь назначил князя Боло главнокомандующим похода в Чжэцзян и Фуцзянь.
Завоевание провинций Чжэцзян и Фуцзянь
После гибели Лу-вана минские сановники и военные в провинциях Чжэцзян и Фуцзянь провозгласили временными правителями Минской империи двух претендентов на трон: в Шаосине (объявленном временной столицей) государем был посажен новый Лу-ван, а в Фучжоу — Тан-ван. Вместо того, чтобы объединить силы перед лицом врага, оба претендента ссорились, их окружение занималось интригами, причём многие заранее готовились переметнуться в стан завоевателей.
В 1646 году войска князя Боло двинулись на юг. Войска Лу-вана не смогли остановить цинскую армию, которая захватила Шаосин и другие города. Лу-ван с частью войск бежал на прибрежные острова, а большинство его военачальников признало себя подданными династии Цин.
В провинции Фуцзянь всеми делами заправлял всемогущий сановник Чжэн Чжилун. Перед броском маньчжуров в Фуцзянь Чжан Чжилун переметнулся во вражеский лагерь, но был увезён в Пекин, заключён в тюрьму и казнён. Обезглавив тем самым правительство Тан-вана, маньчжуры осенью разгромили его войска в ущелья Сяньсянгуань. Затем минские войска были разбиты в боях за крепость Тинчжоу; маньчжуры обезглавили более 10 тысяч человек, в том числе Тан-вана и его свиту. После этого они захватили ряд крепостей и без боя вошли в Фучжоу. К декабрю 1646 года армия Боло завоевала всю Фуцзянь.
Завоевание провинции Гуандун
В минском лагере вновь появилось два претендента на императорский трон: Чжу Юлан в Чжаоцине, и Чжу Юйао в Гуанчжоу. Вновь началась междоусобная борьба между двумя правительствами, доходящая до военных действий. Тем временем зимой 1646—1647 годов цинские власти бросили в наступление на Гуанжун китайские войска, перешедшие под власть маньчжуров в приморских провинциях, командовал ими бывший минский военачальник Ли Чэндун. В январе 1647 года цинские войска вошли в Гуанчжоу, где погиб Чжу Юйао, а затем перешли в наступление на Чжаоцин. Чжу Юлан (носивший титул «Гуй-ван») со своим окружением бежал в Гуйлинь. Надясь получить помощь из Европы в борьбе с маньчжурами, Гуй-ван, его семья, губернатор Гуанси и наместник Лянгуана приняли христианство и через миссионеров (см. Михал Бойм) просили помощи у римского папы[1]. Европейские купцы стали продавать минскому лагерю огнестрельное оружие, включая пушки; на службу в южноминскую армию пошли отряды европейских наёмников. Несмотря на то, что на стороне Южной Мин воевала Армия тринадцати соединений, успешно сдерживавшая западную группировку цинских войск в течение нескольких лет, Гуй-ван и его окружение со страхом и подозрением относились к бывшей крестьянской армии Ли Го.
Отступление Армии тринадцати соединений
До лета 1647 года Армии тринадцати соединений удавалось сдерживать на Янцзы натиск с севера, а Ян Тинлинь успешно действовал в Цзянси против армии перебежчика Цзинь Шэнхуаня. Однако летом наступил перелом: цинские войска разгромили части Ян Тинлиня, павшего в бою, и вышли к Чанша. Хэ Тэнцзяо не стал оборонять город и отступил на юг провинции Хунань. В результате угроза окружения, нависшая над войсками Ли Го, заставила его отходить на юг. Началось массированное наступление армий Кун Юдэ, Шан Кэси и Гэн Чжунмина, занявших всю Хунань. Одновременно из уже завоёванного Гуандуна в южные районы Гуанси вторглась цинская китайская армия Ли Чэндуна. Тем самым цинской стороне удалось загнать в одну провинцию все войска сопротивления (кроме остатков армии Чжан Сяньчжуна в Гуйчжоу и Юньнани) и взять их в клещи. Доргонь объявил большую награду за голову Гуй-вана, и цинские полководцы рвались к Гуйлиню, который обороняли войска минского губернатора провинции Цюй Шисы.
Однако в тылу у Ли Чэндуна началось восстание в Гуандуне, и ему пришлось спешно покинуть со своей армией театр боевых действий для защиты Гуанчжоу. Тем временем в декабре 1647 года в тяжёлых боях под Цюаньчжоу были разбиты и отброшены за пределы Гуанси цинские войска, наступавшие с севера.
Завершение второго этапа маньчжурского завоевания Китая
В 1647 году Доргонь, сместив Цзиргалана, стал единоличным правителем империи Цин. Из китайских войск, перешедших на сторону маньчжуров, были сформированы «войска зелёного знамени» (не входившие в структуру «восьмизнамённой армии»). В 1647 году был опубликован новый кодекс законов. Доргонь стал готовить последний удар по минским силам.
Однако в 1646—1647 году неожиданно для маньчжуров осложнилась обстановка в Монголии. Подавая нежелательный пример другим, из-под цинской власти вышло южное княжество Сунит во главе с Тэнгисом; непокорные монголы ушли в Халху под покровительство Цэцэн-хана Шолоя. В 1646 году туда были посланы войска под командованием князя Додо. Несмотря на первоначальный успех, в 1647 году Додо пришлось прервать свой поход и повернуть назад из-за нехватки сил для ведения затяжной войны в степях Халхи. Несмотря на сомнительный исход экспедиции Додо, Доргонь потребовал от ханов и князей Халхи присылки их сыновей или братьев в Пекин, где бы они жили в качестве заложников. Монголы отвергли это требование.
Покорение маньчжурами Южного Китая
Антиманьчжурские восстания
Цзинь Шэнхуань и Ли Чэндун считали себя обделёнными: после перехода на сторону династии Цин они не получили верховной власти в завоёванных ими провинциях, над ними были поставлены в качестве цинских наместников другие китайцы-предатели. В 1648 году оба полководца восстали против маньчжуров и перешли на сторону Южной Мин вместе со своими армиями и провинциями Цзянси и Гуандун. Воспользовавшись резким изменением обстановки, Хэ Тэнцзяо и Ли Го повели наступление на Хунань и освободили и эту провинцию. В Сычуани восстали три бывших минских военачальника — Ли Чжаньчунь, Тань Вэнь и Тан Хун с подчинёнными им частями «зелёного знамени»; в результате на сторону Южной Мин перешли южная и восточная части Сычуани. На территории провинций Юньнань и Гуйчжоу четыре полководца — приёмные сыновья Чжан Сяньчжуна — создали «Юго-Западное государство» во главе с Сунь Кэваном.
Крупное восстание произошло в провинции Шаньси, где повстанцы освободили более 50 уездов. В 1649 году на сторону восставших перешёл со своими войсками полководец Цзян Сян. Он разгромил сильную маньчжурскую армию, взял столицу провинции город Тайюань и создал угрозу Пекину. Отрядами повстанцев в 1648-49 годах была занята подавляющая часть провинции Шэньси (власть маньчжуров сохранилась лишь в столице провинции — городе Сиань), мусульмане провинции Ганьсу во главе с Дин Годуном и Ми Лаинем овладели районом к западу от Хуанхэ и столицей провинции городом Ланьчжоу. Под контролем династии Цин осталось лишь восемь провинций, находящихся на севере и востоке Китая, но и в них разгоралась партизанская борьба. В 1647—1648 годах минские войска с острова Наньао у побережья провинции Гуандун высадили крупный десант на материк. Однако повстанцев подвела разобщённость, каждый полководец и политик поступал по собственному усмотрению, на свой страх и риск, каждый заботился о своих личных целях.
В критический период в конце 1648 — начале 1649 года правительство Доргоня сумело принять действенные меры для удержания завоёванных китайских провинций в рамках государства Цин. Правительство отменило некоторые виды налогообложения, была разрешена свободная распашка пустующих земель, в правительственных указах обещались различные амнистии, льготы и послабления. Были приняты и репрессивные меры: в 1648 году под угрозой смертной казни и превращением семьи виновного в рабов частным лицам было запрещено иметь холодное и огнестрельное оружие (однако данный запрет применялся выборочно: вооружённое сельское ополчение чаще всего действовало на стороне цинской администрации, и потому репрессиям не подвергалось).
В 1648 и начале 1649 года участились случаи измены и перехода китайских военачальников — на этот раз на сторону Южной Мин. С целью обезопасить себя и укрепить прочность режима маньчжуры установили среди чиновников систему взаимной ответственности. Чтобы приостановить бегство китайских командующих, грозившее оставить цинскую армию без пехоты, маньчжуры оказывали китайским полководцам особые милости, присваивали и повышали титулы: Шан Кэси стал «князем — умиротворителем Юга», Кун Юдэ — «князем — усмирителем Юга», Гэн Чжунмин — «князем — успокоителем юга». У Саньгуй уже давно носил титул «князь — умиротворитель запада», поэтому ему был пожалован высший маньчжурский княжеский титул — циньван. Всем четырём князьям-полководцам посулили власть в провинциях, которые им предстояло завоевать.
Чтобы подкрепить «знамённые» войска, Доргонь всячески обхаживал князей Южной Монголии, давая льготы и обещания, договариваясь о заключении брачных союзов между монгольскими и маньчжурскими князьями. Нуждаясь в помощи европейцев, Доргонь не препятствовал их торговле и деятельности миссионеров, у европейских купцов усиленно закупались пушки.
Цинское контрнаступление
 Сосредоточив у Нанкина 120-тысячную армию, маньчжуры бросили её на покорение Цзянси. После трёхмесячной обороны сдался Наньчан, войска Цзинь Шэнхуаня были разбиты, после чего была захвачена вся провинция. Затем настала очередь Шэньси, куда бросили армию У Саньгуя и войска из соседних провинций, а также из-под Наньчана. Под давлением превосходящих цинских сил местные повстанцы сняли осаду Сиани, отступили и рассеялись; власти поспешили объявить беглецам амнистию. Было подавлено мусульманское восстание в Ганьсу и взяты все города провинции.
Сосредоточив у Нанкина 120-тысячную армию, маньчжуры бросили её на покорение Цзянси. После трёхмесячной обороны сдался Наньчан, войска Цзинь Шэнхуаня были разбиты, после чего была захвачена вся провинция. Затем настала очередь Шэньси, куда бросили армию У Саньгуя и войска из соседних провинций, а также из-под Наньчана. Под давлением превосходящих цинских сил местные повстанцы сняли осаду Сиани, отступили и рассеялись; власти поспешили объявить беглецам амнистию. Было подавлено мусульманское восстание в Ганьсу и взяты все города провинции.
Особую опасность для Пекина представляло восстание в Шаньси и армия Цзян Сяна, поэтому туда было двинуто отборное 100-тысячное войско во главе с самим Доргонем, с которым шли и другие опытные полководцы — Никань, Аджиге и Боло. Доргоню удалось окружить армию Цзян Сяна в Датуне. В октябре 1649 года крепость пала, после чего было ликвидировано сопротивление во всей провинции. Освободившиеся войска Доргонь двинул в Цзянси, и оттуда направил силы полководцев-изменников в южные провинции. Армии Шан Кэси и Гэн Чжунмина отправились в Гуандун, войска Кун Юдэ — в Гуанси.
В 1650 году свежие цинские части перешли в наступление в Хунани, южнее Чанша разбили Армию тринадцати соединений, и захватили Сянтань. При обороне этой крепости погибли основные силы Хэ Тэнцзяо, а сам он был казнён. Измотанные боями войска Ли Го отступили в Гуанси; противник вынудил их двинуться в Гуйчжоу, где Ли Го погиб, а командование принял его приёмный сын Ли Лайхэн, поведший своих солдат на соединение с другими войсками на стык провинций Хубэй и Сычуань.
После ухода войск Ли Го армия Кун Юдэ устремилась в Гуанси и осадила Гуйлинь, который обороняли немногочисленные войска губернатора Цюй Шисы. В конце 1650 года город пал и подвергся кровавой расправе.
Войска Шан Кэси и Гэн Чжунмина, разбив войска Ли Чэндуна, весной 1650 года осадили Гуанчжоу. Город оборонялся девять месяцев, но в ноябре пал; в результате трёхнедельной резни было убито более ста тысяч человек, Гуй-ван бежал в Гуйчжоу, отдавшись под покровительство Ли Динго и Сунь Кэвана.
Завершение третьего этапа маньчжурского завоевания Китая
В 1650 году внезапно умер Доргонь. После его смерти к власти вернулся Цзиргалань, и объявил покойного регента чуть ли не узурпатором престола. Крупные военные действия временно прекратились.
К этому времени на территории Китая оставалось три крупных очага сопротивления Цинам. На стыке провинций Хубэй, Хунань и Сычуань укрепились отряды Хао Яоци, в своё время отколовшиеся от Ли Го, а также присоединившиеся к ним в 1651 году части Ли Лайхэна. В провинции Сычуань главенствовали минские военачальники и местные повстанцы. Наиболее же боеспособной силой было Великое Западное государство. Для ликвидации двух первых очагов сопротивления в Пекине планировали бросить в Сычуань армию У Саньгуя, а Великое Западное государство — уничтожить силами Кун Юдэ и хунаньских военачальников.
На совещании сыновья Чжан Сяньчжуна, правившие Великим Западным государством, формально признали главенство Южной Мин, и приняли план контрнаступления одновременно по двум направлениям — на север и восток. В начале 1652 года северная армия двумя колоннами под командой Лю Вэньсю и Бай Вэньсюаня вошла в Сычуань, форсировала Янцзы и, поддержанная местными повстанцами, развернула успешное наступление, в то же время освободив всю провинцию Хунань. Одновременно в Гуанси двинулась 100-тысячная армия под руководством Ли Динго; в августе он разбил войска Кун Юдэ и овладел Гуйлинем, где Кун Юдэ повесился в горящем здании, не в силах пережить гибель своей армии. Затем Ли Динго двинулся в Цзянси и Хунань. Ему наперерез была брошена 100-тысячная «знамённая» армия под командованием князя Никаня (внука Нурхаци). Ли Динго устроил ему западню и разгромил его войска под Хэнчжоу, где был убит и сам Никань. К концу 1652 года Ли Динго освободил от маньчжурского господства Гуанси, Хунань и юго-запад Цзянси. В 1653 году Ли Динго совершил победоносный поход в Гуандун. Не имея достаточного количества войск, Ли Динго навязал врагу манёвренную войну, удерживая в своих руках стратегическую инициативу вплоть до конца 1655 года.
На юго-востоке Китая Чжэн Чэнгун (сын Чжэн Чжилуна), опираясь на большой флот и помощь местных повстанческих отрядов, в 1652 году занял почти весь юг провинции Фуцзянь. Его корабли полностью контролировали побережье, а в 1654 году поднялись вверх по Янцзы вплоть до Нанкина. Измотанные более чем десятилетней войной цинские войска не могли сломить патриотов, а те не имели возможности для массированного наступления. На ряд лет установилось стратегическое равновесие сил.
Китай в стадии разрухи
Северные проблемы маньчжуров
Пока на юге установилось затишье, маньчжуры занялись укреплением своих позиций на севере. Ханы восточной Халхи не хотели терять политической независимости, но были крайне заинтересованы в экономических связях с Китаем. Поэтому, несмотря на то, что они в течение ряда лет не шли на поклон к богдохану, в 1656 году, после жестокого ультиматума, грозившего прервать посылку посольств и караванов, четыре правителя Восточной Халхи дали маньчжурскому богдохану клятву о дружбе и союзе. При этом Тушэту-хан, Дзасакту-хан, Цэцэн-хан и ещё пять монгольских феодалов получили титулы правителей (джасак); одновременно с этим ханы Халхи в 1655—1656 годах согласились присылать своих сыновей или братьев в качестве заложников в Пекин.
После экспедиций В. Д. Пояркова (1643—1646) и Е. П. Хабарова (1649—1652) началось освоение долины Амура русскими. В 1651 году был основан острог Албазин, а в 1653 году — Нерчинск. В Пекине были крайне встревожены выходом русских в этот район. Особенное негодование маньчжуров вызвал добровольный переход под власть московского царя части эвенков и, особенно, дауров.
В 1654 г, цинское правительство переселило земледельцев-дючеров со среднего Амура в южную Маньчжурию, за пределы досягаемости русских сборщиков дани. Цинское правительство требовало от русских не только оставить уже обжитые ими земли, но и выдать вождей местных племён, принявших российское подданство. Напряжённость на севере приковала к себе часть «знамённых» сил, не давая возможности завершить покорение Южного и Юго-Западного Китая. Поскольку силы Цинской империи были предельно истощены, а «знамённые» войска крайне поредели, в Пекине стали готовиться к худшему. С 1658 года в Мукдене постепенно стал восстанавливаться (хотя и в свёрнутом виде) дублирующий госаппарат на случай нового всекитайского восстания, неудачи покорения Китая и возвращения маньчжурского императора в свою прежнюю «священную столицу».
Окончательное завоевание Южного Китая
Для организации второго контрнаступления маньчжурское правительство перебросило в район боевых действий «знамённые» войска во главе с князьями Дони, Тучи и Лоло, а также монгольскую конницу и китайские части «зелёного знамени». У европейцев закупались пушки и мушкеты. Так как край был уже разорён войной, войска щедро снабжались оружием и продовольствием. Патриотам и повстанцам была обещана амнистия. Для координации действий, наместником пяти провинций (включая отпавшую Гуанси и ещё не завоёванные Юньнань и Гуйчжоу) был назначен возвращённый из опалы Хун Чэнчоу.
Бросив в конце 1654 — начале 1655 годов в бой огромные воинские силы, маньчжуры осуществили перелом и перешли в контрнаступление. Ли Динго был вынужден оставить Гуандун и отступить через Гуанси в Гуйчжоу. Цинские войска разбили армию Сунь Кэвана, вытеснили патриотов из Хунани и заняли Гуанси. Ещё ранее в Сычуани У Саньгуй одержал победу над Лю Вэньсю и заставил его отступить в Гуйчжоу. Были разгромлены также отряды Хао Яоци. Все эти неудачи резко обострили в 1655—1656 годах вражду между Сунь Кэваном и Ли Динго. В 1657 году войска Сунь Кэвана взбунтовались и перешли на сторону Ли Динго, который вместе с Гуй-ваном укрепился в Юньнани. Утратив власть, Сунь Кэван бежал в стан маньчжуров, пожаловавших ему за измену княжеский титул.
В 1658 году войска Хун Чэнчоу, У Саньгуя и трёх маньчжурских князей, наступая с трёх сторон — из Гуанси, Хунани и Сычуани, заняли провинцию Гуйчжоу. В 1659 году превосходящие силы маньчжуров вторглись в Юньнань. Гуй-ван с приближёнными бежал в Бирму, а Ли Динго пытался удержать последний плацдарм китайской территории в глухих юго-западных районах Юньнани.
В 1659 году флот Чжэн Чэнгуна вторично вошёл в Янцзы и приблизился к Нанкину. Его солдаты заняли Чжэньцзян, а действовавшие в союзе с ним войска Чжан Хуанъяня развернули наступление в провинции Аньхой. В Пекине это вызвало панику, ибо успех патриотических сил грозил отрезать от Цинской империи южные провинции. Крупные цинские силы вынудили Чжэн Чэнгуна оставить Янцзы и нанесли поражение войскам Чжан Хуанъяня. В погоню за Чжэном был послан флот, вдвое по численности превосходивший его эскадру, однако он был разбит в морском сражении у Сямэня в 1660 году. Тем не менее, под давлением противника Чжэн Чэнгун был вынужден перебазироваться на Тайвань, где создал себе прочный тыл.
Под натиском превосходящих сил противника Ли Динго двинул свои поредевшие отряды в Бирму, надеясь выручить арестованного там Гуй-вана. На захват последнего правителя династии Мин послал свои войска и У Саньгуй. Добившись от короля Бирмы выдачи беглеца, он казнил его в Куньмине в 1662 году, в этом же году умер от болезни Ли Динго. Многие из сподвижников Ли Динго, не желая жить под пятой завоевателей, остались в Бирме.
После разгрома Южной Мин цинским властям пришлось ещё несколько лет бороться с повстанцами внутри страны. Лишь к 1664 году в стране установилась тишина.
Монгольские дела
В начале 1660-х годов власть в Пекине перешла в руки князя Обоя, который создал при дворе сильную клику и самовластно правил империей Цин восемь лет (1661—1669). С завершением военных действий в Китае правительство Обоя, воспользовавшись начатой в Халхе междоусобицей из-за наследства умершего Дзасакту-хана Норбо, активизировало цинскую политику в Монголии. В 1664 году Пекин нарушил единство монгольской территории: пустыня Гоби была объявлена границей между Внутренней Монголией и Халхой. Самовольный переход через неё был запрещён, вдоль границы расположились цинские войска.
В 1669 году молодой император Сюанье и его дядя князь Сонготу свергли Обоя и разогнали его клику. В результате вмешательства Пекина в борьбу за наследство Дзасакту-хана в союз с Цинской империей вступил глава ойратского Хошоутского аймака Даши-Батур (сын и преемник Гуши-хана). Он позволил маньчжурам в 1673 году ввести войска на свою территорию, превратив Кукунор в цинский плацдарм для дальнейшей экспансии.
«Морской запрет»
Для борьбы с патриотами, укрепившимися на островах у берегов южных и восточных провинций, в 1656 году был издан императорский указ о строгих «морских запретах», распространявшихся на всё побережье от Гуандуна до столичной провинции. Чтобы прервать связь населения материка с «пиратами» на островах, категорически запрещался самовольный выход в море любых торговых судов; нарушители подвергались аресту и казни с конфискацией товара и домашнего имущества. В 1657 году цинские войска опустошили острова Чжоушань; их население было частично вырезано, частично вывезено на материк.
С 1661 года началось массовое переселение прибрежных жителей в глубь провинций. Всё прибрежное население провинций Цзянсу, Чжэцзян, Фуцзянь и Гуандун было насильно согнано со своих мест и перемещено вглубь на 15-20 км от моря; на этом расстоянии проводилась «граница», охраняемая днём и ночью, вдоль которой создавались пограничные заграждения, и выход за которую карался смертью. В безлюдной полосе между «границей» и морем были сожжены жилища, вытоптаны поля, образована «мёртвая зона», в которой остались лишь города, имевшие крепостные стены и гарнизоны. Несмотря на тайные нарушения и обходы запрета за взятки, этот жёсткий режим поддерживался с 1661 по 1683 годы.
Государство Чжэнов
 После того, как в 1645 году маньчжуры увезли в Пекин и казнили Чжэн Чжилуна, фактическим хозяином провинции Фуцзянь стал его сын Чжэн Чэнгун. В 1640-1650-х годах его войска и флот с переменным успехом вели борьбу против захватчиков в южной части Фуцзяни, однако к началу 1660-х годов стратегическая обстановка резко изменилась. Все крупные очаги сопротивления и более или менее значительные воинские силы патриотов, сражавшихся под знамёнами династии Мин, были уничтожены завоевателями и их пособниками. Тем самым высвобождались крупные цинские войска. Их многократное численное превосходство на материке обрекало Чжэн Чэнгуна на неминуемый разгром, и ему оставалось только одно — перебазироваться на остров Тайвань, выбив оттуда голландские колониальные войска.
После того, как в 1645 году маньчжуры увезли в Пекин и казнили Чжэн Чжилуна, фактическим хозяином провинции Фуцзянь стал его сын Чжэн Чэнгун. В 1640-1650-х годах его войска и флот с переменным успехом вели борьбу против захватчиков в южной части Фуцзяни, однако к началу 1660-х годов стратегическая обстановка резко изменилась. Все крупные очаги сопротивления и более или менее значительные воинские силы патриотов, сражавшихся под знамёнами династии Мин, были уничтожены завоевателями и их пособниками. Тем самым высвобождались крупные цинские войска. Их многократное численное превосходство на материке обрекало Чжэн Чэнгуна на неминуемый разгром, и ему оставалось только одно — перебазироваться на остров Тайвань, выбив оттуда голландские колониальные войска.
В мае 1661 года флот Чжэн Чэнгуна высадил на Тайване десант численностью 25 тысяч человек. Частично потопив, а частично отогнав корабли голландцев, и взяв без боя крепость Провидение, китайцы осадили крепость Зеландия, которая капитулировала в феврале 1662 года во главе с губернатором Формозы. На Тайване и островах Сямэнь и Цзиньмэнь образовалось антицинское государство Дуннин, формально выступающее под флагом династии Мин, но фактически управляемое семьёй Чжэн.
В том же 1662 году Чжэн Чэнгун умер, и в борьбе за власть победил его старший сын Чжэн Цзин. Цинские войска и флотилия, под предводительством Ши Лана, совместно с голландским флотом к концу 1663 года овладели Сямэнем и Цзиньмэнем, разрушили и сожгли там все сооружения, а затем отразили нападение крупного десанта Чжэн Цзина. После этого военные действия надолго прекратились.
Образование вассальных государств в Южном Китае
После падения Куньмина и ухода войск Ли Динго в Бирму в 1661 году цинское правительство, желая избежать новой вспышки сопротивления и новой военной кампании, выполнило своё старое обещание о передаче завоёванных армиями «четырёх князей» провинций в личное владение этих полководцев. Так произошёл территориальный раздел Китая к югу от реки Янцзы:
- провинции Чжэцзян, Цзянси и Хунань, а также юг Цзянсу, часть Гуйчжоу и ряд областей Гуанси отошли к маньчжурам, став непосредственной частью империи Цин;
- провинцию Фуцзянь получил в качестве «даннического княжества» Гэн Цзимао (сын умершего в 1651 году Гэн Чжунмина, ставший после смерти отца главнокомандующим его армией); после смерти Гэн Цзимао в 1671 году оно перешло к его сыну Гэн Цзинчжуну;
- провинция Гуандун и прилегающие области Гуанси перешли во владение Шан Кэси;
- провинция Юньнань и соседние с ней области Гуйчжоу получил У Саньгуй.
На трёх новых правителей возлагалась миссия политического умиротворения и хозяйственного восстановления этих разорённых многолетней войной провинций. «Князья-данники» должны были выполнять приказы из Пекина. Так как кроме княжеских титулов они получили ещё и должности цинских наместников провинций, то князья оказались в двойственном положении: они сами делали упор на свой владетельский статус правителей, а маньчжурские властители наоборот на первый план выдвигали их должностные обязанности цинских сановников.
У Саньгуй имел не только высший титул, самое крупное княжество и самую боеспособную армию; посредством верных лично ему военачальников-китайцев он также контролировал Гуанси, Шэньси и Ганьсу и имел сильные позиции в Сычуани.
Война «трёх князей-данников»
 Правительству Сонготу для завершения завоевания Китая надо было ликвидировать три «даннических княжества» на Юге. К 1673 году как империя, так и княжества привели свои территории в относительный порядок, а войска — в боевую готовность. У У Саньгуя было 80 тысяч солдат, у Гэн Цзинчжуна — 150 тысяч солдат и сильный флот. К счастью для маньчжуров, 70-летний Шан Кэси был немощен, прикован болезнью к постели, и удерживал своего сына Шан Чжисина и армию от столкновения с Пекином.
Правительству Сонготу для завершения завоевания Китая надо было ликвидировать три «даннических княжества» на Юге. К 1673 году как империя, так и княжества привели свои территории в относительный порядок, а войска — в боевую готовность. У У Саньгуя было 80 тысяч солдат, у Гэн Цзинчжуна — 150 тысяч солдат и сильный флот. К счастью для маньчжуров, 70-летний Шан Кэси был немощен, прикован болезнью к постели, и удерживал своего сына Шан Чжисина и армию от столкновения с Пекином.
Весной 1673 года молодой император в ультимативной форме предложил «князьям-данникам» сложить с себя власть. Чувствуя свою силу и надеясь на отказ, князья подали просьбы об отставке, однако в сентябре она была принята. Император издал указ о роспуске княжеских армий; самим правителям было предложено явиться в Пекин, их решили поселить в Маньчжурии (что, фактически, означало ссылку). В ответ на это в декабре 1673 года У Саньгуй поднял мятеж и двинул свою армию в Гуйчжоу и Гуанси. Восстание поддержали высшие чины Юньнани и Гуйчжоу, а также провинция Сычуань. Сторонники У Саньгуя просили его выступить в поход на Пекин, но 60-летний князь отказался от этого плана, и решил создать своё государство в Юго-Западном Китае. За первые десять месяцев похода на северо-восток У Саньгуй стал властелином пяти провинций.
В 1674 году против завоевателей выступил второй князь — Гэн Цзинчжун. Его войска из Фуцзяни повели наступление на Чжэцзян. Встретив там стойкую оборону, Гэн перебросил свою армию в Цзянси, нанеся удар в тыл цинским войскам, противостоявшим У Саньгую. Однако цинская армия во главе с дядей императора разгромила войска Гэна, а в 1675 году фуцзяньский флот потерпел поражение от Чжэн Цзина, с которым Гэн Цзинчжун вступил в войну ещё в начале 1660-х по приказу из Пекина.
У Саньгуй настоял на примирении и союзе Гэна и Чжэна, пообещав последнему две, а потом три области в Фуцзяни. С высадкой войск Чжэн Цзина на побережье в войну включилась ещё одна китайская армия, на сторону которой стали один за другим переходить города, гарнизоны и области. Прикованный к постели Шан Кэси не присоединился к борьбе против Цинов и держал нейтралитет.
Цинская империя оказалась в критической ситуации, так как из 15 тогдашних провинций от неё отпало шесть, а в Монголии против империи выступил потомок династии Юань чахарский князь Буринай (Сачар), стремившийся восстановить в Пекине монгольскую династию. Со своей 100-тысячной конницей он в 1675 году угрожал столичной провинции, отвлекая на северо-запад значительные силы «знамённых» войск. Маньчжурский лагерь оказался в крайне тяжёлом положении и перешёл к обороне.
После смерти Шан Кэси в 1676 году его сын и наследник Шан Чжисинь откликнулся на призыв У Саньгуя. Однако союз четырёх китайских государств продержался всего несколько месяцев. Стабилизировав положение на фронте против У Саньгуя, маньчжурские силы перешли в контрнаступление в приморских провинциях. Уже в 1676 году сильная цинская армия вторглась в Фуцзянь и одержала победу над войсками Гэн Цзинчжуна, который капитулировал и смиренно отправился в Пекин. Получив прощение, и сохранив своё княжество и армию, он двинул свои войска вместе с цинскими против Чжэн Цзина, заставив его отойти на острова ЦЗиньмэнь и Сямэнь. Цинские войска двинулись из Фуцзяни в Гуандун и в 1677 году заняли Гуанчжоу. Шан Чжисинь капитулировал, явился с повинной и был прощён. Он сохранил титул, руководил обороной побережья, но был лишён реальной власти.
В марте 1678 году У Саньгуй объявил в Хэнчжоу о создании империи Чжоу, провозгласив себя императором с династийным именем Чжоу-ди. Через полгода после коронации он скончался, и трон занял его внук У Шифань. Флот Чжэн Цзина осуществил вторую высадку крупных воинских соединений на побережье Фуцзяни. Вместе с Лю Госюанем он начал успешное наступление против цинских войск. Это подтолкнуло Гэн Цзинчжуна вновь выступить против маньчжуров, что окончилось неудачей и пленением князя.
Ценой огромных усилий цинским военачальникам удалось добиться стратегического перелома. В 1680 году они подавили восстание китайских войск в Шэньси, которым руководил Ян Цилун. После ряда неудач войска Чжэн Цзина и Лю Госюаня отошли на острова у побережья, где были разбиты в двух морских сражениях, и эвакуировались на Тайвань. Под напором «знамённых» войск силы У Шифаня отступили в Гуйчжоу, а затем в Юньнань. В 1681 году цинские войска овладели Куньмином. Империя Чжоу рухнула, У Шифань покончил с собой, а в следующем году был казнён Гэн Цзинчжун. Южные и юго-западные районы провинции Китая были присоединены к Цинской империи.
Завершение и последствия маньчжурского завоевания Китая
 По окончании войны «саньфань» незавоёванным оставался последний обломок империи Мин — государство Чжэнов на Тайване. Там в 1681 году скончался Чжэн Цзин. В начавшейся грызне за власть между придворными кликами был свергнут и задушен его наследник, а правителем был объявлен другой малолетний сын Чжэна. Летом 1683 года огромный флот и экспедиционный корпус Цинов встретили ожесточённое сопротивление гарнизона и флота Чжэнов на островах Пэнху, где в семидневном кровопролитном сражении полегло 12 тысяч защитников архипелага, однако после этого на Тайване чиновники и войска капитулировали, были прощены и вывезены на материк.
По окончании войны «саньфань» незавоёванным оставался последний обломок империи Мин — государство Чжэнов на Тайване. Там в 1681 году скончался Чжэн Цзин. В начавшейся грызне за власть между придворными кликами был свергнут и задушен его наследник, а правителем был объявлен другой малолетний сын Чжэна. Летом 1683 года огромный флот и экспедиционный корпус Цинов встретили ожесточённое сопротивление гарнизона и флота Чжэнов на островах Пэнху, где в семидневном кровопролитном сражении полегло 12 тысяч защитников архипелага, однако после этого на Тайване чиновники и войска капитулировали, были прощены и вывезены на материк.
Многие патриоты не смирились с поражением: огромный флот Хуан Циня отплыл на юг, где беженцы из Китая обосновались на побережье Камбоджи и основали город Хатьен.
Источники
- О. Е. Непомнин «История Китая: Эпоха Цин. XVII — начало XX века» — Москва: «Восточная литература», 2005. ISBN 5-02-018400-4
Напишите отзыв о статье "Маньчжурское завоевание Китая"
Примечания
- ↑ [books.google.com.au/books?lr=&id=067On0JgItAC&pg=PA20 «Michał Piotr Boym»]
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отрывок, характеризующий Маньчжурское завоевание Китая
– Дома? – спросил Пьер.– По обстоятельствам нынешним, Софья Даниловна с детьми уехали в торжковскую деревню, ваше сиятельство.
– Я все таки войду, мне надо книги разобрать, – сказал Пьер.
– Пожалуйте, милости просим, братец покойника, – царство небесное! – Макар Алексеевич остались, да, как изволите знать, они в слабости, – сказал старый слуга.
Макар Алексеевич был, как знал Пьер, полусумасшедший, пивший запоем брат Иосифа Алексеевича.
– Да, да, знаю. Пойдем, пойдем… – сказал Пьер и вошел в дом. Высокий плешивый старый человек в халате, с красным носом, в калошах на босу ногу, стоял в передней; увидав Пьера, он сердито пробормотал что то и ушел в коридор.
– Большого ума были, а теперь, как изволите видеть, ослабели, – сказал Герасим. – В кабинет угодно? – Пьер кивнул головой. – Кабинет как был запечатан, так и остался. Софья Даниловна приказывали, ежели от вас придут, то отпустить книги.
Пьер вошел в тот самый мрачный кабинет, в который он еще при жизни благодетеля входил с таким трепетом. Кабинет этот, теперь запыленный и нетронутый со времени кончины Иосифа Алексеевича, был еще мрачнее.
Герасим открыл один ставень и на цыпочках вышел из комнаты. Пьер обошел кабинет, подошел к шкафу, в котором лежали рукописи, и достал одну из важнейших когда то святынь ордена. Это были подлинные шотландские акты с примечаниями и объяснениями благодетеля. Он сел за письменный запыленный стол и положил перед собой рукописи, раскрывал, закрывал их и, наконец, отодвинув их от себя, облокотившись головой на руки, задумался.
Несколько раз Герасим осторожно заглядывал в кабинет и видел, что Пьер сидел в том же положении. Прошло более двух часов. Герасим позволил себе пошуметь в дверях, чтоб обратить на себя внимание Пьера. Пьер не слышал его.
– Извозчика отпустить прикажете?
– Ах, да, – очнувшись, сказал Пьер, поспешно вставая. – Послушай, – сказал он, взяв Герасима за пуговицу сюртука и сверху вниз блестящими, влажными восторженными глазами глядя на старичка. – Послушай, ты знаешь, что завтра будет сражение?..
– Сказывали, – отвечал Герасим.
– Я прошу тебя никому не говорить, кто я. И сделай, что я скажу…
– Слушаюсь, – сказал Герасим. – Кушать прикажете?
– Нет, но мне другое нужно. Мне нужно крестьянское платье и пистолет, – сказал Пьер, неожиданно покраснев.
– Слушаю с, – подумав, сказал Герасим.
Весь остаток этого дня Пьер провел один в кабинете благодетеля, беспокойно шагая из одного угла в другой, как слышал Герасим, и что то сам с собой разговаривая, и ночевал на приготовленной ему тут же постели.
Герасим с привычкой слуги, видавшего много странных вещей на своем веку, принял переселение Пьера без удивления и, казалось, был доволен тем, что ему было кому услуживать. Он в тот же вечер, не спрашивая даже и самого себя, для чего это было нужно, достал Пьеру кафтан и шапку и обещал на другой день приобрести требуемый пистолет. Макар Алексеевич в этот вечер два раза, шлепая своими калошами, подходил к двери и останавливался, заискивающе глядя на Пьера. Но как только Пьер оборачивался к нему, он стыдливо и сердито запахивал свой халат и поспешно удалялся. В то время как Пьер в кучерском кафтане, приобретенном и выпаренном для него Герасимом, ходил с ним покупать пистолет у Сухаревой башни, он встретил Ростовых.
1 го сентября в ночь отдан приказ Кутузова об отступлении русских войск через Москву на Рязанскую дорогу.
Первые войска двинулись в ночь. Войска, шедшие ночью, не торопились и двигались медленно и степенно; но на рассвете двигавшиеся войска, подходя к Дорогомиловскому мосту, увидали впереди себя, на другой стороне, теснящиеся, спешащие по мосту и на той стороне поднимающиеся и запружающие улицы и переулки, и позади себя – напирающие, бесконечные массы войск. И беспричинная поспешность и тревога овладели войсками. Все бросилось вперед к мосту, на мост, в броды и в лодки. Кутузов велел обвезти себя задними улицами на ту сторону Москвы.
К десяти часам утра 2 го сентября в Дорогомиловском предместье оставались на просторе одни войска ариергарда. Армия была уже на той стороне Москвы и за Москвою.
В это же время, в десять часов утра 2 го сентября, Наполеон стоял между своими войсками на Поклонной горе и смотрел на открывавшееся перед ним зрелище. Начиная с 26 го августа и по 2 е сентября, от Бородинского сражения и до вступления неприятеля в Москву, во все дни этой тревожной, этой памятной недели стояла та необычайная, всегда удивляющая людей осенняя погода, когда низкое солнце греет жарче, чем весной, когда все блестит в редком, чистом воздухе так, что глаза режет, когда грудь крепнет и свежеет, вдыхая осенний пахучий воздух, когда ночи даже бывают теплые и когда в темных теплых ночах этих с неба беспрестанно, пугая и радуя, сыплются золотые звезды.
2 го сентября в десять часов утра была такая погода. Блеск утра был волшебный. Москва с Поклонной горы расстилалась просторно с своей рекой, своими садами и церквами и, казалось, жила своей жизнью, трепеща, как звезды, своими куполами в лучах солнца.
При виде странного города с невиданными формами необыкновенной архитектуры Наполеон испытывал то несколько завистливое и беспокойное любопытство, которое испытывают люди при виде форм не знающей о них, чуждой жизни. Очевидно, город этот жил всеми силами своей жизни. По тем неопределимым признакам, по которым на дальнем расстоянии безошибочно узнается живое тело от мертвого. Наполеон с Поклонной горы видел трепетание жизни в городе и чувствовал как бы дыханио этого большого и красивого тела.
– Cette ville asiatique aux innombrables eglises, Moscou la sainte. La voila donc enfin, cette fameuse ville! Il etait temps, [Этот азиатский город с бесчисленными церквами, Москва, святая их Москва! Вот он, наконец, этот знаменитый город! Пора!] – сказал Наполеон и, слезши с лошади, велел разложить перед собою план этой Moscou и подозвал переводчика Lelorgne d'Ideville. «Une ville occupee par l'ennemi ressemble a une fille qui a perdu son honneur, [Город, занятый неприятелем, подобен девушке, потерявшей невинность.] – думал он (как он и говорил это Тучкову в Смоленске). И с этой точки зрения он смотрел на лежавшую перед ним, невиданную еще им восточную красавицу. Ему странно было самому, что, наконец, свершилось его давнишнее, казавшееся ему невозможным, желание. В ясном утреннем свете он смотрел то на город, то на план, проверяя подробности этого города, и уверенность обладания волновала и ужасала его.
«Но разве могло быть иначе? – подумал он. – Вот она, эта столица, у моих ног, ожидая судьбы своей. Где теперь Александр и что думает он? Странный, красивый, величественный город! И странная и величественная эта минута! В каком свете представляюсь я им! – думал он о своих войсках. – Вот она, награда для всех этих маловерных, – думал он, оглядываясь на приближенных и на подходившие и строившиеся войска. – Одно мое слово, одно движение моей руки, и погибла эта древняя столица des Czars. Mais ma clemence est toujours prompte a descendre sur les vaincus. [царей. Но мое милосердие всегда готово низойти к побежденным.] Я должен быть великодушен и истинно велик. Но нет, это не правда, что я в Москве, – вдруг приходило ему в голову. – Однако вот она лежит у моих ног, играя и дрожа золотыми куполами и крестами в лучах солнца. Но я пощажу ее. На древних памятниках варварства и деспотизма я напишу великие слова справедливости и милосердия… Александр больнее всего поймет именно это, я знаю его. (Наполеону казалось, что главное значение того, что совершалось, заключалось в личной борьбе его с Александром.) С высот Кремля, – да, это Кремль, да, – я дам им законы справедливости, я покажу им значение истинной цивилизации, я заставлю поколения бояр с любовью поминать имя своего завоевателя. Я скажу депутации, что я не хотел и не хочу войны; что я вел войну только с ложной политикой их двора, что я люблю и уважаю Александра и что приму условия мира в Москве, достойные меня и моих народов. Я не хочу воспользоваться счастьем войны для унижения уважаемого государя. Бояре – скажу я им: я не хочу войны, а хочу мира и благоденствия всех моих подданных. Впрочем, я знаю, что присутствие их воодушевит меня, и я скажу им, как я всегда говорю: ясно, торжественно и велико. Но неужели это правда, что я в Москве? Да, вот она!»
– Qu'on m'amene les boyards, [Приведите бояр.] – обратился он к свите. Генерал с блестящей свитой тотчас же поскакал за боярами.
Прошло два часа. Наполеон позавтракал и опять стоял на том же месте на Поклонной горе, ожидая депутацию. Речь его к боярам уже ясно сложилась в его воображении. Речь эта была исполнена достоинства и того величия, которое понимал Наполеон.
Тот тон великодушия, в котором намерен был действовать в Москве Наполеон, увлек его самого. Он в воображении своем назначал дни reunion dans le palais des Czars [собраний во дворце царей.], где должны были сходиться русские вельможи с вельможами французского императора. Он назначал мысленно губернатора, такого, который бы сумел привлечь к себе население. Узнав о том, что в Москве много богоугодных заведений, он в воображении своем решал, что все эти заведения будут осыпаны его милостями. Он думал, что как в Африке надо было сидеть в бурнусе в мечети, так в Москве надо было быть милостивым, как цари. И, чтобы окончательно тронуть сердца русских, он, как и каждый француз, не могущий себе вообразить ничего чувствительного без упоминания о ma chere, ma tendre, ma pauvre mere, [моей милой, нежной, бедной матери ,] он решил, что на всех этих заведениях он велит написать большими буквами: Etablissement dedie a ma chere Mere. Нет, просто: Maison de ma Mere, [Учреждение, посвященное моей милой матери… Дом моей матери.] – решил он сам с собою. «Но неужели я в Москве? Да, вот она передо мной. Но что же так долго не является депутация города?» – думал он.
Между тем в задах свиты императора происходило шепотом взволнованное совещание между его генералами и маршалами. Посланные за депутацией вернулись с известием, что Москва пуста, что все уехали и ушли из нее. Лица совещавшихся были бледны и взволнованны. Не то, что Москва была оставлена жителями (как ни важно казалось это событие), пугало их, но их пугало то, каким образом объявить о том императору, каким образом, не ставя его величество в то страшное, называемое французами ridicule [смешным] положение, объявить ему, что он напрасно ждал бояр так долго, что есть толпы пьяных, но никого больше. Одни говорили, что надо было во что бы то ни стало собрать хоть какую нибудь депутацию, другие оспаривали это мнение и утверждали, что надо, осторожно и умно приготовив императора, объявить ему правду.
– Il faudra le lui dire tout de meme… – говорили господа свиты. – Mais, messieurs… [Однако же надо сказать ему… Но, господа…] – Положение было тем тяжеле, что император, обдумывая свои планы великодушия, терпеливо ходил взад и вперед перед планом, посматривая изредка из под руки по дороге в Москву и весело и гордо улыбаясь.
– Mais c'est impossible… [Но неловко… Невозможно…] – пожимая плечами, говорили господа свиты, не решаясь выговорить подразумеваемое страшное слово: le ridicule…
Между тем император, уставши от тщетного ожидания и своим актерским чутьем чувствуя, что величественная минута, продолжаясь слишком долго, начинает терять свою величественность, подал рукою знак. Раздался одинокий выстрел сигнальной пушки, и войска, с разных сторон обложившие Москву, двинулись в Москву, в Тверскую, Калужскую и Дорогомиловскую заставы. Быстрее и быстрее, перегоняя одни других, беглым шагом и рысью, двигались войска, скрываясь в поднимаемых ими облаках пыли и оглашая воздух сливающимися гулами криков.
Увлеченный движением войск, Наполеон доехал с войсками до Дорогомиловской заставы, но там опять остановился и, слезши с лошади, долго ходил у Камер коллежского вала, ожидая депутации.
Москва между тем была пуста. В ней были еще люди, в ней оставалась еще пятидесятая часть всех бывших прежде жителей, но она была пуста. Она была пуста, как пуст бывает домирающий обезматочивший улей.
В обезматочившем улье уже нет жизни, но на поверхностный взгляд он кажется таким же живым, как и другие.
Так же весело в жарких лучах полуденного солнца вьются пчелы вокруг обезматочившего улья, как и вокруг других живых ульев; так же издалека пахнет от него медом, так же влетают и вылетают из него пчелы. Но стоит приглядеться к нему, чтобы понять, что в улье этом уже нет жизни. Не так, как в живых ульях, летают пчелы, не тот запах, не тот звук поражают пчеловода. На стук пчеловода в стенку больного улья вместо прежнего, мгновенного, дружного ответа, шипенья десятков тысяч пчел, грозно поджимающих зад и быстрым боем крыльев производящих этот воздушный жизненный звук, – ему отвечают разрозненные жужжания, гулко раздающиеся в разных местах пустого улья. Из летка не пахнет, как прежде, спиртовым, душистым запахом меда и яда, не несет оттуда теплом полноты, а с запахом меда сливается запах пустоты и гнили. У летка нет больше готовящихся на погибель для защиты, поднявших кверху зады, трубящих тревогу стражей. Нет больше того ровного и тихого звука, трепетанья труда, подобного звуку кипенья, а слышится нескладный, разрозненный шум беспорядка. В улей и из улья робко и увертливо влетают и вылетают черные продолговатые, смазанные медом пчелы грабительницы; они не жалят, а ускользают от опасности. Прежде только с ношами влетали, а вылетали пустые пчелы, теперь вылетают с ношами. Пчеловод открывает нижнюю колодезню и вглядывается в нижнюю часть улья. Вместо прежде висевших до уза (нижнего дна) черных, усмиренных трудом плетей сочных пчел, держащих за ноги друг друга и с непрерывным шепотом труда тянущих вощину, – сонные, ссохшиеся пчелы в разные стороны бредут рассеянно по дну и стенкам улья. Вместо чисто залепленного клеем и сметенного веерами крыльев пола на дне лежат крошки вощин, испражнения пчел, полумертвые, чуть шевелящие ножками и совершенно мертвые, неприбранные пчелы.
Пчеловод открывает верхнюю колодезню и осматривает голову улья. Вместо сплошных рядов пчел, облепивших все промежутки сотов и греющих детву, он видит искусную, сложную работу сотов, но уже не в том виде девственности, в котором она бывала прежде. Все запущено и загажено. Грабительницы – черные пчелы – шныряют быстро и украдисто по работам; свои пчелы, ссохшиеся, короткие, вялые, как будто старые, медленно бродят, никому не мешая, ничего не желая и потеряв сознание жизни. Трутни, шершни, шмели, бабочки бестолково стучатся на лету о стенки улья. Кое где между вощинами с мертвыми детьми и медом изредка слышится с разных сторон сердитое брюзжание; где нибудь две пчелы, по старой привычке и памяти очищая гнездо улья, старательно, сверх сил, тащат прочь мертвую пчелу или шмеля, сами не зная, для чего они это делают. В другом углу другие две старые пчелы лениво дерутся, или чистятся, или кормят одна другую, сами не зная, враждебно или дружелюбно они это делают. В третьем месте толпа пчел, давя друг друга, нападает на какую нибудь жертву и бьет и душит ее. И ослабевшая или убитая пчела медленно, легко, как пух, спадает сверху в кучу трупов. Пчеловод разворачивает две средние вощины, чтобы видеть гнездо. Вместо прежних сплошных черных кругов спинка с спинкой сидящих тысяч пчел и блюдущих высшие тайны родного дела, он видит сотни унылых, полуживых и заснувших остовов пчел. Они почти все умерли, сами не зная этого, сидя на святыне, которую они блюли и которой уже нет больше. От них пахнет гнилью и смертью. Только некоторые из них шевелятся, поднимаются, вяло летят и садятся на руку врагу, не в силах умереть, жаля его, – остальные, мертвые, как рыбья чешуя, легко сыплются вниз. Пчеловод закрывает колодезню, отмечает мелом колодку и, выбрав время, выламывает и выжигает ее.
Так пуста была Москва, когда Наполеон, усталый, беспокойный и нахмуренный, ходил взад и вперед у Камерколлежского вала, ожидая того хотя внешнего, но необходимого, по его понятиям, соблюдения приличий, – депутации.
В разных углах Москвы только бессмысленно еще шевелились люди, соблюдая старые привычки и не понимая того, что они делали.
Когда Наполеону с должной осторожностью было объявлено, что Москва пуста, он сердито взглянул на доносившего об этом и, отвернувшись, продолжал ходить молча.
– Подать экипаж, – сказал он. Он сел в карету рядом с дежурным адъютантом и поехал в предместье.
– «Moscou deserte. Quel evenemeDt invraisemblable!» [«Москва пуста. Какое невероятное событие!»] – говорил он сам с собой.
Он не поехал в город, а остановился на постоялом дворе Дорогомиловского предместья.
Le coup de theatre avait rate. [Не удалась развязка театрального представления.]
Русские войска проходили через Москву с двух часов ночи и до двух часов дня и увлекали за собой последних уезжавших жителей и раненых.
Самая большая давка во время движения войск происходила на мостах Каменном, Москворецком и Яузском.
В то время как, раздвоившись вокруг Кремля, войска сперлись на Москворецком и Каменном мостах, огромное число солдат, пользуясь остановкой и теснотой, возвращались назад от мостов и украдчиво и молчаливо прошныривали мимо Василия Блаженного и под Боровицкие ворота назад в гору, к Красной площади, на которой по какому то чутью они чувствовали, что можно брать без труда чужое. Такая же толпа людей, как на дешевых товарах, наполняла Гостиный двор во всех его ходах и переходах. Но не было ласково приторных, заманивающих голосов гостинодворцев, не было разносчиков и пестрой женской толпы покупателей – одни были мундиры и шинели солдат без ружей, молчаливо с ношами выходивших и без ноши входивших в ряды. Купцы и сидельцы (их было мало), как потерянные, ходили между солдатами, отпирали и запирали свои лавки и сами с молодцами куда то выносили свои товары. На площади у Гостиного двора стояли барабанщики и били сбор. Но звук барабана заставлял солдат грабителей не, как прежде, сбегаться на зов, а, напротив, заставлял их отбегать дальше от барабана. Между солдатами, по лавкам и проходам, виднелись люди в серых кафтанах и с бритыми головами. Два офицера, один в шарфе по мундиру, на худой темно серой лошади, другой в шинели, пешком, стояли у угла Ильинки и о чем то говорили. Третий офицер подскакал к ним.
– Генерал приказал во что бы то ни стало сейчас выгнать всех. Что та, это ни на что не похоже! Половина людей разбежалась.
– Ты куда?.. Вы куда?.. – крикнул он на трех пехотных солдат, которые, без ружей, подобрав полы шинелей, проскользнули мимо него в ряды. – Стой, канальи!
– Да, вот извольте их собрать! – отвечал другой офицер. – Их не соберешь; надо идти скорее, чтобы последние не ушли, вот и всё!
– Как же идти? там стали, сперлися на мосту и не двигаются. Или цепь поставить, чтобы последние не разбежались?
– Да подите же туда! Гони ж их вон! – крикнул старший офицер.
Офицер в шарфе слез с лошади, кликнул барабанщика и вошел с ним вместе под арки. Несколько солдат бросилось бежать толпой. Купец, с красными прыщами по щекам около носа, с спокойно непоколебимым выражением расчета на сытом лице, поспешно и щеголевато, размахивая руками, подошел к офицеру.
– Ваше благородие, – сказал он, – сделайте милость, защитите. Нам не расчет пустяк какой ни на есть, мы с нашим удовольствием! Пожалуйте, сукна сейчас вынесу, для благородного человека хоть два куска, с нашим удовольствием! Потому мы чувствуем, а это что ж, один разбой! Пожалуйте! Караул, что ли, бы приставили, хоть запереть дали бы…
Несколько купцов столпилось около офицера.
– Э! попусту брехать то! – сказал один из них, худощавый, с строгим лицом. – Снявши голову, по волосам не плачут. Бери, что кому любо! – И он энергическим жестом махнул рукой и боком повернулся к офицеру.
– Тебе, Иван Сидорыч, хорошо говорить, – сердито заговорил первый купец. – Вы пожалуйте, ваше благородие.
– Что говорить! – крикнул худощавый. – У меня тут в трех лавках на сто тысяч товару. Разве убережешь, когда войско ушло. Эх, народ, божью власть не руками скласть!
– Пожалуйте, ваше благородие, – говорил первый купец, кланяясь. Офицер стоял в недоумении, и на лице его видна была нерешительность.
– Да мне что за дело! – крикнул он вдруг и пошел быстрыми шагами вперед по ряду. В одной отпертой лавке слышались удары и ругательства, и в то время как офицер подходил к ней, из двери выскочил вытолкнутый человек в сером армяке и с бритой головой.
Человек этот, согнувшись, проскочил мимо купцов и офицера. Офицер напустился на солдат, бывших в лавке. Но в это время страшные крики огромной толпы послышались на Москворецком мосту, и офицер выбежал на площадь.
– Что такое? Что такое? – спрашивал он, но товарищ его уже скакал по направлению к крикам, мимо Василия Блаженного. Офицер сел верхом и поехал за ним. Когда он подъехал к мосту, он увидал снятые с передков две пушки, пехоту, идущую по мосту, несколько поваленных телег, несколько испуганных лиц и смеющиеся лица солдат. Подле пушек стояла одна повозка, запряженная парой. За повозкой сзади колес жались четыре борзые собаки в ошейниках. На повозке была гора вещей, и на самом верху, рядом с детским, кверху ножками перевернутым стульчиком сидела баба, пронзительно и отчаянно визжавшая. Товарищи рассказывали офицеру, что крик толпы и визги бабы произошли оттого, что наехавший на эту толпу генерал Ермолов, узнав, что солдаты разбредаются по лавкам, а толпы жителей запружают мост, приказал снять орудия с передков и сделать пример, что он будет стрелять по мосту. Толпа, валя повозки, давя друг друга, отчаянно кричала, теснясь, расчистила мост, и войска двинулись вперед.
В самом городе между тем было пусто. По улицам никого почти не было. Ворота и лавки все были заперты; кое где около кабаков слышались одинокие крики или пьяное пенье. Никто не ездил по улицам, и редко слышались шаги пешеходов. На Поварской было совершенно тихо и пустынно. На огромном дворе дома Ростовых валялись объедки сена, помет съехавшего обоза и не было видно ни одного человека. В оставшемся со всем своим добром доме Ростовых два человека были в большой гостиной. Это были дворник Игнат и казачок Мишка, внук Васильича, оставшийся в Москве с дедом. Мишка, открыв клавикорды, играл на них одним пальцем. Дворник, подбоченившись и радостно улыбаясь, стоял пред большим зеркалом.
– Вот ловко то! А? Дядюшка Игнат! – говорил мальчик, вдруг начиная хлопать обеими руками по клавишам.
– Ишь ты! – отвечал Игнат, дивуясь на то, как все более и более улыбалось его лицо в зеркале.
– Бессовестные! Право, бессовестные! – заговорил сзади их голос тихо вошедшей Мавры Кузминишны. – Эка, толсторожий, зубы то скалит. На это вас взять! Там все не прибрано, Васильич с ног сбился. Дай срок!
Игнат, поправляя поясок, перестав улыбаться и покорно опустив глаза, пошел вон из комнаты.
– Тетенька, я полегоньку, – сказал мальчик.
– Я те дам полегоньку. Постреленок! – крикнула Мавра Кузминишна, замахиваясь на него рукой. – Иди деду самовар ставь.
Мавра Кузминишна, смахнув пыль, закрыла клавикорды и, тяжело вздохнув, вышла из гостиной и заперла входную дверь.
Выйдя на двор, Мавра Кузминишна задумалась о том, куда ей идти теперь: пить ли чай к Васильичу во флигель или в кладовую прибрать то, что еще не было прибрано?
В тихой улице послышались быстрые шаги. Шаги остановились у калитки; щеколда стала стучать под рукой, старавшейся отпереть ее.
Мавра Кузминишна подошла к калитке.
– Кого надо?
– Графа, графа Илью Андреича Ростова.
– Да вы кто?
– Я офицер. Мне бы видеть нужно, – сказал русский приятный и барский голос.
Мавра Кузминишна отперла калитку. И на двор вошел лет восемнадцати круглолицый офицер, типом лица похожий на Ростовых.
– Уехали, батюшка. Вчерашнего числа в вечерни изволили уехать, – ласково сказала Мавра Кузмипишна.
Молодой офицер, стоя в калитке, как бы в нерешительности войти или не войти ему, пощелкал языком.
– Ах, какая досада!.. – проговорил он. – Мне бы вчера… Ах, как жалко!..
Мавра Кузминишна между тем внимательно и сочувственно разглядывала знакомые ей черты ростовской породы в лице молодого человека, и изорванную шинель, и стоптанные сапоги, которые были на нем.
– Вам зачем же графа надо было? – спросила она.
– Да уж… что делать! – с досадой проговорил офицер и взялся за калитку, как бы намереваясь уйти. Он опять остановился в нерешительности.
– Видите ли? – вдруг сказал он. – Я родственник графу, и он всегда очень добр был ко мне. Так вот, видите ли (он с доброй и веселой улыбкой посмотрел на свой плащ и сапоги), и обносился, и денег ничего нет; так я хотел попросить графа…
Мавра Кузминишна не дала договорить ему.
– Вы минуточку бы повременили, батюшка. Одною минуточку, – сказала она. И как только офицер отпустил руку от калитки, Мавра Кузминишна повернулась и быстрым старушечьим шагом пошла на задний двор к своему флигелю.
В то время как Мавра Кузминишна бегала к себе, офицер, опустив голову и глядя на свои прорванные сапоги, слегка улыбаясь, прохаживался по двору. «Как жалко, что я не застал дядюшку. А славная старушка! Куда она побежала? И как бы мне узнать, какими улицами мне ближе догнать полк, который теперь должен подходить к Рогожской?» – думал в это время молодой офицер. Мавра Кузминишна с испуганным и вместе решительным лицом, неся в руках свернутый клетчатый платочек, вышла из за угла. Не доходя несколько шагов, она, развернув платок, вынула из него белую двадцатипятирублевую ассигнацию и поспешно отдала ее офицеру.
– Были бы их сиятельства дома, известно бы, они бы, точно, по родственному, а вот может… теперича… – Мавра Кузминишна заробела и смешалась. Но офицер, не отказываясь и не торопясь, взял бумажку и поблагодарил Мавру Кузминишну. – Как бы граф дома были, – извиняясь, все говорила Мавра Кузминишна. – Христос с вами, батюшка! Спаси вас бог, – говорила Мавра Кузминишна, кланяясь и провожая его. Офицер, как бы смеясь над собою, улыбаясь и покачивая головой, почти рысью побежал по пустым улицам догонять свой полк к Яузскому мосту.
А Мавра Кузминишна еще долго с мокрыми глазами стояла перед затворенной калиткой, задумчиво покачивая головой и чувствуя неожиданный прилив материнской нежности и жалости к неизвестному ей офицерику.
В недостроенном доме на Варварке, внизу которого был питейный дом, слышались пьяные крики и песни. На лавках у столов в небольшой грязной комнате сидело человек десять фабричных. Все они, пьяные, потные, с мутными глазами, напруживаясь и широко разевая рты, пели какую то песню. Они пели врозь, с трудом, с усилием, очевидно, не для того, что им хотелось петь, но для того только, чтобы доказать, что они пьяны и гуляют. Один из них, высокий белокурый малый в чистой синей чуйке, стоял над ними. Лицо его с тонким прямым носом было бы красиво, ежели бы не тонкие, поджатые, беспрестанно двигающиеся губы и мутные и нахмуренные, неподвижные глаза. Он стоял над теми, которые пели, и, видимо воображая себе что то, торжественно и угловато размахивал над их головами засученной по локоть белой рукой, грязные пальцы которой он неестественно старался растопыривать. Рукав его чуйки беспрестанно спускался, и малый старательно левой рукой опять засучивал его, как будто что то было особенно важное в том, чтобы эта белая жилистая махавшая рука была непременно голая. В середине песни в сенях и на крыльце послышались крики драки и удары. Высокий малый махнул рукой.
– Шабаш! – крикнул он повелительно. – Драка, ребята! – И он, не переставая засучивать рукав, вышел на крыльцо.
Фабричные пошли за ним. Фабричные, пившие в кабаке в это утро под предводительством высокого малого, принесли целовальнику кожи с фабрики, и за это им было дано вино. Кузнецы из соседних кузень, услыхав гульбу в кабаке и полагая, что кабак разбит, силой хотели ворваться в него. На крыльце завязалась драка.
Целовальник в дверях дрался с кузнецом, и в то время как выходили фабричные, кузнец оторвался от целовальника и упал лицом на мостовую.
Другой кузнец рвался в дверь, грудью наваливаясь на целовальника.
Малый с засученным рукавом на ходу еще ударил в лицо рвавшегося в дверь кузнеца и дико закричал:
– Ребята! наших бьют!
В это время первый кузнец поднялся с земли и, расцарапывая кровь на разбитом лице, закричал плачущим голосом:
– Караул! Убили!.. Человека убили! Братцы!..
– Ой, батюшки, убили до смерти, убили человека! – завизжала баба, вышедшая из соседних ворот. Толпа народа собралась около окровавленного кузнеца.
– Мало ты народ то грабил, рубахи снимал, – сказал чей то голос, обращаясь к целовальнику, – что ж ты человека убил? Разбойник!
Высокий малый, стоя на крыльце, мутными глазами водил то на целовальника, то на кузнецов, как бы соображая, с кем теперь следует драться.
– Душегуб! – вдруг крикнул он на целовальника. – Вяжи его, ребята!
– Как же, связал одного такого то! – крикнул целовальник, отмахнувшись от набросившихся на него людей, и, сорвав с себя шапку, он бросил ее на землю. Как будто действие это имело какое то таинственно угрожающее значение, фабричные, обступившие целовальника, остановились в нерешительности.
– Порядок то я, брат, знаю очень прекрасно. Я до частного дойду. Ты думаешь, не дойду? Разбойничать то нонче никому не велят! – прокричал целовальник, поднимая шапку.
– И пойдем, ишь ты! И пойдем… ишь ты! – повторяли друг за другом целовальник и высокий малый, и оба вместе двинулись вперед по улице. Окровавленный кузнец шел рядом с ними. Фабричные и посторонний народ с говором и криком шли за ними.
У угла Маросейки, против большого с запертыми ставнями дома, на котором была вывеска сапожного мастера, стояли с унылыми лицами человек двадцать сапожников, худых, истомленных людей в халатах и оборванных чуйках.
– Он народ разочти как следует! – говорил худой мастеровой с жидкой бородйой и нахмуренными бровями. – А что ж, он нашу кровь сосал – да и квит. Он нас водил, водил – всю неделю. А теперь довел до последнего конца, а сам уехал.
Увидав народ и окровавленного человека, говоривший мастеровой замолчал, и все сапожники с поспешным любопытством присоединились к двигавшейся толпе.
– Куда идет народ то?
– Известно куда, к начальству идет.
– Что ж, али взаправду наша не взяла сила?
– А ты думал как! Гляди ко, что народ говорит.
Слышались вопросы и ответы. Целовальник, воспользовавшись увеличением толпы, отстал от народа и вернулся к своему кабаку.
Высокий малый, не замечая исчезновения своего врага целовальника, размахивая оголенной рукой, не переставал говорить, обращая тем на себя общее внимание. На него то преимущественно жался народ, предполагая от него получить разрешение занимавших всех вопросов.
– Он покажи порядок, закон покажи, на то начальство поставлено! Так ли я говорю, православные? – говорил высокий малый, чуть заметно улыбаясь.
– Он думает, и начальства нет? Разве без начальства можно? А то грабить то мало ли их.
– Что пустое говорить! – отзывалось в толпе. – Как же, так и бросят Москву то! Тебе на смех сказали, а ты и поверил. Мало ли войсков наших идет. Так его и пустили! На то начальство. Вон послушай, что народ то бает, – говорили, указывая на высокого малого.
У стены Китай города другая небольшая кучка людей окружала человека в фризовой шинели, держащего в руках бумагу.
– Указ, указ читают! Указ читают! – послышалось в толпе, и народ хлынул к чтецу.
Человек в фризовой шинели читал афишку от 31 го августа. Когда толпа окружила его, он как бы смутился, но на требование высокого малого, протеснившегося до него, он с легким дрожанием в голосе начал читать афишку сначала.
«Я завтра рано еду к светлейшему князю, – читал он (светлеющему! – торжественно, улыбаясь ртом и хмуря брови, повторил высокий малый), – чтобы с ним переговорить, действовать и помогать войскам истреблять злодеев; станем и мы из них дух… – продолжал чтец и остановился („Видал?“ – победоносно прокричал малый. – Он тебе всю дистанцию развяжет…»)… – искоренять и этих гостей к черту отправлять; я приеду назад к обеду, и примемся за дело, сделаем, доделаем и злодеев отделаем».
Последние слова были прочтены чтецом в совершенном молчании. Высокий малый грустно опустил голову. Очевидно было, что никто не понял этих последних слов. В особенности слова: «я приеду завтра к обеду», видимо, даже огорчили и чтеца и слушателей. Понимание народа было настроено на высокий лад, а это было слишком просто и ненужно понятно; это было то самое, что каждый из них мог бы сказать и что поэтому не мог говорить указ, исходящий от высшей власти.
Все стояли в унылом молчании. Высокий малый водил губами и пошатывался.
– У него спросить бы!.. Это сам и есть?.. Как же, успросил!.. А то что ж… Он укажет… – вдруг послышалось в задних рядах толпы, и общее внимание обратилось на выезжавшие на площадь дрожки полицеймейстера, сопутствуемого двумя конными драгунами.
Полицеймейстер, ездивший в это утро по приказанию графа сжигать барки и, по случаю этого поручения, выручивший большую сумму денег, находившуюся у него в эту минуту в кармане, увидав двинувшуюся к нему толпу людей, приказал кучеру остановиться.
– Что за народ? – крикнул он на людей, разрозненно и робко приближавшихся к дрожкам. – Что за народ? Я вас спрашиваю? – повторил полицеймейстер, не получавший ответа.
– Они, ваше благородие, – сказал приказный во фризовой шинели, – они, ваше высокородие, по объявлению сиятельнейшего графа, не щадя живота, желали послужить, а не то чтобы бунт какой, как сказано от сиятельнейшего графа…
– Граф не уехал, он здесь, и об вас распоряжение будет, – сказал полицеймейстер. – Пошел! – сказал он кучеру. Толпа остановилась, скучиваясь около тех, которые слышали то, что сказало начальство, и глядя на отъезжающие дрожки.
Полицеймейстер в это время испуганно оглянулся, что то сказал кучеру, и лошади его поехали быстрее.
– Обман, ребята! Веди к самому! – крикнул голос высокого малого. – Не пущай, ребята! Пущай отчет подаст! Держи! – закричали голоса, и народ бегом бросился за дрожками.
Толпа за полицеймейстером с шумным говором направилась на Лубянку.
– Что ж, господа да купцы повыехали, а мы за то и пропадаем? Что ж, мы собаки, что ль! – слышалось чаще в толпе.
Вечером 1 го сентября, после своего свидания с Кутузовым, граф Растопчин, огорченный и оскорбленный тем, что его не пригласили на военный совет, что Кутузов не обращал никакого внимания на его предложение принять участие в защите столицы, и удивленный новым открывшимся ему в лагере взглядом, при котором вопрос о спокойствии столицы и о патриотическом ее настроении оказывался не только второстепенным, но совершенно ненужным и ничтожным, – огорченный, оскорбленный и удивленный всем этим, граф Растопчин вернулся в Москву. Поужинав, граф, не раздеваясь, прилег на канапе и в первом часу был разбужен курьером, который привез ему письмо от Кутузова. В письме говорилось, что так как войска отступают на Рязанскую дорогу за Москву, то не угодно ли графу выслать полицейских чиновников, для проведения войск через город. Известие это не было новостью для Растопчина. Не только со вчерашнего свиданья с Кутузовым на Поклонной горе, но и с самого Бородинского сражения, когда все приезжавшие в Москву генералы в один голос говорили, что нельзя дать еще сражения, и когда с разрешения графа каждую ночь уже вывозили казенное имущество и жители до половины повыехали, – граф Растопчин знал, что Москва будет оставлена; но тем не менее известие это, сообщенное в форме простой записки с приказанием от Кутузова и полученное ночью, во время первого сна, удивило и раздражило графа.
Впоследствии, объясняя свою деятельность за это время, граф Растопчин в своих записках несколько раз писал, что у него тогда было две важные цели: De maintenir la tranquillite a Moscou et d'en faire partir les habitants. [Сохранить спокойствие в Москве и выпроводить из нее жителей.] Если допустить эту двоякую цель, всякое действие Растопчина оказывается безукоризненным. Для чего не вывезена московская святыня, оружие, патроны, порох, запасы хлеба, для чего тысячи жителей обмануты тем, что Москву не сдадут, и разорены? – Для того, чтобы соблюсти спокойствие в столице, отвечает объяснение графа Растопчина. Для чего вывозились кипы ненужных бумаг из присутственных мест и шар Леппиха и другие предметы? – Для того, чтобы оставить город пустым, отвечает объяснение графа Растопчина. Стоит только допустить, что что нибудь угрожало народному спокойствию, и всякое действие становится оправданным.
Все ужасы террора основывались только на заботе о народном спокойствии.
На чем же основывался страх графа Растопчина о народном спокойствии в Москве в 1812 году? Какая причина была предполагать в городе склонность к возмущению? Жители уезжали, войска, отступая, наполняли Москву. Почему должен был вследствие этого бунтовать народ?
Не только в Москве, но во всей России при вступлении неприятеля не произошло ничего похожего на возмущение. 1 го, 2 го сентября более десяти тысяч людей оставалось в Москве, и, кроме толпы, собравшейся на дворе главнокомандующего и привлеченной им самим, – ничего не было. Очевидно, что еще менее надо было ожидать волнения в народе, ежели бы после Бородинского сражения, когда оставление Москвы стало очевидно, или, по крайней мере, вероятно, – ежели бы тогда вместо того, чтобы волновать народ раздачей оружия и афишами, Растопчин принял меры к вывозу всей святыни, пороху, зарядов и денег и прямо объявил бы народу, что город оставляется.
Растопчин, пылкий, сангвинический человек, всегда вращавшийся в высших кругах администрации, хотя в с патриотическим чувством, не имел ни малейшего понятия о том народе, которым он думал управлять. С самого начала вступления неприятеля в Смоленск Растопчин в воображении своем составил для себя роль руководителя народного чувства – сердца России. Ему не только казалось (как это кажется каждому администратору), что он управлял внешними действиями жителей Москвы, но ему казалось, что он руководил их настроением посредством своих воззваний и афиш, писанных тем ёрническим языком, который в своей среде презирает народ и которого он не понимает, когда слышит его сверху. Красивая роль руководителя народного чувства так понравилась Растопчину, он так сжился с нею, что необходимость выйти из этой роли, необходимость оставления Москвы без всякого героического эффекта застала его врасплох, и он вдруг потерял из под ног почву, на которой стоял, в решительно не знал, что ему делать. Он хотя и знал, но не верил всею душою до последней минуты в оставление Москвы и ничего не делал с этой целью. Жители выезжали против его желания. Ежели вывозили присутственные места, то только по требованию чиновников, с которыми неохотно соглашался граф. Сам же он был занят только тою ролью, которую он для себя сделал. Как это часто бывает с людьми, одаренными пылким воображением, он знал уже давно, что Москву оставят, но знал только по рассуждению, но всей душой не верил в это, не перенесся воображением в это новое положение.
Вся деятельность его, старательная и энергическая (насколько она была полезна и отражалась на народ – это другой вопрос), вся деятельность его была направлена только на то, чтобы возбудить в жителях то чувство, которое он сам испытывал, – патриотическую ненависть к французам и уверенность в себе.
Но когда событие принимало свои настоящие, исторические размеры, когда оказалось недостаточным только словами выражать свою ненависть к французам, когда нельзя было даже сражением выразить эту ненависть, когда уверенность в себе оказалась бесполезною по отношению к одному вопросу Москвы, когда все население, как один человек, бросая свои имущества, потекло вон из Москвы, показывая этим отрицательным действием всю силу своего народного чувства, – тогда роль, выбранная Растопчиным, оказалась вдруг бессмысленной. Он почувствовал себя вдруг одиноким, слабым и смешным, без почвы под ногами.
Получив, пробужденный от сна, холодную и повелительную записку от Кутузова, Растопчин почувствовал себя тем более раздраженным, чем более он чувствовал себя виновным. В Москве оставалось все то, что именно было поручено ему, все то казенное, что ему должно было вывезти. Вывезти все не было возможности.
«Кто же виноват в этом, кто допустил до этого? – думал он. – Разумеется, не я. У меня все было готово, я держал Москву вот как! И вот до чего они довели дело! Мерзавцы, изменники!» – думал он, не определяя хорошенько того, кто были эти мерзавцы и изменники, но чувствуя необходимость ненавидеть этих кого то изменников, которые были виноваты в том фальшивом и смешном положении, в котором он находился.
Всю эту ночь граф Растопчин отдавал приказания, за которыми со всех сторон Москвы приезжали к нему. Приближенные никогда не видали графа столь мрачным и раздраженным.
«Ваше сиятельство, из вотчинного департамента пришли, от директора за приказаниями… Из консистории, из сената, из университета, из воспитательного дома, викарный прислал… спрашивает… О пожарной команде как прикажете? Из острога смотритель… из желтого дома смотритель…» – всю ночь, не переставая, докладывали графу.
На все эта вопросы граф давал короткие и сердитые ответы, показывавшие, что приказания его теперь не нужны, что все старательно подготовленное им дело теперь испорчено кем то и что этот кто то будет нести всю ответственность за все то, что произойдет теперь.
– Ну, скажи ты этому болвану, – отвечал он на запрос от вотчинного департамента, – чтоб он оставался караулить свои бумаги. Ну что ты спрашиваешь вздор о пожарной команде? Есть лошади – пускай едут во Владимир. Не французам оставлять.
– Ваше сиятельство, приехал надзиратель из сумасшедшего дома, как прикажете?
– Как прикажу? Пускай едут все, вот и всё… А сумасшедших выпустить в городе. Когда у нас сумасшедшие армиями командуют, так этим и бог велел.
На вопрос о колодниках, которые сидели в яме, граф сердито крикнул на смотрителя:
– Что ж, тебе два батальона конвоя дать, которого нет? Пустить их, и всё!
– Ваше сиятельство, есть политические: Мешков, Верещагин.
– Верещагин! Он еще не повешен? – крикнул Растопчин. – Привести его ко мне.
К девяти часам утра, когда войска уже двинулись через Москву, никто больше не приходил спрашивать распоряжений графа. Все, кто мог ехать, ехали сами собой; те, кто оставались, решали сами с собой, что им надо было делать.
Граф велел подавать лошадей, чтобы ехать в Сокольники, и, нахмуренный, желтый и молчаливый, сложив руки, сидел в своем кабинете.
Каждому администратору в спокойное, не бурное время кажется, что только его усилиями движется всо ему подведомственное народонаселение, и в этом сознании своей необходимости каждый администратор чувствует главную награду за свои труды и усилия. Понятно, что до тех пор, пока историческое море спокойно, правителю администратору, с своей утлой лодочкой упирающемуся шестом в корабль народа и самому двигающемуся, должно казаться, что его усилиями двигается корабль, в который он упирается. Но стоит подняться буре, взволноваться морю и двинуться самому кораблю, и тогда уж заблуждение невозможно. Корабль идет своим громадным, независимым ходом, шест не достает до двинувшегося корабля, и правитель вдруг из положения властителя, источника силы, переходит в ничтожного, бесполезного и слабого человека.
Растопчин чувствовал это, и это то раздражало его. Полицеймейстер, которого остановила толпа, вместе с адъютантом, который пришел доложить, что лошади готовы, вошли к графу. Оба были бледны, и полицеймейстер, передав об исполнении своего поручения, сообщил, что на дворе графа стояла огромная толпа народа, желавшая его видеть.
Растопчин, ни слова не отвечая, встал и быстрыми шагами направился в свою роскошную светлую гостиную, подошел к двери балкона, взялся за ручку, оставил ее и перешел к окну, из которого виднее была вся толпа. Высокий малый стоял в передних рядах и с строгим лицом, размахивая рукой, говорил что то. Окровавленный кузнец с мрачным видом стоял подле него. Сквозь закрытые окна слышен был гул голосов.
– Готов экипаж? – сказал Растопчин, отходя от окна.
– Готов, ваше сиятельство, – сказал адъютант.
Растопчин опять подошел к двери балкона.
– Да чего они хотят? – спросил он у полицеймейстера.
– Ваше сиятельство, они говорят, что собрались идти на французов по вашему приказанью, про измену что то кричали. Но буйная толпа, ваше сиятельство. Я насилу уехал. Ваше сиятельство, осмелюсь предложить…
– Извольте идти, я без вас знаю, что делать, – сердито крикнул Растопчин. Он стоял у двери балкона, глядя на толпу. «Вот что они сделали с Россией! Вот что они сделали со мной!» – думал Растопчин, чувствуя поднимающийся в своей душе неудержимый гнев против кого то того, кому можно было приписать причину всего случившегося. Как это часто бывает с горячими людьми, гнев уже владел им, но он искал еще для него предмета. «La voila la populace, la lie du peuple, – думал он, глядя на толпу, – la plebe qu'ils ont soulevee par leur sottise. Il leur faut une victime, [„Вот он, народец, эти подонки народонаселения, плебеи, которых они подняли своею глупостью! Им нужна жертва“.] – пришло ему в голову, глядя на размахивающего рукой высокого малого. И по тому самому это пришло ему в голову, что ему самому нужна была эта жертва, этот предмет для своего гнева.
– Готов экипаж? – в другой раз спросил он.
– Готов, ваше сиятельство. Что прикажете насчет Верещагина? Он ждет у крыльца, – отвечал адъютант.
– А! – вскрикнул Растопчин, как пораженный каким то неожиданным воспоминанием.
И, быстро отворив дверь, он вышел решительными шагами на балкон. Говор вдруг умолк, шапки и картузы снялись, и все глаза поднялись к вышедшему графу.
– Здравствуйте, ребята! – сказал граф быстро и громко. – Спасибо, что пришли. Я сейчас выйду к вам, но прежде всего нам надо управиться с злодеем. Нам надо наказать злодея, от которого погибла Москва. Подождите меня! – И граф так же быстро вернулся в покои, крепко хлопнув дверью.
По толпе пробежал одобрительный ропот удовольствия. «Он, значит, злодеев управит усех! А ты говоришь француз… он тебе всю дистанцию развяжет!» – говорили люди, как будто упрекая друг друга в своем маловерии.
Через несколько минут из парадных дверей поспешно вышел офицер, приказал что то, и драгуны вытянулись. Толпа от балкона жадно подвинулась к крыльцу. Выйдя гневно быстрыми шагами на крыльцо, Растопчин поспешно оглянулся вокруг себя, как бы отыскивая кого то.
– Где он? – сказал граф, и в ту же минуту, как он сказал это, он увидал из за угла дома выходившего между, двух драгун молодого человека с длинной тонкой шеей, с до половины выбритой и заросшей головой. Молодой человек этот был одет в когда то щегольской, крытый синим сукном, потертый лисий тулупчик и в грязные посконные арестантские шаровары, засунутые в нечищеные, стоптанные тонкие сапоги. На тонких, слабых ногах тяжело висели кандалы, затруднявшие нерешительную походку молодого человека.
– А ! – сказал Растопчин, поспешно отворачивая свой взгляд от молодого человека в лисьем тулупчике и указывая на нижнюю ступеньку крыльца. – Поставьте его сюда! – Молодой человек, брянча кандалами, тяжело переступил на указываемую ступеньку, придержав пальцем нажимавший воротник тулупчика, повернул два раза длинной шеей и, вздохнув, покорным жестом сложил перед животом тонкие, нерабочие руки.
