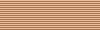Хорти, Миклош
| Миклош Хорти венг. Horthy Miklós <tr><td colspan="2" style="text-align: center; border-top: solid darkgray 1px;"> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 марта 1920 — 15 октября 1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глава правительства: | Шандор Шимоньи-Шемадам Пал Телеки Иштван Бетлен Дьюла Каройи Дьюла Гёмбеш Кальман Дараньи Бела Имреди Пал Телеки Ласло Бардоши Миклош Каллаи Дёме Стояи Геза Лакатош | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монарх: | престол вакантен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предшественник: | должность учреждена; Карой Хусар как премьер-министр и и.о. главы государства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Преемник: | должность упразднена; Ференц Салаши как глава Правительства национального единства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вероисповедание: | кальвинизм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рождение: | 18 июня 1868 Кендереш, Солнокский комитат, Австро-Венгрия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смерть: | 9 февраля 1957 (88 лет) Эшторил, Португалия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место погребения: | Английское военное кладбище в Лиссабоне, в 1993 году перезахоронен в Кендереше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отец: | Иштван Хорти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мать: | Паула Халаши | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дети: | сыновья: Иштван и Миклош дочери: Магда и Паула | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессия: | Военный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Награды: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ми́клош Хо́рти, витязь На́дьбаньяи (венг. vitéz nagybányai Horthy Miklós, нем. Nikolaus von Horthy und Nagybánya; 18 июня 1868, Кендереш[en] — 9 февраля 1957, Эшторил) — правитель (регент) Венгерского королевства в 1920—1944 годах, вице-адмирал.
Биография
Выходец из старого дворянского рода, приверженного кальвинизму. В молодости много путешествовал, был на австро-венгерской дипломатической службе в Турции и других странах. В 1908—1914 гг. — адъютант императора Франца Иосифа. Во время Первой мировой войны — капитан, затем вице-адмирал австро-венгерского военно-морского флота, одержал ряд побед, в марте 1918 года назначен главнокомандующим флотом. Занимал эту должность вплоть до приказа императора Карла I о сдаче флота новообразованной Державе сербов, хорватов и словенцев (31 октября 1918).
Возглавил сопротивление революции 1919 года на юге страны; после эвакуации из Будапешта румынских войск Хорти вступил в город на белом коне и объявил о том, что прощает «грешную столицу», осквернившую родину. Национальная армия, возглавляемая Хорти, представляющая собой ряд полусамостоятельных вооружённых формирований, была ответственна за «белый террор» против коммунистов, других левых и евреев. В 1920 году Антанта вывела войска из Венгрии, однако в том же году Трианонский договор лишил страну 2/3 территории (где, помимо словаков и румын, проживало 3 миллиона этнических венгров) и большей части экономической инфраструктуры.
При Хорти Венгрия оставалась королевством, но престол был вакантен после официального низложения последнего короля Карла IV. Таким образом, Хорти стал адмиралом без флота (Венгрия лишилась выхода к морю) и регентом в королевстве без короля; официально он титуловался «его светлость регент Венгерского королевства».
Установил авторитарный режим, продолжающий консервативные традиции. Бо́льшую часть его правления была запрещена не только коммунистическая партия, но и откровенно фашистские партии. Выступил инициатором участия Венгрии во Второй мировой войне. Он писал: «Наиболее реальную опасность, безусловно, представляет русская экспансия, будь то царско-православная или сталинско-коммунистическая»[1]. Будучи союзником Гитлера (удовлетворившим реваншистские устремления режима — благодаря вмешательству Германии Венгрия по Венским арбитражам получила в 1938 году часть Словакии и Закарпатскую Украину, а в 1940 году от Румынии — часть Трансильвании), он вместе с тем был противником геноцида евреев и вообще вмешательства Германии во внутренние дела страны.
В апреле 1941 года венгерские войска приняли участие во вторжении в Югославию. В эти дни, во время встречи с Гитлером Хорти написал: «Почему это монголам, киргизам, башкирам и прочим надо быть русскими? Если превратить существующие сегодня советские республики в самостоятельные государства вопрос был бы решён. За несколько недель армия Германии сделала бы эту важнейшую работу для всего человечества»[1]. Несколькими месяцами позже, когда Германия напала на СССР, Хорти, несмотря на требования Гитлера, сначала не хотел объявлять войну Союзу, стремясь ограничить дело разрывом дипломатических отношений, но после того, как 26 июня 1941 года самолёты, опознанные как советские, совершили налёт на венгерский город Кашша (до 1938 и ныне Кошице в Словакии), Венгрия 27 июня объявила войну СССР. Есть версия, что этот налёт был немецкой или румынской провокацией[2]. При этом ещё 22 июня 1941 года в приветственной телеграмме Гитлеру Хорти назвал этот день «счастливейшим в своей жизни»[1].
Одним из первых среди союзников Гитлера осознал неотвратимость поражения стран «оси» в войне и уже с 1942 года начал секретные переговоры с союзниками. Однако отношения с Германией оставались тесными. 18 июня 1943 года Гитлер подарил адмиралу роскошную яхту к его 75-летию (яхту спустили на воды Дуная, Гитлера на церемонии представлял гросс-адмирал Э. Редер) и в тот же день Хорти писал в Берлин: «У меня прямо перехватило дух… Не знаю, как и отблагодарить вас» [1]. При этом в марте 1944 года он был вынужден дать согласие на ввод в Венгрию немецких войск, а с ними и войск СС, которые начали депортацию евреев и цыган. При приближении советских войск к границам Венгрии Хорти сместил в августе 1944 года прогерманское правительство Дёме Стояи и назначил премьером генерала Гезу Лакатоша. 15 октября 1944 года правительство Хорти объявило о перемирии с СССР. Однако вывести свою страну из войны Хорти, в отличие от короля Румынии Михая I, не удалось. В Будапеште произошёл поддержанный Германией государственный переворот, а сын Хорти — Миклош Хорти-младший был похищен отрядом СС под руководством Отто Скорцени и взят в заложники. Под нажимом Гитлера через несколько дней адмирал передал власть лидеру нацистской прогерманской партии «Скрещённые стрелы» Ференцу Салаши и был вывезен в Германию, где содержался под арестом вместе с женой, невесткой и внуком.
После окончания войны 77-летний Хорти не был предан суду как военный преступник, хотя на этом настаивало правительство Югославии (по обвинению в массовых убийствах, организованных венгерскими военными в Воеводине в 1942 году) и переехал с семьёй в Португалию, в Эшторил, где прожил ещё долго.
Прах адмирала был перезахоронен 4 сентября 1993 года в фамильном склепе на кладбище посёлка Кендереш к востоку от Будапешта. В соответствии с последней волей покойного церемония была чисто семейной. Министр иностранных дел Венгрии был вынужден разъяснять министру иностранных дел Румынии, что прибытие иностранных официальных лиц в Кендереш будет носить лишь частный характер. Церемония перезахоронения вызвала бурные дебаты в прессе, называвшей Хорти и «мудрым государственным деятелем», восстановившим величие нации «после позора Версаля», и виновным в неисчислимых жертвах и в «оккупации страны Красной Армией». Премьер-министр Йожеф Анталл выступая по телевидению назвал Хорти жертвой обстоятельств, «верным долгу патриотом, никогда не навязывавшим свою волю правительству, не прибегавшим к диктаторским методам, что отличает его от Франко и Антонеску»[1].
Напишите отзыв о статье "Хорти, Миклош"
Примечания
Литература
- Гордиенко А. Н. Командиры Второй мировой войны. Т. 2. — Мн., 1998. — ISBN 985-437-627-3.
- Асташин Н. А. Миклош Хорти: адмирал в своем лабиринте // До и после Версаля. — М.: «Индрик», 2009. — [www.inslav.ru/images/stories/pdf/2009_Do_i_posle_Versal'a.pdf С. 374—393.] — ISBN 978-5-91674-059-2.
- Борис Родионов. Последний причал адмирала // Эхо планеты. — М., 1993. — № 36. — С. 24—26.
| Статья содержит короткие («гарвардские») ссылки на публикации, не указанные или неправильно описанные в библиографическом разделе. Список неработающих ссылок: Борис Родионов, 1993 Пожалуйста, исправьте ссылки согласно инструкции к шаблону {{sfn}} и дополните библиографический раздел корректными описаниями цитируемых публикаций, следуя руководствам ВП:Сноски и ВП:Ссылки на источники.
|
Отрывок, характеризующий Хорти, Миклош
– Видела? Видела? Что видела? – вскрикнула Наташа, поддерживая зеркало.Соня ничего не видала, она только что хотела замигать глазами и встать, когда услыхала голос Наташи, сказавшей «непременно»… Ей не хотелось обмануть ни Дуняшу, ни Наташу, и тяжело было сидеть. Она сама не знала, как и вследствие чего у нее вырвался крик, когда она закрыла глаза рукою.
– Его видела? – спросила Наташа, хватая ее за руку.
– Да. Постой… я… видела его, – невольно сказала Соня, еще не зная, кого разумела Наташа под словом его: его – Николая или его – Андрея.
«Но отчего же мне не сказать, что я видела? Ведь видят же другие! И кто же может уличить меня в том, что я видела или не видала?» мелькнуло в голове Сони.
– Да, я его видела, – сказала она.
– Как же? Как же? Стоит или лежит?
– Нет, я видела… То ничего не было, вдруг вижу, что он лежит.
– Андрей лежит? Он болен? – испуганно остановившимися глазами глядя на подругу, спрашивала Наташа.
– Нет, напротив, – напротив, веселое лицо, и он обернулся ко мне, – и в ту минуту как она говорила, ей самой казалось, что она видела то, что говорила.
– Ну а потом, Соня?…
– Тут я не рассмотрела, что то синее и красное…
– Соня! когда он вернется? Когда я увижу его! Боже мой, как я боюсь за него и за себя, и за всё мне страшно… – заговорила Наташа, и не отвечая ни слова на утешения Сони, легла в постель и долго после того, как потушили свечу, с открытыми глазами, неподвижно лежала на постели и смотрела на морозный, лунный свет сквозь замерзшие окна.
Вскоре после святок Николай объявил матери о своей любви к Соне и о твердом решении жениться на ней. Графиня, давно замечавшая то, что происходило между Соней и Николаем, и ожидавшая этого объяснения, молча выслушала его слова и сказала сыну, что он может жениться на ком хочет; но что ни она, ни отец не дадут ему благословения на такой брак. В первый раз Николай почувствовал, что мать недовольна им, что несмотря на всю свою любовь к нему, она не уступит ему. Она, холодно и не глядя на сына, послала за мужем; и, когда он пришел, графиня хотела коротко и холодно в присутствии Николая сообщить ему в чем дело, но не выдержала: заплакала слезами досады и вышла из комнаты. Старый граф стал нерешительно усовещивать Николая и просить его отказаться от своего намерения. Николай отвечал, что он не может изменить своему слову, и отец, вздохнув и очевидно смущенный, весьма скоро перервал свою речь и пошел к графине. При всех столкновениях с сыном, графа не оставляло сознание своей виноватости перед ним за расстройство дел, и потому он не мог сердиться на сына за отказ жениться на богатой невесте и за выбор бесприданной Сони, – он только при этом случае живее вспоминал то, что, ежели бы дела не были расстроены, нельзя было для Николая желать лучшей жены, чем Соня; и что виновен в расстройстве дел только один он с своим Митенькой и с своими непреодолимыми привычками.
Отец с матерью больше не говорили об этом деле с сыном; но несколько дней после этого, графиня позвала к себе Соню и с жестокостью, которой не ожидали ни та, ни другая, графиня упрекала племянницу в заманивании сына и в неблагодарности. Соня, молча с опущенными глазами, слушала жестокие слова графини и не понимала, чего от нее требуют. Она всем готова была пожертвовать для своих благодетелей. Мысль о самопожертвовании была любимой ее мыслью; но в этом случае она не могла понять, кому и чем ей надо жертвовать. Она не могла не любить графиню и всю семью Ростовых, но и не могла не любить Николая и не знать, что его счастие зависело от этой любви. Она была молчалива и грустна, и не отвечала. Николай не мог, как ему казалось, перенести долее этого положения и пошел объясниться с матерью. Николай то умолял мать простить его и Соню и согласиться на их брак, то угрожал матери тем, что, ежели Соню будут преследовать, то он сейчас же женится на ней тайно.
Графиня с холодностью, которой никогда не видал сын, отвечала ему, что он совершеннолетний, что князь Андрей женится без согласия отца, и что он может то же сделать, но что никогда она не признает эту интригантку своей дочерью.
Взорванный словом интригантка , Николай, возвысив голос, сказал матери, что он никогда не думал, чтобы она заставляла его продавать свои чувства, и что ежели это так, то он последний раз говорит… Но он не успел сказать того решительного слова, которого, судя по выражению его лица, с ужасом ждала мать и которое может быть навсегда бы осталось жестоким воспоминанием между ними. Он не успел договорить, потому что Наташа с бледным и серьезным лицом вошла в комнату от двери, у которой она подслушивала.
– Николинька, ты говоришь пустяки, замолчи, замолчи! Я тебе говорю, замолчи!.. – почти кричала она, чтобы заглушить его голос.
– Мама, голубчик, это совсем не оттого… душечка моя, бедная, – обращалась она к матери, которая, чувствуя себя на краю разрыва, с ужасом смотрела на сына, но, вследствие упрямства и увлечения борьбы, не хотела и не могла сдаться.
– Николинька, я тебе растолкую, ты уйди – вы послушайте, мама голубушка, – говорила она матери.
Слова ее были бессмысленны; но они достигли того результата, к которому она стремилась.
Графиня тяжело захлипав спрятала лицо на груди дочери, а Николай встал, схватился за голову и вышел из комнаты.
Наташа взялась за дело примирения и довела его до того, что Николай получил обещание от матери в том, что Соню не будут притеснять, и сам дал обещание, что он ничего не предпримет тайно от родителей.
С твердым намерением, устроив в полку свои дела, выйти в отставку, приехать и жениться на Соне, Николай, грустный и серьезный, в разладе с родными, но как ему казалось, страстно влюбленный, в начале января уехал в полк.
После отъезда Николая в доме Ростовых стало грустнее чем когда нибудь. Графиня от душевного расстройства сделалась больна.
Соня была печальна и от разлуки с Николаем и еще более от того враждебного тона, с которым не могла не обращаться с ней графиня. Граф более чем когда нибудь был озабочен дурным положением дел, требовавших каких нибудь решительных мер. Необходимо было продать московский дом и подмосковную, а для продажи дома нужно было ехать в Москву. Но здоровье графини заставляло со дня на день откладывать отъезд.
Наташа, легко и даже весело переносившая первое время разлуки с своим женихом, теперь с каждым днем становилась взволнованнее и нетерпеливее. Мысль о том, что так, даром, ни для кого пропадает ее лучшее время, которое бы она употребила на любовь к нему, неотступно мучила ее. Письма его большей частью сердили ее. Ей оскорбительно было думать, что тогда как она живет только мыслью о нем, он живет настоящею жизнью, видит новые места, новых людей, которые для него интересны. Чем занимательнее были его письма, тем ей было досаднее. Ее же письма к нему не только не доставляли ей утешения, но представлялись скучной и фальшивой обязанностью. Она не умела писать, потому что не могла постигнуть возможности выразить в письме правдиво хоть одну тысячную долю того, что она привыкла выражать голосом, улыбкой и взглядом. Она писала ему классически однообразные, сухие письма, которым сама не приписывала никакого значения и в которых, по брульонам, графиня поправляла ей орфографические ошибки.
Здоровье графини все не поправлялось; но откладывать поездку в Москву уже не было возможности. Нужно было делать приданое, нужно было продать дом, и притом князя Андрея ждали сперва в Москву, где в эту зиму жил князь Николай Андреич, и Наташа была уверена, что он уже приехал.
Графиня осталась в деревне, а граф, взяв с собой Соню и Наташу, в конце января поехал в Москву.
Пьер после сватовства князя Андрея и Наташи, без всякой очевидной причины, вдруг почувствовал невозможность продолжать прежнюю жизнь. Как ни твердо он был убежден в истинах, открытых ему его благодетелем, как ни радостно ему было то первое время увлечения внутренней работой самосовершенствования, которой он предался с таким жаром, после помолвки князя Андрея с Наташей и после смерти Иосифа Алексеевича, о которой он получил известие почти в то же время, – вся прелесть этой прежней жизни вдруг пропала для него. Остался один остов жизни: его дом с блестящею женой, пользовавшеюся теперь милостями одного важного лица, знакомство со всем Петербургом и служба с скучными формальностями. И эта прежняя жизнь вдруг с неожиданной мерзостью представилась Пьеру. Он перестал писать свой дневник, избегал общества братьев, стал опять ездить в клуб, стал опять много пить, опять сблизился с холостыми компаниями и начал вести такую жизнь, что графиня Елена Васильевна сочла нужным сделать ему строгое замечание. Пьер почувствовав, что она была права, и чтобы не компрометировать свою жену, уехал в Москву.
В Москве, как только он въехал в свой огромный дом с засохшими и засыхающими княжнами, с громадной дворней, как только он увидал – проехав по городу – эту Иверскую часовню с бесчисленными огнями свеч перед золотыми ризами, эту Кремлевскую площадь с незаезженным снегом, этих извозчиков и лачужки Сивцева Вражка, увидал стариков московских, ничего не желающих и никуда не спеша доживающих свой век, увидал старушек, московских барынь, московские балы и Московский Английский клуб, – он почувствовал себя дома, в тихом пристанище. Ему стало в Москве покойно, тепло, привычно и грязно, как в старом халате.
Московское общество всё, начиная от старух до детей, как своего давно жданного гостя, которого место всегда было готово и не занято, – приняло Пьера. Для московского света, Пьер был самым милым, добрым, умным веселым, великодушным чудаком, рассеянным и душевным, русским, старого покроя, барином. Кошелек его всегда был пуст, потому что открыт для всех.
Бенефисы, дурные картины, статуи, благотворительные общества, цыгане, школы, подписные обеды, кутежи, масоны, церкви, книги – никто и ничто не получало отказа, и ежели бы не два его друга, занявшие у него много денег и взявшие его под свою опеку, он бы всё роздал. В клубе не было ни обеда, ни вечера без него. Как только он приваливался на свое место на диване после двух бутылок Марго, его окружали, и завязывались толки, споры, шутки. Где ссорились, он – одной своей доброй улыбкой и кстати сказанной шуткой, мирил. Масонские столовые ложи были скучны и вялы, ежели его не было.
- Родившиеся 18 июня
- Родившиеся в 1868 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в медье Яс-Надькун-Сольнок
- Родившиеся в Транслейтании
- Умершие 9 февраля
- Умершие в 1957 году
- Умершие в Эшториле
- Витязи Венгерского королевства
- Кавалеры Большого Креста венгерского ордена Заслуг с цепью
- Кавалеры ордена Белого орла (Польша, 1921—1939)
- Кавалеры ордена Золотой шпоры
- Кавалеры Высшего ордена Святого Благовещения
- Кавалеры Большого креста ордена Святых Маврикия и Лазаря
- Кавалеры Большого креста ордена Короны Италии
- Кавалеры Рыцарского креста
- Кавалеры Железного креста 1 класса
- Кавалеры Железного креста 2 класса
- Награждённые орденом Заслуг германского орла
- Кавалеры ордена Чёрного орла
- Кавалеры ордена Красного орла 2-й степени
- Кавалеры ордена Слона
- Награждённые Галлиполийской звездой
- Кавалеры ордена Марии Терезии
- Кавалеры Большого креста чилийского ордена Заслуг
- Кавалеры Большого креста Королевского венгерского ордена Святого Стефана
- Награждённые Крестом Военных заслуг (Австро-Венгрия)
- Кавалеры ордена Железной короны 1-й степени
- Кавалеры Большого креста ордена Белой розы Финляндии
- Кавалеры Высшего ордена Хризантемы
- Кавалеры ордена Короны короля Звонимира
- Кавалеры Большого креста ордена Трёх звёзд
- Кавалеры ордена Белой звезды на цепи
- Кавалеры ордена Орлиного креста 1 класса
- Кавалеры ордена Креста Свободы 3 класса 1 степени
- Кавалеры ордена Эстонского Красного Креста 1 класса
- Кавалеры ордена Серафимов
- Кавалеры ордена Звезды Карагеоргия
- Кавалеры Большого креста ордена Спасителя
- Кавалеры Большого креста ордена Святого Олафа
- Кавалеры цепи ордена Карлоса III
- Кавалеры ордена «Святые Равноапостольные Кирилл и Мефодий»
- Кавалеры ордена Святого Михаила (Франция)
- Кавалеры ордена Князя Даниила I 1 степени
- Кавалеры египетского ордена Мухаммеда Али
- Адмиралы Австро-Венгрии
- Участники Первой мировой войны
- Лидеры стран-участниц Второй мировой войны
- Правители Венгрии
- Регенты
- Мемуаристы Венгрии
- Похороненные в Венгрии