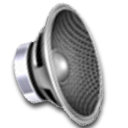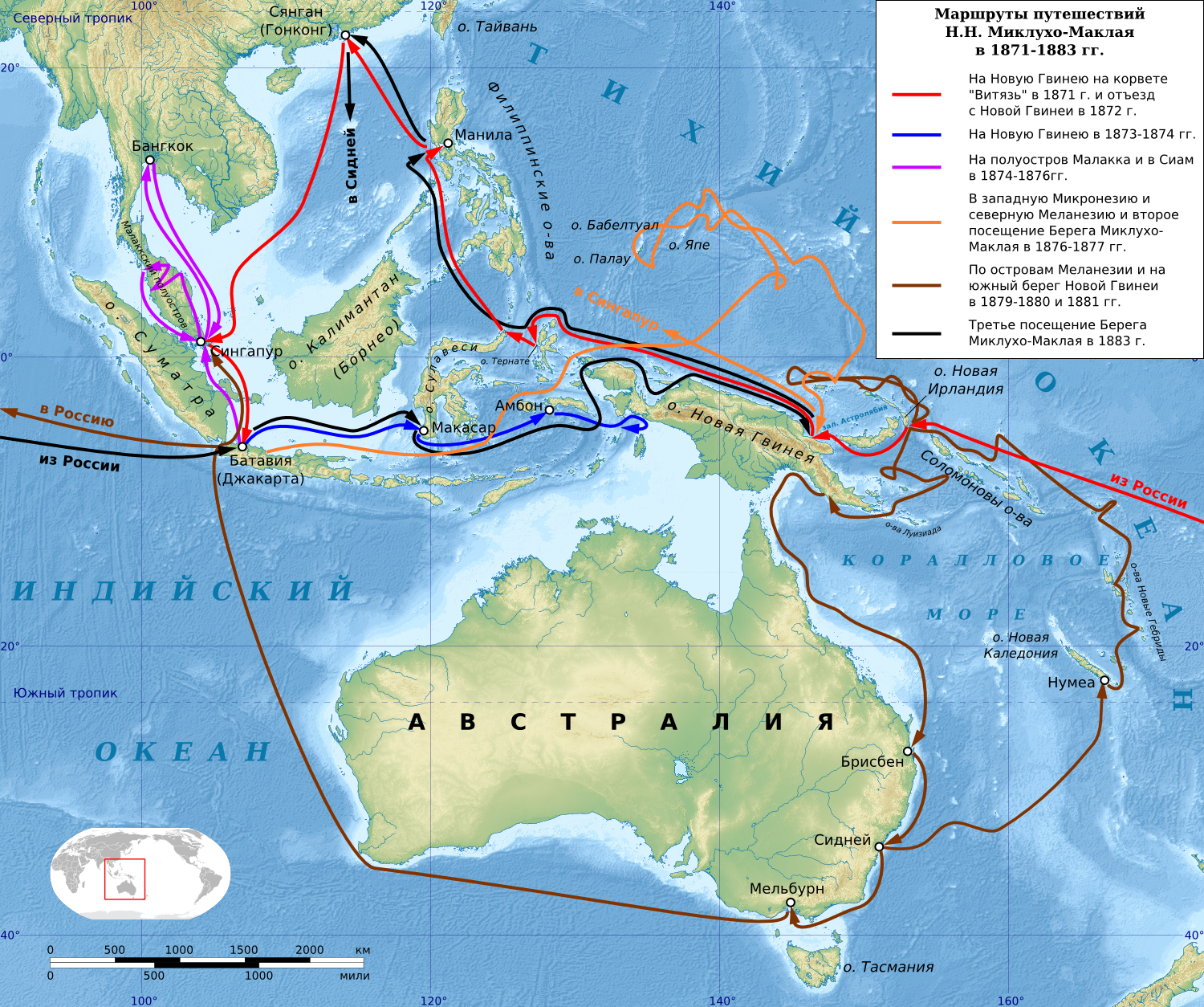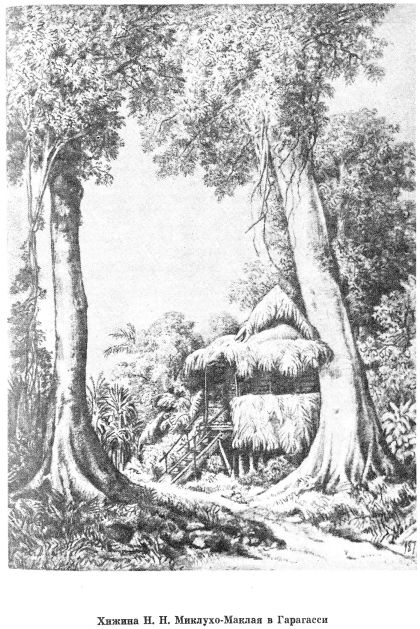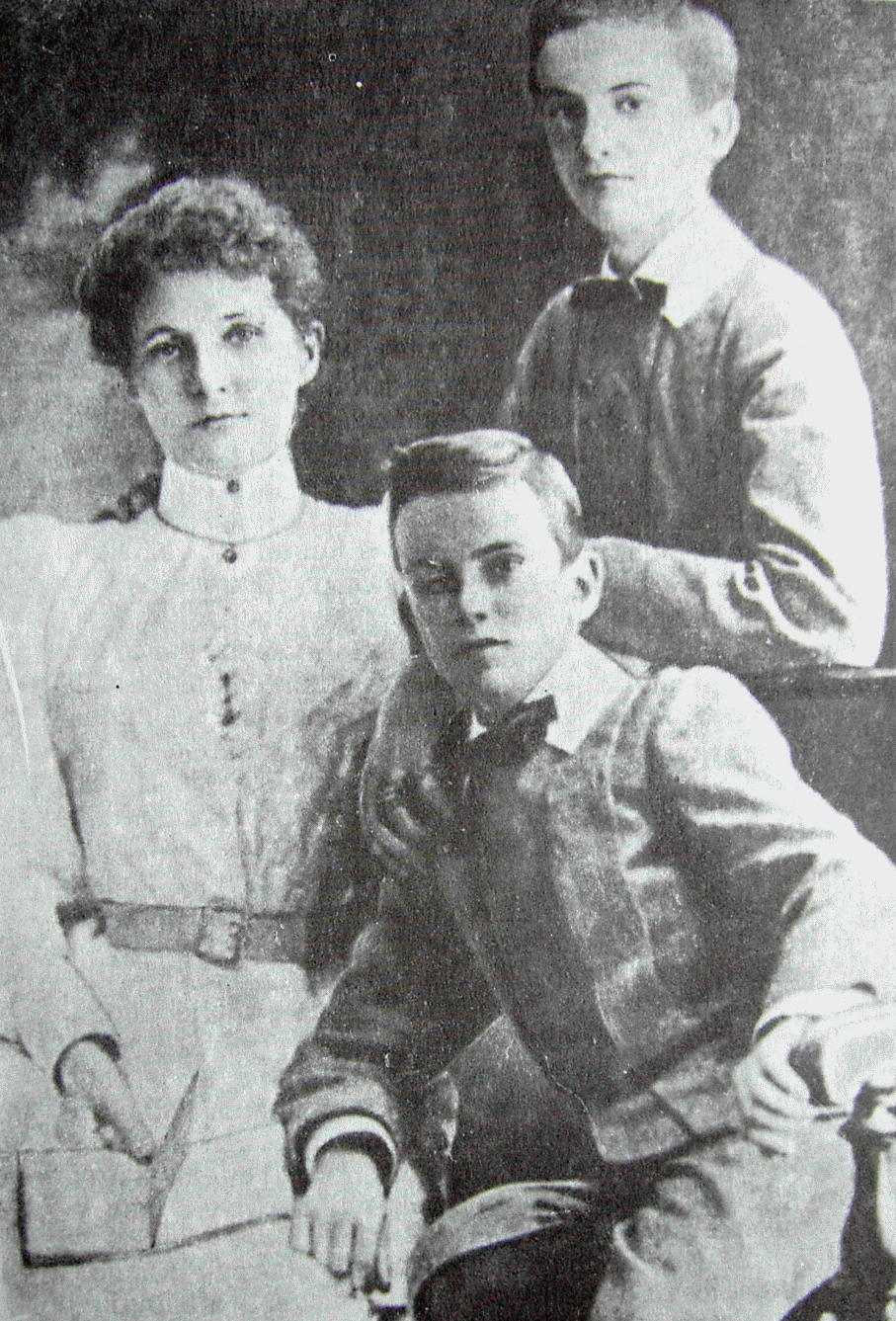Миклухо-Маклай, Николай Николаевич
| Николай Николаевич Миклухо-Маклай | |
 Фотография 1870-х годов | |
| Имя при рождении: |
Николай Николаевич Миклуха |
|---|---|
| Род деятельности: | |
| Дата рождения: | |
| Место рождения: |
село Языково-Рождественское, Боровичский уезд, Новгородская губерния |
| Подданство: | |
| Дата смерти: |
2 (14) апреля 1888 (41 год) |
| Место смерти: | |
| Отец: |
Николай Ильич Миклуха |
| Мать: |
Екатерина Семёновна Беккер |
| Супруга: |
Маргарет-Эмма Робертсон |
| Дети: |
Александр (1884—1951), |
| Систематик живой природы | |
|
Автор наименований ряда ботанических таксонов. В ботанической (бинарной) номенклатуре эти названия дополняются сокращением «Mikl.-Maclay». [www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=6463-1 Персональная страница] на сайте IPNI Исследователь, описавший ряд зоологических таксонов. Для указания авторства, названия этих таксонов сопровождают обозначением «Miklouho-Maclay».
|
Никола́й Никола́евич Миклу́хо-Макла́й (1846—1888) — русский этнограф, антрополог, биолог и путешественник, изучавший коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, в том числе папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи, называемого Берегом Маклая.
Образование получил в Германии. В 1864—1869, 1870—1882 и 1883—1886 годах жил за пределами России, никогда не оставаясь на родине больше чем на год. Автор около 160 научных трудов, в основном статей и заметок, при жизни публиковавшихся чаще всего на немецком и английском языках. Известен также как защитник коренных народов Юго-Восточной Азии и Океании, активно выступал против работорговли. Как учёный, последовательно придерживался принципа единства человеческого рода; отвергал популярные в своё время теории, что чёрные расы, включая австралийских аборигенов и папуасов, представляют собой переходный биологический вид от обезьяны к человеку разумному. В то же время он рассматривал северо-восточное побережье Новой Гвинеи как «этнографический заповедник», на единоличное обладание которым претендовал. Это толкало его на путь политических авантюр, в частности — призывам к российской колонизации Берега Маклая, с одновременным созданием Папуасского Союза — независимого государства, главой которого он стремился стать. После того, как российское правительство отклонило этот проект, обратился с одновременным предложением установить протекторат к правительствам Великобритании и Германской империи (при этом в обращении к Бисмарку Миклухо-Маклай призывал Германию стать гарантом того, что Новая Гвинея не будет подвергаться колонизации). В итоге Берег Маклая был в 1884 году превращён в германскую колонию.
День рождения Миклухо-Маклая неофициально отмечается как профессиональный праздник этнографов[1].
Содержание
- 1 Происхождение. Семья
- 2 Ранние годы. Юность
- 3 Годы учения
- 4 Первая экспедиция на Новую Гвинею
- 5 Индонезия, Филиппины, Малакка. Второе путешествие на Новую Гвинею
- 6 Австралия. 1878—1882 годы
- 7 Россия и Европа
- 8 Австралия. 1883—1886 годы
- 9 Возвращение в Россию
- 10 Болезнь и смерть
- 11 Судьба Маргарет Миклухо-Маклай
- 12 Личность. Научное наследие
- 13 Память
- 14 Комментарии
- 15 Примечания
- 16 Литература
- 17 Ссылки
Происхождение. Семья
Род Миклух сравнительно достоверно прослеживается с середины XVIII века. Сам Н. Н. Миклухо-Маклай в предсмертной автобиографии, датированной 1887 годом, утверждал, что потомственное дворянство было дано его прапрадеду Степану Миклухе — хорунжему казачьего полка, отличившегося при штурме Очакова во время русско-турецкой войны[2]. Эта версия была практически безоговорочно принята всеми биографами ХХ века, хотя она содержит множество анахронизмов: подвиг при взятии Очакова отнесён к 1772, а не к 1788 году; Стародубский казачий полк, в котором служил С. Миклуха, не входил в состав соединений, участвовавших в осаде и штурме Очакова[3]. Тем не менее в Государственном архиве Черниговской области уже независимой Украины были обнаружены документы, относящиеся к жизни Степана Миклухи. Он родился около 1750 года и жил с семьёй в Стародубе — полковом городе Гетманщины, с 1782 года — уездном городе Новгород-Северского наместничества. В городе был даже Миклухин переулок, в котором жили многие представители рода[4]. С. Миклуха после преобразования казачьего полка в регулярный Стародубский легкокавалерийский полк Русской армии был удостоен первого обер-офицерского звания — корнета. Таким образом, документальных доказательств пожалования дворянства роду Миклух не существует. Материалы первой половины XIX века также прямо называют прадеда Н. И. Миклухо-Маклая — Степана Степановича — «происходящим из личных дворян», а членов рода — «корнетскими детьми»[5].
Дед Н. Н. Миклухо-Маклая — Илья Степанович Миклуха — родился в 1791 году и дослужился до чина коллежского секретаря, по документам не имея недвижимого имущества. Его старший сын, отец путешественника Николай Ильич Миклуха, родился 24 октября 1818 года и смог в 1829 году поступить в Нежинский лицей. Далее он поступил в Институт Корпуса инженеров путей сообщения, обучаясь в нём с 1837 года. Успешно сдав выпускные экзамены, Н. И. Миклуха был произведён в чин инженер-поручика и отправлен на строительство канала, соединяющего реки Москва и Волга. В декабре 1843 года он был произведён в инженер-капитаны и поставлен на сооружение дистанции Николаевской железной дороги, проходящей через Валдайскую возвышенность[6].
14 апреля 1844 года в Москве в Воскресенской церкви на Сретенке Н. И. Миклуха обвенчался с Екатериной Семёновной Беккер, дочерью героя Отечественной войны 1812 года полковника Беккера, служившего тогда чиновником московского Приказа общественного призрения. Жениху было 25 лет, невеста была восемью годами его моложе[7]. Молодожёны отправились к месту службы — деревню Языково Боровичского уезда Новгородской губернии. Здесь супруги снимали комнату в имении Рождественское, принадлежащем помещику Н. Н. Евстифееву[8]. 2 июля 1845 года у четы родился первенец — Сергей (скончался в 1895 году). 17 июля 1846 года на свет появился второй сын, названный Николаем. Крещён он был в церкви св. Николая Чудотворца в Шегриной Горе; восприемник — генерал-майор А. Н. Ридигер, происходил из семейства, которое в будущем даст России патриарха[9].
Вопрос о национальной идентичности Миклухо-Маклая не может считаться окончательно решённым. Немалое влияние в этом вопросе оказала Екатерина Семёновна, воспитывавшая Миклуху после ранней смерти отца. Как вспоминал брат путешественника Михаил, «в нашей семье не было квасного патриотизма, мы были воспитаны в уважении всех национальностей, в уважении личности». Польское восстание 1863—1864 годов побудило Миклуху глубже заинтересоваться польской культурой. В итоге в предсмертной автобиографии Миклухо-Маклай, ссылаясь на происхождение своих родителей, писал (в третьем лице), что «Ник. Ник. представляет собой смесь элементов: русского, германского и польского»[10].
Двойная фамилия
Впервые двойная фамилия — Миклухо-Маклай (Miklucho-Maclay) — появилась в подписи к статье «Рудимент плавательного пузыря у селахий», написанной в 1868 году на немецком языке; это была первая научная публикация Николая[11].
Вопрос о происхождении двойной фамилии не может считаться окончательно решённым. Первым к проблеме обратился в 1890-е годы географ Д. Н. Анучин. Работая над изданием дневников исследователя, он запросил барона Ф. Р. Остен-Сакена, а тот в 1898 году разыскал гимназического приятеля Н. Н. Миклухо-Маклая — библиотекаря Русского географического общества Ю. В. Бруннемана. По версии Бруннемана, двойной фамилией Николай пользовался якобы ещё в гимназии[11]. По версии, высказанной в 1901 году Г. Ф. Штендманом[Прим 1], «прибавка „Маклай“ совершенно произвольная: сокращённое малороссийское Миколай (Николай), поставленное после фамилии священником в церковной книге»[12]. Версия Штендмана была повторена в 1938 году Н. Н. Водовозовым в его книге об учёном[13]. Д. Д. Тумаркин ещё в 1982 году провёл проверку данной версии, после чего выяснилось, что метрические книги были утрачены в Великую Отечественную войну, однако ряд фотокопий сделал в 1930-е годы племянник учёного — Д. С. Миклухо-Маклай. Из фотокопий следует, что формула записи была соблюдена точно и приставки «Маклай» в церковной книге нет. Нет её и в метрике, выписанной в 1857 году по запросу Екатерины Семёновны Миклухи Новгородской духовной консисторией[11].
Существовала также «шотландская легенда», восходящая к преданию семьи Миклух. По легенде, шотландский наёмник Микаэль Маклай попал в битве при Жёлтых Водах в плен к казакам, прижился и превратился в Миклуху. Никакими свидетельствами или документами она не подтверждается[14]. Н. А. Бутинов в своём биографическом очерке 1953 года, со слов племянницы учёного, писал, что приставка «Маклай», вероятно, происходит от фамилии «Махлай», которую носил кто-либо в разветвлённом роду Миклух[15].
Н. А. Бутинов, после многих лет исследований проблемы, предложил в 1998 году следующую версию: обнаружив на Канарских островах новый вид губок Guancha blanca, Н. Н. Миклуха по традиции добавил к названию сокращённую фамилию первооткрывателя (по-латыни — Mcl). Из этих трёх букв он составил новую фамилию — Maclay, которую и присоединил к исконной[16]. Д. Д. Тумаркин, признавая данную версию, давал ей психологическое обоснование. Николай Миклуха всегда тяготился незнатностью отца и неблагородностью казацкой фамилии; матери — наполовину польке — с большим трудом удалось добиться причисления сыновей к потомственному дворянству. Двойные же фамилии были характерны для польско-украинских дворянских родов (например, Грумм-Гржимайло, Доливо-Добровольский и др.). Поселившись в Германии, Н. Миклуха, по мнению Х. Вотте — его немецкого биографа, — распускал или, по крайней мере, не опровергал слухи о своём княжеском достоинстве. Его учитель Эрнст Геккель в частной переписке 1860-х годов называл Николая «русским князем» и даже «князем из Киева». По данным переписки и из научных публикаций следует, что ещё в 1867 году Геккель называл своего ученика Миклухой, но уже в 1868 году писал, что его «сопровождал студент-медик Миклухо-Маклай»[17].
Начиная с 1870-х годов, находясь за пределами России, Н. Н. Миклухо-Маклай нередко опускал первую — исконную — часть своей фамилии, а в Великобритании и Австралии с 1874 года представлялся как «барон Маклай» или «де Миклухо-Маклай», что изначально было недоразумением, допущенным журналистами. Д. Н. Анучин указывал, что в этом просматривается аналогия с А. Гумбольдтом, которого со времени его путешествия в Америку именовали «бароном», каковым он никогда не был в действительности. В жёстко стратифицированном британском и колониальном обществе, с его сословными предрассудками и привилегиями, дворянский титул позволял добиваться существенных научных и общественных целей, в том числе защиты прав коренных народов[18].
Ранние годы. Юность
Раннее детство
10 августа 1846 года Николай Ильич Миклуха был назначен помощником начальника опытного железнодорожного пути; осенью семейство Миклух переселилось в Петербург на казённую квартиру. 18 марта 1848 года Н. Миклуха был назначен заведующим Николаевским вокзалом и первыми 12-ю верстами дороги до Колпино. К тому времени семейство расширилось — 11 мая 1849 года родилась дочь Ольга (скончалась в 1880 году). В августе 1849 года глава семьи был назначен начальником опытного пути между Вышним Волочком и Тверью, его протяжённость составляла 112 вёрст[19]. Однако в октябре 1850 года Н. Миклуха вызвал недовольство начальника Южной дирекции Николаевской дороги и был отстранён от дел, более года ожидая нового назначения. Тем не менее в декабре он был награждён орденом св. Анны 3-й степени [20]. Наконец, 9 октября 1851 года инженер-капитан Миклуха без повышения в чине был назначен начальником VI отделения Николаевской железной дороги, простиравшегося от станции Спировская до Клина. Семья жила в Твери. 31 мая 1853 года родился ещё один сын — Владимир[21]. В период 1853—1855 годов Н. Миклуха получил несколько благодарностей и медаль «За отлично усердную службу» за бесперебойную перевозку войск во время Крымской войны. Однако в день 39-летия, 24 октября 1855 года, он был отстранён от занимаемой должности. Предположительно, это было сделано по его собственной просьбе в связи с резко ухудшившимся здоровьем: открылся туберкулёз[22].
В конце 1855 года семейство Миклух переехало в Петербург, в квартиру у Таврического сада. Здесь 12 апреля 1856 года родился последний сын — Михаил, который потом стал собирателем и хранителем семейного архива[23]. Глава семьи заведовал Александровским механическим заводом при Николаевской железной дороге. В декабре 1856 года он был назначен руководителем строительства Выборгского шоссе, что окончательно подкосило его здоровье. 20 декабря 1857 года Н. И. Миклуха скончался в возрасте 41 года[24].
Материальное положение семьи было крайне тяжёлым, поскольку Н. Миклуха не выслужил пенсии, однако семейные сбережения были вложены в акции пароходной компании «Самолёт»; мать также подрабатывала черчением географических карт[24]. Эти средства позволяли дать детям образование: общеобразовательные предметы преподавали приходящие учителя, а гувернантки обучали немецкому и французскому языкам. Рисовать детей учил художник Ваулин, который открыл у Николая художественные способности, а также нарисовал самый ранний из его портретов[25].
Гимназия и Петербургский университет
В 1858 году старших детей — Сергея и Николая — отдали в 3-й класс Анненшуле. Однако преподавание там велось на немецком языке, что вызывало протесты братьев, и плата за обучение оказалась слишком высока[26]. Братьев было решено перевести в казённую гимназию, для чего требовалось большое количество документов. Е. С. Беккер-Миклуха обратилась в Черниговское дворянское собрание, в результате выяснилось, что в родословных дворянских книгах род Миклух не числится. Тогда Екатерина Семёновна подала прошение в Петербургское дворянское собрание о внесении её и детей (Николаю было тогда 12 лет) в родословную книгу дворянства Петербургской губернии, ссылаясь на чин покойного супруга[27]. Прошение было удовлетворено.
16 августа 1859 года Сергей и Николай Миклухи были зачислены в 4-й класс Второй Петербургской гимназии, расположенной на углу Большой Мещанской улицы и Демидова переулка. Николай учился плохо и пропускал занятия, как он признавался двадцать лет спустя, не только по нездоровью. В результате в 4-м классе гимназии он провёл два года, причём в 1860/1861 учебном году посещал занятия редко и пропустил 414 уроков. Единственная оценка «хорошо» у него была по французскому языку, «удовлетворительно» по немецкому языку, а по остальным предметам — «худо» и «посредственно». Тем не менее в 5-й класс он был переведён[28].
Общественно-политический подъём 1861 года, связанный с отменой крепостного права в России, не оставил в стороне и гимназистов. 14 октября в результате разгона студенческой манифестации у здания Санкт-Петербургского университета были арестованы 35 человек, в их числе братья Сергей и Николай Миклухи (которым тогда было, соответственно, 16 и 15 лет). Они были заключены в Петропавловскую крепость и помещены в Кронверкскую куртину, где не допускались свидания и передачи с воли. Однако уже 18 октября они были отпущены, поскольку следственная комиссия сочла братьев «взятыми по ошибке»[29].
В 1861/1862 учебном году Николай Миклуха по-прежнему пропускал занятия, по результатам аттестации получив «хорошо» по французскому и латинскому языкам, «удовлетворительно» по русскому и немецкому языкам, естественной истории, географии, истории и физике и «посредственно» по математике. В шестой класс гимназии он перешёл с большим трудом[30]. В следующем году Николай перенёс тяжёлое воспаление лёгких, на экзаменах получил средний балл «две целых семь девятых» и был оставлен на второй год в 6-м классе[30].
27 июня 1863 года Николай Миклуха подал заявление о выходе из гимназии[30]. Родственники, в первую очередь М. Н. Миклуха, а вслед за ними биографы утверждали, что он был исключён по политическим мотивам[31]. Уйдя из гимназии, Николай думал о поступлении в Академию художеств, но его мягко отговорила мать. 24 сентября 1863 года Н. Миклуха воспользовался возможностью поступления в университет вольнослушателем, без окончания гимназического курса, и подал прошение о зачислении на физико-математический факультет[32]. 17-летний вольнослушатель усердно занимался естественными науками; 3 февраля 1864 года он подал прошение о праве посещать курс физиологии[33].
26 февраля 1864 года в университете началась сходка, вызванная обвинением в доносительстве на товарищей одного из студентов. С 27 февраля студенты стали критиковать университетские порядки и требовали отставки инспектора; в этот день Николай Миклуха пытался провести в университет своего гимназического товарища Суфщинского. Это стало причиной того, что вольнослушателю Миклухе было запрещено посещать университет, причём в донесении инспектора Н. Озерецкого говорилось, что он и ранее неоднократно нарушал правила и университетский устав[34].
В предсмертной автобиографии 1887 года Миклухо-Маклай утверждал, что был исключён без права поступления в русские университеты[2]. Эту версию некритически восприняли практически все биографы конца XIX — первой четверти ХХ века, но в 1923 году её подверг сомнению Д. Н. Анучин[35]. Тем не менее, по политическим мотивам, в советской литературе данная версия возобладала. Только в 1983 году в статье Б. Н. Комиссарова была восстановлена последовательность событий февраля 1864 года и их истинные последствия. Как вольнослушателя, Н. Миклуху не могли исключить без права поступления, поскольку это было высшей мерой наказания для студента, решение о которой выносил университетский суд, а затем она утверждалась попечителем учебного округа. Запрет на вход в университет, применявшийся к вольнослушателям, даже не сопровождался особой бюрократической процедурой[36].
Определению дальнейшего пути Н. Миклухи способствовал его бывший домашний учитель В. Миклашевский, который посоветовал ему поступать в Гейдельбергский университет. Как и в других немецких университетах, российским подданным не было необходимости предъявлять при этом документы об образовании[37]. Мать согласилась с доводами Миклашевского и, несмотря на тяжёлое материальное положение семьи, решила отправить сына в Германию. Главной проблемой стало при этом получение заграничного паспорта, поскольку молодёжи документы выдавали неохотно в связи с Польским восстанием. Однако в марте 1864 года Н. Миклуха заболел воспалением лёгких, усугублённым плевритом, и, после освидетельствования девятью врачами в полицейском участке, по ходатайству матери получил искомый паспорт. 21 апреля 1864 года Николай выехал в Германию[38].
Годы учения
Гейдельберг и Лейпциг
Русское университетское землячество в Гейдельберге насчитывало около 130 человек (всего в городе тогда было 15 тыс. жителей и около 3000 студентов, из которых до 500 иностранцев)[39]. Русские студенты имели свободный доступ к бесцензурной прессе на родном языке, а с 1863 года — начала Польского восстания — раскололись на две противоборствующие группировки. 18-летний Н. Миклуха встал на сторону группировки «герценистов», выступавших в поддержку восставших поляков. М. Н. Миклуха в материалах к биографии брата писал, что Николай в те годы разделял некоторые взгляды Базарова — героя тургеневского романа «Отцы и дети»[40]. В этом его поддерживал бывший учитель — поляк по национальности — Миклашевский, который познакомил его с польскими студентами, Николай даже попытался изучать польский язык. Этому решительно воспротивилась мать (наполовину полька), которая писала ему: «Да зачем тебе этот язык, лучше английский…», и всячески призывала сына получить инженерную специальность[40].
В Гейдельберге Н. Миклуха записался на курсы лекций по геометрии и тригонометрии, а также прослушал курсы политической экономии, новейшей истории, государства и права, вызвав упрёки со стороны матери[40]. Материальные условия его были плачевны — денег, высылаемых из Петербурга, едва хватало на плату за обучение и квартиру; товарищи Миклухи по университету единодушны в том, что он сильно нуждался. Из-за опасений полицейских преследований в России, по совету матери в первые каникулы Миклуха отправился в Шварцвальд, чтобы дополнительно поправить здоровье[41]. Из его автобиографии известно, что в зимний семестр 1864/1865 учебного года он изучал в Гейдельберге физику, химию, геологию, философию, уголовное и гражданское право[2]. Судя по выпискам из книг и сохранившимся конспектам лекций, Н. Миклуха увлёкся в Гейдельберге утопическим социализмом, особенно Оуэном и Сен-Симоном, а также идеями Чернышевского, роман которого «Что делать?» привёз с собой из Петербурга[42]. Вести о гражданской казни Чернышевского потрясли Николая, он попросил мать прислать ему фотографический портрет писателя, который перерисовал. Однако разгром демократического движения 1860-х годов привёл к тому, что русское студенчество за границей раскололось. Умеренные вернулись в Россию и поступили на гражданскую службу, радикалы перебирались в Швейцарию, поскольку в Великом герцогстве Баденском усилилась полицейская реакция. К 1866 году в Гейдельберге почти не осталось русских студентов[43].
Летний семестр 1865 года Н. Миклуха провёл в Лейпцигском университете, где поступил на камеральный факультет, готовивший специалистов для работы управляющими в сельском хозяйстве, лесоводстве и др. На факультет Миклуху зачислили 19 апреля 1865 года, он прослушал четыре курса: физической географии; теории национальной экономии, сравнительной статистики и государствоведения Германии; истории греческой философии; учения о костях и сухожилиях. По мнению Д. Д. Тумаркина, поступив по желанию матери на «прикладной» факультет, он продолжал «зондировать» разные науки[44]. В октябре 1865 года Николай переехал в Йену, которая привлекла его как дешевизной, так и тем, что местный университет стал центром пропаганды дарвинизма в Германии[44].
Йена
Судя по сохранившимся документам, 19 октября 1865 года Николай фон Миклухо (как он себя назвал и подписывался в документах) подал заявление на медицинский факультет Йенского университета; матери он писал об этом с осторожностью[45]. Помимо медицинских курсов, Николай оплатил также лекции по основам сельского хозяйства, астрономии и телеграфии, но в дальнейшем перестал отвлекаться и три года занимался профильными предметами[46]. Наставниками Миклухи в Йенском университете стали Карл Гегенбаур и Эрнст Геккель, особенно последний. Уже в письмах, датированных мартом 1866 года, Геккель называет Миклуху «своим усердным и полезным помощником». Хотя работа ассистента не оплачивалась, но она давала много полезного опыта: Николай готовил для лекций Геккеля наглядные пособия и препараты, изготавливал для него таблицы и рисовал данные микроскопических наблюдений. Из-за усиленных занятий с микроскопом в марте 1866 года Миклуха заработал «лёгкий паралич левой половины лица», причём Геккель навещал его в больнице и писал родителям, что должен заботиться о русском студенте, у которого нет в Германии никого[47].
Студентов из России в Йене было не более 20—30 человек, они не составляли землячества. Николай почти не общался с ними, поглощённый научными занятиями, но подружился с князем Александром Александровичем Мещерским[48], в своё время — тоже заключённым Петропавловской крепости. С лета 1866 года они снимали комнаты в доме пекаря Хуфельдта[49].
К 1865 году относятся первые свидетельства романтических устремлений будущего учёного — Николай Миклуха освоил тогдашний немецкий обычай знакомиться с девицами по переписке (объявления от желающих печатались в газетах); переписка могла привести и к очному знакомству и даже заключению брака. Первичной целью для него, видимо, было совершенствование в немецком эпистолярном жанре. Сохранились несколько образчиков подобных писем, причём Николай писал в ироническом тоне и даже с чувством превосходства[50]. В 1868 году Миклуха познакомился с Аурелией Гильдебранд — дочерью профессора статистики, наставника А. Мещерского. Аурелия была образованной девушкой, свободно владела французским и изучала русский язык, играла на фортепиано. Её переписка с Миклухой не сохранилась, но в Москве были найдены 32 письма к А. Мещерскому, в которых отношения с Николаем занимают много места[51]. Во время клинической практики, по свидетельству брата — М. Миклухи и датского литературного критика Г. Брандеса, вспыхнул роман между Николаем и его пациенткой, которая перед смертью завещала ему свой череп. Николай сделал из него настольную лампу, причём череп был поставлен на локтевые кости, фитиль был установлен на своде черепа, а над ним был сооружён зелёный абажур. Лампа эта существовала ещё в 1887 году и, по словам Н. Н. Миклухо-Маклая, использовалась им во всех экспедициях[52].
Экспедиция на Канарские острова
В марте 1866 года научный руководитель Николая Э. Геккель закончил монографию «Общая морфология организмов» и, испытывая усталость от кабинетной работы, решил совершить поездку на Сицилию для изучения средиземноморской морской фауны. В команду он пригласил приват-доцента Рихарда Грефа из Бонна и двух своих студентов — Германа Фоля и Николая Миклуху. Экспедиция едва не была сорвана из-за начала австро-прусской войны, в которой герцогство Саксен-Веймар-Айзенах участвовало на стороне Пруссии. После окончания войны началась эпидемия холеры в Южной Европе, из-за чего было прервано пароходное сообщение и закрыты границы. В частности, власти Мессины, которая была целью Геккеля, оповестили, что будут обстреливать любое судно, которое приблизится к гавани[53]. Маршрут поездки пришлось менять.
В конце октября 1866 года Фоль и Миклуха поездом отбыли в Бордо, а оттуда морем — в Лиссабон. Благодаря рисунку Николая известно, что они побывали и в Синтре; Геккель с Грефом добирались в Лиссабон через Англию, где собирались познакомиться с Томасом Гексли и самим Дарвином. Знакомство состоялось, особенно любезным оказался Гексли. Только 15 ноября участники экспедиции отплыли на Мадейру: Геккель предполагал провести там первичное ознакомление с пелагической и литоральной фауной Атлантики, а затем отправиться на Канары. Оказалось, однако, что сообщение с островами прервано из-за холеры[54]. Путешественников выручил прусский фрегат «Ниоба», совершавший учебное плавание; его командир был племянником профессора ботаники Йенского университета. Пробыв в Фуншале всего два дня, путешественники были доставлены в Санта-Крус на о. Тенерифе 22 ноября[55].
9 декабря команда высадилась в гавани Арресифе на о. Лансароте, причём из-за шторма плавание вместо 30 часов продлилось 4 суток. В гавани развернулась бурная деятельность: сачками собирались медузы, рачки и радиолярии, обитавшие в поверхностном слое воды, а сеть служила для добычи образцов придонной фауны[56]. Студент фон Миклухо изучал морские губки и в результате обнаружил новый вид известковой губки, назвав её Guancha blanca в честь коренных обитателей островов. Образцы изучаемых рыб чаще всего покупались у рыбаков на базаре, в результате Н. Миклуха собрал данные по плавательным пузырям рыб и мозгу акул[57].
Местные жители настороженно отнеслись к немецким зоологам, считая их не то прусскими шпионами, не то колдунами. Последний слух привёл к тому, что к Геккелю регулярно обращались с просьбами об исцелении и предсказании будущего. Арендованный членами команды дом кишел насекомыми и крысами; Геккель подсчитал, что только в январе 1867 года убил более 6000 блох. Было решено сворачивать работу и возвращаться в Европу, но это можно было сделать только через Марокко[58]. 2 марта на английском пароходе Геккель и Греф добрались до Марокко, далее провели две недели в Альхесирасе, изучая морскую фауну. На поезде они добрались до Парижа, где осмотрели Всемирную выставку, после чего вернулись в Йену[59].
Миклуха и Фоль решились объехать султанат Марокко: купив арабские костюмы и наняв проводника-переводчика, с караваном они добрались до Марракеша, где Николай особенно интересовался бытом и жизнью берберов. Далее путешественники поехали в Андалусию. Прибыв в Мадрид, Николай пожелал пожить в цыганском таборе, но не сообщал подробностей[60]. Геккель пометил на одном из писем Миклухи, что в Мадриде он сильно заболел. В Йену Николай вернулся через Париж в начале мая 1867 года[61].
Выбор жизненного призвания
Вернувшись в Йену, Миклуха вновь стал ассистентом Геккеля, но у него выросла самооценка. Перед началом зимнего семестра 1867/1868 годов он, взяв рекомендательные письма Геккеля и Гегенбауэра, совершил поездку по крупнейшим зоологическим коллекциям европейских музеев. Дневников он тогда не вёл, но из отрывочных упоминаний в его научных статьях известно, что он побывал в Дании, Норвегии, Швеции и Франции[62][63]. 6 июля 1867 года в редакцию «Йенского журнала медицины и естествознания» поступила первая статья учёного, посвящённая рудиментам плавательного пузыря у селахий. Примечательно, что она была подписана «Миклухо-Маклай»[11].
В 1868 году Миклухо-Маклай закончил медицинский факультет Йенского университета; поскольку он не собирался становиться практикующим врачом, то отказался от сдачи государственных экзаменов. Продолжая ассистировать Геккелю, он занялся разработкой двух параллельных тем: морфологии губок и эволюции нервной системы животных. Летом 1868 года вышла его вторая статья — «Материалы к познанию губок», в которой описывался новый вид, открытый в Арресифе[64]. В июле 1868 года Миклухо-Маклай написал свою третью статью — «К сравнительной анатомии мозга», основанную на собственных полевых материалах по мозгу акул. Здесь он впервые обратился к теоретическим вопросам и критиковал тогдашнего авторитета в нейрофизиологии — академика Карла Бэра. В статье Николай Николаевич кратко изложил своё понимание механизма эволюции, в отличие от своих учителей Дарвина и Геккеля — апологетов борьбы за существования, считая её дифференциацией, то есть переходом от исходной формы к иным формам, не обязательно высшим. К. Бэр, судя по переписке, весьма одобрительно отнёсся к идеям молодого учёного[65]. Впрочем, основные её тезисы, как касающиеся дифференциации, так и роли в ней участков мозга рыб, так и не удержались в науке.
В апреле 1868 года Николай посетил Готу, где его особенно привлекла редакция географического журнала А. Петерманна: молодой учёный интересовался перспективными направлениями географических исследований, особенно в малоизвестных регионах мира, где возможны крупные открытия[66]. У Петерманна он узнал о готовящейся первой германской полярной экспедиции и даже хотел принять в ней участие, но получил отказ[67]. Также отказом ответил Миклухе шведский полярный исследователь Адольф Норденшёльд[68]. Получив отказ, учёный решил совершить путешествие на Сицилию, на которую так и не попал с Геккелем в 1866 году. Решение об этом было принято сразу после публикации статьи «К сравнительной анатомии мозга», но к тому времени у Миклухо-Маклая не было денег даже чтобы оплатить долги по жилью. В июле и августе он бомбардировал письмами брата Сергея, прося повлиять на мать, жалуясь на нездоровье и безденежье[69].
Экспедиция в Италию
Инициатором поездки на Сицилию в 1868 году был Антон Дорн — зоолог-дарвинист, ученик Геккеля, уже имевший полевой опыт на Балтике и Северном море. Летом 1868 года он стал приват-доцентом Йенского университета и мог отправиться в путь не раньше октября. У Миклухо-Маклая к тому времени долг составлял 463 талера (около 400 рублей серебром), поэтому пришлось бежать от кредиторов, а свои финансовые дела Николай попросил вести студента К. Модзалевского[70].
Весь сентябрь 1868 года Миклухо-Маклай провёл в Италии как турист, переезжая из города в город. Геккелю он писал, что провёл 10 дней в Венеции, 2 дня во Флоренции, полдня в Пизе, 2½ дня в Виченце, 5 дней в Риме, 8 дней в Неаполе, где поднялся на Везувий, побывал на Капри, в Сорренто и так далее. Не была забыта и наука: Николай в Венеции встретил спонгиолога Джакомо Нардо, который рекомендовал его на съезд естествоиспытателей в Виченце. Впрочем, в письме Геккелю от 2 октября говорилось, что съезд большей частью свёлся к посещению окрестных вилл, а все его участники имели свободный доступ в театр[71].
2 октября Миклухо-Маклай прибыл в Мессину, где снял комнату в третьеразрядном отеле. Вскоре ему удалось обнаружить новый вид известковых губок, который он назвал в честь учителя Astrospongia Heckelii[72]. Дорн приехал в середине октября; не стеснённый в средствах, он снял несколько комнат в Палаццо Витале и великодушно поселил Николая у себя, видя его материальное положение. Во дворце была оборудована полевая лаборатория, где Дорн занимался ракообразными, а Миклухо-Маклай — по двум своим главным темам: морфологии губок и анатомии мозга рыб. Дорн соорудил в лаборатории аквариум с проточной водой и впервые проследил цикл возникновения лангуста из личинки[73].
В Мессине Миклухо-Маклай познакомился с Егором Ивановичем Барановским (1821—1914), бывшим саратовским губернатором, подавшим в отставку в 1863 году в знак протеста против мер по подавлению Польского восстания. В дом Барановских Николай ввёл и Дорна, в 1874 году старшая дочь, Мария Барановская, вышла замуж за немецкого биолога. Учёные в январе 1869 года совершили подъём на Этну, но, не достигнув всего 300 метров до кратера, сорвались с ледяного поля, причём Дорн довольно сильно ушибся[74].
В феврале 1869 года Миклухо-Маклай узнал из газет о завершении строительства Суэцкого канала. Он немедленно загорелся идеей изучить морскую фауну Красного моря, в те времена практически неизвестную. Кроме того, он решил воспользоваться последней возможностью описать фауну Красного моря до того, как она начнет подвергаться воздействию средиземноморской фауны. Планам мешало хроническое безденежье: Николай рассчитал, что минимально необходимая ему сумма составит 500 рублей. Поскольку мать неодобрительно относилась к занятиям наукой, он вновь писал брату Сергею. Наконец в начале марта Е. С. Миклуха прислала 1000 франков, что соответствовало 300 рублям[75]. 12 марта 1869 года Николай отплыл в Александрию[76].
Экспедиция на Красное море
Прибыв в Каир, Миклухо-Маклай разработал план биологических станций, одной из них была Джидда. Время для работы было выбрано крайне неудачно: визит в Джидду совпал с месяцем зуль-хиджа по мусульманскому календарю, на который приходится большой хадж: в 1869 году он падал на 15 марта — 13 апреля. Тем не менее Николай выучил несколько арабских слов, обрил голову и купил бурнус, для вида даже исполнял мусульманские религиозные обряды; впрочем, обмануть никого не удалось[77].
22 марта Миклухо-Маклай покинул Каир, направившись в Суэц. Там он испытал первый приступ малярии — болезни, которая будет преследовать его всю жизнь. Судя по инкубационному периоду, заразился он ещё на Сицилии, где в те времена болезнь была широко распространена. Пришлось просить у Дорна дополнительно 500 франков[78]. Далее на египетском пароходе Николай отправился в Джидду, где провёл 18 дней. Он поселился в доме французского коммерсанта, на которого произвел впечатление научный энтузиазм молодого человека[79]. Наняв лодочника, Миклухо-Маклай ежедневно выезжал на коралловые рифы. Закончив исследования, он отправился в Массауа, а оттуда — в Суакин. Условия для исследований оказались тяжелы: жара даже ночью не опускалась ниже +35 °С, чаще всего не было жилья, приступы малярии не прекращались, а от пыли пустыни развился сильный конъюнктивит. С большим трудом Николай вернулся в Суэц, собрав, тем не менее, коллекцию роговых, кремнёвых и известковых губок, хранящуюся ныне в Зоологическом музее РАН[80]. Из Александрии он отправился в Россию на пароходе «Эльбрус». Пробыв на рейде Стамбула трое суток, пароход в начале июня 1869 года прибыл в Одессу. После пятилетнего отсутствия Николай Николаевич Миклухо-Маклай вернулся в Россию[81].
По мнению Д. Д. Тумаркина, путешествие Миклухо-Маклая на Красное море сыграло важную роль в судьбе учёного. Здесь проявились характерные особенности его деятельности: склонность работать в одиночку, предпочтение стационарных методов исследования. Он стал превращаться в натуралиста широкого профиля, который в итоге придёт к проблеме деятельности человека и проявлений его культуры в рамках географической среды[82].
Первая экспедиция на Новую Гвинею
Подготовка экспедиции
Ко времени возвращения Н. Н. Миклухо-Маклая в Россию материальное положение семьи Миклух несколько улучшилось: пароходное общество «Самолёт» стало выплачивать дивиденды по акциям. Получив денежный перевод от матери, Николай из Одессы долгим кружным путём отправился в Саратов, вблизи от которого располагалось имение родственников. Близ Самары он слёг с тяжелыми малярийными приступами; не менее тяжёлым было моральное положение учёного — он отвык от России, и его раздражала окружающая действительность и люди, на что он жаловался в письмах к Дорну[83]. Не дождавшись матери и сестры, Николай выехал в Москву, где вновь повторились малярийные приступы, сопровождавшиеся бредом и обмороками. В августе он всё-таки добрался до Саратова, где благодаря заботам родных несколько оправился. По мнению Д. Д. Тумаркина, в Москве или Саратове учёный попал в руки квалифицированного врача, который прописал ему приём хинина, смягчающего приступы болезни и обеспечивающего длительные периоды ремиссии. Хинин впервые упоминается в дневниках и письмах Н. Н. Миклухо-Маклая в октябре 1870 года, но в контексте, указывающем на длительный его приём[84].
Прожив месяц под Саратовом, Миклухо-Маклай отбыл в Москву на Второй съезд русских естествоиспытателей, проходивший с 1 по 11 сентября 1869 года. Он записался на секцию зоологии и сравнительной анатомии, на которой были представлены 69 докладов. Два из них принадлежали Миклуха-Маклаю (в таком написании его фамилия значится в списке участников). В первом речь шла о развитии мозга у химеры, во втором — о подготовке к созданию зоологической станции, на основе материалов, собранных с Дорном в Мессине[85]. В последний день съезда было принято специальное постановление об основании двух биологических морских станций — в Севастополе и Сухуме, причём Севастопольская была открыта уже в 1871 году[86].
После съезда Миклухо-Маклай отправился в Петербург, где был нанят академиком Брандтом для обработки и публикации коллекций губок, собранных К. М. Бэром и А. Ф. Миддендорфом. Учёный быстро справился с этим заданием и опубликовал два сообщения на немецком языке в изданиях Петербургской академии наук[87]. Это способствовало принятию его в ряды Русского географического общества (РГО), уже 5 октября Миклухо-Маклай выступил на совместном заседании физической и математической секций РГО с докладом о путешествии на Красное море[88]. В те же октябрьские дни учёный встретился с князем Кропоткиным, который в «Записках революционера» описал его как «маленького нервного человека, постоянно страдающего лихорадкой»[89]. Кропоткин в то время был одним из разработчиков проекта большой полярной экспедиции, но перспективы её финансирования были туманны. Видимо, это побудило Миклухо-Маклая 8 октября представить в РГО собственный проект экспедиции на Тихий океан[90]. Одобренный Ф. Остен-Сакеном, проект был представлен президенту РГО П. П. Семёнову, но встретил противодействие вице-президента графа Литке. Совет РГО, собравшийся 28 октября 1869 года, постановил «принять план г-на Маклая, включающий не только исследования животных, но и антрополого-этнографические наблюдения». Было решено обратиться в Морское министерство, чтобы доставить его в Тихий океан и обратно на военном судне[91].
После доклада Миклухо-Маклай сразу уехал в Йену готовить монографию об эволюции мозга у рыб. В городе он поселился у профессора Гильдебранда, дочь которого Аурелия питала к русскому учёному романтические чувства[92]. Параллельно с подготовкой монографии «Материалы по сравнительной неврологии позвоночных» он штудировал литературу об Австралии и Океании. Наибольший интерес вызвала статья А. Петерманна «Новая Гвинея. Немецкие призывы от антиподов», вышедшая в ноябре 1869 года. В феврале 1870 года Миклухо-Маклай писал Остен-Сакену, что намерен остаться на островах южной части Тихого океана по крайней мере на 3—4 года. Несмотря на опасения РГО, Совет Общества 11 мая 1870 года планы Миклухо-Маклая одобрил и назначил ему пособие в размере 1200 руб[93]. 21 мая морской министр адмирал Краббе сообщил, что получено Высочайшее разрешение принять Миклухо-Маклая на корвет «Витязь», но «без производства довольствия от морского ведомства». Отправление экспедиции назначалось на сентябрь[94].
Из Йены Миклухо-Маклай совершил поездку в Готу, где общался с Петерманном, не раскрывая, однако, своих планов. 11 марта состоялась встреча, прямо не связанная с делами: Николай узнал, что в Веймаре находятся И. С. Тургенев и Полина Виардо. Сестре Ольге он писал: «Мы довольно скоро и хорошо сошлись. Жаль, что я по уши сижу за работой, чаще бы ездил в Веймар»[95]. Контакты — очные и заочные — Миклухо-Маклая с писателем продолжались до самой смерти Тургенева в 1883 году[96].
В материальном отношении Миклухо-Маклай по-прежнему полностью зависел от матери, с которой предпочитал в тот период общаться через сестру Ольгу. Сдав в набор книгу, в апреле 1870 года учёный решил поехать в Лондон для консультаций со специалистами и закупки научного оборудования. Наделав в Йене долгов, на последние деньги Николай выехал в Лейден, где получил чек от матери с письмом, в котором заявлялось, что он больше не может ни на что рассчитывать[97]. В Лондоне он провёл не более недели, но успел сделать многое — в первую очередь лично познакомился с Томасом Гексли. Гексли заочно знал Миклухо-Маклая по письмам Геккеля и Дорна и встретил русского учёного с радушием. Гексли поделился воспоминаниями о своём путешествии в Австралию и Новую Гвинею в 1846—1850 годах, а также дал рекомендацию для приёма в Адмиралтействе. Миклухо-Маклай был представлен президенту Королевского географического общества — сэру Мэрчисону, который пообещал выправить ему рекомендательное письмо ко всем английским консулам на островах Тихого океана, но это оказалось невозможным[98]. Не удалось закупить никакого оборудования в связи с британской дороговизной. 30 апреля Николай срочно покинул Лондон из-за обострения малярии и вернулся в Йену через Брюссель[99]. Он не мог выехать в Россию из-за безденежья, и только 24 мая Екатерина Семёновна Миклуха в очередной раз прислала ему перевод[100]. Познакомившись в Берлине с Рудольфом Вирховым и оставив в Лейпциге вторую часть монографии для опубликования, Миклухо-Маклай 17 июля 1870 года отплыл из Штеттина в Петербург[101].
Перед отплытием
Главной проблемой для Миклухо-Маклая перед отправлением в Южные моря стало то, что Морское ведомство не собиралось ради него менять маршрут «Витязя», следовательно, ему предстояло добираться в Новую Гвинею самостоятельно из Батавии. Субсидии РГО в 1200 руб. было заведомо недостаточно: сам учёный оценивал бюджет своей экспедиции минимум в 5000 руб. В этой ситуации он вновь обратился к матери с просьбой продать полагающуюся ему в счёт наследства долю акций компании «Самолёт». Е. С. Миклуха мягко отказала, поскольку по совету брата — отставного артиллериста С. С. Беккера — изыскивала средства для покупки имения; С. Беккер к тому времени несколько лет подыскивал подходящее хозяйство, которое можно было бы купить в рассрочку[102]. Учёный пытался одалживать деньги у знакомых, наконец передал в Зоологический музей свои коллекции губок, но с условием компенсации расходов на «собирание, хранение и провоз этих коллекций», которые оценил в 300 руб[103]. Некоторые члены РГО снабдили его безвозмездно оборудованием: М. А. Рыкачёв выдал ему новейший анероид, вице-адмирал С. Зелёной — термометр для глубоководных измерений, но всего это было также недостаточно[104]. Академик Семёнов сумел заинтересовать предприятием Миклухо-Маклая известную меценатку — великую княгиню Елену Павловну[105]. Миклухо-Маклай получил приглашение в Ораниенбаум, разместившись там с большим комфортом, и сумел завязать полезные знакомства. В результате удалось добиться изменения маршрута «Витязя», о чём Миклухо-Маклай сообщал письмом от 6 октября 1870 года[106].
19 октября 1870 года Миклухо-Маклай выступил на общем собрании РГО, сообщив, что планирует экспедицию продолжительностью в 7 или 8 лет, но программа была довольно неопределённой, хотя и очень амбициозной. У части присутствующих вообще возникло недоумение, поскольку исследования тропических островов казались ненужными для России[Прим 2]. Однако по уставу РГО одобрения планов общим собранием не требовалось. Вскоре учёный получил открытое рекомендательное письмо для всех русских консулов в портах и на островах Тихого океана, а Министерство внутренних дел Российской империи прислало РГО заграничный паспорт на имя «дворянина Миклухо-Маклая, командированного с учёной целью». Так была легализована двойная фамилия исследователя[108].
29 октября «Витязь» навестил великий князь Константин Николаевич, который долго беседовал с Миклухо-Маклаем. Было решено, что через год после высадки русское военное судно посетит Новую Гвинею; в случае, если исследователя не будет в живых, оно должно было забрать рукописи, упакованные в герметические цилиндры[109]. В день отплытия — 8 ноября 1870 года — 24-летний Миклухо-Маклай отправил письма князю Мещерскому и матери. Последнее гласило:До свидания или прощайте. Держите обещания ваши, как я свои[103]
Плавание до Новой Гвинеи
После отплытия из Кронштадта «Витязь» 14 ноября пришёл в Копенгаген. По согласованию с командиром корвета П. Назимовым Миклухо-Маклай сошёл на берег, с 17 ноября по 4 декабря совершив европейскую поездку через Гамбург, Берлин, Йену, Готу, Гаагу до Остенде, а оттуда паромом добрался до Плимута, где базировался «Витязь»[110][111]. В поездке он закупал необходимое ему оборудование (счета посылались князю Мещерскому), установил связи в нидерландском министерстве колоний. Во время краткого пребывания в Лондоне Миклухо-Маклай познакомился с Альфредом Уоллесом — учёным, параллельно с Дарвином предложившим теорию естественного отбора. Именно в разговоре с ним Миклухо-Маклай заявил, что он сможет что-либо узнать о туземцах только тогда, когда поселится среди них и станет одним из них[112].
Покинув Англию, в штормовую ночь 29 декабря 1870 года «Витязь» протаранил и потопил немецкий барк, захваченный французами, который шёл без бортовых огней. Пришлось идти в Фуншал для ремонта и эвакуации спасённых. Корвет зашёл туда 31 декабря и двинулся к островам Зелёного мыса, где простоял три недели. Миклухо-Маклай изучал на берегу губок и немедленно простудился[113].
В начале февраля корвет попал в экваториальную штилевую зону (командир берёг уголь и шёл под парусами). 3 февраля Миклухо-Маклай провёл эксперимент с измерениями температуры океанской воды на большой глубине. Эксперимент продолжался три часа, за это время было достигнуто дно на глубине 1829 м (1000 морских саженей) и измерена температура воды +3,5 °С, в то время как на поверхности она составляла +27,56 °С. Уже в 1871 году учёный написал по этому поводу статью, опубликованную в «Известиях РГО»[114]. 7 февраля корвет пересёк экватор (в тот день Миклухо-Маклай препарировал мозг пойманной матросами голубой акулы), а утром 20 февраля прибыл в Рио-де-Жанейро[115]. В Бразилии Миклухо-Маклай сразу же устроился в городскую больницу, где имел возможность осмотреть несколько сот представителей чёрной расы обоего пола. Наиболее интересные с его точки зрения «образчики» он водил к фотографу, где запечатлевал без одежды «с трёх сторон и в пяти положениях»[116]. Судьба этого антропологического фотоархива неизвестна.
9 марта 1871 года плавание продолжилось, 1 апреля «Витязь» вошёл в Магелланов пролив. Через три дня они пришли в Пунта-Аренас. Хотя резкий переход от тропиков Бразилии к холодам Патагонии привёл к болезни Миклухо-Маклая, он усердно изучал и зарисовывал патагонцев[117]. 11 апреля «Витязь» продолжил путь и 16 апреля вышел в Тихий океан и направился на север вдоль побережья Чили[118]. В начале мая команда добралась в Вальпараисо, где Назимов простоял месяц, ожидая инструкций из Петербурга. Часть из них касалась Миклухо-Маклая, который просил, чтобы до высадки в Новой Гвинее корвет зашёл в Австралию. Для изучения индейцев учёный поехал в Талькауано, где приобрёл у начальника местной тюрьмы более 200 карточек арестантов с фотографиями и описанием преступлений: он считал, что сможет установить связь между характером и формой черепа. Эти материалы также до сих пор не обнаружены[119].
В конце мая из Петербурга подтвердили заход на Новую Гвинею, но запретили посещение Австралии. Это ставило Миклухо-Маклая в крайне неудобное положение: деньги, полученные от РГО, он перевёл в банки Сиднея и Мельбурна, а кроме того, рассчитывал приобрести товары для мены с папуасами и нанять двух слуг. Теперь оставалось сделать это на пути к Новой Гвинее. 2 июня 1871 года «Витязь» вышел в море[120].
Курс к Новой Гвинее был проложен по кратчайшей дистанции. 24 июня «Витязь» подошёл к острову Пасхи и лёг в дрейф у западного побережья. Корвет посетил Жан Дютру-Борнье, арендовавший остров у правительства Чили, чтобы разводить там овец. Убедившись в масштабе катастрофы, постигшей остров с 1862 года[Прим 3], Назимов отказался от высадки и через два дня пошёл на остров Питкэрн, куда Миклухо-Маклай не высаживался, будучи больным[123]. 8 июля корвет прибыл на Мангареву, больной Миклухо-Маклай на четыре дня отправился на берег. Здесь он общался с туземцами, в том числе с эмигрировавшими рапануйцами, приобрёл каменный топор, барабан и подставку для жертвоприношений[124].
21 июля команда прибыла на Таити. Учёный под предлогом нездоровья снял домик в Папеэте, но вёл активный образ жизни. Судя по записной книжке, Миклухо-Маклай посетил католического епископа Жоссана (en) и королеву Помаре, ознакомился с жизнью на плантациях и был на приёме в честь иностранных моряков. Одна из плантаций принадлежала шотландцу Уильяму Стюарту, здесь учёный не только исследовал рабочих, привезённых со всевозможных островов, но и подружился с хозяином. Стюарт сбывал свою продукцию в Австралию и потому мог поставить необходимые продукты и товары по сиднейскому кредитиву. Здесь Миклухо-Маклай приобрёл дешёвый красный коленкор, ножи, иголки, мыло и т. п. на сумму около 300 долларов[125]. Краткие заметки этнографа, по сути, составили костяк очерка или статьи, так и не написанной. Особенное впечатление на Миклухо-Маклая произвели эротические танцы. Одновременно он получил в подарок от епископа Жоссана табличку кохау ронго-ронго и ещё одну, вероятно, купил у рапануйца, переселившегося на Таити или на Мангареву. Таблички ныне хранятся в МАЭ[126].
11 августа «Витязь» прибыл в Апиа, это был последний пункт, где Миклухо-Маклай мог снабдиться припасами и нанять слуг. Учёный встретился с предпринимателем Теодором Вебером, который заодно был германским консулом на Самоа. Открытое письмо немецкого правительства, предписывающее оказывать Николаю Николаевичу безвозмездные услуги, произвело впечатление. Вебер подыскал двух слуг: шведского матроса Ольсена (Миклухо-Маклай называл его «Ульсон») и юношу с острова Ниуэ по кличке Бой (англ. Boy)[127]. Не оставлял учёный и научных исследований, на Самоа особенно заинтересовавшись сексуальными обычаями местного населения[128]. Сделав по пути остановки на Ротуме и Новой Ирландии, 19 сентября 1871 года корабль достиг северо-восточного побережья Новой Гвинеи, войдя в Залив Астролябия (англ. Astrolabe Bay).
Первое пребывание на берегу Маклая
20 сентября 1871 года «Витязь» встал на якорную стоянку примерно в 140 м от берега. Вскоре появились папуасы; их допустили на борт корвета, но после мирной встречи командир распорядился дать артиллерийский салют: перепуганные папуасы бросили подарки и поспешно ретировались. Миклухо-Маклай, отказавшись от охраны, с Ульсоном и Боем высадился на берегу и посетил деревню, всё население которой сбежало в джунгли. Самым смелым оказался папуас по имени Туй (в произношении, зафиксированном Д. Д. Тумаркиным в 1977 году, — Тойя). Именно Туй стал в дальнейшем главным посредником Миклухо-Маклая при общении с обитателями прибрежных деревень[129].
Назимов предупредил, что сможет простоять не более недели, поэтому Миклухо-Маклай при помощи Туя выбрал для стационарной базы небольшой мыс Гарагаси, где была сооружена хижина для учёного (размером 7 × 14 футов), а в шалаше, принадлежащем Тую, устроили кухню. По настоянию командира «Витязя» площадка 70 × 70 м была заминирована, но сведения, применялись ли Миклухо-Маклаем мины, противоречат друг другу и непроверяемы[130]. Из продуктов у Николая Николаевича было два пуда риса, чилийские бобы, сушёное мясо и банка пищевого жира. Назимов заставил Миклухо-Маклая взять дневное довольствие команды — то есть дневной запас провианта на 300 человек, но Николай Николаевич отказался брать запас безвозмездно. 27 сентября «Витязь» покинул залив[131].
Первый месяц на Новой Гвинее прошёл довольно напряжённо. Миклухо-Маклай пришёл к выводу, что его визиты чрезмерно беспокоят островитян и ограничился только контактами с туземцами, навещавшими его на мысе Гарагаси. Поскольку он плохо знал язык и обычаи, то первое время ограничивался метеорологическими и зооботаническими исследованиями. Уже 11 октября его свалил первый «пароксизм» лихорадки, повторные приступы продолжались во всё время пребывания учёного в Заливе Астролябии. Постоянно болели слуги, особенно плохо было Бою, у которого Миклухо-Маклай диагностировал «опухоль лимфатических желёз в паху». Проведённая операция не помогла, 13 декабря мальчик умер. Миклухо-Маклай при этом вспомнил данное профессору Гегенбауэру обещание добыть препарат гортани чернокожего человека с языком и всей мускулатурой, который он и приготовил, несмотря на опасность положения. Тело Боя было захоронено в море, а папуасам исследователь внушил, что юноша «улетел в Россию»[132].
К новому, 1872 году авторитет Миклухо-Маклая среди местного населения вырос, и 11 января он впервые получил приглашение в деревню Бонгу. Произошёл обмен подарками, но жён и детей новогвинейцы от учёного по-прежнему прятали. В феврале 1872 года Николаю Николаевичу удалось излечить Туя от тяжёлого ранения (на него упало дерево, рана на голове загноилась), после чего учёный был принят в деревне, Туй представил ему жену и детей; мнение о европейце как о злом духе было значительно поколеблено[133]. Символическое включение этнографа в местный социум состоялось 2 марта на ночной церемонии, в которой участвовали мужчины трёх родственных деревень — Гумбу, Горенду и Бонгу. Художественное описание церемонии оставил сам Миклухо-Маклай в дневнике[134]. После этого учёный мог спокойно совершать дальние экскурсии по побережью и даже в горы. Наибольшую трудность создавал языковой барьер: к концу своего первого пребывания на Новой Гвинее учёный владел примерно 350 словами местного языка бонгу, а в окрестностях бытовали не менее 15 языков. Зачастую для того, чтобы выяснить значения самых обиходных слов, у Миклухо-Маклая уходили месяцы[135].
Исследованные территории, берега залива Астролябия и часть побережья к востоку от него до мыса Хуон, Миклухо-Маклай назвал своим именем — «Берег Миклухо-Маклая», определив его географические границы следующим образом: от мыса Кроазиль на западе до мыса Короля Вильяма на востоке, от берега моря на северо-востоке до горного хребта Мана Боро-Боро на юго-западе.
Я таким образом называю берег Новой Гвинеи вокруг Астролаб-Бай и бухты с архипелагом Довольных Людей по праву первого европейца, поселившегося там, исследовавшего этот берег и добившегося научных результатов[136].
19 декабря 1872 года в Залив Астролябии вошёл паровой клипер «Изумруд». К тому времени Миклухо-Маклая считали погибшим, о чём даже была напечатана заметка в газете «Санкт-Петербургские ведомости» от 6 (18) июля[137]. Состояние здоровья и невозможность нормально обработать научные материалы побудили Миклухо-Маклая покинуть (хотя бы временно) Новую Гвинею. После двухдневных проводов в прибрежных деревнях Николай Николаевич погрузился на борт «Изумруда», который 24 декабря на рассвете поднял якорь и направился к Молуккским островам[138]. Характерно, что после всего пяти дней пребывания в бухте Константина более половины команды заболели малярией[139].
«Человек с Луны»
Не вполне ясно, как мог возникнуть у новогвинейцев миф о том, будто Н. Н. Миклухо-Маклай прибыл к ним с Луны. Его так и называли — «каарам тамо», что означает «лунный человек» («каарам» — луна, «тамо» — человек). По мнению Н. А. Бутинова, учёный, плохо зная язык бонгу, допустил ошибку, когда перевёл папуасское прозвище как «человек с Луны». В действительности оно означает «человек с цветом кожи, похожим на свет луны», то есть отличный от папуасов с их тёмным цветом кожи. В языке бонгу при определении местожительства или происхождения человека на первое место всегда ставится слово «тамо», а после него (а не перед ним) название местности, например, «тамо Бонгу» — человек из деревни Бонгу, «тамо Русс» — человек из России, как часто называли самого Миклухо-Маклая. Правильное произношение понятия «человек с Луны» не «каарам тамо», а «тамо каарам». Кроме того, по поверьям папуасов, Луна — нечто очень маленькое, по размерам сопоставимое с кухонным горшком и явно непригодное для обитания каких-либо существ. Возможность совместить представление о Маклае как о добром духе — культурном герое и «белом папуасе» существовала в идее реинкарнации, свойственной папуасской религии. Таким образом, Маклай рассматривался как один из первопредков, например, Ротей, дух которого перенёсся в Россию[140][141].
Индонезия, Филиппины, Малакка. Второе путешествие на Новую Гвинею
Плавание на «Изумруде». Гонконг. Батавия
В январе 1873 года «Изумруд» прибыл на Тернате, где простоял 6 недель — до полного выздоровления экипажа. Судовой врач залечил Миклухо-Маклаю нарывы на ногах, и, хотя приступы малярии не оставляли его, он был весьма бодр[142]. За время стоянки он совершил поездки на Тидоре и северную часть Сулавеси — полуостров Минахаса. Дневниковых записей он не вёл, но сохранились около 30 рисунков, сделанных им на Тернате, Тидоре и Минахасе. На одном из них изображён воин в полном боевом снаряжении, которое учёный приобрёл (хранится в МАЭ). На Тернате Миклухо-Маклай окончил предварительный отчёт о Новой Гвинее для РГО[143]. Телеграмма о его благополучном возвращении была отправлена только 11 (23) февраля 1873 года из Сурабаи. 21 марта «Изумруд» прибыл в Манилу, где простоял 6 дней. В это время Миклухо-Маклай вспомнил об обещании, данном академику Бэру, — исследовать антропологические особенности негритосов аэта, обитавших близ Манилы в горах. Всё, увиденное в местах обитания аэта, живо напомнило о Новой Гвинее, поэтому исследователь отнёс их к папуасской расе[144].
В апреле команда отбыла в Гонконг, где Н. Н. Миклухо-Маклай впервые обратил внимание на свою известность, растиражированную английскими газетами. Он совершил поездку в Гуанчжоу, о чём писал матери[145]. В Гонконге антрополог заинтересовался феноменом наркомании и намеревался посетить опиекурильню, чтобы на собственном опыте испытать действие опиума. Врач-англичанин Клоус отговаривал Николая Николаевича от этого шага, но в итоге согласился присутствовать при эксперименте и записывать ощущения, сообщаемые ему Миклухо-Маклаем. Опыт проводился в Китайском клубе, имеющем кабинеты для курения. За три часа исследователь выкурил 27 трубок (суммарно — 7 г опиума), то есть дозу, значительно превышающую обычную для китайских курильщиков. Пройдя все фазы наркотического опьянения, учёный впал в прострацию, а следующие два дня испытывал головокружения и тяжесть в ногах. По результатам опыта Миклухо-Маклай в 1875 году опубликовал в Батавии статью на немецком языке «Опыт курения опиума (физиологическая заметка)»[146].
Из Гонконга Миклухо-Маклай связался с генерал-губернатором Нидерландской Ост-Индии Джеймсом Лаудоном (нидерл. James Loudon, 1824—1900), ходатайствуя об участии в голландской экспедиции на Новую Гвинею. Лаудон тут же сообщил, что учёный будет в экспедиции «самым желанным гостем». Решение было принято: в Батавии Николай Николаевич покинул борт «Изумруда»[147]. Лаудон предложил ему поселиться в летней губернаторской резиденции в Бейтензорге, расположенном к югу от Батавии. Судя по эпистолярному наследию, у Миклухо-Маклая завязался роман с женой губернатора Луизой Стюрс-Лаудон. Однако, несмотря на относительно мягкий климат Бейтензорга, малярия приняла для учёного новую, изнуряющую форму[148].
16 августа 1873 года в Батавии Миклухо-Маклай был избран иностранным членом-корреспондентом Королевского общества естествоиспытателей Нидерландской Ост-Индии. В Бейтензорге встретились Николай Николаевич и английский биолог Джон Гелтон, который под впечатлением личности русского учёного в 1874 году опубликовал в журнале «Nature» статью об исследованиях в Новой Гвинее. Перевод статьи Гелтона был опубликован в России в журнале «Знание» в 1874 году, а в сборнике «Природа» увидели свет «Антропологические заметки» самого Миклухо-Маклая в переводе с немецкого Д. Н. Анучина[149].
Финансовое положение учёного оставалось тяжёлым: у Лаудона он был вовсе избавлен от расходов, но будущее было неопределённым. Семья перестала с ним общаться после покупки имения в Малине и до самого возвращения в Россию в 1882 году. Однако нашёлся меценат — чиновник Министерства иностранных дел В. Л. Нарышкин, который через РГО перечислил Миклухо-Маклаю 2000 рублей. Это было весьма кстати, поскольку голландская экспедиция на Новую Гвинею сорвалась из-за начавшейся в это время Ачехской войны, вдобавок в ноябре 1873 года Николай Николаевич ощутил первые симптомы лихорадки денге[150].
Молуккские острова. Юго-запад Новой Гвинеи. Малакка
Покинув Бейтензорг, 15 декабря 1873 года Миклухо-Маклай начал дневник, который до конца поездки вёлся сравнительно аккуратно. Генерал-губернатор устроил путешественника на пароход «Король Вильгельм III». Во время плавания к Молуккским островам резко ухудшилось состояние здоровья учёного: участились приступы малярии и вновь проявилась незалеченная лихорадка денге. Учёный, однако, продолжил работу: 22 декабря на Сулавеси, в Макасаре он встретился с итальянским натуралистом Одоардо Беккари (1843—1920). 2 января 1874 года Миклухо-Маклай высадился на Амбоне — конечной цели своего плавания[151]. С Амбона Николай Николаевич написал князю Мещерскому, в письме подтвердив намерение во что бы то ни стало вернуться на Новую Гвинею. Самостоятельная экспедиция требовала существенно бо́льших расходов: найма судна и команды, закупки провианта и проч. Миклухо-Маклай просил похлопотать у РГО о присылке ему 2—3 тыс. рублей[152].
Наняв в Амбоне местных жителей-христиан, уже бывших на Новой Гвинее, 23 февраля 1874 года Миклухо-Маклай отправился на остров. Он писал Мещерскому:Отправляюсь, потому что если теперь не решусь, пожалуй, вторая экспедиция в Новую Гвинею никогда не удастся вследствие здоровья, которое уходит, и средств, которые всё более и более стесняют. Постараюсь вернуться, потому что главные результаты (этнологические) первого путешествия почти не разработаны мною, и никто это за меня сделать не сможет[153]
Главной целью плавания было сопоставление антропологического состава населения юго-западного побережья в сравнении с северо-восточным на Новой Гвинее. С 27 февраля по 23 апреля проходило плавание вдоль берегов, в течение которого Миклухо-Маклай уточнил официальную голландскую карту. В целом путешествие оказалось намного менее результативным, чем первое. Однако именно здесь Миклухо-Маклай впервые столкнулся с работорговлей, и ему удалось лично арестовать и добиться осуждения одного из пиратских командиров[154]. 29 апреля Миклухо-Маклай перебрался на остров Килвару, входящий в островную группу Серам-Лаут, где написал сообщение для РГО. В научном плане наиболее интересным его открытием стали результаты обследования малайско-папуасских метисов. Было установлено, что межрасовые браки дают здоровое потомство, а не приводят к неполноценности[155]. Была у него и любовница — малайско-папуасская метиска по имени Бунгарая (во всех изданиях дневников Миклухо-Маклая фрагменты, посвящённые ей, печатались с купюрами)[156].
В конце мая учёный на пароходе «Бали» вернулся на Амбон и по нездоровью провёл там около месяца, только в конце июля он вновь добрался до Бейтензорга, где опять поселился у Лаудонов. В беседах с генерал-губернатором он дал понять, что считает ответственными за выявленные факты пиратства и работорговли голландские власти и даже представил меморандум о политическом и социальном положении папуасов[157]. Миклухо-Маклай был готов отложить научные исследования и возглавить вооружённый отряд, который бы построил на Новой Гвинее форт, защищавший папуасов от морских набегов. Непременным условием, однако, была абсолютная власть, предоставляемая командиру, вплоть до «права на жизнь и смерть подчинённых и туземцев». Лаудон предложение отклонил, во-первых, из-за того, что оно исходило от иностранца, а во-вторых, заявил, что правительство Нидерландов не собирается расширять свои владения[158].
С лета 1874 года европейская и русская пресса начала регулярно отслеживать деятельность Миклухо-Маклая: Новая Гвинея входила в моду. Барону Остен-Сакену удалось добиться новой субсидии от РГО в размере 1500 руб, он также обратился в Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии за дополнительной финансовой поддержкой путешественнику, но получил отказ[159]. Сам Николай Николаевич обдумывал в тот период экспедицию по Яве, однако, понимая, что это приведёт к конфликтам с колониальными властями, 20 ноября 1874 года отплыл в Сингапур, который решил сделать своей главной базой для исследований на Малаккском полуострове. Прибыв туда 24 ноября, он поселился в «Европейском отеле»[160]. Покровительство учёному оказал британский генерал-губернатор Эндрю Кларк, который ввёл Миклухо-Маклая в свой дом, пригласил в губернаторскую ложу в театре и всячески подчёркивал благоволение. Причина этого была в том, что он рассчитывал использовать этнографа как разведчика, поскольку даже в 1874 году во многих районах полуострова не бывал ни один европеец[161]. В период до конца января 1875 года Миклухо-Маклай совершил два путешествия по Малакке; он не успел подготовить свои дневники к публикации, а до наших дней дошёл только дневник первой поездки — в город Джохор-Бару.
Вернувшись в Сингапур, в феврале 1875 года Миклухо-Маклай на яхте губернатора Кларка отправился в Бангкок, где провёл 9 дней. Поездка, хотя и экскурсионная, оказалась очень тяжёлой: раны на ногах, полученные в Малакке, плохо излечивались, а сорокаградусная жара и влажность сильно угнетали. Несмотря на это, он сделал много зарисовок антропологического типа сиамцев[162].
В июне 1875 года Миклухо-Маклай отправился во вторую экспедицию по Малаккскому полуострову, поднявшись по реке Джохор до реки Эндау. Путешествие продолжалось до октября. Британские власти — в Сингапуре сменился генерал-губернатор — стремились как можно быстрее получить информацию стратегического характера, в результате Николай Николаевич скорейшим образом покинул город и вернулся в Батавию[163].
Вопрос об аннексии Новой Гвинеи
Ещё в мае 1875 года, вернувшись из поездки по Малакке, Миклухо-Маклай был встревожен газетными сообщениями о готовящейся аннексии восточной части Новой Гвинеи, в частности Берега Маклая. 24 мая он написал письмо П. П. Семёнову, который тогда фактически руководил РГО. Само письмо не сохранилось, но по косвенным данным, он сообщал, что намерен «сплотить в одно целое» аборигенов Берега Маклая, и просил выяснить, поддержит ли правительство России его начинание[164]. Не получив ответа, 28 октября он отправил второе письмо, содержащее в том числе и такие строки:
Вследствие настойчивой просьбы людей этого Берега я обещал им вернуться, когда они будут в беде; теперь, зная, что это время наступило и им угрожает большая опасность (так как я убеждён, что колонизация Англии кончится истреблением папуасов), я хочу и должен сдержать слово<…> Не как русский, а как Тамо-боро-боро (наивысший начальник) папуасов Берега Маклая я хочу обратиться к Его Императорскому Величеству с просьбой о покровительстве моей страны и моих людей и поддержать мой протест против Англии…[165]
Примечательно, что Миклухо-Маклай заявлял, что не желает русской колонизации Новой Гвинеи, а намеревается установить над ней протекторат, который понимал как особое отношение между слабой и сильной стороной с сохранением суверенитета последней. Он заявил, что жители Новой Гвинеи «… через моё посредство подчинятся некоторым международным обязательствам и… в случае насилий со стороны белых, имели бы законного могущественного покровителя»[166].
Письмо от 28 октября П. П. Семёнов переслал в Министерство иностранных дел, департамент внутренних сношений которого только что возглавил Ф. Р. Остен-Сакен. Остен-Сакен немедленно подготовил записку «О русском путешественнике Миклухо-Маклае» для доклада императору; в её редактировании принимал участие канцлер А. М. Горчаков. Примечательно, что он рекомендовал просьбу о протекторате отклонить, что Александр II и сделал[167]. Решение правительства было изложено в письме, которое было отправлено Миклухо-Маклаю в феврале 1876 года и достигло адресата два года спустя. П. П. Семёнов, помимо изложения позиции высшей инстанции, мягко попенял путешественнику, что он «с почвы научной переходит на почву чисто практическую»[168].
Не получив своевременного ответа, Николай Николаевич стал готовить самостоятельную экспедицию. Голландский предприниматель из Сингапура К. Шомбургк согласился отправить Миклухо-Маклая на коммерческой шхуне «Си Бёрд», отплывавшей из порта Чиребон на Яве в феврале 1876 года. У исследователя были три месяца для поправки здоровья и приведения в порядок научных трудов. Он завершил свой крупный труд по этнографии «Этнологические заметки о папуасах Новой Гвинеи» и отправил в Парижское антропологическое общество статью о начатках искусства у папуасов Берега Маклая[169]. Кроме того, он отправил Рудольфу Вирхову две заметки о сексуальных обычаях даяков на Калимантане[170]. 18 февраля 1876 года Миклухо-Маклай отправился в плавание.
Второе пребывание на Берегу Маклая
На борту шхуны «Си Бёрд» Миклухо-Маклай написал открытое письмо для отправки Остен-Сакену, которое пришло в Петербург летом 1876 года. Главным в этом письме было заявление, что он один, не рассчитывая на чью-либо помощь, попытается отстоять независимость папуасов. По получении письма было решено его не печатать, а взамен дать в официозной прессе статью о деятельности учёного. Такая статья — «Значение деятельности Миклухо-Маклая» — от имени редакции увидела в свет в газете «Голос» 2 (14) ноября 1876 года. Судя по финальной части статьи, русское правительство всё-таки решило осторожно поддержать инициативу Миклухо-Маклая, не давая ему, впрочем, никаких гарантий. Это позволяло в будущем использовать его деятельность в российских интересах, в качестве «разменной карты» в дипломатической игре[171].
До Берега Маклая пришлось добираться кружным путём через Западную Микронезию и Северо-Западную Меланезию. Вирхову учёный писал о сильнейшем нездоровье — непрекращающейся лихорадке, поражении печени и невралгии[172]. По пути, несмотря на болезни, Миклухо-Маклай продолжал этнографические исследования, наиболее подробные наблюдения он сделал на Палау и Япе, где остановился на две недели. Не владея местными языками, он использовал в качестве переводчиков европейских торговцев и островитян, которые освоили английский язык. На острове Бабелтуап он нанял двух слуг и взял себе временную жену, о которой писал Мещерскому и сестре Ольге, причём даже отправил ей портрет этой жены[173]. 27 июня 1876 года исследователь высадился в Заливе Астролябия.
Хотя второе пребывание на Новой Гвинее оказалось самым длительным в экспедиционном опыте Миклухо-Маклая — 17 месяцев, его описания не столь подробны, как дневники 1871—1872 годов, более того, оригиналы полевых дневников утрачены[174].
На сей раз Миклухо-Маклай разместил свою резиденцию на мысе Бугарлом близ деревни Бонгу (от старого дома на мысе Гарагаси остались только сваи, изъеденные термитами). Его слуги и плотник со шхуны за шесть дней соорудили двойной домик на сваях длиной 10 и шириной 5 м. Людей и кухню разместили отдельно, а учёный имел в своём распоряжении кроме спальни и веранды ещё и анатомичку, кабинет для антропологических измерений и склад, которые располагались под свайным навесом двухметровой высоты[175]. Близ дома был разбит огород, на котором выращивались кукуруза, тыквы, арбузы и огурцы, уже через несколько месяцев и местные жители стали заимствовать эти культуры[176].
Папуасы тепло приняли исследователя, а усовершенствовав знание языка, он получил возможность расширить круг наблюдений: получил приглашение на свадьбу и даже смог наблюдать обряд умыкания невесты, присутствовал на похоронах и собрал интересные материалы о погребальных обычаях. Однако ему так и не удалось зафиксировать обряд инициации (включающий обрезание), поскольку он проводился один раз в 6 или 7 лет[177].
Исследователь использовал те же методы, что и в 1871—1872 годах, и заявлял, что опросы не помогают в его условиях. В отчёте РГО он писал:Единственный путь — видеть всё собственными глазами, а затем, отдавая себе отчёт (при записывании) виденного, надо быть настороже, чтобы не воображение, а действительное наблюдение дало бы полную картину обычая или церемонии[178]
При таком подходе, как и во время первого пребывания на Берегу Маклая, почти не поддавались интерпретации формы социальной организации, а также религиозные верования, фольклор и вообще проявления духовной культуры. Например, Миклухо-Маклай заметил, что деревни папуасов обычно делятся на кварталы, имеющие особые названия, но так и не смог установить, что такой квартал населяет родственная группа — клан[179].
Объясняя причины переориентации с зоологических на антропологические исследования, Миклухо-Маклай писал:В будущем те же райские птицы и бабочки будут восхищать зоолога, те же насекомые насчитываться тысячами в его коллекциях, между тем как почти наверное при повторённых сношениях с белыми не только нравы и обычаи теперешних папуасов исказятся, изменятся и забудутся, но может случиться, что будущему антропологу придётся разыскивать чистокровного папуаса в его примитивном состоянии в горах Новой Гвинеи, как я искал сакай и семанг в лесах Малайского полуострова[180].
Особенность второй экспедиции на Берег Маклая — многочисленные экскурсии, совершённые учёным; всего он посетил более 20 деревень. Вероятно, они преследовали и цели создания Папуасского Союза, о существовании которого он публично объявил. Собственно научная деятельность не прекращалась: он составил 14 кратких словников языков, на которых говорили обитатели 27 деревень[181].
Из записей и статей учёного следует, что папуасы считали его не просто «очень большим человеком» (тамо боро-боро), но и сверхъестественным существом. Одновременно начинали складываться его культ и мифология, причём в папуасских мифах о Маклае на первый план стали выходить черты, присущие культурному герою[182][Прим 4].
За 17 месяцев второго пребывания на Берегу Маклая так и не появилось ни одного европейского судна. Тем не менее учёного не покидали опасения о нашествии авантюристов и работорговцев, не случайно, что именно в Бугарломе он написал статью об известных ему случаях похищения людей капитанами торговых судов[184]. На Новой Гвинее он пришёл к следующей идее:
|
По договору с Шомбургком он должен был прислать за Миклухо-Маклаем судно через 6 месяцев, но договора не выполнил. Это вновь поставило учёного на грань физического выживания: закончились съестные припасы и даже писчая бумага. Пришлось перейти на подножный рацион, а записи делать на листах, вырываемых из книг, обёрточной бумаге и проч. Неопределённость положения нервировала Николая Николаевича. Вновь резко ухудшилось состояние его здоровья: на ногах появились незаживающие язвы, более всего его мучили невралгии первой и второй ветвей тройничного нерва. Впрочем, его микронезийские слуги страдали лихорадкой в ещё более тяжёлой степени, чем он сам[186].
Только 6 ноября 1877 года появилось судно: Шомбургк с годичным опозданием прислал шхуну «Флауэр оф Ярроу». Она вела меновую торговлю в Северо-Западной Микронезии и заодно была направлена в бухту Астролябии. На шхуне свирепствовала цинга. Миклухо-Маклай оставил дом со всей обстановкой жителям Бонгу, взяв с собой только книги и рукописи, но перед отъездом собрал вождей всех окрестных деревень и повелел при появлении европейских судов уводить женщин и детей в горы, а самим папуасам соблюдать крайнюю осторожность. Сообщил он и тайные знаки для опознания своего посланца, если не сможет приехать сам[187].
Австралия. 1878—1882 годы
Пребывание в Сингапуре
Плавание в Сингапур продолжалось около двух месяцев и сильно ухудшило состояние здоровья Миклухо-Маклая. Вследствие плохого питания к малярии присоединились цинга и хронический колит. К моменту прибытия, 18 января, он был почти не в состоянии писать. Телесные недуги в результате привели к тяжёлому нервному срыву[188]. Видимо, в состоянии помрачения, он писал Остен-Сакену, что рассчитывает поехать в Африку, ибо такая экспедиция «будет важна для разрешения этнографических вопросов папуасов и негритосов»[189]. Характерно, что больше он никогда не упоминал об этом замысле[190]. Тяжёлое физическое состояние учёного усугубляли денежные проблемы. Благодаря призывам к Мещерскому и Остен-Сакену, 9 апреля 1877 года Миклухо-Маклай получил 3577 долларов переводом. Денег хватило только на расплату с Шомбургком, однако долги по первой экспедиции на Новую Гвинею так и не были погашены. Себе исследователь оставил 450 долларов[190].
Больной жил на иждивении доктора Денниса в его сингапурском доме, но, несмотря на уход, видимого улучшения не было. Он неоднократно писал в Россию, выражая желание приехать на год-два, а потом вернуться на Новую Гвинею. Поскольку от матери не было никаких известий, а русский военный флот не собирался посылать суда в Южные моря (в том числе из-за русско-турецкой войны), Миклухо-Маклай решил переехать в Австралию. Отправив за собственный счёт своих палауских слуг на родину, Николай Николаевич купил билеты на пароход «Сомерсет». Как писал он сам, последнюю неделю перед отъездом он находился в забытьи, плохо понимая, что делает. За день до отплытия он распорядился отнести в банк дневники и зарисовки своей второй экспедиции, при этом не запомнив названия банка и не взяв расписки. Только в 1882 году он предпринял поиски рукописей, но они ни к чему не привели. Он даже не смог самостоятельно взойти на борт парохода, в каюту его внесли на руках[191].
Сидней. 1878—1879 годы
Плавание на пароходе, прохладная погода — в Южном полушарии была зима — улучшили самочувствие Миклухо-Маклая: прекратилась депрессия, уменьшились проблемы с желудком, по собственным словам, он за месяц поправился на 12 кг[192]. 18 июля 1878 года пароход прибыл в Сидней. Путешественника принял почётный консул России Э. М. Поль, в доме которого он и остановился. В Сиднее о Миклухо-Маклае хорошо знали, и уже на следующий день — 19 июля три ведущие газеты опубликовали статьи о прибытии «барона Маклая». Путешественник не стал опровергать сведений о своём титуле и даже заказал себе визитные карточки и почтовую бумагу с вензелем «М» под баронской короной. Уже через несколько дней он переселился в Английский клуб, где познакомился с попечителем Австралийского музея У. Макартуром и У. Маклеем — главой Линнеевского общества Нового Южного Уэльса, влиятельным политиком[193]. Уже 29 июля — через 11 дней после прибытия в Австралию — Миклухо-Маклая избрали почётным членом Линнеевского общества[194].
В своём докладе, состоявшемся 26 сентября, Миклухо-Маклай призвал основать в Сиднее биологическую станцию. Директором станции он предложил сделать У. Маклея, который чрезвычайно загорелся идеей и поселил Николая Николаевича в своей усадьбе Элизабет-бэй-Хаус. Впрочем, их близкие отношения продлились недолго[195]. Уже в ноябре 1878 года Миклухо-Маклай переселился в Австралийский музей, где ему была предоставлена комната и лаборатория. Научная деятельность его была разнообразна: он сопоставлял мозг хрящевых рыб с мозгом ехидны, а также препарировал мозги шестерых океанийцев, умерших в сиднейской больнице. Увлекшись работой, он даже отклонил возможность вернуться в Россию: русский военный корабль тогда мог зайти в Сидней, направляясь на Балтику[196].
В связи с готовящейся в Сиднее международной выставкой, приуроченной к 100-летию высадки европейцев в Новом Южном Уэльсе, Миклухо-Маклаю удалось заинтересовать правительство колонии проектом устройства биологической станции в бухте Уотсонс-бэй (англ. Watsons Bay). Для неё требовался земельный участок в 0,7 акра (2800 м²) и сумма в 600 фунтов стерлингов. Однако при этом возник конфликт с Маклеем, который рассчитывал на коммерциализацию деятельности будущей станции. Хотя половину расходов взяло на себя правительство (учреждение было признано «полезным для колонии»), Миклухо-Маклаю удалось собрать для работы станции только 100 фунтов. Вместо того чтобы довести дело до конца, он при первой же возможности сел на шхуну и вновь отправился в Южные моря[197].
Меланезия. Квинсленд
На шхуне «Сэди Коллер», команда которой занималась добычей гуано, Миклухо-Маклай отплыл 27 марта 1879 года. В сиднейских газетах утверждалось, что он собирался посетить Новую Британию и Новую Каледонию, а потом вернуться на Новую Гвинею. Деньги на поездку, 150 фунтов, одолжил ему У. Маклей[198]. Уже в Нумеа исследователь столкнулся с фактами работорговли, а потом на Новых Гебридах специально занялся методами охоты на людей и их перепродажи. Одновременно он испортил отношения с капитаном Уэббером, который бесчеловечно обращался с туземным экипажем, и принял решение высадиться на архипелаге Луизиада, что и осуществил 18 января 1880 года. Через три дня на острове Вари его подобрали английские миссионеры, которые совершали инспекционную поездку по юго-восточному побережью Новой Гвинеи[199]. Заразившись там новой формой злокачественной лихорадки, измученный путешественник 12 мая 1880 года прибыл в Брисбен — главный город колонии Квинсленд. Неизвестно, вёл ли он в Австралии дневники, во всяком случае, они не сохранились до наших дней[200].
Миклухо-Маклай задержался в Брисбене по двум причинам: во-первых, из-за отсутствия ясных целей, во-вторых, из-за восторженного приёма, оказываемого ему. Местные власти и влиятельные семьи соперничали за право принять у себя знаменитого путешественника. С главой правительства Квинсленда, Артуром Палмером, Миклухо-Маклай был знаком ещё по Малакке с 1875 года. Благодаря этому путешественнику предоставили бесплатный переезд по железной дороге, выделили лабораторию в Квинслендском музее и разрешили использовать аппаратуру Землемерного ведомства (фотоаппараты и химикаты для проявки и печати фотографий). Палмер даже передал Миклухо-Маклаю для препарирования тела трёх казнённых преступников — китайца, тагала и австралийского аборигена. Учёный изучил и сфотографировал их мозги, а труп аборигена заспиртовал и отправил Р. Вирхову в Берлин[201].
В июле он совершил поездку на 280 миль вглубь континента, чтобы проверить легенды о некоем «безволосом племени». На ферме Гулнарбер ему удалось обнаружить несколько семей аборигенов, тела которых были лишены волосяного покрова, фотографии и образцы также были отправлены Вирхову[202]. После исследования аборигенов Миклухо-Маклай согласился с Томасом Гексли, который первым выделил австралоидов в отдельную расу[203].
В Брисбене Миклухо-Маклай познакомился с влиятельными политиками колонии — Огастасом Грегори (1819—1905), Дональдом Ганном и Джошуа Беллом, который до декабря 1880 года исполнял обязанности губернатора. Он подолгу жил в их поместьях, где мог также заниматься исследованиями австралийских аборигенов, особенно Николая Николаевича интересовали сексуальные обычаи, которые тогда вошли «в моду» в немецких антропологических журналах[204]. Новый, 1881-й год Миклухо-Маклай встречал в имении Ганна, где обнаружил останки доисторических животных, в частности, Diprotodon australis, Phoscolomys gigas и других представителей плейстоценовой фауны. Ныне его находки хранятся в Сиднейском университете[204]. Жизнь в поместьях также дала Миклухо-Маклаю богатый материал по отношению англо-австралийцев к аборигенному населению, а также рабам-меланезийцам, которых ввозили «охотники за чёрными дроздами» — малайские и европейские работорговцы. Он пришёл к выводу, что ни в коем случае нельзя допустить поглощения востока Новой Гвинеи Австралией; с этой точки зрения превращение Новой Гвинеи в британскую колонию было меньшим злом[205].
Финансовое положение учёного оставалось довольно напряжённым: пребывая в Квинсленде, он не нёс вообще никаких расходов, вскоре консул Э. М. Поль получил из Петербурга 4500 рублей для него, что при тогдашнем курсе составляло 606 фунтов стерлингов. Это позволило вернуть долг У. Маклею и вернуться в Сидней. Однако главный долг фирме Дюммлера в Батавии достиг 13 500 гульденов, то есть 1000 фунтов, и оставался непогашенным. Деньги прислал князь А. Мещерский, организовавший в Европе большую кампанию по помощи учёному[206].
Сидней, 1881 год. «Проект развития Берега Маклая»
В конце января 1881 года Миклухо-Маклай вернулся в Сидней и вновь занялся делами биологической станции. Правительство безвозмездно предоставило землю и назначило попечительский совет, председателем которого был известный врач Дж. Кокс; Миклухо-Маклай был избран почётным секретарём. Министр просвещения Нового Южного Уэльса — Дж. Робертсон — назначил Миклухо-Маклая директором заведения, получившего название Морской биологической станции. На счету станции было около 100 фунтов, собранных ещё в 1879 году. Чтобы увеличить сумму, учёный решил использовать соперничество крупнейших городов Австралии — Сиднея и Мельбурна. В марте он отбыл в Мельбурн, где был принят директором Национального музея и профессором университета Ф. Маккоем, президентом Королевского общества (Академии наук) Виктории — Р. Эллери, издателями газеты и другими влиятельными лицами. Одновременно и Королевское общество Нового Южного Уэльса, конфликтовавшее с Линнеевским обществом, выделило 300 фунтов. Учитывая, что половина требуемой суммы была собрана, правительство Нового Южного Уэльса выделило недостающие средства и начало строительство[207]. Стройка окончилась 14 мая 1881 года, о чём сообщила газета Sydney Mail. В доме предусматривались две спальни и пять лабораторий. К октябрю Миклухо-Маклай уже смог поселиться в здании. Он не ограничился достигнутым, а ещё и основал Австралазийскую биологическую ассоциацию, которая должна была открывать новые станции в Австралии и Новой Зеландии и координировать исследования во всём регионе южного Тихого океана[208]. Ассоциация, впрочем, просуществовала только до отъезда учёного в Россию[209].
24 ноября 1881 года датирован «Проект развития Берега Маклая», адресованный коммодору Дж. Уилсону — командующему британскими ВМС в юго-западной части Тихого океана[210]. Это было ответом на события августа — октября 1881 года, когда в Сиднее стало известно, что в деревне Кало на юго-восточном побережье Новой Гвинеи были убиты несколько христианских миссионеров. Коммодор Уилсон решил устроить показательную акцию — деревню сжечь, вырубить плодовые деревья и плантации и, по возможности, расправиться с жителями. Миклухо-Маклай настоял на своём присутствии в карательном походе (в Порт-Морсби и деревню Кало), и ему удалось спасти аборигенов от расправы[211].
В «Проекте развития» Миклухо-Маклай решительно заявлял, что намерен вернуться на побережье своего имени, чтобы спасти островитян от белых захватчиков. Главной своей задачей он заявлял достижение более высокой ступени самоуправления на основе уже существующих местных обычаев. Из изолированных дотоле деревень должен быть составлен Большой Совет, членами которого были бы самые авторитетные старейшины деревень, но внутренние дела каждой деревни оставались бы в ведении традиционных советов. В качестве первоочередной задачи выдвигалось строительство школ, пристаней, дорог и мостов, а также всемерное развитие местной экономики. На себя Миклухо-Маклай возлагал обязанности консультанта Большого Совета и министра иностранных дел. Первоначальное финансирование он надеялся получить от филантропически настроенных европейцев, а по мере развития туземной экономики проект стал бы самоокупаемым. В заключение Миклухо-Маклай заявил, что в случае успешной реализации его проекта от имени Большого Совета он готов согласиться на протекторат Великобритании над восточной частью Новой Гвинеи[210].
Знакомство с М. Кларк. Возвращение в Россию
В конце декабря 1881 года в Сидней пришла русская эскадра в составе крейсера «Африка» и клиперов «Пластун» и «Вестник» под командой контр-адмирала А. Асланбегова. Это было удобной возможностью для Миклухо-Маклая посетить Россию, где он не был к тому моменту 12 лет. Судя по ноябрьскому письму П. П. Семёнову, в Петербурге он надеялся спокойно обработать результаты своих открытий и найти деньги для расплаты с кредиторами[212]. К тому времени Миклухо-Маклай имел в жизни обстоятельство, которое препятствовало его отъезду из Австралии.
Рядом с биологической станцией располагалось поместье сэра Джона Робертсона[en] — неоднократного премьер-министра колонии Новый Южный Уэльс. В своё время Робертсон отстаивал идею станции Миклухо-Маклая и даже лично выбрал участок для строительства и наблюдал за ходом стройки[213]. Летом 1881 года 35-летний путешественник познакомился с его дочерью — недавно овдовевшей 25-летней Маргарет Робертсон-Кларк. Маргарет была весьма образованной женщиной, она несколько раз ездила в Европу, а с Миклухо-Маклаем у них оказалась общая знакомая — Наталия Герцен (старшая дочь революционера)[213]. Свидетельств о развитии их отношений до отъезда Миклухо-Маклая в Россию не существует, но известно, что Маргарет хотела сделать карьеру оперной певицы и собиралась ехать для этого в Италию, а также симпатизировала католицизму. Расстались они 17 февраля 1882 года и, видимо, уже тогда решили вступить в брак[214].
В ответ на запрос контр-адмирала Асланбегова Морское министерство разрешило Миклухо-Маклаю следовать на борту клипера «Вестник», который тогда находился в Мельбурне. Отплытие из Австралии было омрачено громким скандалом: в прессе появились сенсационные репортажи о том, что цель эскадры — захват Мельбурна, а «барон де Маклай» — главный русский секретный агент[215]. Эскадра покинула Австралию 24 февраля; на борту «Вестника» путешественник добрался до Сингапура, где перешёл на борт крейсера «Азия». Крейсер 9 июня достиг Суэца и далее следовал в Неаполь, но 11 июня начались вооружённые события в Александрии, из-за которых «Азия» простояла на рейде Суэца до 15 июля. Только 18 июля Миклухо-Маклай покинул Египет, а далее сошёл на берег в Генуе и перешёл на борт броненосца «Пётр Великий», идущего на Балтику[216]. 31 августа (12 сентября) 1882 года броненосец ошвартовался на Кронштадтском рейде[217].
Россия и Европа
Россия
Российская публика с нетерпением ждала возвращения Миклухо-Маклая: газета «Голос» отслеживала этапы передвижения путешественника и получала от него краткие телеграммы. Однако Николаю Николаевичу почти нечего было представить в РГО — черновые рукописи дневников нуждались в обработке, поэтому во время плаваний он написал множество конспектов лекций о путешествиях и лабораторных изысканиях. Подготовка лекций была полезна и в другом отношении: по сути, он впервые систематизировал собранный материал и расположил его в определённой последовательности[218].
Первый визит в Петербурге Миклухо-Маклай нанёс П. П. Семёнову, который охотно разрешил прочитать несколько публичных лекций в РГО и даже приказал напечатать в газетах объявление о предстоящих выступлениях. Первое «Чтение» состоялось 29 сентября (11 октября) в зале Географического общества и было посвящено двум путешествиям на Новую Гвинею. Стенограмма лекции была немедленно опубликована в столичных газетах, при этом сами выступления не отличались особой эффектностью.
|
В той же манере исследователь прочитал ещё три лекции — все в октябре, но их пришлось переместить в зал Технического общества, вмещающий до 800 слушателей. В Петербурге были написаны два портрета: первый, кисти К. Маковского, ныне хранится в петербургской Кунсткамере. Портрет кисти А. Корзухина был подарен матери Миклухо-Маклая и ещё в 1930-е годы находился у родственников путешественника, но далее был утерян. С этого портрета была снята авторская копия, преподнесённая Маргарет Робертсон-Маклай; после смерти мужа она увезла портрет в Австралию, где он хранится в сиднейской библиотеке Митчелла[220].
На пике общественной популярности Миклухо-Маклая П. П. Семёнов, ещё 30 сентября, обратился с просьбой о представлении исследователя императору Александру III; аудиенция была назначена на среду, 6 (18) октября в Гатчине[221]. По сообщению британского посла в Петербурге, впервые будущий император и молодой исследователь встретились ещё весной 1871 года в Ораниенбауме у великой княгини Елены Павловны, и Александр Александрович был увлечён планом новогвинейской экспедиции и в дальнейшем судьбу Миклухо-Маклая отслеживал[222].
На аудиенции у императора Миклухо-Маклай доложил о проведённых экспедициях и пожаловался на безденежье. Через пять дней он получил приглашение от императрицы Марии Фёдоровны рассказать царской семье и придворным несколько наиболее знаменательных эпизодов. Вероятно, тогда же император распорядился урегулировать финансовые дела исследователя. 12 октября, накануне заседания Совета РГО, Миклухо-Маклай уехал в Москву[223].
Накануне приезда учёного Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии приняло Миклухо-Маклая своим непременным членом и наградило золотой медалью. 15 октября Николай Николаевич выступал в большом зале Политехнического музея, где собралось более 700 человек[224].
13 октября прошёл Совет РГО, по результатам которого было направлено письмо министру финансов Н. Х. Бунге: предлагалось в течение двух лет выплачивать Миклухо-Маклаю по 400 английских фунтов в год до завершения его большого труда и погасить лежащий на нём долг в 1350 фунтов. 31 октября император постановил выплатить эти суммы из его личных средств, но с условием, что труд учёного будет напечатан на русском языке и издан в России[225].
Неизвестно, поднимался ли вопрос о статусе Новой Гвинеи во время аудиенции у императора, однако управляющий Морским министерством адмирал И. А. Шестаков общался с Миклухо-Маклаем, его неопубликованный дневник остаётся самым подробным свидетельством по данному вопросу. Первая встреча Миклухо-Маклая и Шестакова произошла 30 сентября и вызвала раздражение адмирала. Он писал, что Маклай «хочет стать на Новой Гвинее „царьком“». Тем не менее исследователь сумел заинтересовать императора идеей организовать заправочную базу для русского флота, и Александр III поручил Шестакову рассмотреть данный вопрос. Было решено отправить путешественника в Новую Гвинею из Австралии на корвете «Скобелев» (бывший «Витязь»), чтобы заодно присмотреть подходящее место для угольной базы[226].
Европа
Здоровье Миклухо-Маклая сильно ухудшилось после пребывания в Москве и Петербурге, в письме Вирхову он жаловался на мышечный ревматизм и многочисленные невралгии[227]. В результате 28 ноября 1882 года он покинул Россию и отправился поездом в Берлин. 16 декабря он присутствовал на заседании Берлинского общества антропологии, этнологии и первобытной истории (руководимого Вирховым). Далее исследователь проследовал в Амстердам, где полностью расплатился с долгами. В конце декабря он добрался до Парижа, где встретился с А. Мещерским, Н. Герцен и Габриэлем Моно — автором большой статьи об исследователе[228]. Очень неприятным был разговор с тяжело больным Тургеневым, состоявшийся 29 декабря: писатель ожидал урологической операции. Воспоминания об этой встрече были Миклухо-Маклаем написаны, но впервые опубликованы только в 1933 году. Тургенев после встречи оставил в дневнике следующую запись: «Чёрт знает почему мне кажется, что весь этот господин — пуф и никакой такой работы после себя не оставит»[229].
В январе 1883 года Миклухо-Маклай неделю провёл в Англии, где попытался реализовать «Проект развития Берега Маклая». Конкретных договорённостей с потенциальными спонсорами достигнуть не удалось, и в письме к брату Николай Николаевич писал, что сможет взяться серьёзно за проект не раньше, чем через два года[230].
Через Геную и Неаполь Миклухо-Маклай добрался до Порт-Саида, где получил корреспонденцию из Австралии, в том числе письмо от Маргарет, в котором она соглашалась стать его женой. Это означало, что, если «Скобелев» придёт в Сидней в конце марта, у исследователя не останется времени для встречи с невестой. Он немедленно написал Шестакову, прося скорректировать планы. Однако 22 февраля, когда пароход с Миклухо-Маклаем прибыл в Батавию, там находился и «Скобелев» под флагом командующего отрядом русских судов на Тихом океане — контр-адмирала Н. В. Копытова[231]. Планы вновь резко поменялись: 24 февраля 1883 года корвет с Миклухо-Маклаем на борту взял курс на Новую Гвинею[232].
Австралия. 1883—1886 годы
Третье пребывание на Берегу Маклая
Контр-адмирал Копытов отнёсся к Миклухо-Маклаю настороженно, поскольку поначалу путешественник повёл себя надменно. На «Скобелеве» не было свободных кают, но он категорически требовал себе отдельное помещение. В конце концов на палубе над полуютом для Николая Николаевича соорудили просторную брезентовую палатку[233]. Отношения с командиром быстро наладились, уже на третий день после выхода из Батавии Копытов писал жене:
Без Миклухо-Маклая я бы мог выполнить чрезвычайно поверхностно своё дело. Теперь, имея его с собою, мне будет всё вдесятеро легче. Он же сам по себе человек чрезвычайно интересный, проделавший вещи почти невероятные во время жизни с дикарями… Слушать рассказы о его приключениях доставляет мне много удовольствия, и часто не верится, чтобы такой маленький и слабенький человек мог бы делать такие дела…[Прим 5][235]
17 марта 1883 года «Скобелев» вошёл в Залив Астролябия и ошвартовался в бухте Константина. Третье пребывание на Берегу Маклая оказалось самым кратким — всего 8 дней, в подготовленном собрании сочинений Миклухо-Маклай свою последнюю встречу с папуасами описал в очерковой форме, малоинформативны также его дневники и письма. Более содержательны дневники Н. В. Копытова и его письма к жене[236].
Миклухо-Маклай обнаружил, что большинство его старых друзей уже умерли (в том числе Туй), два квартала в Бонгу полностью обезлюдели, а прежде большая деревня Горенду была брошена. Сами бонгуанцы объясняли убыль населения болезнями, насланными колдунами из горных деревень, и выражали желание, чтобы Маклай поселился среди них[237]. Копытов также зафиксировал, что Маклай явно не оставлял желания осесть на «своём» острове. Однако упадок Бонгу и затянувшаяся война между деревнями повергла его в уныние, и он осознал тщетность своего проекта создания единого сообщества папуасов. С этого времени он мыслил Папуасский Союз как управляемую лично им территорию, по выражению Ф. Погодина, — «этнографический заповедник» под протекторатом какой-либо европейской державы, причём необязательно России[238]. Путешественник высадил в Бонгу неизвестные папуасам садовые культуры — хлебное дерево, манго, апельсин, лимон. Он привёз и зёрна кофе, однако рекомендовал отправить их обитателям горных деревень с наказом горцам, что их привёз сам Маклай[239]. Расставаясь с папуасами через неделю, Миклухо-Маклай пообещал не оставлять их в беде и «со временем» поселиться в этих местах. 23 марта на рассвете «Скобелев» покинул Берег Маклая[240].
Следовало также выполнить программу, намеченную Шестаковым. В итоговом отчёте Н. В. Копытов пришёл к выводу, что ни одна из гаваней, обследованных им на Новой Гвинее и на Палау, не подходит для устройства угольных складов для крейсеров. Вместе с тем он полагал, что продуктивнее другая схема: водворение на островах частного русского лица вместо прямой колонизации. Копытов, будучи разработчиком концепции крейсерской морской войны, видел, что все пункты, предлагаемые Миклухо-Маклаем, крайне удалены от основных океанских коммуникаций. Однако он подчёркивал, что без путешественника миссия была бы не выполнена: Миклухо-Маклай служил переводчиком при общении с островитянами и получил для русского морского ведомства массу сведений о европейцах, высаживавшихся на островах. В результате Н. Копытов выдал путешественнику 320 долларов из сумм на непредвиденные расходы и высадил его 17 апреля 1883 года в Маниле, чтобы оттуда он самостоятельно добрался до Австралии[241].
Аннексия Новой Гвинеи
Сойдя со «Скобелева», Миклухо-Маклай на испанском пароходе переехал в Гонконг, чтобы ожидать там оказии до Сиднея. В Гонконге он узнал, что 4 мая 1883 года правительство Квинсленда собственным произволом объявило восточную Новую Гвинею своим владением и обратилось в Лондон за утверждением данной аннексии. Явно преувеличив своё влияние на ход событий, Николай Николаевич вообразил, что данная акция была спровоцирована рейсом «Скобелева» и возможным российским протекторатом над Новой Гвинеей[242]. Материалы австралийских архивов показывают, что правительство Квинсленда руководствовалось идеей обеспечения нормального судоходства в Торресовом проливе, а также предотвращения угрозы британским колониям в Австралии в случае захвата востока Новой Гвинеи какой-либо европейской державой. Хотя в официальных документах держава не называлась, но в австралийской прессе чаще всего упоминалась Германия. Страх перед Германией был силён в Австралии с 1882 года, после появления в ноябре того же года официального призыва присоединить Папуа — Новую Гвинею к германским владениям. В правительственном архиве Австралии в материалах по Новой Гвинее Миклухо-Маклай упоминается, но лишь как исследователь папуасов и борец против ввоза рабов-меланезийцев на плантации Квинсленда[243].
Не зная, чем закончится колониальная акция Квинсленда, Миклухо-Маклай написал великому князю Алексею Александровичу и самому императору. В письмах путешественник вернулся к идее 1875 года о российском протекторате над Берегом Маклая, вероятно, надеясь совместить его с Папуасским Союзом. Александр III, получив письмо, поручил Шестакову разобраться, почему Копытов забраковал все предложения Миклухо-Маклая. В дневнике Шестакова от 16 (28) января 1884 года написано, что он ещё раз проштудировал материалы Миклухо-Маклая и отчёт Копытова, и раздражённо назвал путешественника «прожектёром». На императора наибольшее впечатление произвёл самый простой аргумент: все пункты, предложенные для военной базы флота Миклухо-Маклаем, расположены так далеко от морских торговых путей, что запас угля, полученный на Новой Гвинее крейсером, будет истрачен ещё до выхода на неприятельские коммуникации[244].
Женитьба
10 июня 1883 года Миклухо-Маклай вернулся в Сидней и обосновался в здании Биологической станции, занявшись прежде всего матримониальными делами. Родственники невесты были против заключения брака, о чём Николай Николаевич писал брату Михаилу[245]. Объяснялось это тем, что иностранец «барон Маклай» не имел никаких источников дохода, отличался слабым здоровьем и собирался увезти жену то ли на Новую Гвинею, то ли в Россию. Впрочем, наиважнейшей причиной было то, что Маргарет теряла в случае повторного брака 2000 фунтов годовой ренты (по завещанию первого мужа), которая была важным подспорьем для семейства Робертсонов, переживавшего тогда не лучшие времена[246].
Сэр Джон Робертсон, отец Маргарет, обратил внимание на то, что брак православного с протестанткой, совершённый по протестантскому обряду, не будет признан законным в России. Миклухо-Маклай в ноябре 1883 года отправил телеграмму обер-гофмаршалу В. С. Оболенскому с просьбой разрешить женитьбу на протестантке с условием, что родившиеся в браке дочери будут протестантского вероисповедания[247]. Обер-прокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев по распоряжению императора в конце января 1884 года отправил в Австралию телеграмму на английском языке, которая разрешала все спорные моменты. Сэр Робертсон вынужден был уступить, и 27 февраля 1884 года Нильс и Рита (как они называли друг друга) обвенчались[248]. В ноябре родился первенец — Александр. Семья жила в доме близ биологической станции, по-прежнему испытывая материальные трудности: императорская субсидия оказалась недостаточной, — временное облегчение принёс перевод на 200 фунтов от матери Миклухо-Маклая, первый за долгие годы. В декабре 1885 года родился второй сын — Владимир. В Австралии детей исследователя чаще называли Нильсом и Алленом[249].
Британо-германский раздел Новой Гвинеи
Ещё в декабре 1883 года в Сиднее состоялась межколониальная австралийская конференция, поскольку акция Квинсленда вызвала недовольство и в самой колонии, и у её соседей. На конференции от лондонского правительства потребовали присоединения к Британской империи всей части Новой Гвинеи, на которую не претендовали Нидерланды. Кабинет Гладстона пошёл на компромисс: новую колонию должны были финансировать власти Австралии, вопрос о Береге Маклая оставался открытым. 6 ноября 1884 года юго-восточное побережье было провозглашено британским, а в Порт-Морсби был поднят «Юнион Джек»[250]. Миклухо-Маклай попытался вмешаться в будущее Берега Маклая и вновь написал Алексею Александровичу и британскому премьеру Гладстону. Написал он и Бисмарку, причём письмо было весьма противоречивым: Германия должна была,
|
Комментируя противоречащие друг другу одновременные послания Миклухо-Маклая главам правительств России, Британии и Германии, морской министр Шестаков писал, что своим «привыкшим к дисциплине воображением не мог постичь такие совместные поступки г-на Миклухи»[252].
Ещё в 1881 году в Сиднее с Миклухо-Маклаем встретился Отто Финш — доверенное лицо германской Новогвинейской компании. Он сумел научиться у путешественника диалекту Бонгу и даже условным знакам, по которым папуасы должны были отличить чужаков от «своих». В октябре 1884 года Финш отплыл на Берег Маклая, выдал себя за брата Маклая и смог купить участки земли под плантации и угольную базу. Почти одновременно с аннексией Порт-Морсби в Залив Астролябии пришёл немецкий крейсер, и над Северо-Восточной Новой Гвинеей был установлен германский протекторат. В Сиднее об этом стало известно 19 декабря. Новости стали ударом для Миклухо-Маклая, он отправил Бисмарку телеграмму: «Туземцы Берега Маклая отвергают германскую аннексию»[253]. Отчаянные попытки учёного столкнуть между собой Британию, Россию и Германию по вопросу о Новой Гвинее в результате ни к чему не привели, раздел был узаконен британо-германским договором 1885 года[254].
Решение о возвращении в Россию
В начале 1885 года правительство Нового Южного Уэльса приняло решение об отчуждении земли и здания Биологической станции для военных нужд — она располагалась прямо у входа в залив Порт-Джексон. 12 июля Миклухо-Маклай получил предписание освободить здание станции. Это решение было напрямую связано с ростом антирусских настроений в Австралии[255]. Впрочем, на статусе зятя сэра Робертсона оно не слишком отразилось, а сам Миклухо-Маклай в интервью газете «Сидней Дейли Геральд» от 31 августа заявил, что решил продолжать работать на станции до последней возможности; но вскоре строение было конфисковано военными властями и использовано для размещения офицеров. Потеря станции натолкнула учёного на мысль о возвращении в Россию[256]. Из-за нездоровья — в особенности поражена была печень — он смог выехать из Брисбена только в конце февраля 1886 года[257].
Возвращение в Россию
При заходе в Батавию Миклухо-Маклай смог забрать из заклада свои рукописи и коллекции, находившиеся там с 1873 года, — долги были выплачены за счёт российского императора. Прибыв в Одессу в начале апреля 1886 года, путешественник немедленно получил приглашение от императорского семейства посетить Ливадию. Аудиенция прошла в два дня — 23 и 24 апреля, император живо интересовался делами путешественника, но полностью изложить свои планы о провозглашении независимости Новой Гвинеи Миклухо-Маклай так и не смог, о чём писал брату Сергею[257].
Далее он отправился в имение своей матери в Малине, примерно в 100 км от Киева, проведя в кругу семьи больше месяца. Положение Миклух заметно улучшилось: поместье площадью 13 км² стало приносить большие доходы в связи с общим ростом цен на зерно в 1880-е годы. Екатерина Семёновна Миклуха расплатилась с долгами и даже смогла построить двухэтажный кирпичный особняк с флигелем. Дом не сохранился до наших дней, будучи разрушенным во время бомбёжек в Великую Отечественную войну[258].
22 июня 1886 года Миклухо-Маклай приехал в Петербург, и вскоре в издании «Новости и Биржевая газета» появилась заметка о приглашении желающих заняться какой-либо деятельностью на Берегу Маклая. Неожиданно на объявление откликнулись сотни человек со всей России, в том числе и замеченные в связях с революционерами и находящиеся под полицейским надзором[259]. У путешественника спонтанно возник план создания переселенческой колонии, и уже 1 июля он обратился к императору с просьбой дать разрешение на основание такой колонии на Берегу Маклая. Известный публицист В. Модестов в тот же день опубликовал в «Новостях и Биржевой газете» аналитическую статью, в которой делал весьма смелые выводы: массовый приток желавших уехать на Новую Гвинею объяснялся тем, что в России есть большой контингент людей, недовольных Родиной, но сохранивших веру в прогресс человечества. Миклухо же Маклай предоставлял возможность создать при этом такое общественное устройство, которое будет наиболее удобным, вплоть до идеальной республики Платона или социалистического фаланстера. Путешественник узнал в редакции адрес Модестова и нанёс ему благодарственный визит[260]. Однако учёный неосторожно заявил в интервью петербургской газете на немецком языке «Герольд», что намерен связать Берег Маклая с Россией путём его населения русскими колонистами. Данное сообщение не осталось незамеченным и в Европе и было перепечатано газетой «Таймс». Из-за усилившегося давления на него уже в августе Миклухо-Маклай признал свой замысел неосуществимым[261].
Одновременно Миклухо-Маклай крайне медленно и мучительно готовил издание о своих путешествиях. Он решил разделить книгу на два тома, первый из которых должен был быть посвящён путешествиям на Новую Гвинею, а второй — в другие районы Океании, на Филиппины, в Индонезию и Малакку. Работа шла в несколько этапов: держа под рукой свои дневники и записные книжки, учёный диктовал текст родным и близким. Полученный текст дорабатывался автором и подвергался переписчиком стилистической правке, поскольку за годы пребывания за границей Николай Николаевич начал забывать русский язык[262].
К этому времени относится заочное знакомство Миклухо-Маклая с Львом Толстым. В письме от 25 сентября писатель горячо выражал своё восхищение:Вы первый несомненно опытом доказали, что человек везде человек, то есть доброе общительное существо, в общение с которым можно и должно входить только добром и истиной, а не пушками и водкой. И вы доказали это подвигом истинного мужества…[263]
Толстой оказал влияние на литературный стиль описания новогвинейского путешествия: в ответном письме Миклухо-Маклай подчёркивал, что благодаря советам Льва Николаевича решил оставить многие эпизоды личного характера, рассказывающие о взаимоотношениях с островитянами, которые намеревался выпустить при подготовке дневников к печати[264].
22 октября в Петербурге открылась выставка этнографических коллекций Миклухо-Маклая, которые преподносились им в дар Академии наук. Выставка пользовалась успехом, особенно у молодёжи — в день её посещало до 1000 человек. Своеобразным продолжением выставки стали семь лекций, прочитанных в ноябре — декабре 1886 года в зале Городской думы[265].
Болезнь и смерть
Изменения во внешности путешественника отмечали все люди, которые общались с ним после приезда в Петербург — 40-летний учёный резко ослаб и одряхлел, волосы совершенно поседели. Окончательный провал колонизационных планов обострил старую болезнь: давно возникшие боли в челюсти в феврале 1887 года усилились, возникла опухоль[266]. Лучшие петербургские врачи не сумели определить причину болезни, диагноз был поставлен только через три четверти века. После перезахоронения тела Миклухо-Маклая в 1938 году его череп поступил в МАЭ во исполнение его последней воли. В 1962 году череп подвергли рентгено-анатомическому исследованию, в результате был поставлен следующий диагноз: «раковое поражение с локализацией в области правого нижнечелюстного канала, причём поражение нижнечелюстного сустава было связано с поражением нижней ветви тройничного нерва»[267].
Поскольку финансовое положение Миклухо-Маклая не позволяло жить «на два дома», он решил перевезти семью в Россию. Александр III распорядился выдать на эти нужды 400 фунтов стерлингов. Сильно заболевший исследователь 17 марта 1887 года выехал в Одессу и 20 мая прибыл в Сидней. Семья отбыла из Сиднея уже через 4 дня, на том же пароходе, на котором исследователь приехал из Порт-Саида[268].
Семейство сошло с парохода в Генуе и через Вену поехало в Россию. В Вене Николай Николаевич и Маргарет вторично обвенчались по православному обряду[269]. В Петербург они прибыли 14 июля и поселились по адресу: Галерная улица, дом 53, квартира 12 (семь комнат на четвёртом этаже). В «Новостях и Биржевой газете» сообщали, что здоровье путешественника совсем плохо, а правую руку, страдающую от ревматизма, он носил на перевязи[270]. Главной трудностью было найти бонну для детей, говорящую по-английски, поскольку они не владели другими языками. Жена В. Миклухи подыскала для семьи мещанку Марью Дмитриевну Аронову, которая, вероятно, была связана с революционным подпольем[271].
Летом 1887 года болезнь несколько ослабела, Миклухо-Маклай даже успел съездить в Малин, навестить заболевшую мать. Напряжённая работа над вторым томом «Путешествий» привела к тому, что в ноябре он уже не мог выходить из дома. Вскоре отнялась правая рука, видимо, это свидетельствовало о появлении ракового метастаза в левом полушарии мозга. По свидетельству В. И. Модестова, путешественник лежал в затемнённой комнате, испытывая сильнейшие боли, особенно в челюстях во время разговора. К дню рождения Маргарет (21 января 1888 года) он даже не смог выйти в гостиную, куда пришли его братья с жёнами. Семья жила в обстановке хронического безденежья, существуя за счёт Екатерины Карловны Миклухи и мелких сумм, получаемых у брата Михаила[272].
В конце января 1888 года у Миклухо-Маклая появились отёки ног и нижней части живота, боли не прекращались, началась бессонница. Единственным средством, облегчавшим боли, был морфий[273]. Врач Н. П. Черепнин (лечивший Ф. М. Достоевского) предложил отправить больного в Крым, с чем согласились братья путешественника, предлагавшие поселить детей Николая Николаевича, с трудом переносивших петербургскую зиму, в Малине. Однако созванный 9 февраля консилиум постановил, что дороги путешественник не переживёт. На следующий день его отвезли в клинику Виллие при Военно-медицинской академии к лейб-медику С. П. Боткину, у которого он провёл около полутора месяцев. Состояние больного непрерывно ухудшалось, Боткин тоже не сумел поставить диагноз, поэтому начал симптоматическое лечение. К 9 марта лечение пришлось прекратить: больной сильно исхудал, а любая принимаемая пища вызывала приступы рвоты. К 20-м числам наметилось улучшение, и Миклухо-Маклая выписали домой[274].
Из-за резкого похолодания выписку пришлось отменить, а 29 марта проявились симптомы сильнейшей простуды, которая перешла в бронхит и пневмонию. В 20 часов 15 минут 2 (14) апреля 1888 года Миклухо-Маклай скончался[275]. Вскрытие не проводилось по просьбе вдовы, отпевание состоялось в больничной церкви. К выносу тела подошли немногие, в том числе несколько членов РГО во главе с П. П. Семёновым, адмиралы П. Н. Назимов и Н. Н. Копытов. Больше людей пришло на Волковское кладбище, надгробную речь произнёс В. И. Модестов. Николая Николаевича похоронили на Литераторских мостках рядом с отцом и сестрой Ольгой (умершей родами в 1880 году). Маргарет велела на плите из чёрного мрамора выбить аббревиатуру N.B.D.C.S.U. (Nothing But Death Can Separate Us)[276][277]
Судьба Маргарет Миклухо-Маклай
30 апреля (12 мая) 1888 года Маргарет Миклухо-Маклай была принята в Гатчине императрицей Марией Фёдоровной, которая передала глубокие соболезнования от имени императора и своего собственного. Узнав, что вдова собирается вернуться в Сидней, императрица дала ей обещание, что проезд в Австралию будет оплачен и в дальнейшем дети русского путешественника не будут оставлены на произвол судьбы. Действительно, Александр III назначил вдове пожизненную пенсию в 5000 руб (350 фунтов) в год, которая выплачивалась через русского консула. Пенсию перечисляли вплоть до конца 1917 года, когда Австралия отказалась признавать РСФСР[278].
Лето (с 18 мая по 26 августа) 1888 года вдова с детьми провели в Малине, где Маргарет впервые познакомилась с матерью своего покойного супруга и с Александром Мещерским, ставшим бессарабским помещиком. 31 августа Маргарет с детьми вернулась в Петербург, где деятельно занялась изданием трудов Миклухо-Маклая, но при этом сожгла часть бумаг, преимущественно личных писем и дневников[279]. В середине сентября вдова передала бо́льшую часть оставшихся рукописей в РГО. 23 сентября она покинула Петербург и уехала в Лондон, в конце декабря вернувшись в Австралию[280]. Маргарет надолго пережила Николая Николаевича: 7 января 1936 года в газете The Sydney Morning Herald появилась заметка о кончине «баронессы де Миклухо-Маклай» в новогодние дни[281].
Личность. Научное наследие
По мнению Д. Д. Тумаркина, Миклухо-Маклай — один из последних в истории науки натуралистов широкого профиля, который активно работал как в области зоологии и ботаники, антропологии и этнографии, так и в областях науки, непосредственно с ними не связанных (океанография, геология и проч.). Однако за прошедшее столетие все его выводы устарели, и значение сохранили только результаты пионерных исследований на Берегу Маклая[282].
В личностном отношении он был романтиком и мечтателем, крайне непрактичным в повседневной жизни, несколько бо́льший практицизм и меркантилизм он демонстрировал в последние годы жизни. Его часто сравнивали с Дон-Кихотом, впрочем, и сам Миклухо-Маклай в 1877 году полушутя уподобил себя ему[283].
Прямого продолжения его научные занятия в XIX веке не получили. Р. К. Баландин писал:…Не был Миклухо-Маклай мудрецом, изрекающим вечные истины. Более того, он избегал мудрствований, теоретических обобщений… <…> Проводил достаточно узкие специальные исследования, даже не стремясь придать им законченный вид. Полностью пренебрегал академической карьерой, которая дала бы ему возможность безбедно существовать и более плодотворно заниматься наукой. Он отвергал обычный путь служения в науке (подобно служению по какому-либо ведомству) с защитой диссертаций, работой на кафедрах, изданием солидных монографий. Не мудрено, что со стороны добропорядочных учёных он выглядел этаким «вольным художником», не признающим авторитетов и организаций анархистом, нарушителем традиций, не желающим приспосабливаться к текущей политической ситуации и правилам «хорошего тона», принятым в научной среде. Короче, он представлялся и путешественником и учёным-одиночкой[284].
Главным достижением Миклухо-Маклая, оценённым современниками, стало практическое доказательство видового единства человечества. Этот принцип он почерпнул из статьи К. Бэра «О папуасах и альфурах» (нем. Über Papuas und Alfuren, 1859). В 1850—1860-х годах приобрели популярность антропологические теории Дж. Ханта, Дж. Глиддона и С. Мортона о том, что культурное неравенство человечества объясняется врождёнными свойствами. После публикации дарвиновской теории позиции расистов существенно укрепились: приверженцы дарвинизма полагали, что теория о близости темнокожих рас к обезьянам помогает обосновать тезис о происхождении человека от приматов. Такую точку зрения отстаивал Эрнст Геккель — учитель Миклухо-Маклая, что и привело к разрыву их отношений[285]. Однако в целом Миклухо-Маклай после окончания университета лишь спорадически поддерживал отношения с учёным миром и фактически работал в обстановке научной изоляции [Прим 6].
В мифологии папуасов
Как сообщал Б. Хаген, собиравший в конце XIX века воспоминания папуасов о Н. Н. Миклухо-Маклае, прибытие его на корабле было воспринято местными жителями как конец света, но ничего особенного не произошло. Когда островитяне увидели, что к ним прибыл белокожий человек, они вначале даже обрадовались, так как подумали, что вернулся Ротей — их великий предок. Многие мужчины направились в лодках к кораблю, чтобы поднести ему подарки. На корабле их хорошо приняли и тоже одарили. Но на обратном пути к берегу вдруг раздался пушечный выстрел — команда корабля отсалютовала в честь своего прибытия. Со страха люди выпрыгнули из лодок, бросили свои подарки и вплавь пустились к берегу. Поджидавшим их возвращения они заявили, что прибыл не Ротей, а злой дух Бука[287].
В мифологии Берега Маклая и в течение ХХ века существовал образ Н. Н. Миклухо-Маклая, но он сложнее представлений о культурном герое, поскольку содержал верование о «белом папуасе» как о далёком предке. Советская этнографическая экспедиция 1971 года столкнулась с верой папуасов в Маклая в рамках карго-культа. Когда члены экспедиции прибыли в деревню Бонгу, сопровождавший их представитель местной администрации в первый же день настоятельно попросил советских учёных не ходить группами на мыс Гарагаси (там установлена мемориальная плита в память о пребывании Н. Н. Миклухо-Маклая в 1871—1872 годах), а главное — не устраивать вблизи неё никаких торжественных церемоний. Он предупредил, что папуасы могут истолковать такие церемонии в свете идей карго-культа: люди подумают, что под плитой зарыты присланные им товары и начнут здесь раскопки[141].
Память
Миклухо-Маклай лично, по праву первого исследователя, поселившегося там, назвал своим именем северо-восточное побережье Новой Гвинеи между 5 и 6° ю.ш. протяженностью около 300 км (между заливом Астролябия и полуостровом Хуон[en]. Именем Миклухо-Маклая назван залив Южного океана у берегов Антарктиды (Земля Уилкса) на долготе Западной Австралии[288]. Астероид 3196 Маклай (Maklaj), названный в его честь, был открыт в 1978 году[289]. Именем Миклухо-Маклая названо множество иных объектов. Постановлением Совета Министров СССР от 29 января 1947 года имя Миклухо-Маклая было присвоено Институту этнографии АН СССР[290]. Памятники учёному установлены в Окуловке (Новгородская область), Малине, Севастополе, Джакарте[291] и других городах. Улицы Миклухо-Маклая существуют в Москве[292] и Маданге (Папуа-Новая Гвинея)[293].
Имя Миклухо-Маклая носил в 1961—2004 годах пассажирский теплоход типа «Ерофей Хабаров» Амурского речного пароходства. В 2004 году он был переименован, а в 2010 году продан на металлолом[294].
Биографии Миклухо-Маклая несколько раз выпускались в серии «Жизнь замечательных людей»[295][296][297]. Художественные и документальные книги о путешественнике были написаны Л. Чуковской, С. Марковым, А. Клиентовым, Р. Баландиным, О. Орловым, А. Чумаченко, и некоторыми другими.
В 1947 году режиссёром А. Е. Разумным был снят художественный фильм «Миклухо-Маклай»[298]. Этот фильм в австралийской прессе (в частности, сыновьями Миклухо-Маклая — Александром и Владимиром) был назван «пародией и чистой пропагандой»[299]. В 1985 году актёром и режиссёром Ю. М. Соломиным снят трёхсерийный историко-биографический художественный телефильм «Берег его жизни»[300]. В 2002 году на основе дневниковых записей и зарисовок Миклухо-Маклая был создан анимационный фильм «Человек с Луны»[301].
Миклухо-Маклаю посвящён первый украинский мюзикл «Экватор», премьера которого состоялась в 2003 году. Режиссёр мюзикла — театральный режиссёр Виктор Шулаков, композитор — Александр Злотник, автор либретто — поэт-песенник Александр Вратарёв[302].

 Почта СССР в 1951 году в серии «Ученые нашей Родины» выпустила марку, посвящённую Н. Н. Миклухо-Маклаю (ЦФА (ИТЦ «Марка») № 1632). В 1970 году была выпущена почтовая марка Папуа — Новой Гвинеи с портретом Н. Н. Миклухо-Маклая (Ивер #184)[303]. В 1992 году вышла марка России из серии «Географические открытия» с изображением Н. Н. Миклухо-Маклая (ЦФА (ИТЦ «Марка») № 30).
Почта СССР в 1951 году в серии «Ученые нашей Родины» выпустила марку, посвящённую Н. Н. Миклухо-Маклаю (ЦФА (ИТЦ «Марка») № 1632). В 1970 году была выпущена почтовая марка Папуа — Новой Гвинеи с портретом Н. Н. Миклухо-Маклая (Ивер #184)[303]. В 1992 году вышла марка России из серии «Географические открытия» с изображением Н. Н. Миклухо-Маклая (ЦФА (ИТЦ «Марка») № 30).
Внук исследователя (сын Владимира Миклухо-Маклая)[304] — Робертсон Вентворт де Миклухо-Маклай (Robertson Wentworth de Miklouho-Maclay) — преподавал физику в учительском колледже Сиднея. В 1979 году он посетил СССР, и основал Австралийское Общество Миклухо-Маклая, которое в 1988 году отметило столетие со дня кончины Николая Николаевича[305]. На собранные им средства была учреждена стипендия, которой в 1992 году удостоился Д. Д. Тумаркин[306], стипендия присуждается и в 2013 году[307]. После кончины Робертсона Маклая в 1994 году[308] Общество прекратило своё существование.
В 1996 году ЮНЕСКО провозгласила Миклухо-Маклая гражданином мира[288].
Издание сочинений
Ни одно из описаний путешествий Н. Н. Миклухо-Маклая не вышло в свет при его жизни. После кончины он довольно быстро оказался забыт[Прим 7], родственники тщетно призывали выпустить в свет уже подготовленный им к печати первый том издания дневников. В 1895 году по просьбе Совета РГО печатание материалов Миклухо-Маклая взял на себя Д. Н. Анучин, но работа чрезмерно затянулась. В 1913 году в связи с 25-летием со дня смерти Миклухо-Маклая Анучин объявил в печати, что из-за отсутствия у РГО заинтересованности в осуществлении такого издания он считает это дело «поконченным и подлежащим, за неимением в нём надобности, сдаче в архив»[310][311].
Только в 1923 году в Москве 80-летний Анучин выпустил в свет первый том описания путешествий Миклухо-Маклая, снабжённый им большой вступительной статьёй[312]. Дальнейшая работа по изданию трудов Миклухо-Маклая сосредоточилась в Институте этнографии АН СССР. В 1940—1941 годах были подготовлены «Путешествия» в двух томах, причём первый том был повторением публикации Анучина[313]. В 1950—1954 годах Институт этнографии выпустил собрание сочинений в пяти томах, снабжённое научным комментарием и статьями, освещавшими биографию Миклухо-Маклая и его вклад в различные отрасли науки[314]. Отдельное издание «Путешествий на Берег Маклая» было выпущено издательством географической литературы в 1956 году, и выходило также в 2006 и 2010 годах (последнее — в богато иллюстрированном виде).
В конце 1980-х годов под руководством Д. Д. Тумаркина в Институте этнографии была создана рабочая группа по публикации научного наследия Миклухо-Маклая. В 1990—1999 годах она осуществила издание шеститомного (в семи книгах), наиболее полного на сегодняшний день собрания сочинений. Для него было принято жанрово-предметное расположение материалов по томам. Содержание первых двух томов составили дневники путешествий, заметки, близкие к дневниковым, отчеты об отдельных путешествиях. Том 3 включал научные труды по этнографии, антропологии и смежным научным дисциплинам; том 4 — по естественным наукам. В томе 5 представлены письма, документы, автобиографические материалы. В томе 6 — этнографические коллекции, рисунки, не вошедшие в другие тома, указатели ко всему собранию сочинений[315].
На Западе имя Миклухо-Маклая было «открыто» австралийским журналистом Фрэнком Сидни Гринопом (1913—1975), который в 1944 году опубликовал в Сиднее книгу «Who travels alone». В 1989 году она была переведена на русский язык[316]. В начале 1950-х годов новогвинейские дневники Миклухо-Маклая, как самая эффектная для широкой публики часть его трудов, были опубликованы в переводе на немецкий и чешский языки. Полный перевод дневников на английский язык, выполненный Майклом Сентинелла, был опубликован в Маданге на Новой Гвинее в 1975 году[317]. Исследования по жизни и творчеству Миклухо-Маклая публиковались в 1980—1990-е годы в Австралии и Германии[318][319].
В 2014 году вышел в свет сборник архивных документов «Неизвестный Миклухо-Маклай», отражающий его деятельность как информатора российского правительства и Русского Географического общества по вопросам внешнеполитической ситуации в Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании. Представлено 192 документа из архивов России, Австралии, Великобритании, Германии и Италии[320].
Напишите отзыв о статье "Миклухо-Маклай, Николай Николаевич"
Комментарии
- ↑ Гражданский муж младшей сестры исследователя — Ольги Николаевны Миклухи (1849—1880).
- ↑ Возник и почти анекдотический казус: член РГО, преподаватель Первого Кадетского корпуса литератор Д. А. Кропотов возмутился представленными антропологическими рекомендациями Геккеля — речь шла об измерении размеров половых органов у представителей разных рас. Дословно Кропотов сказал: «Да что это такое, как ему не стыдно, это немцы над ним посмеялись, а он не понимает»[107]
- ↑ В 1862 году практически всё мужское население острова — около 1500 человек, включая правящую элиту и жрецов, — было увезено перуанскими работорговцами на добычу гуано. Благодаря протестам епископа Таити Жоссана, выживших аборигенов через год вернули на родину — их было всего 15 человек. Вернувшиеся, однако, занесли на остров оспу, в результате эпидемии, по сообщениям Ж. Дютру-Борнье, в живых осталось не более 230 человек. Стремясь превратить остров в пастбище, Дютру-Борнье трижды уничтожал урожай батата, провоцировал межклановые междоусобицы, и поощрял рапануйцев к эмиграции на Таити[121]. К 1877 году население о. Пасхи не превышало 111 человек[122]
- ↑ В качестве примера можно привести миф, записанный на острове Били-Били в середине ХХ века. «Наши предки раньше не работали [на плантациях]. Они выменивали пищу у людей Сиар и Грагер за горшки. Теперь мы сами работаем, но раньше наши предки не работали, они жили доходами от гончарства. Тогда пришёл Маклай и дал им — дал нам — железо; теперь мы работаем с помощью ножей и топоров. Маклай говорил: „О, люди Били-Били, идите с моими ножами, с моими топорами, которые я вам дал, на плантации и обрабатывайте поля, работайте и ешьте, ваши каменные топоры не острые, они тупы. Бросьте их в лес, они плохие, не годятся, они тупы“. Так говорил Маклай…»[183].
- ↑ При росте 167 см Миклухо-Маклай весил около 44 кг[234].
- ↑ Миклухо-Маклай ко времени высадки на Новой Гвинее в методологическом отношении перешёл на позиции крайнего позитивизма — придерживаясь только точно установленных (по его мнению) фактов и воздерживаясь от любых догадок и гипотез. Это означало, что он сознательно отказался от исследования социального строя и религиозных верований. Сказывалось здесь и то, что он не был знаком с трудами Э. Тайлора и Дж. Макленнана — разработчиков проблем родовой организации, экзогамии и анимизма. Впрочем, в 1997 году немецкая исследовательница Ф. Шмидт обнаружила в дневниках Миклухо-Маклая некоторые следы идей и принципов, которые в будущем — если бы не оторванность его от европейского научного сообщества, — могли бы продвигаться по пути, который привёл Б. Малиновского к методологии функционализма[286].
- ↑ В статье Д. Н. Анучина, опубликованной в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, неправильно указаны даты жизни: 1847—1887[309].
Примечания
- ↑ [history.kubsu.ru/kul.html Культ Маклая]. Центр понтийско-кавказских исследований. Проверено 15 января 2016.
- ↑ 1 2 3 Маклай5, 1996, с. 568.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 6.
- ↑ Метельский Г. Листья дуба: Повесть о родной стороне. — М.: Мысль, 1974. — С. 154.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 6—8.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 8—11.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 12—14.
- ↑ Ивановский Г. И. Где родился Н. Н. Миклухо-Маклай (к биографии учёного) // География в школе. — 1959. — № 1. — С. 75.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 15.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 12.
- ↑ 1 2 3 4 Тумаркин, 2011, с. 76.
- ↑ Анучин, 1923, с. 23.
- ↑ Водовозов Н. Миклуха-Маклай. — М., 1938. — С. 3.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 78.
- ↑ Бутинов Н. А. Н. Н. Миклухо-Маклай (Биографический очерк) // Миклухо-Маклай Н. Н. Собрание сочинений в 5 т. Т. 4. — М.; Л., 1953. — С. 486.
- ↑ Бутинов Н. А. Николай Миклуха и Эрнст Геккель // Маклаевские чтения (1998—2000). — СПб., 2001. — С. 5.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 79—80.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 80.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 16.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 17.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 19.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 20.
- ↑ Троицкий Н. А. Записки М. Н. Миклухо-Маклая // Освободительное движение в России. — Вып. 16. — Саратов, 1997. — С. 157—164.
- ↑ 1 2 Тумаркин, 2011, с. 21.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 22.
- ↑ Миклухо-Маклай А. Д. Новые данные о Н. Н. Миклухо-Маклае и его родных // Страны и народы Востока. — Вып. 28. — СПб., 1994. — С. 180.
- ↑ Вальская Б. А. Н. Н. Миклухо-Маклай и книга о нём австралийского писателя Ф. С. Гринопа // Гриноп Ф. О том, кто странствовал в одиночку / Пер. с англ. — М.: Наука, 1989. — С. 205.
- ↑ Комиссаров, 1983, с. 129.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 28—29.
- ↑ 1 2 3 Комиссаров, 1983, с. 133.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 31.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 31—32.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 33—34.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 35—36.
- ↑ Анучин, 1923, с. 24—25.
- ↑ Комиссаров, 1983, с. 135.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 37—38.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 38—39.
- ↑ Кашкин Ю. В Гейдельбергском университете // Голос минувшего. — 1923. — № 2. — С. 45.
- ↑ 1 2 3 Тумаркин, 2011, с. 44.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 12.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 12—13.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 48.
- ↑ 1 2 Тумаркин, 2011, с. 50.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 55.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 56.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 56—57.
- ↑ Мещерский Александр Александрович // Деятели революционного движения в России : в 5 т. / под ред. Ф. Я. Кона и др. — М. : Всесоюзное общество политических каторжан и ссыльнопоселенцев, 1927—1934.</span>
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 57—58.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 60.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 61.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 63—64.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 64—65.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 66.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 67.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 68—70.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 71.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 71—73.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 73.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 17.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 74.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 75.
- ↑ Маклай4, 1994, с. 103—134.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 80—81.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 62.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 84.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 33.
- ↑ Пасецкий В. М. Нильс Адольф Эрик Норденшельд. 1832—1901. — М., 1979. — С. 46—47.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 20—22.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 87—88.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 22—23.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 24.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 90.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 92.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 25—28.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 94.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 94—95.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 95.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 96.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 97—98.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 101.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 100.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 36—39.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 103—104.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 105—106.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 108—109.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 110.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 115.
- ↑ Кропоткин П. Записки революционера. — М., 1920. — С. 177.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 116—117.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 118—119.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 120.
- ↑ Известия Русского географического общества. — 1870. — Т. 6, № 6. — Отд. 1. — С. 147.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 122.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 45.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 123.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 54.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 127—129.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 129.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 55—57.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 129—130.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 139.
- ↑ 1 2 Маклай5, 1996, с. 69.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 139—140.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 142.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 65.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 146.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 147.
- ↑ Маклай1, 1990, с. 88.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 154.
- ↑ Маклай1, 1990, с. 380—381.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 156.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 159.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 160—161.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 162.
- ↑ Маклай1, 1990, с. 37.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 166—167.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 169.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 368—369.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 176.
- ↑ Тумаркин Д. Д., Фёдорова И. К. [journal.iea.ras.ru/archive/1990s/1990/Tumarkin_1990_6.pdf Н. Н. Миклухо-Маклай и остров Пасхи] (pdf). Советская этнография. — 1990. — № 6. С. 93—94. Проверено 12 октября 2013. [www.webcitation.org/6AUiJCksR Архивировано из первоисточника 7 сентября 2012].
- ↑ Фёдорова И. К. Остров Пасхи. Очерки культуры XVIII—XIX вв. — СПб.: Наука, 1993. — С. 7.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 177—178.
- ↑ Маклай1, 1990, с. 69—73.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 180—181.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 182—185.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 90—91.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 187.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 193—195.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 197—200.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 197—201.
- ↑ Маклай1, 1990, с. 104—111.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 217—218.
- ↑ Маклай1, 1990, с. 167—171.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 221—222.
- ↑ Маклай1, 1990, с. 265.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 232.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 237.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 238.
- ↑ Бутинов, 2000, с. 229—251.
- ↑ 1 2 Бутинов, 2001, с. 300.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 95—100.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 239.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 241—242.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 100.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 243—244.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 245.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 258—261.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 261.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 262—263.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 265—267.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 118—120.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 120.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 268—280.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 281.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 282—283.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 285.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 130.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 288.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 295.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 296.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 305.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 318.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 185, 640.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 148—149.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 186.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 324—325.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 326.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 326—327.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 151.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 329—331.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 169.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 209.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 341.
- ↑ Маклай2, 1993, с. 219.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 339.
- ↑ Маклай2, 1993, с. 162—202.
- ↑ Маклай2, 1993, с. 202—203.
- ↑ Бутинов Н. А. Вемуны в деревне Бонгу // На Берегу Маклая (Этнографические очерки). — М., 1975. — С. 165—184.
- ↑ Маклай2, 1993, с. 217.
- ↑ Маклай3, 1993, с. 146—151.
- ↑ Тумаркин Д. Д. «Вторая жизнь» Н. Н. Миклухо-Маклая: мифы и предания о русском учёном в Папуа — Новой Гвинее // Этнографическое обозрение. — 1997. — № 1. — С. 160.
- ↑ Бутинов Н. А. Воспоминания папуасов о Миклухо-Маклае по свидетельствам позднейших путешественников // Н. Н. Миклухо-Маклай. Собрание сочинений. Т. II. — М.; Л., 1950. — С. 749.
- ↑ Маклай3, 1993, с. 278—283.
- ↑ Маклай3, 1993, с. 227—228.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 351—352.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 352—353.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 188—201.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 187.
- ↑ 1 2 Тумаркин, 2011, с. 355.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 358—359.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 201—204.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 366—368.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 370.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 370—372.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 373—374.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 376—377.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 381—382.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 388—391.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 400.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 241—246.
- ↑ Маклай4, 1994, с. 59—65.
- ↑ Маклай2, 1993, с. 445.
- ↑ 1 2 Тумаркин, 2011, с. 404.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 406.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 406—407.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 410—412.
- ↑ Маклай4, 1994, с. 196—197.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 414.
- ↑ 1 2 Маклай5, 1996, с. 261—266.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 419—420.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 260—261.
- ↑ 1 2 Тумаркин, 2011, с. 426.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 427—428.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 429—432.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 433.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 440.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 444.
- ↑ Полевой Б. П. По поводу приезда и публичных лекций Н. Н. Миклухо-Маклая // Живописное обозрение стран света. — 1882. — № 32. — С. 502.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 446.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 449.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 450.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 451.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 296.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 453—454.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 456—459.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 297.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 460—461.
- ↑ Тургенев И. С. Полное собрание сочинений. Т. 15. — М.; Л., 1968. — С. 212—213.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 307.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 469—471.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 472.
- ↑ Маклай2, 1993, с. 354.
- ↑ Сенкевич Ю. А., Шимилов А. В. [antarctic.su/books/item/f00/s00/z0000009/st008.shtml Их позвал горизонт]. Глава 8: «Человек с Луны». Antarctic.su: Арктика и Антарктика. Проверено 9 августа 2016.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 473—474.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 474—475.
- ↑ Маклай2, 1993, с. 357.
- ↑ Федор Погодин. [www.peremeny.ru/column/view/158/ Международный авантюрист]. Житие Маклая - (4.). Проверено 24 ноября 2012. [www.webcitation.org/6CZ2xTuDf Архивировано из первоисточника 30 ноября 2012].
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 476.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 478.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 482.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 326.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 483—484.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 486.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 341.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 492.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 346.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 352.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 493.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 498—499.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 377.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 501.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 390.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 503—504.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 558.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 513.
- ↑ 1 2 Маклай5, 1996, с. 447.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 519—520.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 521.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 524—525.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 526—527.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 178—179.
- ↑ Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 63. — М.; Л., 1934. — С. 378.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 483.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 530—531.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 487.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 542.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 544—545.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 545.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 546.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 546—547.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 548—551.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 552.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 552—555.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 555—556.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 556—558.
- ↑ [litmostki.ru/miklukha-maclay/ Фотография могилы Н. Н. Миклухо-Маклая на сайте Литераторских мостков]. Проверено 11 февраля 2016.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 560—561.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 559.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 561—562.
- ↑ The Sydney Morning Herald - Jan 7, 1936. [news.google.com/newspapers?nid=1301&dat=19360107&id=DuBUAAAAIBAJ&sjid=AJIDAAAAIBAJ&pg=2450,838099 Baroness De Miklouho-Maclay]. Google News. Проверено 8 мая 2014.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 563—564.
- ↑ Маклай5, 1996, с. 181.
- ↑ Баландин, 1985, Глава 7.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 132—135.
- ↑ Тумаркин, 2011, с. 223—224.
- ↑ Хаген Б. Воспоминания о Н. Н. Миклухо-Маклае у жителей бухты Астролябии на Новой Гвинее // Землеведение. — 1903. — Кн. II—III. — С. 247—248.
- ↑ 1 2 [www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=Миклухо-Маклай,_Николай_Николаевич Миклухо-Маклай, Николай Николаевич]. Энциклопедия «Вокруг света». Проверено 25 января 2016.
- ↑ [www.springerreference.com/docs/html/chapterdbid/128120.html (3196) Maklaj]. Dictionary of Minor Planet Names' / Ed. by Lutz Schmadel. Проверено 25 января 2016.
- ↑ [www.iea.ras.ru/cntnt/levoe_meny/ob_institu/kratkaya_i.html Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. Краткая история]
- ↑ [archive.is/20130706100502/www.rgo.ru/2011/03/v-stolice-indonezii-postavili-pamyatnik-mikluxo-maklayu/ В столице Индонезии поставили памятник Миклухо-Маклаю]
- ↑ [www.m24.ru/articles/18718 Нелогичные московские названия: от «Бауманки» до улицы Миклухо-Маклая]
- ↑ Lawrence P. [tutorski.narod.ru/stati/Lawrence-Maclay.html Miklouho-Maclay] (русский перевод) // Royal Anthropological Institute News. — № 52. (Oct. 1982). — P. 13.
- ↑ [www.amur.info/news/2010/09/13/14.html Теплоход «Капитан Котенко» ушёл в Комсомольск-на-Амуре на металлолом]
- ↑ Марков С. Н. Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Серия: «Великие русские люди». — М.: Молодая гвардия, 1944. — 96 с. Переиздана в сборнике «Великие русские люди» в 1984 году.
- ↑ Колесников М. С. Миклухо-Маклай. Серия: Жизнь замечательных людей. Вып. 9 (323). — М.: Молодая гвардия, 1961. — 272 с. Второе издание последовало в 1965 году как вып. 21 (323).
- ↑ Тумаркин Д. Д. Миклухо-Маклай. Две жизни «белого папуаса». Серия ЖЗЛ. Вып. 1482 (1282). — М.: Молодая гвардия, 2012. — 454 с. Первое издание вышло в 2011 году в издательстве «Восточная литература».
- ↑ [ftvdb.bfi.org.uk/sift/title/400370 «Without Prejudice» (1947) // «BFI Film & TV Database»] (англ.)
[trove.nla.gov.au/ndp/del/article/18089329?searchTerm=Maclay&searchLimits=sortby=dateDesc «Sydney — As Moscow Sees It» // «The Sydney Morning Herald», Tuesday 12 October 1948, p. 2] (англ.) - ↑ [trove.nla.gov.au/ndp/del/article/18102781?searchTerm=Miklouho-Maclay&searchLimits=sortby=dateAsc Maclay A., Maclay V. «Russian film a travesty» // «The Sydney Morning Herald», Friday 15 October 1948, p. 2] (англ.)
[trove.nla.gov.au/ndp/del/article/18097824?searchTerm=Miklouho-Maclay&searchLimits=sortby=dateAsc Greenop F. S. «Russian film travesty» // «The Sydney Morning Herald», Saturday 16 October 1948, p. 2] (англ.) - ↑ [www.russiancinema.ru/films/film481/ Берег его жизни]
- ↑ Российская анимация в буквах и фигурах — [www.animator.ru/db/?fid=6119&p=show_film Фильмы «Человек с Луны»]
- ↑ [elvisti.com/node/37726 В Киеве создан первый украинский мюзикл бродвейского образца «Экватор»]
- ↑ Советский Союз на иностранных марках. — М.: Связь, 1979. — С. 245. — 288 с.
- ↑ [www.smh.com.au/articles/2004/08/08/1091903444061.html He upheld the tradition in a family of achievers]
- ↑ [bestarticles.net78.net/index.php?newsid=33 Австралийское слово о Миклухо-Маклае]
- ↑ [sydney.edu.au/museums/research/miklouho-maclay_past_fellows.shtml Past Macleay Miklouho-Maclay Fellows]
- ↑ [sydney.edu.au/museums/research/miklouho-maclay_fellowship.shtml Macleay Miklouho-Maclay Fellowship]
- ↑ [web.archive.org/web/20121031141353/sydney.edu.au/museums/pdfs/newsletters/1995_march_macleay_news.pdf Macleay Museum News. — March 1995. — No 5.]
- ↑ Анучин Д. Н. Миклуха-Маклай, Николай Николаевич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. — Т. XIX, кн. 37. — СПб., 1896. — С. 251—252.
- ↑ Анучин Д. [nasledie.enip.ras.ru/ras/view/publication/browser.html?clear=true&perspective=popup&id=42079484 Двадцатипятилетие со дня смерти H. H. Миклухо-Маклая] // Землеведение. — 1913. — Кн. 1-2. — С. 271—272.
- ↑ Тумаркин Д. Д. Анучин и Миклухо-Маклай (из истории изучения и публикации научного наследия H. H. Миклухо-Маклая) // Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии. — Вып. 10. — М., 1988. — С. 5—37.
- ↑ Миклухо-Маклай Н. Н. Путешествия. Т. 1. — М., 1923.
- ↑ Миклухо-Маклай Н. Н. Путешествия / Подготовили к печати И. H. Випников и А. Б. Пиотровский. Т. 1-2. — М., 1940—1941.
- ↑ Миклухо-Маклай Н. Н. Собрание сочинений / Под ред. С. П. Толстова и др. Т. 1-5. — М.; Л., 1950—1954.
- ↑ [www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Reisen/XIX/1860-1880/MMaklaj_1/pred.phtml?id=6419 Научное наследие H. H. Миклухо-Маклая и принципы его издания]
- ↑ Гриноп Ф. С. О том, кто странствовал в одиночку. — М.: Наука, 1989. — 264 с. ISBN 5-02-016891-2
- ↑ [www.michaelsentinella.com/Nicholai_Miklukho-Maklai_Diaries/MM_NG_Diaries.pdf New Guinea diaries, 1871—1883] / translated from the Russian with biographical comments by C.L. Sentinella. — Madang, P.N.G.: Kristen Pres, 1975. — 355 p.
- ↑ Webster E.M. The Moon Man: A Biography of Nikolai Miklouho-Maclay. — Carlton, Vic.: Melbourne University Press, 1984. — XXV, 421 p. ISBN 0522842933
- ↑ Schneider F. Mikloucho-Maclay und die heroische Ethnologie: die Neuguinea-Tagebücher. — Heusweiler: Schneider, 1997. — 127 s. ISBN 3980564908
- ↑ Неизвестный Миклухо-Маклай: Переписка путешественника с царствующим Домом Романовых, Министерством иностранных дел, Морским министерством и Императорским Русским Географическим обществом / Сост. и пред. О. В. Каримов; Посл. А. Я. Массов. — М.: Кучково поле, 2014. — 480 с. ISBN 978-5-9950-0380-9
</ol>
Литература
- Баландин Р. К. [az.lib.ru/m/mikluhomaklaj_n_n/text_0040.shtml H. H. Миклухо-Маклай: Книга для учащихся]. — М.: Просвещение, 1985.
- Бутинов Н. А. Народы Папуа Новой Гвинеи (От племенного строя к независимому государству). — СПб.: Петербургское востоковедение, 2000. — 384 с.
- Бутинов Н.А., Бутинова М.С. [anthropology.ru/ru/texts/butinov/misl8_16.html Образ Н.Н. Миклухо-Маклая в мифологии папуасов Новой Гвинеи] // Смыслы мифа: мифология в истории и культуре. Серия «Мыслители». Вып. 8. — Санкт-Петербургское философское общество, 2001. — С. 300.
- Вальская Б. А. Научная и общественная деятельность Н. Н. Миклухо-Маклая в последние годы его жизни (По неопубликованным материалам) // Страны и народы Востока. Вып. XXV. — Наука, 1987. — С. 5—33.
- Говор Е. В. [tutorski.narod.ru/Maclay_Govor_1986_2.pdf Н. Н. Милухо-Маклай в воспоминаниях современников. (Забытые страницы)] // Советская этнография. — 1986. — № 2. — С. 110—118.
- Комиссаров Б. Н. [journal.iea.ras.ru/archive/1980s/1983/Komissarov_1983_1.pdf Ранние годы Н. Н. Миклухо-Маклая. К истории первого Петербургского периода жизни] // Советская этнография. — 1983. — № 1. — С. 128—139.
- Lawrence P. [tutorski.narod.ru/stati/Lawrence-Maclay.html Miklouho-Maclay] (русский перевод) // Royal Anthropological Institute News. — 1982. — October. — № 52. — P. 13.
- Миклухо-Маклай Н. Н. Путешествия. Том 1. Путешествия в Новой Гвинее в 1871, 1872, 1874, 1876, 1877, 1880, 1883 г. Со вступительной статьей Д. Н. Анучина. — М.: Новая Москва, 1923. — 616 с.
- Миклухо-Маклай Н. Н. Собрание сочинений в 6 томах: Т. 1. [az.lib.ru/m/mikluhomaklaj_n_n/text_0020.shtml Путешествия 1870—1874 гг. Дневники, путевые заметки, отчеты]. — М.: Наука, 1990. — 472 с.
- Миклухо-Маклай Н. Н. Собрание сочинений в 6 томах: Т. 2. [az.lib.ru/m/mikluhomaklaj_n_n/text_0030.shtml Путешествия 1874—1887 гг. Дневники, путевые заметки, отчеты]. — М.: Наука, 1993. — 528 с.
- Миклухо-Маклай Н. Н. Собрание сочинений в 6 томах: Т. 3. [az.lib.ru/m/mikluhomaklaj_n_n/text_0060.shtml Статьи и материалы по антропологии и этнографии народов Океании]. — М.: Наука, 1993. — 416 с.
- Миклухо-Маклай Н. Н. Собрание сочинений в 6 томах: Т. 4. Статьи и материалы по антропологии и этнографии Юго-Восточной Азии и Австралии. Статьи по естественным наукам. — М.: Наука, 1994. — 304 с.
- Миклухо-Маклай Н. Н. Собрание сочинений в 6 томах: Т. 5. [az.lib.ru/m/mikluhomaklaj_n_n/text_1888_pisma.shtml Письма. Документы и материалы]. — М.: Наука, 1996. — 823 с.
- Миклухо-Маклай Н. Н. Собрание сочинений в 6 томах: Т. 6. Ч. 1: Этнографические коллекции. Рисунки. — М.: Наука, 1999. — 687 с.
- Миклухо-Маклай Н. Н. Собрание сочинений в 6 томах: Т. 6. Ч. 2: Указатели. — М.: Наука, 1999. — 189 с.
- Неизвестный Миклухо-Маклай. Переписка путешественника с царствующим Домом Романовых, Министерством иностранных дел, Морским министерством и Императорским Русским Географическим обществом / Сост. О. В. Каримов. — М.: Издат. дом «Русская разведка», Кучково поле, 2014. — 480 с.
- Путилов Б. Н. Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Страницы биографии. — М.: Наука, 1981. — 213 с.
- Соловей Т. [archive.is/20130629135716/www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=4305&n=178 Советский миф о «культурном герое»] // Родина. — 2011. — № 8. — С. 125—129.
- Тумаркин Д. Д. Белый папуас: Н. Н. Миклухо-Маклай на фоне эпохи. — М.: Вост. литература, 2011. — 623 с. — ISBN 978-5-02-036470-7.
- Человек из легенды. К 150-летию со дня рождения Н. Н. Миклухо-Маклая. Малайско-индонезийские исследования. Вып. VIII / Редактор-составитель В. А. Погадаев. — М., 1997. — 68 с.
- Чуковская Л. К. [www.chukfamily.ru/Lidia/Proza/maklay.htm/ Н. Н. Миклухо-Маклай] / Под ред. Н. Н. Баранского. — Изд. 2-е. — М.: Географгиз, 1952. — 40 с.
Ссылки
| |
Николай Николаевич Миклухо-Маклай в Викитеке? |
|---|
- [www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=Миклухо-Маклай,_Николай_Николаевич Собрание статей о Миклухо-Маклае на сайте журнала «Вокруг света»]. Проверено 25 июня 2013. [www.webcitation.org/6He5K3Qkq Архивировано из первоисточника 25 июня 2013].
- [www.kunstkamera.ru:8081/library/MAE9202.files/ch42.htm Библиография трудов Кунсткамеры, посвящённых Миклухо-Маклаю]. Проверено 25 июня 2013. (в конце списка).
- [old.rgo.ru/2010/02/risunki-mikluxo-maklaya/ Рисунки Миклухо-Маклая (из архива РГО)]. Проверено 25 марта 2014. [www.webcitation.org/6OSiA4AR7 Архивировано из первоисточника 30 марта 2014].
- [www.2spbg.ru/alumnus1.php?id=10 О Миклухо-Маклае на сайте Второй Санкт-Петербургской гимназии]. Проверено 25 июня 2013. [www.webcitation.org/6He5SF4Ox Архивировано из первоисточника 25 июня 2013].
- [www.hrono.ru/biograf/mikluho.html Миклухо-Маклай, Николай Николаевич]. На сайте «Хронос».
- [www.peremeny.ru/colums/view/154/ Федор Погодин. Житие Маклая]. Проверено 25 июня 2013. [www.webcitation.org/6He5TrwwC Архивировано из первоисточника 25 июня 2013].
- [disappearing-world.com/ru/deyatelnost/pamyatnik-nnmikluho-maklayu-v-okeanii/ Памятник Миклухо-Маклаю в Океании (в Республике Папуа Новая Гвинея)]. Проверено 25 марта 2014. [www.webcitation.org/6OSiD5xgk Архивировано из первоисточника 30 марта 2014].
- [www.archive.org/stream/proceedingsoflin0108linn#page/394/mode/2up Paper in the Proceedings of the Linnean Society of NSW by N. Miklouho-Maclay — 1883. — Vol. 8] (англ.). Проверено 25 июня 2013. [www.webcitation.org/6He5ZL0ob Архивировано из первоисточника 25 июня 2013]..
- [www.michaelsentinella.com/Nicholai_Miklukho-Maklai_Diaries/MM_NG_Diaries.pdf Mikloucho-Maclay: New Guinea Diaries 1871—1883, translated from the Russian with biographical and historical notes by C. L. Sentinella. Kristen Press, Madang, Papua New Guinea] (англ.). Проверено 25 июня 2013. [www.webcitation.org/6He5aGxKF Архивировано из первоисточника 25 июня 2013]. ISBN 0-85804-152-9
| Эта статья входит в число избранных статей русскоязычного раздела Википедии. |
| Это статья 2013 года русскоязычного раздела Википедии. |
Отрывок, характеризующий Миклухо-Маклай, Николай Николаевич
Пьер взял протянутую руку и на ходу (так как карета. продолжала двигаться) неловко поцеловал ее.– Что с вами, граф? – спросила удивленным и соболезнующим голосом графиня.
– Что? Что? Зачем? Не спрашивайте у меня, – сказал Пьер и оглянулся на Наташу, сияющий, радостный взгляд которой (он чувствовал это, не глядя на нее) обдавал его своей прелестью.
– Что же вы, или в Москве остаетесь? – Пьер помолчал.
– В Москве? – сказал он вопросительно. – Да, в Москве. Прощайте.
– Ах, желала бы я быть мужчиной, я бы непременно осталась с вами. Ах, как это хорошо! – сказала Наташа. – Мама, позвольте, я останусь. – Пьер рассеянно посмотрел на Наташу и что то хотел сказать, но графиня перебила его:
– Вы были на сражении, мы слышали?
– Да, я был, – отвечал Пьер. – Завтра будет опять сражение… – начал было он, но Наташа перебила его:
– Да что же с вами, граф? Вы на себя не похожи…
– Ах, не спрашивайте, не спрашивайте меня, я ничего сам не знаю. Завтра… Да нет! Прощайте, прощайте, – проговорил он, – ужасное время! – И, отстав от кареты, он отошел на тротуар.
Наташа долго еще высовывалась из окна, сияя на него ласковой и немного насмешливой, радостной улыбкой.
Пьер, со времени исчезновения своего из дома, ужа второй день жил на пустой квартире покойного Баздеева. Вот как это случилось.
Проснувшись на другой день после своего возвращения в Москву и свидания с графом Растопчиным, Пьер долго не мог понять того, где он находился и чего от него хотели. Когда ему, между именами прочих лиц, дожидавшихся его в приемной, доложили, что его дожидается еще француз, привезший письмо от графини Елены Васильевны, на него нашло вдруг то чувство спутанности и безнадежности, которому он способен был поддаваться. Ему вдруг представилось, что все теперь кончено, все смешалось, все разрушилось, что нет ни правого, ни виноватого, что впереди ничего не будет и что выхода из этого положения нет никакого. Он, неестественно улыбаясь и что то бормоча, то садился на диван в беспомощной позе, то вставал, подходил к двери и заглядывал в щелку в приемную, то, махая руками, возвращался назад я брался за книгу. Дворецкий в другой раз пришел доложить Пьеру, что француз, привезший от графини письмо, очень желает видеть его хоть на минутку и что приходили от вдовы И. А. Баздеева просить принять книги, так как сама г жа Баздеева уехала в деревню.
– Ах, да, сейчас, подожди… Или нет… да нет, поди скажи, что сейчас приду, – сказал Пьер дворецкому.
Но как только вышел дворецкий, Пьер взял шляпу, лежавшую на столе, и вышел в заднюю дверь из кабинета. В коридоре никого не было. Пьер прошел во всю длину коридора до лестницы и, морщась и растирая лоб обеими руками, спустился до первой площадки. Швейцар стоял у парадной двери. С площадки, на которую спустился Пьер, другая лестница вела к заднему ходу. Пьер пошел по ней и вышел во двор. Никто не видал его. Но на улице, как только он вышел в ворота, кучера, стоявшие с экипажами, и дворник увидали барина и сняли перед ним шапки. Почувствовав на себя устремленные взгляды, Пьер поступил как страус, который прячет голову в куст, с тем чтобы его не видали; он опустил голову и, прибавив шагу, пошел по улице.
Из всех дел, предстоявших Пьеру в это утро, дело разборки книг и бумаг Иосифа Алексеевича показалось ему самым нужным.
Он взял первого попавшегося ему извозчика и велел ему ехать на Патриаршие пруды, где был дом вдовы Баздеева.
Беспрестанно оглядываясь на со всех сторон двигавшиеся обозы выезжавших из Москвы и оправляясь своим тучным телом, чтобы не соскользнуть с дребезжащих старых дрожек, Пьер, испытывая радостное чувство, подобное тому, которое испытывает мальчик, убежавший из школы, разговорился с извозчиком.
Извозчик рассказал ему, что нынешний день разбирают в Кремле оружие, и что на завтрашний народ выгоняют весь за Трехгорную заставу, и что там будет большое сражение.
Приехав на Патриаршие пруды, Пьер отыскал дом Баздеева, в котором он давно не бывал. Он подошел к калитке. Герасим, тот самый желтый безбородый старичок, которого Пьер видел пять лет тому назад в Торжке с Иосифом Алексеевичем, вышел на его стук.
– Дома? – спросил Пьер.
– По обстоятельствам нынешним, Софья Даниловна с детьми уехали в торжковскую деревню, ваше сиятельство.
– Я все таки войду, мне надо книги разобрать, – сказал Пьер.
– Пожалуйте, милости просим, братец покойника, – царство небесное! – Макар Алексеевич остались, да, как изволите знать, они в слабости, – сказал старый слуга.
Макар Алексеевич был, как знал Пьер, полусумасшедший, пивший запоем брат Иосифа Алексеевича.
– Да, да, знаю. Пойдем, пойдем… – сказал Пьер и вошел в дом. Высокий плешивый старый человек в халате, с красным носом, в калошах на босу ногу, стоял в передней; увидав Пьера, он сердито пробормотал что то и ушел в коридор.
– Большого ума были, а теперь, как изволите видеть, ослабели, – сказал Герасим. – В кабинет угодно? – Пьер кивнул головой. – Кабинет как был запечатан, так и остался. Софья Даниловна приказывали, ежели от вас придут, то отпустить книги.
Пьер вошел в тот самый мрачный кабинет, в который он еще при жизни благодетеля входил с таким трепетом. Кабинет этот, теперь запыленный и нетронутый со времени кончины Иосифа Алексеевича, был еще мрачнее.
Герасим открыл один ставень и на цыпочках вышел из комнаты. Пьер обошел кабинет, подошел к шкафу, в котором лежали рукописи, и достал одну из важнейших когда то святынь ордена. Это были подлинные шотландские акты с примечаниями и объяснениями благодетеля. Он сел за письменный запыленный стол и положил перед собой рукописи, раскрывал, закрывал их и, наконец, отодвинув их от себя, облокотившись головой на руки, задумался.
Несколько раз Герасим осторожно заглядывал в кабинет и видел, что Пьер сидел в том же положении. Прошло более двух часов. Герасим позволил себе пошуметь в дверях, чтоб обратить на себя внимание Пьера. Пьер не слышал его.
– Извозчика отпустить прикажете?
– Ах, да, – очнувшись, сказал Пьер, поспешно вставая. – Послушай, – сказал он, взяв Герасима за пуговицу сюртука и сверху вниз блестящими, влажными восторженными глазами глядя на старичка. – Послушай, ты знаешь, что завтра будет сражение?..
– Сказывали, – отвечал Герасим.
– Я прошу тебя никому не говорить, кто я. И сделай, что я скажу…
– Слушаюсь, – сказал Герасим. – Кушать прикажете?
– Нет, но мне другое нужно. Мне нужно крестьянское платье и пистолет, – сказал Пьер, неожиданно покраснев.
– Слушаю с, – подумав, сказал Герасим.
Весь остаток этого дня Пьер провел один в кабинете благодетеля, беспокойно шагая из одного угла в другой, как слышал Герасим, и что то сам с собой разговаривая, и ночевал на приготовленной ему тут же постели.
Герасим с привычкой слуги, видавшего много странных вещей на своем веку, принял переселение Пьера без удивления и, казалось, был доволен тем, что ему было кому услуживать. Он в тот же вечер, не спрашивая даже и самого себя, для чего это было нужно, достал Пьеру кафтан и шапку и обещал на другой день приобрести требуемый пистолет. Макар Алексеевич в этот вечер два раза, шлепая своими калошами, подходил к двери и останавливался, заискивающе глядя на Пьера. Но как только Пьер оборачивался к нему, он стыдливо и сердито запахивал свой халат и поспешно удалялся. В то время как Пьер в кучерском кафтане, приобретенном и выпаренном для него Герасимом, ходил с ним покупать пистолет у Сухаревой башни, он встретил Ростовых.
1 го сентября в ночь отдан приказ Кутузова об отступлении русских войск через Москву на Рязанскую дорогу.
Первые войска двинулись в ночь. Войска, шедшие ночью, не торопились и двигались медленно и степенно; но на рассвете двигавшиеся войска, подходя к Дорогомиловскому мосту, увидали впереди себя, на другой стороне, теснящиеся, спешащие по мосту и на той стороне поднимающиеся и запружающие улицы и переулки, и позади себя – напирающие, бесконечные массы войск. И беспричинная поспешность и тревога овладели войсками. Все бросилось вперед к мосту, на мост, в броды и в лодки. Кутузов велел обвезти себя задними улицами на ту сторону Москвы.
К десяти часам утра 2 го сентября в Дорогомиловском предместье оставались на просторе одни войска ариергарда. Армия была уже на той стороне Москвы и за Москвою.
В это же время, в десять часов утра 2 го сентября, Наполеон стоял между своими войсками на Поклонной горе и смотрел на открывавшееся перед ним зрелище. Начиная с 26 го августа и по 2 е сентября, от Бородинского сражения и до вступления неприятеля в Москву, во все дни этой тревожной, этой памятной недели стояла та необычайная, всегда удивляющая людей осенняя погода, когда низкое солнце греет жарче, чем весной, когда все блестит в редком, чистом воздухе так, что глаза режет, когда грудь крепнет и свежеет, вдыхая осенний пахучий воздух, когда ночи даже бывают теплые и когда в темных теплых ночах этих с неба беспрестанно, пугая и радуя, сыплются золотые звезды.
2 го сентября в десять часов утра была такая погода. Блеск утра был волшебный. Москва с Поклонной горы расстилалась просторно с своей рекой, своими садами и церквами и, казалось, жила своей жизнью, трепеща, как звезды, своими куполами в лучах солнца.
При виде странного города с невиданными формами необыкновенной архитектуры Наполеон испытывал то несколько завистливое и беспокойное любопытство, которое испытывают люди при виде форм не знающей о них, чуждой жизни. Очевидно, город этот жил всеми силами своей жизни. По тем неопределимым признакам, по которым на дальнем расстоянии безошибочно узнается живое тело от мертвого. Наполеон с Поклонной горы видел трепетание жизни в городе и чувствовал как бы дыханио этого большого и красивого тела.
– Cette ville asiatique aux innombrables eglises, Moscou la sainte. La voila donc enfin, cette fameuse ville! Il etait temps, [Этот азиатский город с бесчисленными церквами, Москва, святая их Москва! Вот он, наконец, этот знаменитый город! Пора!] – сказал Наполеон и, слезши с лошади, велел разложить перед собою план этой Moscou и подозвал переводчика Lelorgne d'Ideville. «Une ville occupee par l'ennemi ressemble a une fille qui a perdu son honneur, [Город, занятый неприятелем, подобен девушке, потерявшей невинность.] – думал он (как он и говорил это Тучкову в Смоленске). И с этой точки зрения он смотрел на лежавшую перед ним, невиданную еще им восточную красавицу. Ему странно было самому, что, наконец, свершилось его давнишнее, казавшееся ему невозможным, желание. В ясном утреннем свете он смотрел то на город, то на план, проверяя подробности этого города, и уверенность обладания волновала и ужасала его.
«Но разве могло быть иначе? – подумал он. – Вот она, эта столица, у моих ног, ожидая судьбы своей. Где теперь Александр и что думает он? Странный, красивый, величественный город! И странная и величественная эта минута! В каком свете представляюсь я им! – думал он о своих войсках. – Вот она, награда для всех этих маловерных, – думал он, оглядываясь на приближенных и на подходившие и строившиеся войска. – Одно мое слово, одно движение моей руки, и погибла эта древняя столица des Czars. Mais ma clemence est toujours prompte a descendre sur les vaincus. [царей. Но мое милосердие всегда готово низойти к побежденным.] Я должен быть великодушен и истинно велик. Но нет, это не правда, что я в Москве, – вдруг приходило ему в голову. – Однако вот она лежит у моих ног, играя и дрожа золотыми куполами и крестами в лучах солнца. Но я пощажу ее. На древних памятниках варварства и деспотизма я напишу великие слова справедливости и милосердия… Александр больнее всего поймет именно это, я знаю его. (Наполеону казалось, что главное значение того, что совершалось, заключалось в личной борьбе его с Александром.) С высот Кремля, – да, это Кремль, да, – я дам им законы справедливости, я покажу им значение истинной цивилизации, я заставлю поколения бояр с любовью поминать имя своего завоевателя. Я скажу депутации, что я не хотел и не хочу войны; что я вел войну только с ложной политикой их двора, что я люблю и уважаю Александра и что приму условия мира в Москве, достойные меня и моих народов. Я не хочу воспользоваться счастьем войны для унижения уважаемого государя. Бояре – скажу я им: я не хочу войны, а хочу мира и благоденствия всех моих подданных. Впрочем, я знаю, что присутствие их воодушевит меня, и я скажу им, как я всегда говорю: ясно, торжественно и велико. Но неужели это правда, что я в Москве? Да, вот она!»
– Qu'on m'amene les boyards, [Приведите бояр.] – обратился он к свите. Генерал с блестящей свитой тотчас же поскакал за боярами.
Прошло два часа. Наполеон позавтракал и опять стоял на том же месте на Поклонной горе, ожидая депутацию. Речь его к боярам уже ясно сложилась в его воображении. Речь эта была исполнена достоинства и того величия, которое понимал Наполеон.
Тот тон великодушия, в котором намерен был действовать в Москве Наполеон, увлек его самого. Он в воображении своем назначал дни reunion dans le palais des Czars [собраний во дворце царей.], где должны были сходиться русские вельможи с вельможами французского императора. Он назначал мысленно губернатора, такого, который бы сумел привлечь к себе население. Узнав о том, что в Москве много богоугодных заведений, он в воображении своем решал, что все эти заведения будут осыпаны его милостями. Он думал, что как в Африке надо было сидеть в бурнусе в мечети, так в Москве надо было быть милостивым, как цари. И, чтобы окончательно тронуть сердца русских, он, как и каждый француз, не могущий себе вообразить ничего чувствительного без упоминания о ma chere, ma tendre, ma pauvre mere, [моей милой, нежной, бедной матери ,] он решил, что на всех этих заведениях он велит написать большими буквами: Etablissement dedie a ma chere Mere. Нет, просто: Maison de ma Mere, [Учреждение, посвященное моей милой матери… Дом моей матери.] – решил он сам с собою. «Но неужели я в Москве? Да, вот она передо мной. Но что же так долго не является депутация города?» – думал он.
Между тем в задах свиты императора происходило шепотом взволнованное совещание между его генералами и маршалами. Посланные за депутацией вернулись с известием, что Москва пуста, что все уехали и ушли из нее. Лица совещавшихся были бледны и взволнованны. Не то, что Москва была оставлена жителями (как ни важно казалось это событие), пугало их, но их пугало то, каким образом объявить о том императору, каким образом, не ставя его величество в то страшное, называемое французами ridicule [смешным] положение, объявить ему, что он напрасно ждал бояр так долго, что есть толпы пьяных, но никого больше. Одни говорили, что надо было во что бы то ни стало собрать хоть какую нибудь депутацию, другие оспаривали это мнение и утверждали, что надо, осторожно и умно приготовив императора, объявить ему правду.
– Il faudra le lui dire tout de meme… – говорили господа свиты. – Mais, messieurs… [Однако же надо сказать ему… Но, господа…] – Положение было тем тяжеле, что император, обдумывая свои планы великодушия, терпеливо ходил взад и вперед перед планом, посматривая изредка из под руки по дороге в Москву и весело и гордо улыбаясь.
– Mais c'est impossible… [Но неловко… Невозможно…] – пожимая плечами, говорили господа свиты, не решаясь выговорить подразумеваемое страшное слово: le ridicule…
Между тем император, уставши от тщетного ожидания и своим актерским чутьем чувствуя, что величественная минута, продолжаясь слишком долго, начинает терять свою величественность, подал рукою знак. Раздался одинокий выстрел сигнальной пушки, и войска, с разных сторон обложившие Москву, двинулись в Москву, в Тверскую, Калужскую и Дорогомиловскую заставы. Быстрее и быстрее, перегоняя одни других, беглым шагом и рысью, двигались войска, скрываясь в поднимаемых ими облаках пыли и оглашая воздух сливающимися гулами криков.
Увлеченный движением войск, Наполеон доехал с войсками до Дорогомиловской заставы, но там опять остановился и, слезши с лошади, долго ходил у Камер коллежского вала, ожидая депутации.
Москва между тем была пуста. В ней были еще люди, в ней оставалась еще пятидесятая часть всех бывших прежде жителей, но она была пуста. Она была пуста, как пуст бывает домирающий обезматочивший улей.
В обезматочившем улье уже нет жизни, но на поверхностный взгляд он кажется таким же живым, как и другие.
Так же весело в жарких лучах полуденного солнца вьются пчелы вокруг обезматочившего улья, как и вокруг других живых ульев; так же издалека пахнет от него медом, так же влетают и вылетают из него пчелы. Но стоит приглядеться к нему, чтобы понять, что в улье этом уже нет жизни. Не так, как в живых ульях, летают пчелы, не тот запах, не тот звук поражают пчеловода. На стук пчеловода в стенку больного улья вместо прежнего, мгновенного, дружного ответа, шипенья десятков тысяч пчел, грозно поджимающих зад и быстрым боем крыльев производящих этот воздушный жизненный звук, – ему отвечают разрозненные жужжания, гулко раздающиеся в разных местах пустого улья. Из летка не пахнет, как прежде, спиртовым, душистым запахом меда и яда, не несет оттуда теплом полноты, а с запахом меда сливается запах пустоты и гнили. У летка нет больше готовящихся на погибель для защиты, поднявших кверху зады, трубящих тревогу стражей. Нет больше того ровного и тихого звука, трепетанья труда, подобного звуку кипенья, а слышится нескладный, разрозненный шум беспорядка. В улей и из улья робко и увертливо влетают и вылетают черные продолговатые, смазанные медом пчелы грабительницы; они не жалят, а ускользают от опасности. Прежде только с ношами влетали, а вылетали пустые пчелы, теперь вылетают с ношами. Пчеловод открывает нижнюю колодезню и вглядывается в нижнюю часть улья. Вместо прежде висевших до уза (нижнего дна) черных, усмиренных трудом плетей сочных пчел, держащих за ноги друг друга и с непрерывным шепотом труда тянущих вощину, – сонные, ссохшиеся пчелы в разные стороны бредут рассеянно по дну и стенкам улья. Вместо чисто залепленного клеем и сметенного веерами крыльев пола на дне лежат крошки вощин, испражнения пчел, полумертвые, чуть шевелящие ножками и совершенно мертвые, неприбранные пчелы.
Пчеловод открывает верхнюю колодезню и осматривает голову улья. Вместо сплошных рядов пчел, облепивших все промежутки сотов и греющих детву, он видит искусную, сложную работу сотов, но уже не в том виде девственности, в котором она бывала прежде. Все запущено и загажено. Грабительницы – черные пчелы – шныряют быстро и украдисто по работам; свои пчелы, ссохшиеся, короткие, вялые, как будто старые, медленно бродят, никому не мешая, ничего не желая и потеряв сознание жизни. Трутни, шершни, шмели, бабочки бестолково стучатся на лету о стенки улья. Кое где между вощинами с мертвыми детьми и медом изредка слышится с разных сторон сердитое брюзжание; где нибудь две пчелы, по старой привычке и памяти очищая гнездо улья, старательно, сверх сил, тащат прочь мертвую пчелу или шмеля, сами не зная, для чего они это делают. В другом углу другие две старые пчелы лениво дерутся, или чистятся, или кормят одна другую, сами не зная, враждебно или дружелюбно они это делают. В третьем месте толпа пчел, давя друг друга, нападает на какую нибудь жертву и бьет и душит ее. И ослабевшая или убитая пчела медленно, легко, как пух, спадает сверху в кучу трупов. Пчеловод разворачивает две средние вощины, чтобы видеть гнездо. Вместо прежних сплошных черных кругов спинка с спинкой сидящих тысяч пчел и блюдущих высшие тайны родного дела, он видит сотни унылых, полуживых и заснувших остовов пчел. Они почти все умерли, сами не зная этого, сидя на святыне, которую они блюли и которой уже нет больше. От них пахнет гнилью и смертью. Только некоторые из них шевелятся, поднимаются, вяло летят и садятся на руку врагу, не в силах умереть, жаля его, – остальные, мертвые, как рыбья чешуя, легко сыплются вниз. Пчеловод закрывает колодезню, отмечает мелом колодку и, выбрав время, выламывает и выжигает ее.
Так пуста была Москва, когда Наполеон, усталый, беспокойный и нахмуренный, ходил взад и вперед у Камерколлежского вала, ожидая того хотя внешнего, но необходимого, по его понятиям, соблюдения приличий, – депутации.
В разных углах Москвы только бессмысленно еще шевелились люди, соблюдая старые привычки и не понимая того, что они делали.
Когда Наполеону с должной осторожностью было объявлено, что Москва пуста, он сердито взглянул на доносившего об этом и, отвернувшись, продолжал ходить молча.
– Подать экипаж, – сказал он. Он сел в карету рядом с дежурным адъютантом и поехал в предместье.
– «Moscou deserte. Quel evenemeDt invraisemblable!» [«Москва пуста. Какое невероятное событие!»] – говорил он сам с собой.
Он не поехал в город, а остановился на постоялом дворе Дорогомиловского предместья.
Le coup de theatre avait rate. [Не удалась развязка театрального представления.]
Русские войска проходили через Москву с двух часов ночи и до двух часов дня и увлекали за собой последних уезжавших жителей и раненых.
Самая большая давка во время движения войск происходила на мостах Каменном, Москворецком и Яузском.
В то время как, раздвоившись вокруг Кремля, войска сперлись на Москворецком и Каменном мостах, огромное число солдат, пользуясь остановкой и теснотой, возвращались назад от мостов и украдчиво и молчаливо прошныривали мимо Василия Блаженного и под Боровицкие ворота назад в гору, к Красной площади, на которой по какому то чутью они чувствовали, что можно брать без труда чужое. Такая же толпа людей, как на дешевых товарах, наполняла Гостиный двор во всех его ходах и переходах. Но не было ласково приторных, заманивающих голосов гостинодворцев, не было разносчиков и пестрой женской толпы покупателей – одни были мундиры и шинели солдат без ружей, молчаливо с ношами выходивших и без ноши входивших в ряды. Купцы и сидельцы (их было мало), как потерянные, ходили между солдатами, отпирали и запирали свои лавки и сами с молодцами куда то выносили свои товары. На площади у Гостиного двора стояли барабанщики и били сбор. Но звук барабана заставлял солдат грабителей не, как прежде, сбегаться на зов, а, напротив, заставлял их отбегать дальше от барабана. Между солдатами, по лавкам и проходам, виднелись люди в серых кафтанах и с бритыми головами. Два офицера, один в шарфе по мундиру, на худой темно серой лошади, другой в шинели, пешком, стояли у угла Ильинки и о чем то говорили. Третий офицер подскакал к ним.
– Генерал приказал во что бы то ни стало сейчас выгнать всех. Что та, это ни на что не похоже! Половина людей разбежалась.
– Ты куда?.. Вы куда?.. – крикнул он на трех пехотных солдат, которые, без ружей, подобрав полы шинелей, проскользнули мимо него в ряды. – Стой, канальи!
– Да, вот извольте их собрать! – отвечал другой офицер. – Их не соберешь; надо идти скорее, чтобы последние не ушли, вот и всё!
– Как же идти? там стали, сперлися на мосту и не двигаются. Или цепь поставить, чтобы последние не разбежались?
– Да подите же туда! Гони ж их вон! – крикнул старший офицер.
Офицер в шарфе слез с лошади, кликнул барабанщика и вошел с ним вместе под арки. Несколько солдат бросилось бежать толпой. Купец, с красными прыщами по щекам около носа, с спокойно непоколебимым выражением расчета на сытом лице, поспешно и щеголевато, размахивая руками, подошел к офицеру.
– Ваше благородие, – сказал он, – сделайте милость, защитите. Нам не расчет пустяк какой ни на есть, мы с нашим удовольствием! Пожалуйте, сукна сейчас вынесу, для благородного человека хоть два куска, с нашим удовольствием! Потому мы чувствуем, а это что ж, один разбой! Пожалуйте! Караул, что ли, бы приставили, хоть запереть дали бы…
Несколько купцов столпилось около офицера.
– Э! попусту брехать то! – сказал один из них, худощавый, с строгим лицом. – Снявши голову, по волосам не плачут. Бери, что кому любо! – И он энергическим жестом махнул рукой и боком повернулся к офицеру.
– Тебе, Иван Сидорыч, хорошо говорить, – сердито заговорил первый купец. – Вы пожалуйте, ваше благородие.
– Что говорить! – крикнул худощавый. – У меня тут в трех лавках на сто тысяч товару. Разве убережешь, когда войско ушло. Эх, народ, божью власть не руками скласть!
– Пожалуйте, ваше благородие, – говорил первый купец, кланяясь. Офицер стоял в недоумении, и на лице его видна была нерешительность.
– Да мне что за дело! – крикнул он вдруг и пошел быстрыми шагами вперед по ряду. В одной отпертой лавке слышались удары и ругательства, и в то время как офицер подходил к ней, из двери выскочил вытолкнутый человек в сером армяке и с бритой головой.
Человек этот, согнувшись, проскочил мимо купцов и офицера. Офицер напустился на солдат, бывших в лавке. Но в это время страшные крики огромной толпы послышались на Москворецком мосту, и офицер выбежал на площадь.
– Что такое? Что такое? – спрашивал он, но товарищ его уже скакал по направлению к крикам, мимо Василия Блаженного. Офицер сел верхом и поехал за ним. Когда он подъехал к мосту, он увидал снятые с передков две пушки, пехоту, идущую по мосту, несколько поваленных телег, несколько испуганных лиц и смеющиеся лица солдат. Подле пушек стояла одна повозка, запряженная парой. За повозкой сзади колес жались четыре борзые собаки в ошейниках. На повозке была гора вещей, и на самом верху, рядом с детским, кверху ножками перевернутым стульчиком сидела баба, пронзительно и отчаянно визжавшая. Товарищи рассказывали офицеру, что крик толпы и визги бабы произошли оттого, что наехавший на эту толпу генерал Ермолов, узнав, что солдаты разбредаются по лавкам, а толпы жителей запружают мост, приказал снять орудия с передков и сделать пример, что он будет стрелять по мосту. Толпа, валя повозки, давя друг друга, отчаянно кричала, теснясь, расчистила мост, и войска двинулись вперед.
В самом городе между тем было пусто. По улицам никого почти не было. Ворота и лавки все были заперты; кое где около кабаков слышались одинокие крики или пьяное пенье. Никто не ездил по улицам, и редко слышались шаги пешеходов. На Поварской было совершенно тихо и пустынно. На огромном дворе дома Ростовых валялись объедки сена, помет съехавшего обоза и не было видно ни одного человека. В оставшемся со всем своим добром доме Ростовых два человека были в большой гостиной. Это были дворник Игнат и казачок Мишка, внук Васильича, оставшийся в Москве с дедом. Мишка, открыв клавикорды, играл на них одним пальцем. Дворник, подбоченившись и радостно улыбаясь, стоял пред большим зеркалом.
– Вот ловко то! А? Дядюшка Игнат! – говорил мальчик, вдруг начиная хлопать обеими руками по клавишам.
– Ишь ты! – отвечал Игнат, дивуясь на то, как все более и более улыбалось его лицо в зеркале.
– Бессовестные! Право, бессовестные! – заговорил сзади их голос тихо вошедшей Мавры Кузминишны. – Эка, толсторожий, зубы то скалит. На это вас взять! Там все не прибрано, Васильич с ног сбился. Дай срок!
Игнат, поправляя поясок, перестав улыбаться и покорно опустив глаза, пошел вон из комнаты.
– Тетенька, я полегоньку, – сказал мальчик.
– Я те дам полегоньку. Постреленок! – крикнула Мавра Кузминишна, замахиваясь на него рукой. – Иди деду самовар ставь.
Мавра Кузминишна, смахнув пыль, закрыла клавикорды и, тяжело вздохнув, вышла из гостиной и заперла входную дверь.
Выйдя на двор, Мавра Кузминишна задумалась о том, куда ей идти теперь: пить ли чай к Васильичу во флигель или в кладовую прибрать то, что еще не было прибрано?
В тихой улице послышались быстрые шаги. Шаги остановились у калитки; щеколда стала стучать под рукой, старавшейся отпереть ее.
Мавра Кузминишна подошла к калитке.
– Кого надо?
– Графа, графа Илью Андреича Ростова.
– Да вы кто?
– Я офицер. Мне бы видеть нужно, – сказал русский приятный и барский голос.
Мавра Кузминишна отперла калитку. И на двор вошел лет восемнадцати круглолицый офицер, типом лица похожий на Ростовых.
– Уехали, батюшка. Вчерашнего числа в вечерни изволили уехать, – ласково сказала Мавра Кузмипишна.
Молодой офицер, стоя в калитке, как бы в нерешительности войти или не войти ему, пощелкал языком.
– Ах, какая досада!.. – проговорил он. – Мне бы вчера… Ах, как жалко!..
Мавра Кузминишна между тем внимательно и сочувственно разглядывала знакомые ей черты ростовской породы в лице молодого человека, и изорванную шинель, и стоптанные сапоги, которые были на нем.
– Вам зачем же графа надо было? – спросила она.
– Да уж… что делать! – с досадой проговорил офицер и взялся за калитку, как бы намереваясь уйти. Он опять остановился в нерешительности.
– Видите ли? – вдруг сказал он. – Я родственник графу, и он всегда очень добр был ко мне. Так вот, видите ли (он с доброй и веселой улыбкой посмотрел на свой плащ и сапоги), и обносился, и денег ничего нет; так я хотел попросить графа…
Мавра Кузминишна не дала договорить ему.
– Вы минуточку бы повременили, батюшка. Одною минуточку, – сказала она. И как только офицер отпустил руку от калитки, Мавра Кузминишна повернулась и быстрым старушечьим шагом пошла на задний двор к своему флигелю.
В то время как Мавра Кузминишна бегала к себе, офицер, опустив голову и глядя на свои прорванные сапоги, слегка улыбаясь, прохаживался по двору. «Как жалко, что я не застал дядюшку. А славная старушка! Куда она побежала? И как бы мне узнать, какими улицами мне ближе догнать полк, который теперь должен подходить к Рогожской?» – думал в это время молодой офицер. Мавра Кузминишна с испуганным и вместе решительным лицом, неся в руках свернутый клетчатый платочек, вышла из за угла. Не доходя несколько шагов, она, развернув платок, вынула из него белую двадцатипятирублевую ассигнацию и поспешно отдала ее офицеру.
– Были бы их сиятельства дома, известно бы, они бы, точно, по родственному, а вот может… теперича… – Мавра Кузминишна заробела и смешалась. Но офицер, не отказываясь и не торопясь, взял бумажку и поблагодарил Мавру Кузминишну. – Как бы граф дома были, – извиняясь, все говорила Мавра Кузминишна. – Христос с вами, батюшка! Спаси вас бог, – говорила Мавра Кузминишна, кланяясь и провожая его. Офицер, как бы смеясь над собою, улыбаясь и покачивая головой, почти рысью побежал по пустым улицам догонять свой полк к Яузскому мосту.
А Мавра Кузминишна еще долго с мокрыми глазами стояла перед затворенной калиткой, задумчиво покачивая головой и чувствуя неожиданный прилив материнской нежности и жалости к неизвестному ей офицерику.
В недостроенном доме на Варварке, внизу которого был питейный дом, слышались пьяные крики и песни. На лавках у столов в небольшой грязной комнате сидело человек десять фабричных. Все они, пьяные, потные, с мутными глазами, напруживаясь и широко разевая рты, пели какую то песню. Они пели врозь, с трудом, с усилием, очевидно, не для того, что им хотелось петь, но для того только, чтобы доказать, что они пьяны и гуляют. Один из них, высокий белокурый малый в чистой синей чуйке, стоял над ними. Лицо его с тонким прямым носом было бы красиво, ежели бы не тонкие, поджатые, беспрестанно двигающиеся губы и мутные и нахмуренные, неподвижные глаза. Он стоял над теми, которые пели, и, видимо воображая себе что то, торжественно и угловато размахивал над их головами засученной по локоть белой рукой, грязные пальцы которой он неестественно старался растопыривать. Рукав его чуйки беспрестанно спускался, и малый старательно левой рукой опять засучивал его, как будто что то было особенно важное в том, чтобы эта белая жилистая махавшая рука была непременно голая. В середине песни в сенях и на крыльце послышались крики драки и удары. Высокий малый махнул рукой.
– Шабаш! – крикнул он повелительно. – Драка, ребята! – И он, не переставая засучивать рукав, вышел на крыльцо.
Фабричные пошли за ним. Фабричные, пившие в кабаке в это утро под предводительством высокого малого, принесли целовальнику кожи с фабрики, и за это им было дано вино. Кузнецы из соседних кузень, услыхав гульбу в кабаке и полагая, что кабак разбит, силой хотели ворваться в него. На крыльце завязалась драка.
Целовальник в дверях дрался с кузнецом, и в то время как выходили фабричные, кузнец оторвался от целовальника и упал лицом на мостовую.
Другой кузнец рвался в дверь, грудью наваливаясь на целовальника.
Малый с засученным рукавом на ходу еще ударил в лицо рвавшегося в дверь кузнеца и дико закричал:
– Ребята! наших бьют!
В это время первый кузнец поднялся с земли и, расцарапывая кровь на разбитом лице, закричал плачущим голосом:
– Караул! Убили!.. Человека убили! Братцы!..
– Ой, батюшки, убили до смерти, убили человека! – завизжала баба, вышедшая из соседних ворот. Толпа народа собралась около окровавленного кузнеца.
– Мало ты народ то грабил, рубахи снимал, – сказал чей то голос, обращаясь к целовальнику, – что ж ты человека убил? Разбойник!
Высокий малый, стоя на крыльце, мутными глазами водил то на целовальника, то на кузнецов, как бы соображая, с кем теперь следует драться.
– Душегуб! – вдруг крикнул он на целовальника. – Вяжи его, ребята!
– Как же, связал одного такого то! – крикнул целовальник, отмахнувшись от набросившихся на него людей, и, сорвав с себя шапку, он бросил ее на землю. Как будто действие это имело какое то таинственно угрожающее значение, фабричные, обступившие целовальника, остановились в нерешительности.
– Порядок то я, брат, знаю очень прекрасно. Я до частного дойду. Ты думаешь, не дойду? Разбойничать то нонче никому не велят! – прокричал целовальник, поднимая шапку.
– И пойдем, ишь ты! И пойдем… ишь ты! – повторяли друг за другом целовальник и высокий малый, и оба вместе двинулись вперед по улице. Окровавленный кузнец шел рядом с ними. Фабричные и посторонний народ с говором и криком шли за ними.
У угла Маросейки, против большого с запертыми ставнями дома, на котором была вывеска сапожного мастера, стояли с унылыми лицами человек двадцать сапожников, худых, истомленных людей в халатах и оборванных чуйках.
– Он народ разочти как следует! – говорил худой мастеровой с жидкой бородйой и нахмуренными бровями. – А что ж, он нашу кровь сосал – да и квит. Он нас водил, водил – всю неделю. А теперь довел до последнего конца, а сам уехал.
Увидав народ и окровавленного человека, говоривший мастеровой замолчал, и все сапожники с поспешным любопытством присоединились к двигавшейся толпе.
– Куда идет народ то?
– Известно куда, к начальству идет.
– Что ж, али взаправду наша не взяла сила?
– А ты думал как! Гляди ко, что народ говорит.
Слышались вопросы и ответы. Целовальник, воспользовавшись увеличением толпы, отстал от народа и вернулся к своему кабаку.
Высокий малый, не замечая исчезновения своего врага целовальника, размахивая оголенной рукой, не переставал говорить, обращая тем на себя общее внимание. На него то преимущественно жался народ, предполагая от него получить разрешение занимавших всех вопросов.
– Он покажи порядок, закон покажи, на то начальство поставлено! Так ли я говорю, православные? – говорил высокий малый, чуть заметно улыбаясь.
– Он думает, и начальства нет? Разве без начальства можно? А то грабить то мало ли их.
– Что пустое говорить! – отзывалось в толпе. – Как же, так и бросят Москву то! Тебе на смех сказали, а ты и поверил. Мало ли войсков наших идет. Так его и пустили! На то начальство. Вон послушай, что народ то бает, – говорили, указывая на высокого малого.
У стены Китай города другая небольшая кучка людей окружала человека в фризовой шинели, держащего в руках бумагу.
– Указ, указ читают! Указ читают! – послышалось в толпе, и народ хлынул к чтецу.
Человек в фризовой шинели читал афишку от 31 го августа. Когда толпа окружила его, он как бы смутился, но на требование высокого малого, протеснившегося до него, он с легким дрожанием в голосе начал читать афишку сначала.
«Я завтра рано еду к светлейшему князю, – читал он (светлеющему! – торжественно, улыбаясь ртом и хмуря брови, повторил высокий малый), – чтобы с ним переговорить, действовать и помогать войскам истреблять злодеев; станем и мы из них дух… – продолжал чтец и остановился („Видал?“ – победоносно прокричал малый. – Он тебе всю дистанцию развяжет…»)… – искоренять и этих гостей к черту отправлять; я приеду назад к обеду, и примемся за дело, сделаем, доделаем и злодеев отделаем».
Последние слова были прочтены чтецом в совершенном молчании. Высокий малый грустно опустил голову. Очевидно было, что никто не понял этих последних слов. В особенности слова: «я приеду завтра к обеду», видимо, даже огорчили и чтеца и слушателей. Понимание народа было настроено на высокий лад, а это было слишком просто и ненужно понятно; это было то самое, что каждый из них мог бы сказать и что поэтому не мог говорить указ, исходящий от высшей власти.
Все стояли в унылом молчании. Высокий малый водил губами и пошатывался.
– У него спросить бы!.. Это сам и есть?.. Как же, успросил!.. А то что ж… Он укажет… – вдруг послышалось в задних рядах толпы, и общее внимание обратилось на выезжавшие на площадь дрожки полицеймейстера, сопутствуемого двумя конными драгунами.
Полицеймейстер, ездивший в это утро по приказанию графа сжигать барки и, по случаю этого поручения, выручивший большую сумму денег, находившуюся у него в эту минуту в кармане, увидав двинувшуюся к нему толпу людей, приказал кучеру остановиться.
– Что за народ? – крикнул он на людей, разрозненно и робко приближавшихся к дрожкам. – Что за народ? Я вас спрашиваю? – повторил полицеймейстер, не получавший ответа.
– Они, ваше благородие, – сказал приказный во фризовой шинели, – они, ваше высокородие, по объявлению сиятельнейшего графа, не щадя живота, желали послужить, а не то чтобы бунт какой, как сказано от сиятельнейшего графа…
– Граф не уехал, он здесь, и об вас распоряжение будет, – сказал полицеймейстер. – Пошел! – сказал он кучеру. Толпа остановилась, скучиваясь около тех, которые слышали то, что сказало начальство, и глядя на отъезжающие дрожки.
Полицеймейстер в это время испуганно оглянулся, что то сказал кучеру, и лошади его поехали быстрее.
– Обман, ребята! Веди к самому! – крикнул голос высокого малого. – Не пущай, ребята! Пущай отчет подаст! Держи! – закричали голоса, и народ бегом бросился за дрожками.
Толпа за полицеймейстером с шумным говором направилась на Лубянку.
– Что ж, господа да купцы повыехали, а мы за то и пропадаем? Что ж, мы собаки, что ль! – слышалось чаще в толпе.
Вечером 1 го сентября, после своего свидания с Кутузовым, граф Растопчин, огорченный и оскорбленный тем, что его не пригласили на военный совет, что Кутузов не обращал никакого внимания на его предложение принять участие в защите столицы, и удивленный новым открывшимся ему в лагере взглядом, при котором вопрос о спокойствии столицы и о патриотическом ее настроении оказывался не только второстепенным, но совершенно ненужным и ничтожным, – огорченный, оскорбленный и удивленный всем этим, граф Растопчин вернулся в Москву. Поужинав, граф, не раздеваясь, прилег на канапе и в первом часу был разбужен курьером, который привез ему письмо от Кутузова. В письме говорилось, что так как войска отступают на Рязанскую дорогу за Москву, то не угодно ли графу выслать полицейских чиновников, для проведения войск через город. Известие это не было новостью для Растопчина. Не только со вчерашнего свиданья с Кутузовым на Поклонной горе, но и с самого Бородинского сражения, когда все приезжавшие в Москву генералы в один голос говорили, что нельзя дать еще сражения, и когда с разрешения графа каждую ночь уже вывозили казенное имущество и жители до половины повыехали, – граф Растопчин знал, что Москва будет оставлена; но тем не менее известие это, сообщенное в форме простой записки с приказанием от Кутузова и полученное ночью, во время первого сна, удивило и раздражило графа.
Впоследствии, объясняя свою деятельность за это время, граф Растопчин в своих записках несколько раз писал, что у него тогда было две важные цели: De maintenir la tranquillite a Moscou et d'en faire partir les habitants. [Сохранить спокойствие в Москве и выпроводить из нее жителей.] Если допустить эту двоякую цель, всякое действие Растопчина оказывается безукоризненным. Для чего не вывезена московская святыня, оружие, патроны, порох, запасы хлеба, для чего тысячи жителей обмануты тем, что Москву не сдадут, и разорены? – Для того, чтобы соблюсти спокойствие в столице, отвечает объяснение графа Растопчина. Для чего вывозились кипы ненужных бумаг из присутственных мест и шар Леппиха и другие предметы? – Для того, чтобы оставить город пустым, отвечает объяснение графа Растопчина. Стоит только допустить, что что нибудь угрожало народному спокойствию, и всякое действие становится оправданным.
Все ужасы террора основывались только на заботе о народном спокойствии.
На чем же основывался страх графа Растопчина о народном спокойствии в Москве в 1812 году? Какая причина была предполагать в городе склонность к возмущению? Жители уезжали, войска, отступая, наполняли Москву. Почему должен был вследствие этого бунтовать народ?
Не только в Москве, но во всей России при вступлении неприятеля не произошло ничего похожего на возмущение. 1 го, 2 го сентября более десяти тысяч людей оставалось в Москве, и, кроме толпы, собравшейся на дворе главнокомандующего и привлеченной им самим, – ничего не было. Очевидно, что еще менее надо было ожидать волнения в народе, ежели бы после Бородинского сражения, когда оставление Москвы стало очевидно, или, по крайней мере, вероятно, – ежели бы тогда вместо того, чтобы волновать народ раздачей оружия и афишами, Растопчин принял меры к вывозу всей святыни, пороху, зарядов и денег и прямо объявил бы народу, что город оставляется.
Растопчин, пылкий, сангвинический человек, всегда вращавшийся в высших кругах администрации, хотя в с патриотическим чувством, не имел ни малейшего понятия о том народе, которым он думал управлять. С самого начала вступления неприятеля в Смоленск Растопчин в воображении своем составил для себя роль руководителя народного чувства – сердца России. Ему не только казалось (как это кажется каждому администратору), что он управлял внешними действиями жителей Москвы, но ему казалось, что он руководил их настроением посредством своих воззваний и афиш, писанных тем ёрническим языком, который в своей среде презирает народ и которого он не понимает, когда слышит его сверху. Красивая роль руководителя народного чувства так понравилась Растопчину, он так сжился с нею, что необходимость выйти из этой роли, необходимость оставления Москвы без всякого героического эффекта застала его врасплох, и он вдруг потерял из под ног почву, на которой стоял, в решительно не знал, что ему делать. Он хотя и знал, но не верил всею душою до последней минуты в оставление Москвы и ничего не делал с этой целью. Жители выезжали против его желания. Ежели вывозили присутственные места, то только по требованию чиновников, с которыми неохотно соглашался граф. Сам же он был занят только тою ролью, которую он для себя сделал. Как это часто бывает с людьми, одаренными пылким воображением, он знал уже давно, что Москву оставят, но знал только по рассуждению, но всей душой не верил в это, не перенесся воображением в это новое положение.
Вся деятельность его, старательная и энергическая (насколько она была полезна и отражалась на народ – это другой вопрос), вся деятельность его была направлена только на то, чтобы возбудить в жителях то чувство, которое он сам испытывал, – патриотическую ненависть к французам и уверенность в себе.
Но когда событие принимало свои настоящие, исторические размеры, когда оказалось недостаточным только словами выражать свою ненависть к французам, когда нельзя было даже сражением выразить эту ненависть, когда уверенность в себе оказалась бесполезною по отношению к одному вопросу Москвы, когда все население, как один человек, бросая свои имущества, потекло вон из Москвы, показывая этим отрицательным действием всю силу своего народного чувства, – тогда роль, выбранная Растопчиным, оказалась вдруг бессмысленной. Он почувствовал себя вдруг одиноким, слабым и смешным, без почвы под ногами.
Получив, пробужденный от сна, холодную и повелительную записку от Кутузова, Растопчин почувствовал себя тем более раздраженным, чем более он чувствовал себя виновным. В Москве оставалось все то, что именно было поручено ему, все то казенное, что ему должно было вывезти. Вывезти все не было возможности.
«Кто же виноват в этом, кто допустил до этого? – думал он. – Разумеется, не я. У меня все было готово, я держал Москву вот как! И вот до чего они довели дело! Мерзавцы, изменники!» – думал он, не определяя хорошенько того, кто были эти мерзавцы и изменники, но чувствуя необходимость ненавидеть этих кого то изменников, которые были виноваты в том фальшивом и смешном положении, в котором он находился.
Всю эту ночь граф Растопчин отдавал приказания, за которыми со всех сторон Москвы приезжали к нему. Приближенные никогда не видали графа столь мрачным и раздраженным.
«Ваше сиятельство, из вотчинного департамента пришли, от директора за приказаниями… Из консистории, из сената, из университета, из воспитательного дома, викарный прислал… спрашивает… О пожарной команде как прикажете? Из острога смотритель… из желтого дома смотритель…» – всю ночь, не переставая, докладывали графу.
На все эта вопросы граф давал короткие и сердитые ответы, показывавшие, что приказания его теперь не нужны, что все старательно подготовленное им дело теперь испорчено кем то и что этот кто то будет нести всю ответственность за все то, что произойдет теперь.
– Ну, скажи ты этому болвану, – отвечал он на запрос от вотчинного департамента, – чтоб он оставался караулить свои бумаги. Ну что ты спрашиваешь вздор о пожарной команде? Есть лошади – пускай едут во Владимир. Не французам оставлять.
– Ваше сиятельство, приехал надзиратель из сумасшедшего дома, как прикажете?
– Как прикажу? Пускай едут все, вот и всё… А сумасшедших выпустить в городе. Когда у нас сумасшедшие армиями командуют, так этим и бог велел.
На вопрос о колодниках, которые сидели в яме, граф сердито крикнул на смотрителя:
– Что ж, тебе два батальона конвоя дать, которого нет? Пустить их, и всё!
– Ваше сиятельство, есть политические: Мешков, Верещагин.
– Верещагин! Он еще не повешен? – крикнул Растопчин. – Привести его ко мне.
К девяти часам утра, когда войска уже двинулись через Москву, никто больше не приходил спрашивать распоряжений графа. Все, кто мог ехать, ехали сами собой; те, кто оставались, решали сами с собой, что им надо было делать.
Граф велел подавать лошадей, чтобы ехать в Сокольники, и, нахмуренный, желтый и молчаливый, сложив руки, сидел в своем кабинете.
Каждому администратору в спокойное, не бурное время кажется, что только его усилиями движется всо ему подведомственное народонаселение, и в этом сознании своей необходимости каждый администратор чувствует главную награду за свои труды и усилия. Понятно, что до тех пор, пока историческое море спокойно, правителю администратору, с своей утлой лодочкой упирающемуся шестом в корабль народа и самому двигающемуся, должно казаться, что его усилиями двигается корабль, в который он упирается. Но стоит подняться буре, взволноваться морю и двинуться самому кораблю, и тогда уж заблуждение невозможно. Корабль идет своим громадным, независимым ходом, шест не достает до двинувшегося корабля, и правитель вдруг из положения властителя, источника силы, переходит в ничтожного, бесполезного и слабого человека.
Растопчин чувствовал это, и это то раздражало его. Полицеймейстер, которого остановила толпа, вместе с адъютантом, который пришел доложить, что лошади готовы, вошли к графу. Оба были бледны, и полицеймейстер, передав об исполнении своего поручения, сообщил, что на дворе графа стояла огромная толпа народа, желавшая его видеть.
Растопчин, ни слова не отвечая, встал и быстрыми шагами направился в свою роскошную светлую гостиную, подошел к двери балкона, взялся за ручку, оставил ее и перешел к окну, из которого виднее была вся толпа. Высокий малый стоял в передних рядах и с строгим лицом, размахивая рукой, говорил что то. Окровавленный кузнец с мрачным видом стоял подле него. Сквозь закрытые окна слышен был гул голосов.
– Готов экипаж? – сказал Растопчин, отходя от окна.
– Готов, ваше сиятельство, – сказал адъютант.
Растопчин опять подошел к двери балкона.
– Да чего они хотят? – спросил он у полицеймейстера.
– Ваше сиятельство, они говорят, что собрались идти на французов по вашему приказанью, про измену что то кричали. Но буйная толпа, ваше сиятельство. Я насилу уехал. Ваше сиятельство, осмелюсь предложить…
– Извольте идти, я без вас знаю, что делать, – сердито крикнул Растопчин. Он стоял у двери балкона, глядя на толпу. «Вот что они сделали с Россией! Вот что они сделали со мной!» – думал Растопчин, чувствуя поднимающийся в своей душе неудержимый гнев против кого то того, кому можно было приписать причину всего случившегося. Как это часто бывает с горячими людьми, гнев уже владел им, но он искал еще для него предмета. «La voila la populace, la lie du peuple, – думал он, глядя на толпу, – la plebe qu'ils ont soulevee par leur sottise. Il leur faut une victime, [„Вот он, народец, эти подонки народонаселения, плебеи, которых они подняли своею глупостью! Им нужна жертва“.] – пришло ему в голову, глядя на размахивающего рукой высокого малого. И по тому самому это пришло ему в голову, что ему самому нужна была эта жертва, этот предмет для своего гнева.
– Готов экипаж? – в другой раз спросил он.
– Готов, ваше сиятельство. Что прикажете насчет Верещагина? Он ждет у крыльца, – отвечал адъютант.
– А! – вскрикнул Растопчин, как пораженный каким то неожиданным воспоминанием.
И, быстро отворив дверь, он вышел решительными шагами на балкон. Говор вдруг умолк, шапки и картузы снялись, и все глаза поднялись к вышедшему графу.
– Здравствуйте, ребята! – сказал граф быстро и громко. – Спасибо, что пришли. Я сейчас выйду к вам, но прежде всего нам надо управиться с злодеем. Нам надо наказать злодея, от которого погибла Москва. Подождите меня! – И граф так же быстро вернулся в покои, крепко хлопнув дверью.
По толпе пробежал одобрительный ропот удовольствия. «Он, значит, злодеев управит усех! А ты говоришь француз… он тебе всю дистанцию развяжет!» – говорили люди, как будто упрекая друг друга в своем маловерии.
Через несколько минут из парадных дверей поспешно вышел офицер, приказал что то, и драгуны вытянулись. Толпа от балкона жадно подвинулась к крыльцу. Выйдя гневно быстрыми шагами на крыльцо, Растопчин поспешно оглянулся вокруг себя, как бы отыскивая кого то.
– Где он? – сказал граф, и в ту же минуту, как он сказал это, он увидал из за угла дома выходившего между, двух драгун молодого человека с длинной тонкой шеей, с до половины выбритой и заросшей головой. Молодой человек этот был одет в когда то щегольской, крытый синим сукном, потертый лисий тулупчик и в грязные посконные арестантские шаровары, засунутые в нечищеные, стоптанные тонкие сапоги. На тонких, слабых ногах тяжело висели кандалы, затруднявшие нерешительную походку молодого человека.
– А ! – сказал Растопчин, поспешно отворачивая свой взгляд от молодого человека в лисьем тулупчике и указывая на нижнюю ступеньку крыльца. – Поставьте его сюда! – Молодой человек, брянча кандалами, тяжело переступил на указываемую ступеньку, придержав пальцем нажимавший воротник тулупчика, повернул два раза длинной шеей и, вздохнув, покорным жестом сложил перед животом тонкие, нерабочие руки.
Несколько секунд, пока молодой человек устанавливался на ступеньке, продолжалось молчание. Только в задних рядах сдавливающихся к одному месту людей слышались кряхтенье, стоны, толчки и топот переставляемых ног.
Растопчин, ожидая того, чтобы он остановился на указанном месте, хмурясь потирал рукою лицо.
– Ребята! – сказал Растопчин металлически звонким голосом, – этот человек, Верещагин – тот самый мерзавец, от которого погибла Москва.
Молодой человек в лисьем тулупчике стоял в покорной позе, сложив кисти рук вместе перед животом и немного согнувшись. Исхудалое, с безнадежным выражением, изуродованное бритою головой молодое лицо его было опущено вниз. При первых словах графа он медленно поднял голову и поглядел снизу на графа, как бы желая что то сказать ему или хоть встретить его взгляд. Но Растопчин не смотрел на него. На длинной тонкой шее молодого человека, как веревка, напружилась и посинела жила за ухом, и вдруг покраснело лицо.
Все глаза были устремлены на него. Он посмотрел на толпу, и, как бы обнадеженный тем выражением, которое он прочел на лицах людей, он печально и робко улыбнулся и, опять опустив голову, поправился ногами на ступеньке.
– Он изменил своему царю и отечеству, он передался Бонапарту, он один из всех русских осрамил имя русского, и от него погибает Москва, – говорил Растопчин ровным, резким голосом; но вдруг быстро взглянул вниз на Верещагина, продолжавшего стоять в той же покорной позе. Как будто взгляд этот взорвал его, он, подняв руку, закричал почти, обращаясь к народу: – Своим судом расправляйтесь с ним! отдаю его вам!
Народ молчал и только все теснее и теснее нажимал друг на друга. Держать друг друга, дышать в этой зараженной духоте, не иметь силы пошевелиться и ждать чего то неизвестного, непонятного и страшного становилось невыносимо. Люди, стоявшие в передних рядах, видевшие и слышавшие все то, что происходило перед ними, все с испуганно широко раскрытыми глазами и разинутыми ртами, напрягая все свои силы, удерживали на своих спинах напор задних.
– Бей его!.. Пускай погибнет изменник и не срамит имя русского! – закричал Растопчин. – Руби! Я приказываю! – Услыхав не слова, но гневные звуки голоса Растопчина, толпа застонала и надвинулась, но опять остановилась.
– Граф!.. – проговорил среди опять наступившей минутной тишины робкий и вместе театральный голос Верещагина. – Граф, один бог над нами… – сказал Верещагин, подняв голову, и опять налилась кровью толстая жила на его тонкой шее, и краска быстро выступила и сбежала с его лица. Он не договорил того, что хотел сказать.
– Руби его! Я приказываю!.. – прокричал Растопчин, вдруг побледнев так же, как Верещагин.
– Сабли вон! – крикнул офицер драгунам, сам вынимая саблю.
Другая еще сильнейшая волна взмыла по народу, и, добежав до передних рядов, волна эта сдвинула переднии, шатая, поднесла к самым ступеням крыльца. Высокий малый, с окаменелым выражением лица и с остановившейся поднятой рукой, стоял рядом с Верещагиным.
– Руби! – прошептал почти офицер драгунам, и один из солдат вдруг с исказившимся злобой лицом ударил Верещагина тупым палашом по голове.
«А!» – коротко и удивленно вскрикнул Верещагин, испуганно оглядываясь и как будто не понимая, зачем это было с ним сделано. Такой же стон удивления и ужаса пробежал по толпе.
«О господи!» – послышалось чье то печальное восклицание.
Но вслед за восклицанием удивления, вырвавшимся У Верещагина, он жалобно вскрикнул от боли, и этот крик погубил его. Та натянутая до высшей степени преграда человеческого чувства, которая держала еще толпу, прорвалось мгновенно. Преступление было начато, необходимо было довершить его. Жалобный стон упрека был заглушен грозным и гневным ревом толпы. Как последний седьмой вал, разбивающий корабли, взмыла из задних рядов эта последняя неудержимая волна, донеслась до передних, сбила их и поглотила все. Ударивший драгун хотел повторить свой удар. Верещагин с криком ужаса, заслонясь руками, бросился к народу. Высокий малый, на которого он наткнулся, вцепился руками в тонкую шею Верещагина и с диким криком, с ним вместе, упал под ноги навалившегося ревущего народа.
Одни били и рвали Верещагина, другие высокого малого. И крики задавленных людей и тех, которые старались спасти высокого малого, только возбуждали ярость толпы. Долго драгуны не могли освободить окровавленного, до полусмерти избитого фабричного. И долго, несмотря на всю горячечную поспешность, с которою толпа старалась довершить раз начатое дело, те люди, которые били, душили и рвали Верещагина, не могли убить его; но толпа давила их со всех сторон, с ними в середине, как одна масса, колыхалась из стороны в сторону и не давала им возможности ни добить, ни бросить его.
«Топором то бей, что ли?.. задавили… Изменщик, Христа продал!.. жив… живущ… по делам вору мука. Запором то!.. Али жив?»
Только когда уже перестала бороться жертва и вскрики ее заменились равномерным протяжным хрипеньем, толпа стала торопливо перемещаться около лежащего, окровавленного трупа. Каждый подходил, взглядывал на то, что было сделано, и с ужасом, упреком и удивлением теснился назад.
«О господи, народ то что зверь, где же живому быть!» – слышалось в толпе. – И малый то молодой… должно, из купцов, то то народ!.. сказывают, не тот… как же не тот… О господи… Другого избили, говорят, чуть жив… Эх, народ… Кто греха не боится… – говорили теперь те же люди, с болезненно жалостным выражением глядя на мертвое тело с посиневшим, измазанным кровью и пылью лицом и с разрубленной длинной тонкой шеей.
Полицейский старательный чиновник, найдя неприличным присутствие трупа на дворе его сиятельства, приказал драгунам вытащить тело на улицу. Два драгуна взялись за изуродованные ноги и поволокли тело. Окровавленная, измазанная в пыли, мертвая бритая голова на длинной шее, подворачиваясь, волочилась по земле. Народ жался прочь от трупа.
В то время как Верещагин упал и толпа с диким ревом стеснилась и заколыхалась над ним, Растопчин вдруг побледнел, и вместо того чтобы идти к заднему крыльцу, у которого ждали его лошади, он, сам не зная куда и зачем, опустив голову, быстрыми шагами пошел по коридору, ведущему в комнаты нижнего этажа. Лицо графа было бледно, и он не мог остановить трясущуюся, как в лихорадке, нижнюю челюсть.
– Ваше сиятельство, сюда… куда изволите?.. сюда пожалуйте, – проговорил сзади его дрожащий, испуганный голос. Граф Растопчин не в силах был ничего отвечать и, послушно повернувшись, пошел туда, куда ему указывали. У заднего крыльца стояла коляска. Далекий гул ревущей толпы слышался и здесь. Граф Растопчин торопливо сел в коляску и велел ехать в свой загородный дом в Сокольниках. Выехав на Мясницкую и не слыша больше криков толпы, граф стал раскаиваться. Он с неудовольствием вспомнил теперь волнение и испуг, которые он выказал перед своими подчиненными. «La populace est terrible, elle est hideuse, – думал он по французски. – Ils sont сошше les loups qu'on ne peut apaiser qu'avec de la chair. [Народная толпа страшна, она отвратительна. Они как волки: их ничем не удовлетворишь, кроме мяса.] „Граф! один бог над нами!“ – вдруг вспомнились ему слова Верещагина, и неприятное чувство холода пробежало по спине графа Растопчина. Но чувство это было мгновенно, и граф Растопчин презрительно улыбнулся сам над собою. „J'avais d'autres devoirs, – подумал он. – Il fallait apaiser le peuple. Bien d'autres victimes ont peri et perissent pour le bien publique“, [У меня были другие обязанности. Следовало удовлетворить народ. Много других жертв погибло и гибнет для общественного блага.] – и он стал думать о тех общих обязанностях, которые он имел в отношении своего семейства, своей (порученной ему) столице и о самом себе, – не как о Федоре Васильевиче Растопчине (он полагал, что Федор Васильевич Растопчин жертвует собою для bien publique [общественного блага]), но о себе как о главнокомандующем, о представителе власти и уполномоченном царя. „Ежели бы я был только Федор Васильевич, ma ligne de conduite aurait ete tout autrement tracee, [путь мой был бы совсем иначе начертан,] но я должен был сохранить и жизнь и достоинство главнокомандующего“.
Слегка покачиваясь на мягких рессорах экипажа и не слыша более страшных звуков толпы, Растопчин физически успокоился, и, как это всегда бывает, одновременно с физическим успокоением ум подделал для него и причины нравственного успокоения. Мысль, успокоившая Растопчина, была не новая. С тех пор как существует мир и люди убивают друг друга, никогда ни один человек не совершил преступления над себе подобным, не успокоивая себя этой самой мыслью. Мысль эта есть le bien publique [общественное благо], предполагаемое благо других людей.
Для человека, не одержимого страстью, благо это никогда не известно; но человек, совершающий преступление, всегда верно знает, в чем состоит это благо. И Растопчин теперь знал это.
Он не только в рассуждениях своих не упрекал себя в сделанном им поступке, но находил причины самодовольства в том, что он так удачно умел воспользоваться этим a propos [удобным случаем] – наказать преступника и вместе с тем успокоить толпу.
«Верещагин был судим и приговорен к смертной казни, – думал Растопчин (хотя Верещагин сенатом был только приговорен к каторжной работе). – Он был предатель и изменник; я не мог оставить его безнаказанным, и потом je faisais d'une pierre deux coups [одним камнем делал два удара]; я для успокоения отдавал жертву народу и казнил злодея».
Приехав в свой загородный дом и занявшись домашними распоряжениями, граф совершенно успокоился.
Через полчаса граф ехал на быстрых лошадях через Сокольничье поле, уже не вспоминая о том, что было, и думая и соображая только о том, что будет. Он ехал теперь к Яузскому мосту, где, ему сказали, был Кутузов. Граф Растопчин готовил в своем воображении те гневные в колкие упреки, которые он выскажет Кутузову за его обман. Он даст почувствовать этой старой придворной лисице, что ответственность за все несчастия, имеющие произойти от оставления столицы, от погибели России (как думал Растопчин), ляжет на одну его выжившую из ума старую голову. Обдумывая вперед то, что он скажет ему, Растопчин гневно поворачивался в коляске и сердито оглядывался по сторонам.
Сокольничье поле было пустынно. Только в конце его, у богадельни и желтого дома, виднелась кучки людей в белых одеждах и несколько одиноких, таких же людей, которые шли по полю, что то крича и размахивая руками.
Один вз них бежал наперерез коляске графа Растопчина. И сам граф Растопчин, и его кучер, и драгуны, все смотрели с смутным чувством ужаса и любопытства на этих выпущенных сумасшедших и в особенности на того, который подбегал к вим.
Шатаясь на своих длинных худых ногах, в развевающемся халате, сумасшедший этот стремительно бежал, не спуская глаз с Растопчина, крича ему что то хриплым голосом и делая знаки, чтобы он остановился. Обросшее неровными клочками бороды, сумрачное и торжественное лицо сумасшедшего было худо и желто. Черные агатовые зрачки его бегали низко и тревожно по шафранно желтым белкам.
– Стой! Остановись! Я говорю! – вскрикивал он пронзительно и опять что то, задыхаясь, кричал с внушительными интонациями в жестами.
Он поравнялся с коляской и бежал с ней рядом.
– Трижды убили меня, трижды воскресал из мертвых. Они побили каменьями, распяли меня… Я воскресну… воскресну… воскресну. Растерзали мое тело. Царствие божие разрушится… Трижды разрушу и трижды воздвигну его, – кричал он, все возвышая и возвышая голос. Граф Растопчин вдруг побледнел так, как он побледнел тогда, когда толпа бросилась на Верещагина. Он отвернулся.
– Пош… пошел скорее! – крикнул он на кучера дрожащим голосом.
Коляска помчалась во все ноги лошадей; но долго еще позади себя граф Растопчин слышал отдаляющийся безумный, отчаянный крик, а перед глазами видел одно удивленно испуганное, окровавленное лицо изменника в меховом тулупчике.
Как ни свежо было это воспоминание, Растопчин чувствовал теперь, что оно глубоко, до крови, врезалось в его сердце. Он ясно чувствовал теперь, что кровавый след этого воспоминания никогда не заживет, но что, напротив, чем дальше, тем злее, мучительнее будет жить до конца жизни это страшное воспоминание в его сердце. Он слышал, ему казалось теперь, звуки своих слов:
«Руби его, вы головой ответите мне!» – «Зачем я сказал эти слова! Как то нечаянно сказал… Я мог не сказать их (думал он): тогда ничего бы не было». Он видел испуганное и потом вдруг ожесточившееся лицо ударившего драгуна и взгляд молчаливого, робкого упрека, который бросил на него этот мальчик в лисьем тулупе… «Но я не для себя сделал это. Я должен был поступить так. La plebe, le traitre… le bien publique», [Чернь, злодей… общественное благо.] – думал он.
У Яузского моста все еще теснилось войско. Было жарко. Кутузов, нахмуренный, унылый, сидел на лавке около моста и плетью играл по песку, когда с шумом подскакала к нему коляска. Человек в генеральском мундире, в шляпе с плюмажем, с бегающими не то гневными, не то испуганными глазами подошел к Кутузову и стал по французски говорить ему что то. Это был граф Растопчин. Он говорил Кутузову, что явился сюда, потому что Москвы и столицы нет больше и есть одна армия.
– Было бы другое, ежели бы ваша светлость не сказали мне, что вы не сдадите Москвы, не давши еще сражения: всего этого не было бы! – сказал он.
Кутузов глядел на Растопчина и, как будто не понимая значения обращенных к нему слов, старательно усиливался прочесть что то особенное, написанное в эту минуту на лице говорившего с ним человека. Растопчин, смутившись, замолчал. Кутузов слегка покачал головой и, не спуская испытующего взгляда с лица Растопчина, тихо проговорил:
– Да, я не отдам Москвы, не дав сражения.
Думал ли Кутузов совершенно о другом, говоря эти слова, или нарочно, зная их бессмысленность, сказал их, но граф Растопчин ничего не ответил и поспешно отошел от Кутузова. И странное дело! Главнокомандующий Москвы, гордый граф Растопчин, взяв в руки нагайку, подошел к мосту и стал с криком разгонять столпившиеся повозки.
В четвертом часу пополудни войска Мюрата вступали в Москву. Впереди ехал отряд виртембергских гусар, позади верхом, с большой свитой, ехал сам неаполитанский король.
Около середины Арбата, близ Николы Явленного, Мюрат остановился, ожидая известия от передового отряда о том, в каком положении находилась городская крепость «le Kremlin».
Вокруг Мюрата собралась небольшая кучка людей из остававшихся в Москве жителей. Все с робким недоумением смотрели на странного, изукрашенного перьями и золотом длинноволосого начальника.
– Что ж, это сам, что ли, царь ихний? Ничево! – слышались тихие голоса.
Переводчик подъехал к кучке народа.
– Шапку то сними… шапку то, – заговорили в толпе, обращаясь друг к другу. Переводчик обратился к одному старому дворнику и спросил, далеко ли до Кремля? Дворник, прислушиваясь с недоумением к чуждому ему польскому акценту и не признавая звуков говора переводчика за русскую речь, не понимал, что ему говорили, и прятался за других.
Мюрат подвинулся к переводчику в велел спросить, где русские войска. Один из русских людей понял, чего у него спрашивали, и несколько голосов вдруг стали отвечать переводчику. Французский офицер из передового отряда подъехал к Мюрату и доложил, что ворота в крепость заделаны и что, вероятно, там засада.
– Хорошо, – сказал Мюрат и, обратившись к одному из господ своей свиты, приказал выдвинуть четыре легких орудия и обстрелять ворота.
Артиллерия на рысях выехала из за колонны, шедшей за Мюратом, и поехала по Арбату. Спустившись до конца Вздвиженки, артиллерия остановилась и выстроилась на площади. Несколько французских офицеров распоряжались пушками, расстанавливая их, и смотрели в Кремль в зрительную трубу.
В Кремле раздавался благовест к вечерне, и этот звон смущал французов. Они предполагали, что это был призыв к оружию. Несколько человек пехотных солдат побежали к Кутафьевским воротам. В воротах лежали бревна и тесовые щиты. Два ружейные выстрела раздались из под ворот, как только офицер с командой стал подбегать к ним. Генерал, стоявший у пушек, крикнул офицеру командные слова, и офицер с солдатами побежал назад.
Послышалось еще три выстрела из ворот.
Один выстрел задел в ногу французского солдата, и странный крик немногих голосов послышался из за щитов. На лицах французского генерала, офицеров и солдат одновременно, как по команде, прежнее выражение веселости и спокойствия заменилось упорным, сосредоточенным выражением готовности на борьбу и страдания. Для них всех, начиная от маршала и до последнего солдата, это место не было Вздвиженка, Моховая, Кутафья и Троицкие ворота, а это была новая местность нового поля, вероятно, кровопролитного сражения. И все приготовились к этому сражению. Крики из ворот затихли. Орудия были выдвинуты. Артиллеристы сдули нагоревшие пальники. Офицер скомандовал «feu!» [пали!], и два свистящие звука жестянок раздались один за другим. Картечные пули затрещали по камню ворот, бревнам и щитам; и два облака дыма заколебались на площади.
Несколько мгновений после того, как затихли перекаты выстрелов по каменному Кремлю, странный звук послышался над головами французов. Огромная стая галок поднялась над стенами и, каркая и шумя тысячами крыл, закружилась в воздухе. Вместе с этим звуком раздался человеческий одинокий крик в воротах, и из за дыма появилась фигура человека без шапки, в кафтане. Держа ружье, он целился во французов. Feu! – повторил артиллерийский офицер, и в одно и то же время раздались один ружейный и два орудийных выстрела. Дым опять закрыл ворота.
За щитами больше ничего не шевелилось, и пехотные французские солдаты с офицерами пошли к воротам. В воротах лежало три раненых и четыре убитых человека. Два человека в кафтанах убегали низом, вдоль стен, к Знаменке.
– Enlevez moi ca, [Уберите это,] – сказал офицер, указывая на бревна и трупы; и французы, добив раненых, перебросили трупы вниз за ограду. Кто были эти люди, никто не знал. «Enlevez moi ca», – сказано только про них, и их выбросили и прибрали потом, чтобы они не воняли. Один Тьер посвятил их памяти несколько красноречивых строк: «Ces miserables avaient envahi la citadelle sacree, s'etaient empares des fusils de l'arsenal, et tiraient (ces miserables) sur les Francais. On en sabra quelques'uns et on purgea le Kremlin de leur presence. [Эти несчастные наполнили священную крепость, овладели ружьями арсенала и стреляли во французов. Некоторых из них порубили саблями, и очистили Кремль от их присутствия.]
Мюрату было доложено, что путь расчищен. Французы вошли в ворота и стали размещаться лагерем на Сенатской площади. Солдаты выкидывали стулья из окон сената на площадь и раскладывали огни.
Другие отряды проходили через Кремль и размещались по Маросейке, Лубянке, Покровке. Третьи размещались по Вздвиженке, Знаменке, Никольской, Тверской. Везде, не находя хозяев, французы размещались не как в городе на квартирах, а как в лагере, который расположен в городе.
Хотя и оборванные, голодные, измученные и уменьшенные до 1/3 части своей прежней численности, французские солдаты вступили в Москву еще в стройном порядке. Это было измученное, истощенное, но еще боевое и грозное войско. Но это было войско только до той минуты, пока солдаты этого войска не разошлись по квартирам. Как только люди полков стали расходиться по пустым и богатым домам, так навсегда уничтожалось войско и образовались не жители и не солдаты, а что то среднее, называемое мародерами. Когда, через пять недель, те же самые люди вышли из Москвы, они уже не составляли более войска. Это была толпа мародеров, из которых каждый вез или нес с собой кучу вещей, которые ему казались ценны и нужны. Цель каждого из этих людей при выходе из Москвы не состояла, как прежде, в том, чтобы завоевать, а только в том, чтобы удержать приобретенное. Подобно той обезьяне, которая, запустив руку в узкое горло кувшина и захватив горсть орехов, не разжимает кулака, чтобы не потерять схваченного, и этим губит себя, французы, при выходе из Москвы, очевидно, должны были погибнуть вследствие того, что они тащили с собой награбленное, но бросить это награбленное им было так же невозможно, как невозможно обезьяне разжать горсть с орехами. Через десять минут после вступления каждого французского полка в какой нибудь квартал Москвы, не оставалось ни одного солдата и офицера. В окнах домов видны были люди в шинелях и штиблетах, смеясь прохаживающиеся по комнатам; в погребах, в подвалах такие же люди хозяйничали с провизией; на дворах такие же люди отпирали или отбивали ворота сараев и конюшен; в кухнях раскладывали огни, с засученными руками пекли, месили и варили, пугали, смешили и ласкали женщин и детей. И этих людей везде, и по лавкам и по домам, было много; но войска уже не было.
В тот же день приказ за приказом отдавались французскими начальниками о том, чтобы запретить войскам расходиться по городу, строго запретить насилия жителей и мародерство, о том, чтобы нынче же вечером сделать общую перекличку; но, несмотря ни на какие меры. люди, прежде составлявшие войско, расплывались по богатому, обильному удобствами и запасами, пустому городу. Как голодное стадо идет в куче по голому полю, но тотчас же неудержимо разбредается, как только нападает на богатые пастбища, так же неудержимо разбредалось и войско по богатому городу.
Жителей в Москве не было, и солдаты, как вода в песок, всачивались в нее и неудержимой звездой расплывались во все стороны от Кремля, в который они вошли прежде всего. Солдаты кавалеристы, входя в оставленный со всем добром купеческий дом и находя стойла не только для своих лошадей, но и лишние, все таки шли рядом занимать другой дом, который им казался лучше. Многие занимали несколько домов, надписывая мелом, кем он занят, и спорили и даже дрались с другими командами. Не успев поместиться еще, солдаты бежали на улицу осматривать город и, по слуху о том, что все брошено, стремились туда, где можно было забрать даром ценные вещи. Начальники ходили останавливать солдат и сами вовлекались невольно в те же действия. В Каретном ряду оставались лавки с экипажами, и генералы толпились там, выбирая себе коляски и кареты. Остававшиеся жители приглашали к себе начальников, надеясь тем обеспечиться от грабежа. Богатств было пропасть, и конца им не видно было; везде, кругом того места, которое заняли французы, были еще неизведанные, незанятые места, в которых, как казалось французам, было еще больше богатств. И Москва все дальше и дальше всасывала их в себя. Точно, как вследствие того, что нальется вода на сухую землю, исчезает вода и сухая земля; точно так же вследствие того, что голодное войско вошло в обильный, пустой город, уничтожилось войско, и уничтожился обильный город; и сделалась грязь, сделались пожары и мародерство.
Французы приписывали пожар Москвы au patriotisme feroce de Rastopchine [дикому патриотизму Растопчина]; русские – изуверству французов. В сущности же, причин пожара Москвы в том смысле, чтобы отнести пожар этот на ответственность одного или несколько лиц, таких причин не было и не могло быть. Москва сгорела вследствие того, что она была поставлена в такие условия, при которых всякий деревянный город должен сгореть, независимо от того, имеются ли или не имеются в городе сто тридцать плохих пожарных труб. Москва должна была сгореть вследствие того, что из нее выехали жители, и так же неизбежно, как должна загореться куча стружек, на которую в продолжение нескольких дней будут сыпаться искры огня. Деревянный город, в котором при жителях владельцах домов и при полиции бывают летом почти каждый день пожары, не может не сгореть, когда в нем нет жителей, а живут войска, курящие трубки, раскладывающие костры на Сенатской площади из сенатских стульев и варящие себе есть два раза в день. Стоит в мирное время войскам расположиться на квартирах по деревням в известной местности, и количество пожаров в этой местности тотчас увеличивается. В какой же степени должна увеличиться вероятность пожаров в пустом деревянном городе, в котором расположится чужое войско? Le patriotisme feroce de Rastopchine и изуверство французов тут ни в чем не виноваты. Москва загорелась от трубок, от кухонь, от костров, от неряшливости неприятельских солдат, жителей – не хозяев домов. Ежели и были поджоги (что весьма сомнительно, потому что поджигать никому не было никакой причины, а, во всяком случае, хлопотливо и опасно), то поджоги нельзя принять за причину, так как без поджогов было бы то же самое.
Как ни лестно было французам обвинять зверство Растопчина и русским обвинять злодея Бонапарта или потом влагать героический факел в руки своего народа, нельзя не видеть, что такой непосредственной причины пожара не могло быть, потому что Москва должна была сгореть, как должна сгореть каждая деревня, фабрика, всякий дом, из которого выйдут хозяева и в который пустят хозяйничать и варить себе кашу чужих людей. Москва сожжена жителями, это правда; но не теми жителями, которые оставались в ней, а теми, которые выехали из нее. Москва, занятая неприятелем, не осталась цела, как Берлин, Вена и другие города, только вследствие того, что жители ее не подносили хлеба соли и ключей французам, а выехали из нее.
Расходившееся звездой по Москве всачивание французов в день 2 го сентября достигло квартала, в котором жил теперь Пьер, только к вечеру.
Пьер находился после двух последних, уединенно и необычайно проведенных дней в состоянии, близком к сумасшествию. Всем существом его овладела одна неотвязная мысль. Он сам не знал, как и когда, но мысль эта овладела им теперь так, что он ничего не помнил из прошедшего, ничего не понимал из настоящего; и все, что он видел и слышал, происходило перед ним как во сне.
Пьер ушел из своего дома только для того, чтобы избавиться от сложной путаницы требований жизни, охватившей его, и которую он, в тогдашнем состоянии, но в силах был распутать. Он поехал на квартиру Иосифа Алексеевича под предлогом разбора книг и бумаг покойного только потому, что он искал успокоения от жизненной тревоги, – а с воспоминанием об Иосифе Алексеевиче связывался в его душе мир вечных, спокойных и торжественных мыслей, совершенно противоположных тревожной путанице, в которую он чувствовал себя втягиваемым. Он искал тихого убежища и действительно нашел его в кабинете Иосифа Алексеевича. Когда он, в мертвой тишине кабинета, сел, облокотившись на руки, над запыленным письменным столом покойника, в его воображении спокойно и значительно, одно за другим, стали представляться воспоминания последних дней, в особенности Бородинского сражения и того неопределимого для него ощущения своей ничтожности и лживости в сравнении с правдой, простотой и силой того разряда людей, которые отпечатались у него в душе под названием они. Когда Герасим разбудил его от его задумчивости, Пьеру пришла мысль о том, что он примет участие в предполагаемой – как он знал – народной защите Москвы. И с этой целью он тотчас же попросил Герасима достать ему кафтан и пистолет и объявил ему свое намерение, скрывая свое имя, остаться в доме Иосифа Алексеевича. Потом, в продолжение первого уединенно и праздно проведенного дня (Пьер несколько раз пытался и не мог остановить своего внимания на масонских рукописях), ему несколько раз смутно представлялось и прежде приходившая мысль о кабалистическом значении своего имени в связи с именем Бонапарта; но мысль эта о том, что ему, l'Russe Besuhof, предназначено положить предел власти зверя, приходила ему еще только как одно из мечтаний, которые беспричинно и бесследно пробегают в воображении.
Когда, купив кафтан (с целью только участвовать в народной защите Москвы), Пьер встретил Ростовых и Наташа сказала ему: «Вы остаетесь? Ах, как это хорошо!» – в голове его мелькнула мысль, что действительно хорошо бы было, даже ежели бы и взяли Москву, ему остаться в ней и исполнить то, что ему предопределено.
На другой день он, с одною мыслию не жалеть себя и не отставать ни в чем от них, ходил с народом за Трехгорную заставу. Но когда он вернулся домой, убедившись, что Москву защищать не будут, он вдруг почувствовал, что то, что ему прежде представлялось только возможностью, теперь сделалось необходимостью и неизбежностью. Он должен был, скрывая свое имя, остаться в Москве, встретить Наполеона и убить его с тем, чтобы или погибнуть, или прекратить несчастье всей Европы, происходившее, по мнению Пьера, от одного Наполеона.
Пьер знал все подробности покушении немецкого студента на жизнь Бонапарта в Вене в 1809 м году и знал то, что студент этот был расстрелян. И та опасность, которой он подвергал свою жизнь при исполнении своего намерения, еще сильнее возбуждала его.
Два одинаково сильные чувства неотразимо привлекали Пьера к его намерению. Первое было чувство потребности жертвы и страдания при сознании общего несчастия, то чувство, вследствие которого он 25 го поехал в Можайск и заехал в самый пыл сражения, теперь убежал из своего дома и, вместо привычной роскоши и удобств жизни, спал, не раздеваясь, на жестком диване и ел одну пищу с Герасимом; другое – было то неопределенное, исключительно русское чувство презрения ко всему условному, искусственному, человеческому, ко всему тому, что считается большинством людей высшим благом мира. В первый раз Пьер испытал это странное и обаятельное чувство в Слободском дворце, когда он вдруг почувствовал, что и богатство, и власть, и жизнь, все, что с таким старанием устроивают и берегут люди, – все это ежели и стоит чего нибудь, то только по тому наслаждению, с которым все это можно бросить.
Это было то чувство, вследствие которого охотник рекрут пропивает последнюю копейку, запивший человек перебивает зеркала и стекла без всякой видимой причины и зная, что это будет стоить ему его последних денег; то чувство, вследствие которого человек, совершая (в пошлом смысле) безумные дела, как бы пробует свою личную власть и силу, заявляя присутствие высшего, стоящего вне человеческих условий, суда над жизнью.
С самого того дня, как Пьер в первый раз испытал это чувство в Слободском дворце, он непрестанно находился под его влиянием, но теперь только нашел ему полное удовлетворение. Кроме того, в настоящую минуту Пьера поддерживало в его намерении и лишало возможности отречься от него то, что уже было им сделано на этом пути. И его бегство из дома, и его кафтан, и пистолет, и его заявление Ростовым, что он остается в Москве, – все потеряло бы не только смысл, но все это было бы презренно и смешно (к чему Пьер был чувствителен), ежели бы он после всего этого, так же как и другие, уехал из Москвы.
Физическое состояние Пьера, как и всегда это бывает, совпадало с нравственным. Непривычная грубая пища, водка, которую он пил эти дни, отсутствие вина и сигар, грязное, неперемененное белье, наполовину бессонные две ночи, проведенные на коротком диване без постели, – все это поддерживало Пьера в состоянии раздражения, близком к помешательству.
Был уже второй час после полудня. Французы уже вступили в Москву. Пьер знал это, но, вместо того чтобы действовать, он думал только о своем предприятии, перебирая все его малейшие будущие подробности. Пьер в своих мечтаниях не представлял себе живо ни самого процесса нанесения удара, ни смерти Наполеона, но с необыкновенною яркостью и с грустным наслаждением представлял себе свою погибель и свое геройское мужество.
«Да, один за всех, я должен совершить или погибнуть! – думал он. – Да, я подойду… и потом вдруг… Пистолетом или кинжалом? – думал Пьер. – Впрочем, все равно. Не я, а рука провидения казнит тебя, скажу я (думал Пьер слова, которые он произнесет, убивая Наполеона). Ну что ж, берите, казните меня», – говорил дальше сам себе Пьер, с грустным, но твердым выражением на лице, опуская голову.
В то время как Пьер, стоя посередине комнаты, рассуждал с собой таким образом, дверь кабинета отворилась, и на пороге показалась совершенно изменившаяся фигура всегда прежде робкого Макара Алексеевича. Халат его был распахнут. Лицо было красно и безобразно. Он, очевидно, был пьян. Увидав Пьера, он смутился в первую минуту, но, заметив смущение и на лице Пьера, тотчас ободрился и шатающимися тонкими ногами вышел на середину комнаты.
– Они оробели, – сказал он хриплым, доверчивым голосом. – Я говорю: не сдамся, я говорю… так ли, господин? – Он задумался и вдруг, увидав пистолет на столе, неожиданно быстро схватил его и выбежал в коридор.
Герасим и дворник, шедшие следом за Макар Алексеичем, остановили его в сенях и стали отнимать пистолет. Пьер, выйдя в коридор, с жалостью и отвращением смотрел на этого полусумасшедшего старика. Макар Алексеич, морщась от усилий, удерживал пистолет и кричал хриплый голосом, видимо, себе воображая что то торжественное.
– К оружию! На абордаж! Врешь, не отнимешь! – кричал он.
– Будет, пожалуйста, будет. Сделайте милость, пожалуйста, оставьте. Ну, пожалуйста, барин… – говорил Герасим, осторожно за локти стараясь поворотить Макар Алексеича к двери.
– Ты кто? Бонапарт!.. – кричал Макар Алексеич.
– Это нехорошо, сударь. Вы пожалуйте в комнаты, вы отдохните. Пожалуйте пистолетик.
– Прочь, раб презренный! Не прикасайся! Видел? – кричал Макар Алексеич, потрясая пистолетом. – На абордаж!
– Берись, – шепнул Герасим дворнику.
Макара Алексеича схватили за руки и потащили к двери.
Сени наполнились безобразными звуками возни и пьяными хрипящими звуками запыхавшегося голоса.
Вдруг новый, пронзительный женский крик раздался от крыльца, и кухарка вбежала в сени.
– Они! Батюшки родимые!.. Ей богу, они. Четверо, конные!.. – кричала она.
Герасим и дворник выпустили из рук Макар Алексеича, и в затихшем коридоре ясно послышался стук нескольких рук во входную дверь.
Пьер, решивший сам с собою, что ему до исполнения своего намерения не надо было открывать ни своего звания, ни знания французского языка, стоял в полураскрытых дверях коридора, намереваясь тотчас же скрыться, как скоро войдут французы. Но французы вошли, и Пьер все не отходил от двери: непреодолимое любопытство удерживало его.
Их было двое. Один – офицер, высокий, бравый и красивый мужчина, другой – очевидно, солдат или денщик, приземистый, худой загорелый человек с ввалившимися щеками и тупым выражением лица. Офицер, опираясь на палку и прихрамывая, шел впереди. Сделав несколько шагов, офицер, как бы решив сам с собою, что квартира эта хороша, остановился, обернулся назад к стоявшим в дверях солдатам и громким начальническим голосом крикнул им, чтобы они вводили лошадей. Окончив это дело, офицер молодецким жестом, высоко подняв локоть руки, расправил усы и дотронулся рукой до шляпы.
– Bonjour la compagnie! [Почтение всей компании!] – весело проговорил он, улыбаясь и оглядываясь вокруг себя. Никто ничего не отвечал.
– Vous etes le bourgeois? [Вы хозяин?] – обратился офицер к Герасиму.
Герасим испуганно вопросительно смотрел на офицера.
– Quartire, quartire, logement, – сказал офицер, сверху вниз, с снисходительной и добродушной улыбкой глядя на маленького человека. – Les Francais sont de bons enfants. Que diable! Voyons! Ne nous fachons pas, mon vieux, [Квартир, квартир… Французы добрые ребята. Черт возьми, не будем ссориться, дедушка.] – прибавил он, трепля по плечу испуганного и молчаливого Герасима.
– A ca! Dites donc, on ne parle donc pas francais dans cette boutique? [Что ж, неужели и тут никто не говорит по французски?] – прибавил он, оглядываясь кругом и встречаясь глазами с Пьером. Пьер отстранился от двери.
Офицер опять обратился к Герасиму. Он требовал, чтобы Герасим показал ему комнаты в доме.
– Барин нету – не понимай… моя ваш… – говорил Герасим, стараясь делать свои слова понятнее тем, что он их говорил навыворот.
Французский офицер, улыбаясь, развел руками перед носом Герасима, давая чувствовать, что и он не понимает его, и, прихрамывая, пошел к двери, у которой стоял Пьер. Пьер хотел отойти, чтобы скрыться от него, но в это самое время он увидал из отворившейся двери кухни высунувшегося Макара Алексеича с пистолетом в руках. С хитростью безумного Макар Алексеич оглядел француза и, приподняв пистолет, прицелился.
– На абордаж!!! – закричал пьяный, нажимая спуск пистолета. Французский офицер обернулся на крик, и в то же мгновенье Пьер бросился на пьяного. В то время как Пьер схватил и приподнял пистолет, Макар Алексеич попал, наконец, пальцем на спуск, и раздался оглушивший и обдавший всех пороховым дымом выстрел. Француз побледнел и бросился назад к двери.
Забывший свое намерение не открывать своего знания французского языка, Пьер, вырвав пистолет и бросив его, подбежал к офицеру и по французски заговорил с ним.
– Vous n'etes pas blesse? [Вы не ранены?] – сказал он.
– Je crois que non, – отвечал офицер, ощупывая себя, – mais je l'ai manque belle cette fois ci, – прибавил он, указывая на отбившуюся штукатурку в стене. – Quel est cet homme? [Кажется, нет… но на этот раз близко было. Кто этот человек?] – строго взглянув на Пьера, сказал офицер.
– Ah, je suis vraiment au desespoir de ce qui vient d'arriver, [Ах, я, право, в отчаянии от того, что случилось,] – быстро говорил Пьер, совершенно забыв свою роль. – C'est un fou, un malheureux qui ne savait pas ce qu'il faisait. [Это несчастный сумасшедший, который не знал, что делал.]
Офицер подошел к Макару Алексеичу и схватил его за ворот.
Макар Алексеич, распустив губы, как бы засыпая, качался, прислонившись к стене.
– Brigand, tu me la payeras, – сказал француз, отнимая руку.
– Nous autres nous sommes clements apres la victoire: mais nous ne pardonnons pas aux traitres, [Разбойник, ты мне поплатишься за это. Наш брат милосерд после победы, но мы не прощаем изменникам,] – прибавил он с мрачной торжественностью в лице и с красивым энергическим жестом.
Пьер продолжал по французски уговаривать офицера не взыскивать с этого пьяного, безумного человека. Француз молча слушал, не изменяя мрачного вида, и вдруг с улыбкой обратился к Пьеру. Он несколько секунд молча посмотрел на него. Красивое лицо его приняло трагически нежное выражение, и он протянул руку.
– Vous m'avez sauve la vie! Vous etes Francais, [Вы спасли мне жизнь. Вы француз,] – сказал он. Для француза вывод этот был несомненен. Совершить великое дело мог только француз, а спасение жизни его, m r Ramball'я capitaine du 13 me leger [мосье Рамбаля, капитана 13 го легкого полка] – было, без сомнения, самым великим делом.
Но как ни несомненен был этот вывод и основанное на нем убеждение офицера, Пьер счел нужным разочаровать его.
– Je suis Russe, [Я русский,] – быстро сказал Пьер.
– Ти ти ти, a d'autres, [рассказывайте это другим,] – сказал француз, махая пальцем себе перед носом и улыбаясь. – Tout a l'heure vous allez me conter tout ca, – сказал он. – Charme de rencontrer un compatriote. Eh bien! qu'allons nous faire de cet homme? [Сейчас вы мне все это расскажете. Очень приятно встретить соотечественника. Ну! что же нам делать с этим человеком?] – прибавил он, обращаясь к Пьеру, уже как к своему брату. Ежели бы даже Пьер не был француз, получив раз это высшее в свете наименование, не мог же он отречься от него, говорило выражение лица и тон французского офицера. На последний вопрос Пьер еще раз объяснил, кто был Макар Алексеич, объяснил, что пред самым их приходом этот пьяный, безумный человек утащил заряженный пистолет, который не успели отнять у него, и просил оставить его поступок без наказания.
Француз выставил грудь и сделал царский жест рукой.
– Vous m'avez sauve la vie. Vous etes Francais. Vous me demandez sa grace? Je vous l'accorde. Qu'on emmene cet homme, [Вы спасли мне жизнь. Вы француз. Вы хотите, чтоб я простил его? Я прощаю его. Увести этого человека,] – быстро и энергично проговорил французский офицер, взяв под руку произведенного им за спасение его жизни во французы Пьера, и пошел с ним в дом.
Солдаты, бывшие на дворе, услыхав выстрел, вошли в сени, спрашивая, что случилось, и изъявляя готовность наказать виновных; но офицер строго остановил их.
– On vous demandera quand on aura besoin de vous, [Когда будет нужно, вас позовут,] – сказал он. Солдаты вышли. Денщик, успевший между тем побывать в кухне, подошел к офицеру.
– Capitaine, ils ont de la soupe et du gigot de mouton dans la cuisine, – сказал он. – Faut il vous l'apporter? [Капитан у них в кухне есть суп и жареная баранина. Прикажете принести?]
– Oui, et le vin, [Да, и вино,] – сказал капитан.
Французский офицер вместе с Пьером вошли в дом. Пьер счел своим долгом опять уверить капитана, что он был не француз, и хотел уйти, но французский офицер и слышать не хотел об этом. Он был до такой степени учтив, любезен, добродушен и истинно благодарен за спасение своей жизни, что Пьер не имел духа отказать ему и присел вместе с ним в зале, в первой комнате, в которую они вошли. На утверждение Пьера, что он не француз, капитан, очевидно не понимая, как можно было отказываться от такого лестного звания, пожал плечами и сказал, что ежели он непременно хочет слыть за русского, то пускай это так будет, но что он, несмотря на то, все так же навеки связан с ним чувством благодарности за спасение жизни.
Ежели бы этот человек был одарен хоть сколько нибудь способностью понимать чувства других и догадывался бы об ощущениях Пьера, Пьер, вероятно, ушел бы от него; но оживленная непроницаемость этого человека ко всему тому, что не было он сам, победила Пьера.
– Francais ou prince russe incognito, [Француз или русский князь инкогнито,] – сказал француз, оглядев хотя и грязное, но тонкое белье Пьера и перстень на руке. – Je vous dois la vie je vous offre mon amitie. Un Francais n'oublie jamais ni une insulte ni un service. Je vous offre mon amitie. Je ne vous dis que ca. [Я обязан вам жизнью, и я предлагаю вам дружбу. Француз никогда не забывает ни оскорбления, ни услуги. Я предлагаю вам мою дружбу. Больше я ничего не говорю.]
В звуках голоса, в выражении лица, в жестах этого офицера было столько добродушия и благородства (во французском смысле), что Пьер, отвечая бессознательной улыбкой на улыбку француза, пожал протянутую руку.
– Capitaine Ramball du treizieme leger, decore pour l'affaire du Sept, [Капитан Рамбаль, тринадцатого легкого полка, кавалер Почетного легиона за дело седьмого сентября,] – отрекомендовался он с самодовольной, неудержимой улыбкой, которая морщила его губы под усами. – Voudrez vous bien me dire a present, a qui' j'ai l'honneur de parler aussi agreablement au lieu de rester a l'ambulance avec la balle de ce fou dans le corps. [Будете ли вы так добры сказать мне теперь, с кем я имею честь разговаривать так приятно, вместо того, чтобы быть на перевязочном пункте с пулей этого сумасшедшего в теле?]
Пьер отвечал, что не может сказать своего имени, и, покраснев, начал было, пытаясь выдумать имя, говорить о причинах, по которым он не может сказать этого, но француз поспешно перебил его.
– De grace, – сказал он. – Je comprends vos raisons, vous etes officier… officier superieur, peut etre. Vous avez porte les armes contre nous. Ce n'est pas mon affaire. Je vous dois la vie. Cela me suffit. Je suis tout a vous. Vous etes gentilhomme? [Полноте, пожалуйста. Я понимаю вас, вы офицер… штаб офицер, может быть. Вы служили против нас. Это не мое дело. Я обязан вам жизнью. Мне этого довольно, и я весь ваш. Вы дворянин?] – прибавил он с оттенком вопроса. Пьер наклонил голову. – Votre nom de bapteme, s'il vous plait? Je ne demande pas davantage. Monsieur Pierre, dites vous… Parfait. C'est tout ce que je desire savoir. [Ваше имя? я больше ничего не спрашиваю. Господин Пьер, вы сказали? Прекрасно. Это все, что мне нужно.]
Когда принесены были жареная баранина, яичница, самовар, водка и вино из русского погреба, которое с собой привезли французы, Рамбаль попросил Пьера принять участие в этом обеде и тотчас сам, жадно и быстро, как здоровый и голодный человек, принялся есть, быстро пережевывая своими сильными зубами, беспрестанно причмокивая и приговаривая excellent, exquis! [чудесно, превосходно!] Лицо его раскраснелось и покрылось потом. Пьер был голоден и с удовольствием принял участие в обеде. Морель, денщик, принес кастрюлю с теплой водой и поставил в нее бутылку красного вина. Кроме того, он принес бутылку с квасом, которую он для пробы взял в кухне. Напиток этот был уже известен французам и получил название. Они называли квас limonade de cochon (свиной лимонад), и Морель хвалил этот limonade de cochon, который он нашел в кухне. Но так как у капитана было вино, добытое при переходе через Москву, то он предоставил квас Морелю и взялся за бутылку бордо. Он завернул бутылку по горлышко в салфетку и налил себе и Пьеру вина. Утоленный голод и вино еще более оживили капитана, и он не переставая разговаривал во время обеда.
– Oui, mon cher monsieur Pierre, je vous dois une fiere chandelle de m'avoir sauve… de cet enrage… J'en ai assez, voyez vous, de balles dans le corps. En voila une (on показал на бок) a Wagram et de deux a Smolensk, – он показал шрам, который был на щеке. – Et cette jambe, comme vous voyez, qui ne veut pas marcher. C'est a la grande bataille du 7 a la Moskowa que j'ai recu ca. Sacre dieu, c'etait beau. Il fallait voir ca, c'etait un deluge de feu. Vous nous avez taille une rude besogne; vous pouvez vous en vanter, nom d'un petit bonhomme. Et, ma parole, malgre l'atoux que j'y ai gagne, je serais pret a recommencer. Je plains ceux qui n'ont pas vu ca. [Да, мой любезный господин Пьер, я обязан поставить за вас добрую свечку за то, что вы спасли меня от этого бешеного. С меня, видите ли, довольно тех пуль, которые у меня в теле. Вот одна под Ваграмом, другая под Смоленском. А эта нога, вы видите, которая не хочет двигаться. Это при большом сражении 7 го под Москвою. О! это было чудесно! Надо было видеть, это был потоп огня. Задали вы нам трудную работу, можете похвалиться. И ей богу, несмотря на этот козырь (он указал на крест), я был бы готов начать все снова. Жалею тех, которые не видали этого.]
– J'y ai ete, [Я был там,] – сказал Пьер.
– Bah, vraiment! Eh bien, tant mieux, – сказал француз. – Vous etes de fiers ennemis, tout de meme. La grande redoute a ete tenace, nom d'une pipe. Et vous nous l'avez fait cranement payer. J'y suis alle trois fois, tel que vous me voyez. Trois fois nous etions sur les canons et trois fois on nous a culbute et comme des capucins de cartes. Oh!! c'etait beau, monsieur Pierre. Vos grenadiers ont ete superbes, tonnerre de Dieu. Je les ai vu six fois de suite serrer les rangs, et marcher comme a une revue. Les beaux hommes! Notre roi de Naples, qui s'y connait a crie: bravo! Ah, ah! soldat comme nous autres! – сказал он, улыбаясь, поело минутного молчания. – Tant mieux, tant mieux, monsieur Pierre. Terribles en bataille… galants… – он подмигнул с улыбкой, – avec les belles, voila les Francais, monsieur Pierre, n'est ce pas? [Ба, в самом деле? Тем лучше. Вы лихие враги, надо признаться. Хорошо держался большой редут, черт возьми. И дорого же вы заставили нас поплатиться. Я там три раза был, как вы меня видите. Три раза мы были на пушках, три раза нас опрокидывали, как карточных солдатиков. Ваши гренадеры были великолепны, ей богу. Я видел, как их ряды шесть раз смыкались и как они выступали точно на парад. Чудный народ! Наш Неаполитанский король, который в этих делах собаку съел, кричал им: браво! – Га, га, так вы наш брат солдат! – Тем лучше, тем лучше, господин Пьер. Страшны в сражениях, любезны с красавицами, вот французы, господин Пьер. Не правда ли?]
До такой степени капитан был наивно и добродушно весел, и целен, и доволен собой, что Пьер чуть чуть сам не подмигнул, весело глядя на него. Вероятно, слово «galant» навело капитана на мысль о положении Москвы.
– A propos, dites, donc, est ce vrai que toutes les femmes ont quitte Moscou? Une drole d'idee! Qu'avaient elles a craindre? [Кстати, скажите, пожалуйста, правда ли, что все женщины уехали из Москвы? Странная мысль, чего они боялись?]
– Est ce que les dames francaises ne quitteraient pas Paris si les Russes y entraient? [Разве французские дамы не уехали бы из Парижа, если бы русские вошли в него?] – сказал Пьер.
– Ah, ah, ah!.. – Француз весело, сангвинически расхохотался, трепля по плечу Пьера. – Ah! elle est forte celle la, – проговорил он. – Paris? Mais Paris Paris… [Ха, ха, ха!.. А вот сказал штуку. Париж?.. Но Париж… Париж…]
– Paris la capitale du monde… [Париж – столица мира…] – сказал Пьер, доканчивая его речь.
Капитан посмотрел на Пьера. Он имел привычку в середине разговора остановиться и поглядеть пристально смеющимися, ласковыми глазами.
– Eh bien, si vous ne m'aviez pas dit que vous etes Russe, j'aurai parie que vous etes Parisien. Vous avez ce je ne sais, quoi, ce… [Ну, если б вы мне не сказали, что вы русский, я бы побился об заклад, что вы парижанин. В вас что то есть, эта…] – и, сказав этот комплимент, он опять молча посмотрел.
– J'ai ete a Paris, j'y ai passe des annees, [Я был в Париже, я провел там целые годы,] – сказал Пьер.
– Oh ca se voit bien. Paris!.. Un homme qui ne connait pas Paris, est un sauvage. Un Parisien, ca se sent a deux lieux. Paris, s'est Talma, la Duschenois, Potier, la Sorbonne, les boulevards, – и заметив, что заключение слабее предыдущего, он поспешно прибавил: – Il n'y a qu'un Paris au monde. Vous avez ete a Paris et vous etes reste Busse. Eh bien, je ne vous en estime pas moins. [О, это видно. Париж!.. Человек, который не знает Парижа, – дикарь. Парижанина узнаешь за две мили. Париж – это Тальма, Дюшенуа, Потье, Сорбонна, бульвары… Во всем мире один Париж. Вы были в Париже и остались русским. Ну что же, я вас за то не менее уважаю.]
Под влиянием выпитого вина и после дней, проведенных в уединении с своими мрачными мыслями, Пьер испытывал невольное удовольствие в разговоре с этим веселым и добродушным человеком.
– Pour en revenir a vos dames, on les dit bien belles. Quelle fichue idee d'aller s'enterrer dans les steppes, quand l'armee francaise est a Moscou. Quelle chance elles ont manque celles la. Vos moujiks c'est autre chose, mais voua autres gens civilises vous devriez nous connaitre mieux que ca. Nous avons pris Vienne, Berlin, Madrid, Naples, Rome, Varsovie, toutes les capitales du monde… On nous craint, mais on nous aime. Nous sommes bons a connaitre. Et puis l'Empereur! [Но воротимся к вашим дамам: говорят, что они очень красивы. Что за дурацкая мысль поехать зарыться в степи, когда французская армия в Москве! Они пропустили чудесный случай. Ваши мужики, я понимаю, но вы – люди образованные – должны бы были знать нас лучше этого. Мы брали Вену, Берлин, Мадрид, Неаполь, Рим, Варшаву, все столицы мира. Нас боятся, но нас любят. Не вредно знать нас поближе. И потом император…] – начал он, но Пьер перебил его.
– L'Empereur, – повторил Пьер, и лицо его вдруг привяло грустное и сконфуженное выражение. – Est ce que l'Empereur?.. [Император… Что император?..]
– L'Empereur? C'est la generosite, la clemence, la justice, l'ordre, le genie, voila l'Empereur! C'est moi, Ram ball, qui vous le dit. Tel que vous me voyez, j'etais son ennemi il y a encore huit ans. Mon pere a ete comte emigre… Mais il m'a vaincu, cet homme. Il m'a empoigne. Je n'ai pas pu resister au spectacle de grandeur et de gloire dont il couvrait la France. Quand j'ai compris ce qu'il voulait, quand j'ai vu qu'il nous faisait une litiere de lauriers, voyez vous, je me suis dit: voila un souverain, et je me suis donne a lui. Eh voila! Oh, oui, mon cher, c'est le plus grand homme des siecles passes et a venir. [Император? Это великодушие, милосердие, справедливость, порядок, гений – вот что такое император! Это я, Рамбаль, говорю вам. Таким, каким вы меня видите, я был его врагом тому назад восемь лет. Мой отец был граф и эмигрант. Но он победил меня, этот человек. Он завладел мною. Я не мог устоять перед зрелищем величия и славы, которым он покрывал Францию. Когда я понял, чего он хотел, когда я увидал, что он готовит для нас ложе лавров, я сказал себе: вот государь, и я отдался ему. И вот! О да, мой милый, это самый великий человек прошедших и будущих веков.]
– Est il a Moscou? [Что, он в Москве?] – замявшись и с преступным лицом сказал Пьер.
Француз посмотрел на преступное лицо Пьера и усмехнулся.
– Non, il fera son entree demain, [Нет, он сделает свой въезд завтра,] – сказал он и продолжал свои рассказы.
Разговор их был прерван криком нескольких голосов у ворот и приходом Мореля, который пришел объявить капитану, что приехали виртембергские гусары и хотят ставить лошадей на тот же двор, на котором стояли лошади капитана. Затруднение происходило преимущественно оттого, что гусары не понимали того, что им говорили.
Капитан велел позвать к себе старшего унтер офицера в строгим голосом спросил у него, к какому полку он принадлежит, кто их начальник и на каком основании он позволяет себе занимать квартиру, которая уже занята. На первые два вопроса немец, плохо понимавший по французски, назвал свой полк и своего начальника; но на последний вопрос он, не поняв его, вставляя ломаные французские слова в немецкую речь, отвечал, что он квартиргер полка и что ему ведено от начальника занимать все дома подряд, Пьер, знавший по немецки, перевел капитану то, что говорил немец, и ответ капитана передал по немецки виртембергскому гусару. Поняв то, что ему говорили, немец сдался и увел своих людей. Капитан вышел на крыльцо, громким голосом отдавая какие то приказания.
Когда он вернулся назад в комнату, Пьер сидел на том же месте, где он сидел прежде, опустив руки на голову. Лицо его выражало страдание. Он действительно страдал в эту минуту. Когда капитан вышел и Пьер остался один, он вдруг опомнился и сознал то положение, в котором находился. Не то, что Москва была взята, и не то, что эти счастливые победители хозяйничали в ней и покровительствовали ему, – как ни тяжело чувствовал это Пьер, не это мучило его в настоящую минуту. Его мучило сознание своей слабости. Несколько стаканов выпитого вина, разговор с этим добродушным человеком уничтожили сосредоточенно мрачное расположение духа, в котором жил Пьер эти последние дни и которое было необходимо для исполнения его намерения. Пистолет, и кинжал, и армяк были готовы, Наполеон въезжал завтра. Пьер точно так же считал полезным и достойным убить злодея; но он чувствовал, что теперь он не сделает этого. Почему? – он не знал, но предчувствовал как будто, что он не исполнит своего намерения. Он боролся против сознания своей слабости, но смутно чувствовал, что ему не одолеть ее, что прежний мрачный строй мыслей о мщенье, убийстве и самопожертвовании разлетелся, как прах, при прикосновении первого человека.
Капитан, слегка прихрамывая и насвистывая что то, вошел в комнату.
Забавлявшая прежде Пьера болтовня француза теперь показалась ему противна. И насвистываемая песенка, и походка, и жест покручиванья усов – все казалось теперь оскорбительным Пьеру.
«Я сейчас уйду, я ни слова больше не скажу с ним», – думал Пьер. Он думал это, а между тем сидел все на том же месте. Какое то странное чувство слабости приковало его к своему месту: он хотел и не мог встать и уйти.
Капитан, напротив, казался очень весел. Он прошелся два раза по комнате. Глаза его блестели, и усы слегка подергивались, как будто он улыбался сам с собой какой то забавной выдумке.
– Charmant, – сказал он вдруг, – le colonel de ces Wurtembourgeois! C'est un Allemand; mais brave garcon, s'il en fut. Mais Allemand. [Прелестно, полковник этих вюртембергцев! Он немец; но славный малый, несмотря на это. Но немец.]
Он сел против Пьера.
– A propos, vous savez donc l'allemand, vous? [Кстати, вы, стало быть, знаете по немецки?]
Пьер смотрел на него молча.
– Comment dites vous asile en allemand? [Как по немецки убежище?]
– Asile? – повторил Пьер. – Asile en allemand – Unterkunft. [Убежище? Убежище – по немецки – Unterkunft.]
– Comment dites vous? [Как вы говорите?] – недоверчиво и быстро переспросил капитан.
– Unterkunft, – повторил Пьер.
– Onterkoff, – сказал капитан и несколько секунд смеющимися глазами смотрел на Пьера. – Les Allemands sont de fieres betes. N'est ce pas, monsieur Pierre? [Экие дурни эти немцы. Не правда ли, мосье Пьер?] – заключил он.
– Eh bien, encore une bouteille de ce Bordeau Moscovite, n'est ce pas? Morel, va nous chauffer encore une pelilo bouteille. Morel! [Ну, еще бутылочку этого московского Бордо, не правда ли? Морель согреет нам еще бутылочку. Морель!] – весело крикнул капитан.
Морель подал свечи и бутылку вина. Капитан посмотрел на Пьера при освещении, и его, видимо, поразило расстроенное лицо его собеседника. Рамбаль с искренним огорчением и участием в лице подошел к Пьеру и нагнулся над ним.
– Eh bien, nous sommes tristes, [Что же это, мы грустны?] – сказал он, трогая Пьера за руку. – Vous aurai je fait de la peine? Non, vrai, avez vous quelque chose contre moi, – переспрашивал он. – Peut etre rapport a la situation? [Может, я огорчил вас? Нет, в самом деле, не имеете ли вы что нибудь против меня? Может быть, касательно положения?]
Пьер ничего не отвечал, но ласково смотрел в глаза французу. Это выражение участия было приятно ему.
– Parole d'honneur, sans parler de ce que je vous dois, j'ai de l'amitie pour vous. Puis je faire quelque chose pour vous? Disposez de moi. C'est a la vie et a la mort. C'est la main sur le c?ur que je vous le dis, [Честное слово, не говоря уже про то, чем я вам обязан, я чувствую к вам дружбу. Не могу ли я сделать для вас что нибудь? Располагайте мною. Это на жизнь и на смерть. Я говорю вам это, кладя руку на сердце,] – сказал он, ударяя себя в грудь.
– Merci, – сказал Пьер. Капитан посмотрел пристально на Пьера так же, как он смотрел, когда узнал, как убежище называлось по немецки, и лицо его вдруг просияло.
– Ah! dans ce cas je bois a notre amitie! [А, в таком случае пью за вашу дружбу!] – весело крикнул он, наливая два стакана вина. Пьер взял налитой стакан и выпил его. Рамбаль выпил свой, пожал еще раз руку Пьера и в задумчиво меланхолической позе облокотился на стол.
– Oui, mon cher ami, voila les caprices de la fortune, – начал он. – Qui m'aurait dit que je serai soldat et capitaine de dragons au service de Bonaparte, comme nous l'appellions jadis. Et cependant me voila a Moscou avec lui. Il faut vous dire, mon cher, – продолжал он грустным я мерным голосом человека, который сбирается рассказывать длинную историю, – que notre nom est l'un des plus anciens de la France. [Да, мой друг, вот колесо фортуны. Кто сказал бы мне, что я буду солдатом и капитаном драгунов на службе у Бонапарта, как мы его, бывало, называли. Однако же вот я в Москве с ним. Надо вам сказать, мой милый… что имя наше одно из самых древних во Франции.]
И с легкой и наивной откровенностью француза капитан рассказал Пьеру историю своих предков, свое детство, отрочество и возмужалость, все свои родственныеимущественные, семейные отношения. «Ma pauvre mere [„Моя бедная мать“.] играла, разумеется, важную роль в этом рассказе.
– Mais tout ca ce n'est que la mise en scene de la vie, le fond c'est l'amour? L'amour! N'est ce pas, monsieur; Pierre? – сказал он, оживляясь. – Encore un verre. [Но все это есть только вступление в жизнь, сущность же ее – это любовь. Любовь! Не правда ли, мосье Пьер? Еще стаканчик.]
Пьер опять выпил и налил себе третий.
– Oh! les femmes, les femmes! [О! женщины, женщины!] – и капитан, замаслившимися глазами глядя на Пьера, начал говорить о любви и о своих любовных похождениях. Их было очень много, чему легко было поверить, глядя на самодовольное, красивое лицо офицера и на восторженное оживление, с которым он говорил о женщинах. Несмотря на то, что все любовные истории Рамбаля имели тот характер пакостности, в котором французы видят исключительную прелесть и поэзию любви, капитан рассказывал свои истории с таким искренним убеждением, что он один испытал и познал все прелести любви, и так заманчиво описывал женщин, что Пьер с любопытством слушал его.
Очевидно было, что l'amour, которую так любил француз, была ни та низшего и простого рода любовь, которую Пьер испытывал когда то к своей жене, ни та раздуваемая им самим романтическая любовь, которую он испытывал к Наташе (оба рода этой любви Рамбаль одинаково презирал – одна была l'amour des charretiers, другая l'amour des nigauds) [любовь извозчиков, другая – любовь дурней.]; l'amour, которой поклонялся француз, заключалась преимущественно в неестественности отношений к женщине и в комбинация уродливостей, которые придавали главную прелесть чувству.
Так капитан рассказал трогательную историю своей любви к одной обворожительной тридцатипятилетней маркизе и в одно и то же время к прелестному невинному, семнадцатилетнему ребенку, дочери обворожительной маркизы. Борьба великодушия между матерью и дочерью, окончившаяся тем, что мать, жертвуя собой, предложила свою дочь в жены своему любовнику, еще и теперь, хотя уж давно прошедшее воспоминание, волновала капитана. Потом он рассказал один эпизод, в котором муж играл роль любовника, а он (любовник) роль мужа, и несколько комических эпизодов из souvenirs d'Allemagne, где asile значит Unterkunft, где les maris mangent de la choux croute и где les jeunes filles sont trop blondes. [воспоминаний о Германии, где мужья едят капустный суп и где молодые девушки слишком белокуры.]
Наконец последний эпизод в Польше, еще свежий в памяти капитана, который он рассказывал с быстрыми жестами и разгоревшимся лицом, состоял в том, что он спас жизнь одному поляку (вообще в рассказах капитана эпизод спасения жизни встречался беспрестанно) и поляк этот вверил ему свою обворожительную жену (Parisienne de c?ur [парижанку сердцем]), в то время как сам поступил во французскую службу. Капитан был счастлив, обворожительная полька хотела бежать с ним; но, движимый великодушием, капитан возвратил мужу жену, при этом сказав ему: «Je vous ai sauve la vie et je sauve votre honneur!» [Я спас вашу жизнь и спасаю вашу честь!] Повторив эти слова, капитан протер глаза и встряхнулся, как бы отгоняя от себя охватившую его слабость при этом трогательном воспоминании.
Слушая рассказы капитана, как это часто бывает в позднюю вечернюю пору и под влиянием вина, Пьер следил за всем тем, что говорил капитан, понимал все и вместе с тем следил за рядом личных воспоминаний, вдруг почему то представших его воображению. Когда он слушал эти рассказы любви, его собственная любовь к Наташе неожиданно вдруг вспомнилась ему, и, перебирая в своем воображении картины этой любви, он мысленно сравнивал их с рассказами Рамбаля. Следя за рассказом о борьбе долга с любовью, Пьер видел пред собою все малейшие подробности своей последней встречи с предметом своей любви у Сухаревой башни. Тогда эта встреча не произвела на него влияния; он даже ни разу не вспомнил о ней. Но теперь ему казалось, что встреча эта имела что то очень значительное и поэтическое.
«Петр Кирилыч, идите сюда, я узнала», – слышал он теперь сказанные сю слова, видел пред собой ее глаза, улыбку, дорожный чепчик, выбившуюся прядь волос… и что то трогательное, умиляющее представлялось ему во всем этом.
Окончив свой рассказ об обворожительной польке, капитан обратился к Пьеру с вопросом, испытывал ли он подобное чувство самопожертвования для любви и зависти к законному мужу.
Вызванный этим вопросом, Пьер поднял голову и почувствовал необходимость высказать занимавшие его мысли; он стал объяснять, как он несколько иначе понимает любовь к женщине. Он сказал, что он во всю свою жизнь любил и любит только одну женщину и что эта женщина никогда не может принадлежать ему.
– Tiens! [Вишь ты!] – сказал капитан.
Потом Пьер объяснил, что он любил эту женщину с самых юных лет; но не смел думать о ней, потому что она была слишком молода, а он был незаконный сын без имени. Потом же, когда он получил имя и богатство, он не смел думать о ней, потому что слишком любил ее, слишком высоко ставил ее над всем миром и потому, тем более, над самим собою. Дойдя до этого места своего рассказа, Пьер обратился к капитану с вопросом: понимает ли он это?
Капитан сделал жест, выражающий то, что ежели бы он не понимал, то он все таки просит продолжать.
– L'amour platonique, les nuages… [Платоническая любовь, облака…] – пробормотал он. Выпитое ли вино, или потребность откровенности, или мысль, что этот человек не знает и не узнает никого из действующих лиц его истории, или все вместе развязало язык Пьеру. И он шамкающим ртом и маслеными глазами, глядя куда то вдаль, рассказал всю свою историю: и свою женитьбу, и историю любви Наташи к его лучшему другу, и ее измену, и все свои несложные отношения к ней. Вызываемый вопросами Рамбаля, он рассказал и то, что скрывал сначала, – свое положение в свете и даже открыл ему свое имя.
Более всего из рассказа Пьера поразило капитана то, что Пьер был очень богат, что он имел два дворца в Москве и что он бросил все и не уехал из Москвы, а остался в городе, скрывая свое имя и звание.
Уже поздно ночью они вместе вышли на улицу. Ночь была теплая и светлая. Налево от дома светлело зарево первого начавшегося в Москве, на Петровке, пожара. Направо стоял высоко молодой серп месяца, и в противоположной от месяца стороне висела та светлая комета, которая связывалась в душе Пьера с его любовью. У ворот стояли Герасим, кухарка и два француза. Слышны были их смех и разговор на непонятном друг для друга языке. Они смотрели на зарево, видневшееся в городе.
Ничего страшного не было в небольшом отдаленном пожаре в огромном городе.
Глядя на высокое звездное небо, на месяц, на комету и на зарево, Пьер испытывал радостное умиление. «Ну, вот как хорошо. Ну, чего еще надо?!» – подумал он. И вдруг, когда он вспомнил свое намерение, голова его закружилась, с ним сделалось дурно, так что он прислонился к забору, чтобы не упасть.
Не простившись с своим новым другом, Пьер нетвердыми шагами отошел от ворот и, вернувшись в свою комнату, лег на диван и тотчас же заснул.
На зарево первого занявшегося 2 го сентября пожара с разных дорог с разными чувствами смотрели убегавшие и уезжавшие жители и отступавшие войска.
Поезд Ростовых в эту ночь стоял в Мытищах, в двадцати верстах от Москвы. 1 го сентября они выехали так поздно, дорога так была загромождена повозками и войсками, столько вещей было забыто, за которыми были посылаемы люди, что в эту ночь было решено ночевать в пяти верстах за Москвою. На другое утро тронулись поздно, и опять было столько остановок, что доехали только до Больших Мытищ. В десять часов господа Ростовы и раненые, ехавшие с ними, все разместились по дворам и избам большого села. Люди, кучера Ростовых и денщики раненых, убрав господ, поужинали, задали корму лошадям и вышли на крыльцо.
В соседней избе лежал раненый адъютант Раевского, с разбитой кистью руки, и страшная боль, которую он чувствовал, заставляла его жалобно, не переставая, стонать, и стоны эти страшно звучали в осенней темноте ночи. В первую ночь адъютант этот ночевал на том же дворе, на котором стояли Ростовы. Графиня говорила, что она не могла сомкнуть глаз от этого стона, и в Мытищах перешла в худшую избу только для того, чтобы быть подальше от этого раненого.
Один из людей в темноте ночи, из за высокого кузова стоявшей у подъезда кареты, заметил другое небольшое зарево пожара. Одно зарево давно уже видно было, и все знали, что это горели Малые Мытищи, зажженные мамоновскими казаками.
– А ведь это, братцы, другой пожар, – сказал денщик.
Все обратили внимание на зарево.
– Да ведь, сказывали, Малые Мытищи мамоновские казаки зажгли.
– Они! Нет, это не Мытищи, это дале.
– Глянь ка, точно в Москве.
Двое из людей сошли с крыльца, зашли за карету и присели на подножку.
– Это левей! Как же, Мытищи вон где, а это вовсе в другой стороне.
Несколько людей присоединились к первым.
– Вишь, полыхает, – сказал один, – это, господа, в Москве пожар: либо в Сущевской, либо в Рогожской.
Никто не ответил на это замечание. И довольно долго все эти люди молча смотрели на далекое разгоравшееся пламя нового пожара.
Старик, графский камердинер (как его называли), Данило Терентьич подошел к толпе и крикнул Мишку.
– Ты чего не видал, шалава… Граф спросит, а никого нет; иди платье собери.
– Да я только за водой бежал, – сказал Мишка.
– А вы как думаете, Данило Терентьич, ведь это будто в Москве зарево? – сказал один из лакеев.
Данило Терентьич ничего не отвечал, и долго опять все молчали. Зарево расходилось и колыхалось дальше и дальше.
– Помилуй бог!.. ветер да сушь… – опять сказал голос.
– Глянь ко, как пошло. О господи! аж галки видно. Господи, помилуй нас грешных!
– Потушат небось.
– Кому тушить то? – послышался голос Данилы Терентьича, молчавшего до сих пор. Голос его был спокоен и медлителен. – Москва и есть, братцы, – сказал он, – она матушка белока… – Голос его оборвался, и он вдруг старчески всхлипнул. И как будто только этого ждали все, чтобы понять то значение, которое имело для них это видневшееся зарево. Послышались вздохи, слова молитвы и всхлипывание старого графского камердинера.
Камердинер, вернувшись, доложил графу, что горит Москва. Граф надел халат и вышел посмотреть. С ним вместе вышла и не раздевавшаяся еще Соня, и madame Schoss. Наташа и графиня одни оставались в комнате. (Пети не было больше с семейством; он пошел вперед с своим полком, шедшим к Троице.)
Графиня заплакала, услыхавши весть о пожаре Москвы. Наташа, бледная, с остановившимися глазами, сидевшая под образами на лавке (на том самом месте, на которое она села приехавши), не обратила никакого внимания на слова отца. Она прислушивалась к неумолкаемому стону адъютанта, слышному через три дома.
– Ах, какой ужас! – сказала, со двора возвративись, иззябшая и испуганная Соня. – Я думаю, вся Москва сгорит, ужасное зарево! Наташа, посмотри теперь, отсюда из окошка видно, – сказала она сестре, видимо, желая чем нибудь развлечь ее. Но Наташа посмотрела на нее, как бы не понимая того, что у ней спрашивали, и опять уставилась глазами в угол печи. Наташа находилась в этом состоянии столбняка с нынешнего утра, с того самого времени, как Соня, к удивлению и досаде графини, непонятно для чего, нашла нужным объявить Наташе о ране князя Андрея и о его присутствии с ними в поезде. Графиня рассердилась на Соню, как она редко сердилась. Соня плакала и просила прощенья и теперь, как бы стараясь загладить свою вину, не переставая ухаживала за сестрой.
– Посмотри, Наташа, как ужасно горит, – сказала Соня.
– Что горит? – спросила Наташа. – Ах, да, Москва.
И как бы для того, чтобы не обидеть Сони отказом и отделаться от нее, она подвинула голову к окну, поглядела так, что, очевидно, не могла ничего видеть, и опять села в свое прежнее положение.
– Да ты не видела?
– Нет, право, я видела, – умоляющим о спокойствии голосом сказала она.
И графине и Соне понятно было, что Москва, пожар Москвы, что бы то ни было, конечно, не могло иметь значения для Наташи.
Граф опять пошел за перегородку и лег. Графиня подошла к Наташе, дотронулась перевернутой рукой до ее головы, как это она делала, когда дочь ее бывала больна, потом дотронулась до ее лба губами, как бы для того, чтобы узнать, есть ли жар, и поцеловала ее.
– Ты озябла. Ты вся дрожишь. Ты бы ложилась, – сказала она.
– Ложиться? Да, хорошо, я лягу. Я сейчас лягу, – сказала Наташа.
С тех пор как Наташе в нынешнее утро сказали о том, что князь Андрей тяжело ранен и едет с ними, она только в первую минуту много спрашивала о том, куда? как? опасно ли он ранен? и можно ли ей видеть его? Но после того как ей сказали, что видеть его ей нельзя, что он ранен тяжело, но что жизнь его не в опасности, она, очевидно, не поверив тому, что ей говорили, но убедившись, что сколько бы она ни говорила, ей будут отвечать одно и то же, перестала спрашивать и говорить. Всю дорогу с большими глазами, которые так знала и которых выражения так боялась графиня, Наташа сидела неподвижно в углу кареты и так же сидела теперь на лавке, на которую села. Что то она задумывала, что то она решала или уже решила в своем уме теперь, – это знала графиня, но что это такое было, она не знала, и это то страшило и мучило ее.
– Наташа, разденься, голубушка, ложись на мою постель. (Только графине одной была постелена постель на кровати; m me Schoss и обе барышни должны были спать на полу на сене.)
– Нет, мама, я лягу тут, на полу, – сердито сказала Наташа, подошла к окну и отворила его. Стон адъютанта из открытого окна послышался явственнее. Она высунула голову в сырой воздух ночи, и графиня видела, как тонкие плечи ее тряслись от рыданий и бились о раму. Наташа знала, что стонал не князь Андрей. Она знала, что князь Андрей лежал в той же связи, где они были, в другой избе через сени; но этот страшный неумолкавший стон заставил зарыдать ее. Графиня переглянулась с Соней.
– Ложись, голубушка, ложись, мой дружок, – сказала графиня, слегка дотрогиваясь рукой до плеча Наташи. – Ну, ложись же.
– Ах, да… Я сейчас, сейчас лягу, – сказала Наташа, поспешно раздеваясь и обрывая завязки юбок. Скинув платье и надев кофту, она, подвернув ноги, села на приготовленную на полу постель и, перекинув через плечо наперед свою недлинную тонкую косу, стала переплетать ее. Тонкие длинные привычные пальцы быстро, ловко разбирали, плели, завязывали косу. Голова Наташи привычным жестом поворачивалась то в одну, то в другую сторону, но глаза, лихорадочно открытые, неподвижно смотрели прямо. Когда ночной костюм был окончен, Наташа тихо опустилась на простыню, постланную на сено с края от двери.
– Наташа, ты в середину ляг, – сказала Соня.
– Нет, я тут, – проговорила Наташа. – Да ложитесь же, – прибавила она с досадой. И она зарылась лицом в подушку.
Графиня, m me Schoss и Соня поспешно разделись и легли. Одна лампадка осталась в комнате. Но на дворе светлело от пожара Малых Мытищ за две версты, и гудели пьяные крики народа в кабаке, который разбили мамоновские казаки, на перекоске, на улице, и все слышался неумолкаемый стон адъютанта.
Долго прислушивалась Наташа к внутренним и внешним звукам, доносившимся до нее, и не шевелилась. Она слышала сначала молитву и вздохи матери, трещание под ней ее кровати, знакомый с свистом храп m me Schoss, тихое дыханье Сони. Потом графиня окликнула Наташу. Наташа не отвечала ей.
– Кажется, спит, мама, – тихо отвечала Соня. Графиня, помолчав немного, окликнула еще раз, но уже никто ей не откликнулся.
Скоро после этого Наташа услышала ровное дыхание матери. Наташа не шевелилась, несмотря на то, что ее маленькая босая нога, выбившись из под одеяла, зябла на голом полу.
Как бы празднуя победу над всеми, в щели закричал сверчок. Пропел петух далеко, откликнулись близкие. В кабаке затихли крики, только слышался тот же стой адъютанта. Наташа приподнялась.
– Соня? ты спишь? Мама? – прошептала она. Никто не ответил. Наташа медленно и осторожно встала, перекрестилась и ступила осторожно узкой и гибкой босой ступней на грязный холодный пол. Скрипнула половица. Она, быстро перебирая ногами, пробежала, как котенок, несколько шагов и взялась за холодную скобку двери.
Ей казалось, что то тяжелое, равномерно ударяя, стучит во все стены избы: это билось ее замиравшее от страха, от ужаса и любви разрывающееся сердце.
Она отворила дверь, перешагнула порог и ступила на сырую, холодную землю сеней. Обхвативший холод освежил ее. Она ощупала босой ногой спящего человека, перешагнула через него и отворила дверь в избу, где лежал князь Андрей. В избе этой было темно. В заднем углу у кровати, на которой лежало что то, на лавке стояла нагоревшая большим грибом сальная свечка.
Наташа с утра еще, когда ей сказали про рану и присутствие князя Андрея, решила, что она должна видеть его. Она не знала, для чего это должно было, но она знала, что свидание будет мучительно, и тем более она была убеждена, что оно было необходимо.
Весь день она жила только надеждой того, что ночью она уввдит его. Но теперь, когда наступила эта минута, на нее нашел ужас того, что она увидит. Как он был изуродован? Что оставалось от него? Такой ли он был, какой был этот неумолкавший стон адъютанта? Да, он был такой. Он был в ее воображении олицетворение этого ужасного стона. Когда она увидала неясную массу в углу и приняла его поднятые под одеялом колени за его плечи, она представила себе какое то ужасное тело и в ужасе остановилась. Но непреодолимая сила влекла ее вперед. Она осторожно ступила один шаг, другой и очутилась на середине небольшой загроможденной избы. В избе под образами лежал на лавках другой человек (это был Тимохин), и на полу лежали еще два какие то человека (это были доктор и камердинер).
Камердинер приподнялся и прошептал что то. Тимохин, страдая от боли в раненой ноге, не спал и во все глаза смотрел на странное явление девушки в бедой рубашке, кофте и вечном чепчике. Сонные и испуганные слова камердинера; «Чего вам, зачем?» – только заставили скорее Наташу подойти и тому, что лежало в углу. Как ни страшно, ни непохоже на человеческое было это тело, она должна была его видеть. Она миновала камердинера: нагоревший гриб свечки свалился, и она ясно увидала лежащего с выпростанными руками на одеяле князя Андрея, такого, каким она его всегда видела.
Он был таков же, как всегда; но воспаленный цвет его лица, блестящие глаза, устремленные восторженно на нее, а в особенности нежная детская шея, выступавшая из отложенного воротника рубашки, давали ему особый, невинный, ребяческий вид, которого, однако, она никогда не видала в князе Андрее. Она подошла к нему и быстрым, гибким, молодым движением стала на колени.
Он улыбнулся и протянул ей руку.
Для князя Андрея прошло семь дней с того времени, как он очнулся на перевязочном пункте Бородинского поля. Все это время он находился почти в постояниом беспамятстве. Горячечное состояние и воспаление кишок, которые были повреждены, по мнению доктора, ехавшего с раненым, должны были унести его. Но на седьмой день он с удовольствием съел ломоть хлеба с чаем, и доктор заметил, что общий жар уменьшился. Князь Андрей поутру пришел в сознание. Первую ночь после выезда из Москвы было довольно тепло, и князь Андрей был оставлен для ночлега в коляске; но в Мытищах раненый сам потребовал, чтобы его вынесли и чтобы ему дали чаю. Боль, причиненная ему переноской в избу, заставила князя Андрея громко стонать и потерять опять сознание. Когда его уложили на походной кровати, он долго лежал с закрытыми глазами без движения. Потом он открыл их и тихо прошептал: «Что же чаю?» Памятливость эта к мелким подробностям жизни поразила доктора. Он пощупал пульс и, к удивлению и неудовольствию своему, заметил, что пульс был лучше. К неудовольствию своему это заметил доктор потому, что он по опыту своему был убежден, что жить князь Андрей не может и что ежели он не умрет теперь, то он только с большими страданиями умрет несколько времени после. С князем Андреем везли присоединившегося к ним в Москве майора его полка Тимохина с красным носиком, раненного в ногу в том же Бородинском сражении. При них ехал доктор, камердинер князя, его кучер и два денщика.
Князю Андрею дали чаю. Он жадно пил, лихорадочными глазами глядя вперед себя на дверь, как бы стараясь что то понять и припомнить.
– Не хочу больше. Тимохин тут? – спросил он. Тимохин подполз к нему по лавке.
– Я здесь, ваше сиятельство.
– Как рана?
– Моя то с? Ничего. Вот вы то? – Князь Андрей опять задумался, как будто припоминая что то.
– Нельзя ли достать книгу? – сказал он.
– Какую книгу?
– Евангелие! У меня нет.
Доктор обещался достать и стал расспрашивать князя о том, что он чувствует. Князь Андрей неохотно, но разумно отвечал на все вопросы доктора и потом сказал, что ему надо бы подложить валик, а то неловко и очень больно. Доктор и камердинер подняли шинель, которою он был накрыт, и, морщась от тяжкого запаха гнилого мяса, распространявшегося от раны, стали рассматривать это страшное место. Доктор чем то очень остался недоволен, что то иначе переделал, перевернул раненого так, что тот опять застонал и от боли во время поворачивания опять потерял сознание и стал бредить. Он все говорил о том, чтобы ему достали поскорее эту книгу и подложили бы ее туда.
– И что это вам стоит! – говорил он. – У меня ее нет, – достаньте, пожалуйста, подложите на минуточку, – говорил он жалким голосом.
Доктор вышел в сени, чтобы умыть руки.
– Ах, бессовестные, право, – говорил доктор камердинеру, лившему ему воду на руки. – Только на минуту не досмотрел. Ведь вы его прямо на рану положили. Ведь это такая боль, что я удивляюсь, как он терпит.
– Мы, кажется, подложили, господи Иисусе Христе, – говорил камердинер.
В первый раз князь Андрей понял, где он был и что с ним было, и вспомнил то, что он был ранен и как в ту минуту, когда коляска остановилась в Мытищах, он попросился в избу. Спутавшись опять от боли, он опомнился другой раз в избе, когда пил чай, и тут опять, повторив в своем воспоминании все, что с ним было, он живее всего представил себе ту минуту на перевязочном пункте, когда, при виде страданий нелюбимого им человека, ему пришли эти новые, сулившие ему счастие мысли. И мысли эти, хотя и неясно и неопределенно, теперь опять овладели его душой. Он вспомнил, что у него было теперь новое счастье и что это счастье имело что то такое общее с Евангелием. Потому то он попросил Евангелие. Но дурное положение, которое дали его ране, новое переворачиванье опять смешали его мысли, и он в третий раз очнулся к жизни уже в совершенной тишине ночи. Все спали вокруг него. Сверчок кричал через сени, на улице кто то кричал и пел, тараканы шелестели по столу и образам, в осенняя толстая муха билась у него по изголовью и около сальной свечи, нагоревшей большим грибом и стоявшей подле него.
Душа его была не в нормальном состоянии. Здоровый человек обыкновенно мыслит, ощущает и вспоминает одновременно о бесчисленном количестве предметов, но имеет власть и силу, избрав один ряд мыслей или явлений, на этом ряде явлений остановить все свое внимание. Здоровый человек в минуту глубочайшего размышления отрывается, чтобы сказать учтивое слово вошедшему человеку, и опять возвращается к своим мыслям. Душа же князя Андрея была не в нормальном состоянии в этом отношении. Все силы его души были деятельнее, яснее, чем когда нибудь, но они действовали вне его воли. Самые разнообразные мысли и представления одновременно владели им. Иногда мысль его вдруг начинала работать, и с такой силой, ясностью и глубиною, с какою никогда она не была в силах действовать в здоровом состоянии; но вдруг, посредине своей работы, она обрывалась, заменялась каким нибудь неожиданным представлением, и не было сил возвратиться к ней.
«Да, мне открылась новое счастье, неотъемлемое от человека, – думал он, лежа в полутемной тихой избе и глядя вперед лихорадочно раскрытыми, остановившимися глазами. Счастье, находящееся вне материальных сил, вне материальных внешних влияний на человека, счастье одной души, счастье любви! Понять его может всякий человек, но сознать и предписать его мот только один бог. Но как же бог предписал этот закон? Почему сын?.. И вдруг ход мыслей этих оборвался, и князь Андрей услыхал (не зная, в бреду или в действительности он слышит это), услыхал какой то тихий, шепчущий голос, неумолкаемо в такт твердивший: „И пити пити питии“ потом „и ти тии“ опять „и пити пити питии“ опять „и ти ти“. Вместе с этим, под звук этой шепчущей музыки, князь Андрей чувствовал, что над лицом его, над самой серединой воздвигалось какое то странное воздушное здание из тонких иголок или лучинок. Он чувствовал (хотя это и тяжело ему было), что ему надо было старательна держать равновесие, для того чтобы воздвигавшееся здание это не завалилось; но оно все таки заваливалось и опять медленно воздвигалось при звуках равномерно шепчущей музыки. „Тянется! тянется! растягивается и все тянется“, – говорил себе князь Андрей. Вместе с прислушаньем к шепоту и с ощущением этого тянущегося и воздвигающегося здания из иголок князь Андрей видел урывками и красный, окруженный кругом свет свечки и слышал шуршанъе тараканов и шуршанье мухи, бившейся на подушку и на лицо его. И всякий раз, как муха прикасалась к егв лицу, она производила жгучее ощущение; но вместе с тем его удивляло то, что, ударяясь в самую область воздвигавшегося на лице его здания, муха не разрушала его. Но, кроме этого, было еще одно важное. Это было белое у двери, это была статуя сфинкса, которая тоже давила его.
«Но, может быть, это моя рубашка на столе, – думал князь Андрей, – а это мои ноги, а это дверь; но отчего же все тянется и выдвигается и пити пити пити и ти ти – и пити пити пити… – Довольно, перестань, пожалуйста, оставь, – тяжело просил кого то князь Андрей. И вдруг опять выплывала мысль и чувство с необыкновенной ясностью и силой.
«Да, любовь, – думал он опять с совершенной ясностью), но не та любовь, которая любит за что нибудь, для чего нибудь или почему нибудь, но та любовь, которую я испытал в первый раз, когда, умирая, я увидал своего врага и все таки полюбил его. Я испытал то чувство любви, которая есть самая сущность души и для которой не нужно предмета. Я и теперь испытываю это блаженное чувство. Любить ближних, любить врагов своих. Все любить – любить бога во всех проявлениях. Любить человека дорогого можно человеческой любовью; но только врага можно любить любовью божеской. И от этого то я испытал такую радость, когда я почувствовал, что люблю того человека. Что с ним? Жив ли он… Любя человеческой любовью, можно от любви перейти к ненависти; но божеская любовь не может измениться. Ничто, ни смерть, ничто не может разрушить ее. Она есть сущность души. А сколь многих людей я ненавидел в своей жизни. И из всех людей никого больше не любил я и не ненавидел, как ее». И он живо представил себе Наташу не так, как он представлял себе ее прежде, с одною ее прелестью, радостной для себя; но в первый раз представил себе ее душу. И он понял ее чувство, ее страданья, стыд, раскаянье. Он теперь в первый раз поняд всю жестокость своего отказа, видел жестокость своего разрыва с нею. «Ежели бы мне было возможно только еще один раз увидать ее. Один раз, глядя в эти глаза, сказать…»
И пити пити пити и ти ти, и пити пити – бум, ударилась муха… И внимание его вдруг перенеслось в другой мир действительности и бреда, в котором что то происходило особенное. Все так же в этом мире все воздвигалось, не разрушаясь, здание, все так же тянулось что то, так же с красным кругом горела свечка, та же рубашка сфинкс лежала у двери; но, кроме всего этого, что то скрипнуло, пахнуло свежим ветром, и новый белый сфинкс, стоячий, явился пред дверью. И в голове этого сфинкса было бледное лицо и блестящие глаза той самой Наташи, о которой он сейчас думал.
«О, как тяжел этот неперестающий бред!» – подумал князь Андрей, стараясь изгнать это лицо из своего воображения. Но лицо это стояло пред ним с силою действительности, и лицо это приближалось. Князь Андрей хотел вернуться к прежнему миру чистой мысли, но он не мог, и бред втягивал его в свою область. Тихий шепчущий голос продолжал свой мерный лепет, что то давило, тянулось, и странное лицо стояло перед ним. Князь Андрей собрал все свои силы, чтобы опомниться; он пошевелился, и вдруг в ушах его зазвенело, в глазах помутилось, и он, как человек, окунувшийся в воду, потерял сознание. Когда он очнулся, Наташа, та самая живая Наташа, которую изо всех людей в мире ему более всего хотелось любить той новой, чистой божеской любовью, которая была теперь открыта ему, стояла перед ним на коленях. Он понял, что это была живая, настоящая Наташа, и не удивился, но тихо обрадовался. Наташа, стоя на коленях, испуганно, но прикованно (она не могла двинуться) глядела на него, удерживая рыдания. Лицо ее было бледно и неподвижно. Только в нижней части его трепетало что то.
Князь Андрей облегчительно вздохнул, улыбнулся и протянул руку.
– Вы? – сказал он. – Как счастливо!
Наташа быстрым, но осторожным движением подвинулась к нему на коленях и, взяв осторожно его руку, нагнулась над ней лицом и стала целовать ее, чуть дотрогиваясь губами.
– Простите! – сказала она шепотом, подняв голову и взглядывая на него. – Простите меня!
– Я вас люблю, – сказал князь Андрей.
– Простите…
– Что простить? – спросил князь Андрей.
– Простите меня за то, что я сделала, – чуть слышным, прерывным шепотом проговорила Наташа и чаще стала, чуть дотрогиваясь губами, целовать руку.
– Я люблю тебя больше, лучше, чем прежде, – сказал князь Андрей, поднимая рукой ее лицо так, чтобы он мог глядеть в ее глаза.
Глаза эти, налитые счастливыми слезами, робко, сострадательно и радостно любовно смотрели на него. Худое и бледное лицо Наташи с распухшими губами было более чем некрасиво, оно было страшно. Но князь Андрей не видел этого лица, он видел сияющие глаза, которые были прекрасны. Сзади их послышался говор.
Петр камердинер, теперь совсем очнувшийся от сна, разбудил доктора. Тимохин, не спавший все время от боли в ноге, давно уже видел все, что делалось, и, старательно закрывая простыней свое неодетое тело, ежился на лавке.
– Это что такое? – сказал доктор, приподнявшись с своего ложа. – Извольте идти, сударыня.
В это же время в дверь стучалась девушка, посланная графиней, хватившейся дочери.
Как сомнамбулка, которую разбудили в середине ее сна, Наташа вышла из комнаты и, вернувшись в свою избу, рыдая упала на свою постель.
С этого дня, во время всего дальнейшего путешествия Ростовых, на всех отдыхах и ночлегах, Наташа не отходила от раненого Болконского, и доктор должен был признаться, что он не ожидал от девицы ни такой твердости, ни такого искусства ходить за раненым.
Как ни страшна казалась для графини мысль, что князь Андрей мог (весьма вероятно, по словам доктора) умереть во время дороги на руках ее дочери, она не могла противиться Наташе. Хотя вследствие теперь установившегося сближения между раненым князем Андреем и Наташей приходило в голову, что в случае выздоровления прежние отношения жениха и невесты будут возобновлены, никто, еще менее Наташа и князь Андрей, не говорил об этом: нерешенный, висящий вопрос жизни или смерти не только над Болконским, но над Россией заслонял все другие предположения.
Пьер проснулся 3 го сентября поздно. Голова его болела, платье, в котором он спал не раздеваясь, тяготило его тело, и на душе было смутное сознание чего то постыдного, совершенного накануне; это постыдное был вчерашний разговор с капитаном Рамбалем.
Часы показывали одиннадцать, но на дворе казалось особенно пасмурно. Пьер встал, протер глаза и, увидав пистолет с вырезным ложем, который Герасим положил опять на письменный стол, Пьер вспомнил то, где он находился и что ему предстояло именно в нынешний день.
«Уж не опоздал ли я? – подумал Пьер. – Нет, вероятно, он сделает свой въезд в Москву не ранее двенадцати». Пьер не позволял себе размышлять о том, что ему предстояло, но торопился поскорее действовать.
Оправив на себе платье, Пьер взял в руки пистолет и сбирался уже идти. Но тут ему в первый раз пришла мысль о том, каким образом, не в руке же, по улице нести ему это оружие. Даже и под широким кафтаном трудно было спрятать большой пистолет. Ни за поясом, ни под мышкой нельзя было поместить его незаметным. Кроме того, пистолет был разряжен, а Пьер не успел зарядить его. «Все равно, кинжал», – сказал себе Пьер, хотя он не раз, обсуживая исполнение своего намерения, решал сам с собою, что главная ошибка студента в 1809 году состояла в том, что он хотел убить Наполеона кинжалом. Но, как будто главная цель Пьера состояла не в том, чтобы исполнить задуманное дело, а в том, чтобы показать самому себе, что не отрекается от своего намерения и делает все для исполнения его, Пьер поспешно взял купленный им у Сухаревой башни вместе с пистолетом тупой зазубренный кинжал в зеленых ножнах и спрятал его под жилет.
Подпоясав кафтан и надвинув шапку, Пьер, стараясь не шуметь и не встретить капитана, прошел по коридору и вышел на улицу.
Тот пожар, на который так равнодушно смотрел он накануне вечером, за ночь значительно увеличился. Москва горела уже с разных сторон. Горели в одно и то же время Каретный ряд, Замоскворечье, Гостиный двор, Поварская, барки на Москве реке и дровяной рынок у Дорогомиловского моста.
Путь Пьера лежал через переулки на Поварскую и оттуда на Арбат, к Николе Явленному, у которого он в воображении своем давно определил место, на котором должно быть совершено его дело. У большей части домов были заперты ворота и ставни. Улицы и переулки были пустынны. В воздухе пахло гарью и дымом. Изредка встречались русские с беспокойно робкими лицами и французы с негородским, лагерным видом, шедшие по серединам улиц. И те и другие с удивлением смотрели на Пьера. Кроме большого роста и толщины, кроме странного мрачно сосредоточенного и страдальческого выражения лица и всей фигуры, русские присматривались к Пьеру, потому что не понимали, к какому сословию мог принадлежать этот человек. Французы же с удивлением провожали его глазами, в особенности потому, что Пьер, противно всем другим русским, испуганно или любопытна смотревшим на французов, не обращал на них никакого внимания. У ворот одного дома три француза, толковавшие что то не понимавшим их русским людям, остановили Пьера, спрашивая, не знает ли он по французски?
Пьер отрицательно покачал головой и пошел дальше. В другом переулке на него крикнул часовой, стоявший у зеленого ящика, и Пьер только на повторенный грозный крик и звук ружья, взятого часовым на руку, понял, что он должен был обойти другой стороной улицы. Он ничего не слышал и не видел вокруг себя. Он, как что то страшное и чуждое ему, с поспешностью и ужасом нес в себе свое намерение, боясь – наученный опытом прошлой ночи – как нибудь растерять его. Но Пьеру не суждено было донести в целости свое настроение до того места, куда он направлялся. Кроме того, ежели бы даже он и не был ничем задержан на пути, намерение его не могло быть исполнено уже потому, что Наполеон тому назад более четырех часов проехал из Дорогомиловского предместья через Арбат в Кремль и теперь в самом мрачном расположении духа сидел в царском кабинете кремлевского дворца и отдавал подробные, обстоятельные приказания о мерах, которые немедленно должны были бытт, приняты для тушения пожара, предупреждения мародерства и успокоения жителей. Но Пьер не знал этого; он, весь поглощенный предстоящим, мучился, как мучаются люди, упрямо предпринявшие дело невозможное – не по трудностям, но по несвойственности дела с своей природой; он мучился страхом того, что он ослабеет в решительную минуту и, вследствие того, потеряет уважение к себе.
Он хотя ничего не видел и не слышал вокруг себя, но инстинктом соображал дорогу и не ошибался переулками, выводившими его на Поварскую.
По мере того как Пьер приближался к Поварской, дым становился сильнее и сильнее, становилось даже тепло от огня пожара. Изредка взвивались огненные языка из за крыш домов. Больше народу встречалось на улицах, и народ этот был тревожнее. Но Пьер, хотя и чувствовал, что что то такое необыкновенное творилось вокруг него, не отдавал себе отчета о том, что он подходил к пожару. Проходя по тропинке, шедшей по большому незастроенному месту, примыкавшему одной стороной к Поварской, другой к садам дома князя Грузинского, Пьер вдруг услыхал подле самого себя отчаянный плач женщины. Он остановился, как бы пробудившись от сна, и поднял голову.
В стороне от тропинки, на засохшей пыльной траве, были свалены кучей домашние пожитки: перины, самовар, образа и сундуки. На земле подле сундуков сидела немолодая худая женщина, с длинными высунувшимися верхними зубами, одетая в черный салоп и чепчик. Женщина эта, качаясь и приговаривая что то, надрываясь плакала. Две девочки, от десяти до двенадцати лет, одетые в грязные коротенькие платьица и салопчики, с выражением недоумения на бледных, испуганных лицах, смотрели на мать. Меньшой мальчик, лет семи, в чуйке и в чужом огромном картузе, плакал на руках старухи няньки. Босоногая грязная девка сидела на сундуке и, распустив белесую косу, обдергивала опаленные волосы, принюхиваясь к ним. Муж, невысокий сутуловатый человек в вицмундире, с колесообразными бакенбардочками и гладкими височками, видневшимися из под прямо надетого картуза, с неподвижным лицом раздвигал сундуки, поставленные один на другом, и вытаскивал из под них какие то одеяния.
Женщина почти бросилась к ногам Пьера, когда она увидала его.
– Батюшки родимые, христиане православные, спасите, помогите, голубчик!.. кто нибудь помогите, – выговаривала она сквозь рыдания. – Девочку!.. Дочь!.. Дочь мою меньшую оставили!.. Сгорела! О о оо! для того я тебя леле… О о оо!
– Полно, Марья Николаевна, – тихим голосом обратился муж к жене, очевидно, для того только, чтобы оправдаться пред посторонним человеком. – Должно, сестрица унесла, а то больше где же быть? – прибавил он.
– Истукан! Злодей! – злобно закричала женщина, вдруг прекратив плач. – Сердца в тебе нет, свое детище не жалеешь. Другой бы из огня достал. А это истукан, а не человек, не отец. Вы благородный человек, – скороговоркой, всхлипывая, обратилась женщина к Пьеру. – Загорелось рядом, – бросило к нам. Девка закричала: горит! Бросились собирать. В чем были, в том и выскочили… Вот что захватили… Божье благословенье да приданую постель, а то все пропало. Хвать детей, Катечки нет. О, господи! О о о! – и опять она зарыдала. – Дитятко мое милое, сгорело! сгорело!
– Да где, где же она осталась? – сказал Пьер. По выражению оживившегося лица его женщина поняла, что этот человек мог помочь ей.
– Батюшка! Отец! – закричала она, хватая его за ноги. – Благодетель, хоть сердце мое успокой… Аниска, иди, мерзкая, проводи, – крикнула она на девку, сердито раскрывая рот и этим движением еще больше выказывая свои длинные зубы.
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся 17 июля
- Родившиеся в 1846 году
- Родившиеся в Новгородской губернии
- Умершие 14 апреля
- Умершие в 1888 году
- Умершие в Санкт-Петербурге
- Авторы ботанических таксонов
- Авторы зоологических таксонов
- Путешественники Российской империи
- Выпускники Второй Санкт-Петербургской гимназии
- Этнографы Российской империи
- Антропологи России
- Биологи Российской империи
- Биологи XIX века
- Похороненные на Литераторских мостках
- Обожествлённые люди
- Умершие от рака