Минимализм (музыка)
Минимали́зм в музыке — метод композиции на основе простейших звуковысотных и ритмических ячеек — «паттернов» (моделей)[1]. В ходе развёртывания композиции эти паттерны многократно повторяются и незначительно варьируются. Пик популярности минимализма в США пришёлся на вторую половину 1960-х гг. и первую половину 1970-х; в западной Европе и России интерес к минимализму отмечается до конца 1980-х гг.
Содержание
Краткая характеристика
В качестве модели для повторения (англ. pattern) композитор-минималист избирает отдельный звук, интервал, аккорд, мотив (краткую мелодическую фразу). Паттерны зачастую варьируются на протяжении долгого периода времени.
В основе эстетической концепции минимализма — идея статического времени, выдвигаемая в противовес экспрессивно-динамическому, психологическому переживанию времени, присущему европейской академической музыке Нового времени (приблизительно от 1600 г. до начала XX в.). Эта концепция закреплена в ряде высказываний (полутерминов-полуметафор) апологетов минимализма: «вертикальное время» (Джонатан Крамер), «накапливание» (Т.Райли), «постепенный процесс» (С.Райх), «аддитивность» (Ф.Гласс)[2]. Авторское «я» и (традиционная для европейской музыкальной культуры) идея опуса отрицаются. Произведение минималиста благодаря заложенному в композиции алгоритму развёртывания паттерна существует как бы само по себе; звуковые комбинации создаются и множатся как бы без вмешательства и контроля со стороны композитора.
Форма минималистского сочинения сводится к нанизыванию функционально и структурно тождественных разделов. Повторы моделей с незначительными изменениями и перестановками (т.наз. «репетитивность») делают музыку минималистов легко воспринимаемой на слух.
Композиторами-минималистами считаются американцы Т.Райли (например, «In C»), С.Райх («Piano phase»), Ф.Гласс («Музыка в 12 частях») и Дж. Адамс (в сочинениях 1970-х и 1980-х гг., например, «Shaker loops» и «Harmonium»), написавшие много минималистской музыки. Минимализм находят в некоторых сочинениях Л. Андриссена («De Staat», 1976; «Гокет», 1977), А. Пярта («Fratres», 1977)[3], Дж. Шельси («Четыре пьесы на одну ноту», 1959) и ряда других крупных композиторов XX века, которые использовали технику спорадически, но не считаются композиторами-минималистами.
В России целый ряд сочинений по методу минимализма написал В.И. Мартынов («Листок из альбома», 1976; «Passionslieder», 1977; «Come in!», 1985). Дань минимализму отдали Н.С. Корндорф («Ярило», 1981), А.Рабинович-Бараковский («Музыка печальная, порой трагическая», 1976), а также композиторы более молодого поколения (Антон Батагов, Алексей Айги, Павел Карманов, Михаил Чекалин и др.).
Минималистская музыка может иногда напоминать по звучанию разные формы электронной музыки (например проект Basic Channel), а также «текстурные композиции» таких композиторов, как Лигети[4][5]; зачастую происходит так, что конечные результаты похожи, но концепции реализации разные.
Термин
Термин «минимализм» был введен независимо композиторами-критиками Майклом Найманом и Томом Джонсоном, вызывал разногласия, но стал широко использоваться с середины 1970-х годов. Приложение одноименного термина визуального искусства к музыкальному было опротестовано; однако, и скульптура и музыка в минимализме используют определенную строгую простоту выразительных средств и неприятие декоративной детализации, к тому же многие ранние концерты минималистов происходили одновременно в соединении с выставками минималистического искусства таких мастеров, как Сол Ле Витт и других. Некоторые композиторы, ассоциирующиеся с минималистами, отрекаются от термина, в частности Филип Гласс, который как сообщают заявил, «Это слово должно быть искоренено!»[6]. Ради справедливости следует отметить, что практически во всяком новом течении раздаются голоса, категорически возражающие против его названия. Наиболее курьёзным примером такого рода являлся «главный импрессионист» Клод Дебюсси, который считал сам термин «импрессионизм» чем-то вроде ругательства.[7] Однако, несмотря на отдельные возражения, минимализм вошёл в практику и историю искусства конца XX века именно под этим названием.
Предтечи минимализма
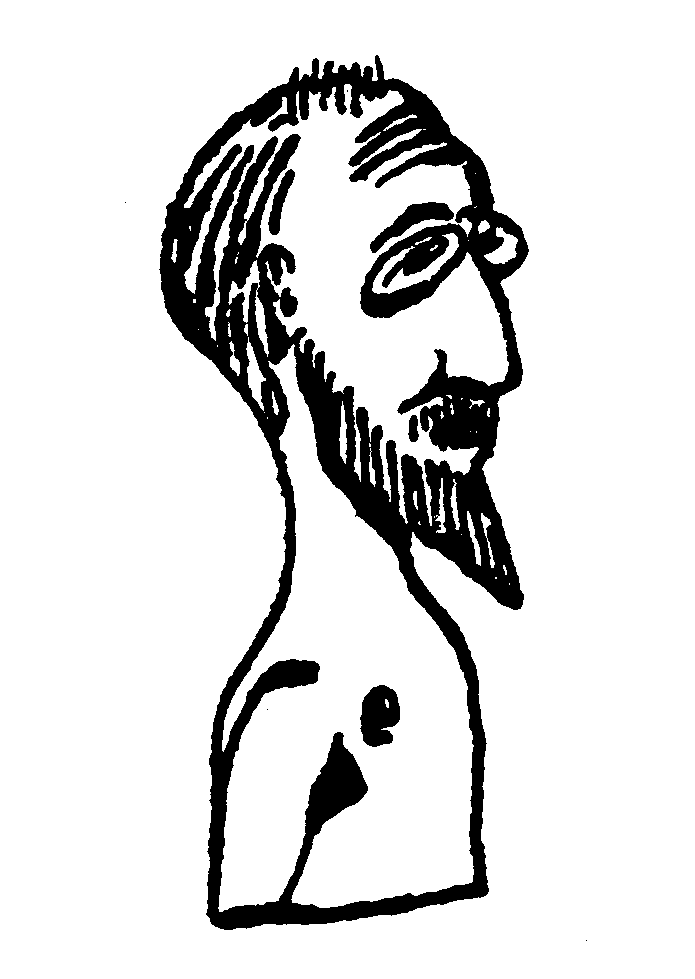 Первооткрывателем и предтечей минимализма, по признанию Джона Кейджа и, вслед за ним, большинства минималистов, явился эксцентричный французский композитор Эрик Сати, создавший в 1916 году жанр «меблировочной музыки», которая исполняется «не для того, чтобы её слушали, а для того, чтобы на неё не обращали ни малейшего внимания». Юрий Ханон называет предвосхищением будущего минимализма в музыке навязчивые инструментальные мотивчики Сати, звучащие в магазине, на выставке или в светском салоне во время приезда гостей, («раздражающие химеры», по выражению Жоржа Орика), которые повторяются десятки, и даже сотни раз без малейшего изменения и передышки.[8]:415 Это открытие Эрика Сати осталось не понятым и не поддержанным его современниками (кроме одного из его последователей, члена так называемой «французской шестёрки», композитора Дариюса Мийо).[9] Из наиболее известных образцов меблировочной музыки Эрика Сати можно назвать «Обои в кабинете префекта» (Париж, Нью-Йорк 1919)[10] и «Железный коврик для приёма гостей» (Париж, 1923).
Первооткрывателем и предтечей минимализма, по признанию Джона Кейджа и, вслед за ним, большинства минималистов, явился эксцентричный французский композитор Эрик Сати, создавший в 1916 году жанр «меблировочной музыки», которая исполняется «не для того, чтобы её слушали, а для того, чтобы на неё не обращали ни малейшего внимания». Юрий Ханон называет предвосхищением будущего минимализма в музыке навязчивые инструментальные мотивчики Сати, звучащие в магазине, на выставке или в светском салоне во время приезда гостей, («раздражающие химеры», по выражению Жоржа Орика), которые повторяются десятки, и даже сотни раз без малейшего изменения и передышки.[8]:415 Это открытие Эрика Сати осталось не понятым и не поддержанным его современниками (кроме одного из его последователей, члена так называемой «французской шестёрки», композитора Дариюса Мийо).[9] Из наиболее известных образцов меблировочной музыки Эрика Сати можно назвать «Обои в кабинете префекта» (Париж, Нью-Йорк 1919)[10] и «Железный коврик для приёма гостей» (Париж, 1923).
Эрик Сати объявлял эту музыку порождением промышленного века массового производства и потребления, конвейеров и штамповки, когда даже композиторский труд должен был потерять все черты индивидуальности.
«... «Меблировочная Музыка» заимствует промышленные способы организации звука для создания подробной Музыкальной Коммерции. «Меблировочная Музыка» глубоко индустриальна по своей природе и по своей сути. У людей существует обычное правило (способ употребления) – исполнять музыку в тех обстоятельствах, где музыке вообще делать нечего. Когда музыке нет места, тогда играют всякие попурри, «Вальсы», «Фантазии» из опер и другие, тому подобные вещи, написанные совсем для другого случая, а потому совершенно неуместные.
Мы впервые хотим ввести и узаконить музыку, специально созданную для полного удовлетворения «полезных» и «нужных» потребностей. Как совсем нетрудно догадаться, искусство в число таких (первейших) потребностей не входит, её не исполняют даже по малой нужде. «Меблировочная Музыка» создана из простого колебания воздуха; она не имеет никакой иной цели; она выполняет ту же роль, что свет, тепло – & комфорт в его различных проявлениях».[8] :437— (Эрик Сати, «Важные тезисы для Жана Кокто», 1-е марта 1920 г.)
Ещё более ранним образцом подобного рода музыки считается фортепианная пьеса «Vexations» (или «Раздражения»), написанная Эриком Сати на два десятилетия ранее, в апреле 1893 года в состоянии крайней степени досады.[8] :76 Пианисту, исполняющему эту пьесу, автором строго предписывается играть её восемьсот сорок раз подряд и без малейшего перерыва.[11] В общей сложности продолжительность такого исполнения могла бы варьировать в пределах до 24 часов. Переоткрытая много десятилетий спустя Джоном Кейджем, пьеса «Vexations» послужила предметом для нескольких фортепианных марафонов по всему миру, когда многочисленные исполнители пьесы, сменяя друг друга за клавиатурой, пытались точно привести в исполнение директиву автора.[12]
 Примером более мелкого и дробного применения принципа повторяемости музыкальных ячеек, является последнее произведение Эрика Сати, «Cinema» — музыка для фильма французского режиссёра Рене Клера «Relâche» (или «Антракт»). Написанная в ноябре 1924 года, она представляет собой применение произвольного числа повторов короткой музыкальной фразы для сопровождения немого кино. Этот приём позволил (в исполнении оркестра или большого ансамбля) длить каждую музыкальную тему столько времени, чтобы этого оказалось достаточным для сопровождения соответствующей сцены на экране, при этом смена изображения сразу же приводила к перемене сопровождения.[13]
Примером более мелкого и дробного применения принципа повторяемости музыкальных ячеек, является последнее произведение Эрика Сати, «Cinema» — музыка для фильма французского режиссёра Рене Клера «Relâche» (или «Антракт»). Написанная в ноябре 1924 года, она представляет собой применение произвольного числа повторов короткой музыкальной фразы для сопровождения немого кино. Этот приём позволил (в исполнении оркестра или большого ансамбля) длить каждую музыкальную тему столько времени, чтобы этого оказалось достаточным для сопровождения соответствующей сцены на экране, при этом смена изображения сразу же приводила к перемене сопровождения.[13]
Однако, кроме первого минималиста в музыке, композитора Эрика Сати у этого течения был и ещё один первооткрыватель. Это был его старший друг и земляк (тоже родом из нормандского города Онфлёр) эксцентричный французский писатель-юморист Альфонс Алле, глава авангардной школы фумистов. Альфонс Алле в 1897 году, спустя четыре года после «Раздражений» Сати, опубликовал и «привёл в исполнение» своё произведение: «Траурный марш для похорон великого глухого», который не содержал ни одной ноты. Только надгробное молчание, в знак уважения к тому правилу, что большие скорби — всегда немы.[14] Партитура этого марша представляла собой пустую страницу нотной бумаги.[15]:35
Таким образом, почти за полвека до предсмертного молчания Эрвина Шульхофа и за шестьдесят лет до известной пьесы «4’33″» Джона Кейджа, представляющей собой «четыре минуты тридцать три секунды молчания» в исполнении произвольных музыкальных инструментов французский писатель и художник, но прежде всего фумист Альфонс Алле создал свою аналогичную пьесу, которая стала первым примером минималистической музыкальной композиции.[15]:35 Правда, выставляя в 1882-1884 годах свой «Чёрный почти квадрат» (за тридцать лет до Малевича), Альфонс Алле не пытался выглядеть философом или первооткрывателем.[15]:32 Например, свой «Чёрный квадрат» он назвал не «супрематизмом», а просто «Дракой негров в глубокой пещере тёмной ночью».[14] Так же поступил он и с траурным маршем, не называя своё открытие «силентизмом» или «магической музыкой тишины».
Постминимализм
По мере завоевания минимализмом интереса у широкой публики и освоения минималистических техник новым поколением композиторов, сложилось ещё одно музыкальное движение: Постминимализм.
См. также
Напишите отзыв о статье "Минимализм (музыка)"
Примечания
- ↑ Катунян М.И. Минимализм // Большая российская энциклопедия. Т.20. М., 2012, с.371.
- ↑ Под «аддитивностью» Гласс понимал разновидность композиционной техники: «когда мелодическая фигура из 5-6 нот приобретает различные ритмические очертания из-за добавления или убавления одной ноты».
- ↑ Сам Пярт не относит себя к минималистам.
- ↑ [archive.is/20120720230923/www.bbc.co.uk/radio3/johntusainterview/ligeti_transcript.shtml Стенограмма интервью Джона Туса с Дьёрдем Лигети]
- ↑ [www.compositiontoday.com/articles/ligeti.asp Гэвин Томас знакомит с работами Дьёрдя Лигети] (англ.)
- ↑ [www.philipglass.com/html/recordings/music-in-12-parts.html PhilipGlass.com — Music in Twelve Parts]
- ↑ Politoske Daniel T. Music, Fourth Edition. — Prentice Hall, 1988. — P. 419. — ISBN 0-13-607616-5.
- ↑ 1 2 3 Эрик Сати, Юрий Ханон. «Воспоминания задним числом». — СПб.: Центр Средней Музыки & Лики России, 2010. — 682 с.
- ↑ Erik Satie. «Correspondance presque complete». — Paris: Fayard / Imec, 2000. — С. 395-397.
- ↑ Erik Satie. «Correspondance presque complete». — Paris: Fayard / Imec, 2000. — С. 529.
- ↑ Erik Satie. «Ecrits». — Paris: Editions Gerard Lebovici, 1990. — С. 285.
- ↑ Erik Satie. «Ecrits». — Paris: Editions Gerard Lebovici, 1990. — С. 314-316.
- ↑ Эрик Сати, Юрий Ханон. «Воспоминания задним числом». — СПб.: Центр Средней Музыки & Лики России, 2010. — С. 626. — 682 с. — ISBN 978-5-87417-338-8.
- ↑ 1 2 Erik Satie. «Ecrits». — Paris: Editions Gerard Lebovici, 1990. — С. 242.
- ↑ 1 2 3 Юрий Ханон. «Альфонс, которого не было». — СПб.: Центр Средней Музыки & Лики России, 2013. — 544 с. — ISBN 978-5-87417-421-7.
Литература
- Поспелов П.Г. Минимализм и репетитивная техника // Музыкальная академия, 1992, №4.
- Strickland E. Minimalism: origins. Bloomington, 1993.
- Lovisa F.R. Minimal music: Entwicklung, Komponisten, Werke. Darmstadt, 1996.
- Катунян М.И. Минимализм // Большая российская энциклопедия. Т.20. М., 2012, с.371.
- Эрик Сати, Юрий Ханон, «Воспоминания задним числом», СПб., ЦСМ & Лики России, 2009 г., 682 стр. ISBN 978-5-87417-338-8
- Юрий Ханон, «Альфонс, которого не было». — СПб.: Центр Средней Музыки & Лики России, 2013. — 544 с. — ISBN 978-5-87417-421-7
Ссылки
- [www.philipglass.com/ Филипп Гласс: жизнь и музыка]
- Юрий Ханон: [khanograf.ru/arte/Минимализм_до_минимализма_(Этика_в_эстетике) «Минимализм до минимализма» (культурно-историческое эссе на сайте Хано́граф)]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||
Отрывок, характеризующий Минимализм (музыка)
Соня грустно вздохнула.– Но ведь ты не отказала Болконскому, – сказала она.
– А может быть я и отказала! Может быть с Болконским всё кончено. Почему ты думаешь про меня так дурно?
– Я ничего не думаю, я только не понимаю этого…
– Подожди, Соня, ты всё поймешь. Увидишь, какой он человек. Ты не думай дурное ни про меня, ни про него.
– Я ни про кого не думаю дурное: я всех люблю и всех жалею. Но что же мне делать?
Соня не сдавалась на нежный тон, с которым к ней обращалась Наташа. Чем размягченнее и искательнее было выражение лица Наташи, тем серьезнее и строже было лицо Сони.
– Наташа, – сказала она, – ты просила меня не говорить с тобой, я и не говорила, теперь ты сама начала. Наташа, я не верю ему. Зачем эта тайна?
– Опять, опять! – перебила Наташа.
– Наташа, я боюсь за тебя.
– Чего бояться?
– Я боюсь, что ты погубишь себя, – решительно сказала Соня, сама испугавшись того что она сказала.
Лицо Наташи опять выразило злобу.
– И погублю, погублю, как можно скорее погублю себя. Не ваше дело. Не вам, а мне дурно будет. Оставь, оставь меня. Я ненавижу тебя.
– Наташа! – испуганно взывала Соня.
– Ненавижу, ненавижу! И ты мой враг навсегда!
Наташа выбежала из комнаты.
Наташа не говорила больше с Соней и избегала ее. С тем же выражением взволнованного удивления и преступности она ходила по комнатам, принимаясь то за то, то за другое занятие и тотчас же бросая их.
Как это ни тяжело было для Сони, но она, не спуская глаз, следила за своей подругой.
Накануне того дня, в который должен был вернуться граф, Соня заметила, что Наташа сидела всё утро у окна гостиной, как будто ожидая чего то и что она сделала какой то знак проехавшему военному, которого Соня приняла за Анатоля.
Соня стала еще внимательнее наблюдать свою подругу и заметила, что Наташа была всё время обеда и вечер в странном и неестественном состоянии (отвечала невпопад на делаемые ей вопросы, начинала и не доканчивала фразы, всему смеялась).
После чая Соня увидала робеющую горничную девушку, выжидавшую ее у двери Наташи. Она пропустила ее и, подслушав у двери, узнала, что опять было передано письмо. И вдруг Соне стало ясно, что у Наташи был какой нибудь страшный план на нынешний вечер. Соня постучалась к ней. Наташа не пустила ее.
«Она убежит с ним! думала Соня. Она на всё способна. Нынче в лице ее было что то особенно жалкое и решительное. Она заплакала, прощаясь с дяденькой, вспоминала Соня. Да это верно, она бежит с ним, – но что мне делать?» думала Соня, припоминая теперь те признаки, которые ясно доказывали, почему у Наташи было какое то страшное намерение. «Графа нет. Что мне делать, написать к Курагину, требуя от него объяснения? Но кто велит ему ответить? Писать Пьеру, как просил князь Андрей в случае несчастия?… Но может быть, в самом деле она уже отказала Болконскому (она вчера отослала письмо княжне Марье). Дяденьки нет!» Сказать Марье Дмитриевне, которая так верила в Наташу, Соне казалось ужасно. «Но так или иначе, думала Соня, стоя в темном коридоре: теперь или никогда пришло время доказать, что я помню благодеяния их семейства и люблю Nicolas. Нет, я хоть три ночи не буду спать, а не выйду из этого коридора и силой не пущу ее, и не дам позору обрушиться на их семейство», думала она.
Анатоль последнее время переселился к Долохову. План похищения Ростовой уже несколько дней был обдуман и приготовлен Долоховым, и в тот день, когда Соня, подслушав у двери Наташу, решилась оберегать ее, план этот должен был быть приведен в исполнение. Наташа в десять часов вечера обещала выйти к Курагину на заднее крыльцо. Курагин должен был посадить ее в приготовленную тройку и везти за 60 верст от Москвы в село Каменку, где был приготовлен расстриженный поп, который должен был обвенчать их. В Каменке и была готова подстава, которая должна была вывезти их на Варшавскую дорогу и там на почтовых они должны были скакать за границу.
У Анатоля были и паспорт, и подорожная, и десять тысяч денег, взятые у сестры, и десять тысяч, занятые через посредство Долохова.
Два свидетеля – Хвостиков, бывший приказный, которого употреблял для игры Долохов и Макарин, отставной гусар, добродушный и слабый человек, питавший беспредельную любовь к Курагину – сидели в первой комнате за чаем.
В большом кабинете Долохова, убранном от стен до потолка персидскими коврами, медвежьими шкурами и оружием, сидел Долохов в дорожном бешмете и сапогах перед раскрытым бюро, на котором лежали счеты и пачки денег. Анатоль в расстегнутом мундире ходил из той комнаты, где сидели свидетели, через кабинет в заднюю комнату, где его лакей француз с другими укладывал последние вещи. Долохов считал деньги и записывал.
– Ну, – сказал он, – Хвостикову надо дать две тысячи.
– Ну и дай, – сказал Анатоль.
– Макарка (они так звали Макарина), этот бескорыстно за тебя в огонь и в воду. Ну вот и кончены счеты, – сказал Долохов, показывая ему записку. – Так?
– Да, разумеется, так, – сказал Анатоль, видимо не слушавший Долохова и с улыбкой, не сходившей у него с лица, смотревший вперед себя.
Долохов захлопнул бюро и обратился к Анатолю с насмешливой улыбкой.
– А знаешь что – брось всё это: еще время есть! – сказал он.
– Дурак! – сказал Анатоль. – Перестань говорить глупости. Ежели бы ты знал… Это чорт знает, что такое!
– Право брось, – сказал Долохов. – Я тебе дело говорю. Разве это шутка, что ты затеял?
– Ну, опять, опять дразнить? Пошел к чорту! А?… – сморщившись сказал Анатоль. – Право не до твоих дурацких шуток. – И он ушел из комнаты.
Долохов презрительно и снисходительно улыбался, когда Анатоль вышел.
– Ты постой, – сказал он вслед Анатолю, – я не шучу, я дело говорю, поди, поди сюда.
Анатоль опять вошел в комнату и, стараясь сосредоточить внимание, смотрел на Долохова, очевидно невольно покоряясь ему.
– Ты меня слушай, я тебе последний раз говорю. Что мне с тобой шутить? Разве я тебе перечил? Кто тебе всё устроил, кто попа нашел, кто паспорт взял, кто денег достал? Всё я.
– Ну и спасибо тебе. Ты думаешь я тебе не благодарен? – Анатоль вздохнул и обнял Долохова.
– Я тебе помогал, но всё же я тебе должен правду сказать: дело опасное и, если разобрать, глупое. Ну, ты ее увезешь, хорошо. Разве это так оставят? Узнается дело, что ты женат. Ведь тебя под уголовный суд подведут…
– Ах! глупости, глупости! – опять сморщившись заговорил Анатоль. – Ведь я тебе толковал. А? – И Анатоль с тем особенным пристрастием (которое бывает у людей тупых) к умозаключению, до которого они дойдут своим умом, повторил то рассуждение, которое он раз сто повторял Долохову. – Ведь я тебе толковал, я решил: ежели этот брак будет недействителен, – cказал он, загибая палец, – значит я не отвечаю; ну а ежели действителен, всё равно: за границей никто этого не будет знать, ну ведь так? И не говори, не говори, не говори!
– Право, брось! Ты только себя свяжешь…
– Убирайся к чорту, – сказал Анатоль и, взявшись за волосы, вышел в другую комнату и тотчас же вернулся и с ногами сел на кресло близко перед Долоховым. – Это чорт знает что такое! А? Ты посмотри, как бьется! – Он взял руку Долохова и приложил к своему сердцу. – Ah! quel pied, mon cher, quel regard! Une deesse!! [О! Какая ножка, мой друг, какой взгляд! Богиня!!] A?
Долохов, холодно улыбаясь и блестя своими красивыми, наглыми глазами, смотрел на него, видимо желая еще повеселиться над ним.
– Ну деньги выйдут, тогда что?
– Тогда что? А? – повторил Анатоль с искренним недоумением перед мыслью о будущем. – Тогда что? Там я не знаю что… Ну что глупости говорить! – Он посмотрел на часы. – Пора!
Анатоль пошел в заднюю комнату.
– Ну скоро ли вы? Копаетесь тут! – крикнул он на слуг.
Долохов убрал деньги и крикнув человека, чтобы велеть подать поесть и выпить на дорогу, вошел в ту комнату, где сидели Хвостиков и Макарин.
Анатоль в кабинете лежал, облокотившись на руку, на диване, задумчиво улыбался и что то нежно про себя шептал своим красивым ртом.
– Иди, съешь что нибудь. Ну выпей! – кричал ему из другой комнаты Долохов.
– Не хочу! – ответил Анатоль, всё продолжая улыбаться.
– Иди, Балага приехал.
Анатоль встал и вошел в столовую. Балага был известный троечный ямщик, уже лет шесть знавший Долохова и Анатоля, и служивший им своими тройками. Не раз он, когда полк Анатоля стоял в Твери, с вечера увозил его из Твери, к рассвету доставлял в Москву и увозил на другой день ночью. Не раз он увозил Долохова от погони, не раз он по городу катал их с цыганами и дамочками, как называл Балага. Не раз он с их работой давил по Москве народ и извозчиков, и всегда его выручали его господа, как он называл их. Не одну лошадь он загнал под ними. Не раз он был бит ими, не раз напаивали они его шампанским и мадерой, которую он любил, и не одну штуку он знал за каждым из них, которая обыкновенному человеку давно бы заслужила Сибирь. В кутежах своих они часто зазывали Балагу, заставляли его пить и плясать у цыган, и не одна тысяча их денег перешла через его руки. Служа им, он двадцать раз в году рисковал и своей жизнью и своей шкурой, и на их работе переморил больше лошадей, чем они ему переплатили денег. Но он любил их, любил эту безумную езду, по восемнадцати верст в час, любил перекувырнуть извозчика и раздавить пешехода по Москве, и во весь скок пролететь по московским улицам. Он любил слышать за собой этот дикий крик пьяных голосов: «пошел! пошел!» тогда как уж и так нельзя было ехать шибче; любил вытянуть больно по шее мужика, который и так ни жив, ни мертв сторонился от него. «Настоящие господа!» думал он.
Анатоль и Долохов тоже любили Балагу за его мастерство езды и за то, что он любил то же, что и они. С другими Балага рядился, брал по двадцати пяти рублей за двухчасовое катанье и с другими только изредка ездил сам, а больше посылал своих молодцов. Но с своими господами, как он называл их, он всегда ехал сам и никогда ничего не требовал за свою работу. Только узнав через камердинеров время, когда были деньги, он раз в несколько месяцев приходил поутру, трезвый и, низко кланяясь, просил выручить его. Его всегда сажали господа.
– Уж вы меня вызвольте, батюшка Федор Иваныч или ваше сиятельство, – говорил он. – Обезлошадничал вовсе, на ярманку ехать уж ссудите, что можете.
И Анатоль и Долохов, когда бывали в деньгах, давали ему по тысяче и по две рублей.
Балага был русый, с красным лицом и в особенности красной, толстой шеей, приземистый, курносый мужик, лет двадцати семи, с блестящими маленькими глазами и маленькой бородкой. Он был одет в тонком синем кафтане на шелковой подкладке, надетом на полушубке.
Он перекрестился на передний угол и подошел к Долохову, протягивая черную, небольшую руку.
– Федору Ивановичу! – сказал он, кланяясь.
– Здорово, брат. – Ну вот и он.
– Здравствуй, ваше сиятельство, – сказал он входившему Анатолю и тоже протянул руку.
– Я тебе говорю, Балага, – сказал Анатоль, кладя ему руки на плечи, – любишь ты меня или нет? А? Теперь службу сослужи… На каких приехал? А?
– Как посол приказал, на ваших на зверьях, – сказал Балага.
– Ну, слышишь, Балага! Зарежь всю тройку, а чтобы в три часа приехать. А?
– Как зарежешь, на чем поедем? – сказал Балага, подмигивая.
– Ну, я тебе морду разобью, ты не шути! – вдруг, выкатив глаза, крикнул Анатоль.
– Что ж шутить, – посмеиваясь сказал ямщик. – Разве я для своих господ пожалею? Что мочи скакать будет лошадям, то и ехать будем.
– А! – сказал Анатоль. – Ну садись.
– Что ж, садись! – сказал Долохов.
– Постою, Федор Иванович.
– Садись, врешь, пей, – сказал Анатоль и налил ему большой стакан мадеры. Глаза ямщика засветились на вино. Отказываясь для приличия, он выпил и отерся шелковым красным платком, который лежал у него в шапке.
– Что ж, когда ехать то, ваше сиятельство?
– Да вот… (Анатоль посмотрел на часы) сейчас и ехать. Смотри же, Балага. А? Поспеешь?
– Да как выезд – счастлив ли будет, а то отчего же не поспеть? – сказал Балага. – Доставляли же в Тверь, в семь часов поспевали. Помнишь небось, ваше сиятельство.
– Ты знаешь ли, на Рожество из Твери я раз ехал, – сказал Анатоль с улыбкой воспоминания, обращаясь к Макарину, который во все глаза умиленно смотрел на Курагина. – Ты веришь ли, Макарка, что дух захватывало, как мы летели. Въехали в обоз, через два воза перескочили. А?
– Уж лошади ж были! – продолжал рассказ Балага. – Я тогда молодых пристяжных к каурому запрег, – обратился он к Долохову, – так веришь ли, Федор Иваныч, 60 верст звери летели; держать нельзя, руки закоченели, мороз был. Бросил вожжи, держи, мол, ваше сиятельство, сам, так в сани и повалился. Так ведь не то что погонять, до места держать нельзя. В три часа донесли черти. Издохла левая только.
Анатоль вышел из комнаты и через несколько минут вернулся в подпоясанной серебряным ремнем шубке и собольей шапке, молодцовато надетой на бекрень и очень шедшей к его красивому лицу. Поглядевшись в зеркало и в той самой позе, которую он взял перед зеркалом, став перед Долоховым, он взял стакан вина.
– Ну, Федя, прощай, спасибо за всё, прощай, – сказал Анатоль. – Ну, товарищи, друзья… он задумался… – молодости… моей, прощайте, – обратился он к Макарину и другим.

