Письменность
Пи́сьменность — знаковая система, предназначенная для формализации, фиксации и передачи тех или иных данных (речевой информации и др. элементов смысла безотносительно к их языковой форме) на расстоянии и придания этим данным вневременного характера. Письменность — одна из форм существования человеческого языка.
Мельчайшие смыслоразличительные единицы письма — графемы.
Содержание
- 1 Общие характеристики
- 2 Основная терминология
- 3 Этапы формирования письменности
- 4 Типы письменности человеческих языков
- 5 Основные виды письменностей
- 5.1 Древние письменности Ближнего Востока и Средиземноморья
- 5.2 Семитское (звуковое) письмо и его производные (кроме греческого)
- 5.3 Греческий и возникшие на его основе алфавиты
- 5.4 Индийское письмо (слоговое)
- 5.5 Китайское письмо и его производные
- 5.6 Другие древние и средневековые письменности
- 5.7 Письменности, возникшие в XVIII—XX веках
- 5.8 Письменности для искусственных языков
- 5.9 Нерасшифрованные письменности
- 6 Письменности для жестовых языков
- 7 См. также
- 8 Примечания
- 9 Литература
- 10 Ссылки
Общие характеристики
Письменность отличается от других существующих или возможных систем символической коммуникации тем, что всегда ассоциируется с некоторым языком и устной речью на этом языке. В противоположность письменности, разного рода визуально-графические представления информации — такие, как рисунки, картины, невербальные картографические элементы и т. д. — не соотнесены с каким-либо конкретным языком. Символы на информационных знаках (изображения мужчины и женщины, например) также не относятся к языку, хотя могут стать его частью в том случае, если активно используются в сочетании с другими языковыми элементами. Некоторые другие символические обозначения — цифры, логограммы — не имеют прямой связи с определенным языком, но часто используются на письме и таким образом могут считаться частью письменности.
Язык свойственен каждому человеческому сообществу, и этот факт может рассматриваться как неотъемлемая и определяющая характеристика всего человечества в целом. Однако развитие письменности и процесс постепенного вытеснения ею традиционных устных форм общения были спорадическими, неравномерными и медленными. Единожды установившись, письменность в общем случае претерпевает изменения менее охотно, нежели устная речь, сохраняя тем самым черты и конкретные выражения, не характерные более для актуального состояния живого языка. Одно из наиболее существенных преимуществ использования письменности состоит в возможности создания постоянных записей информации, выраженной средствами языка.
Для возникновения и существования письменности требуются:
- по крайней мере один набор определенных базовых элементов или символов, которые по отдельности называются знаками, а в совокупности — системой письма;
- по крайней мере один набор правил и условий (то есть орфография), понятный сообществу и используемый всеми или большинством его участников, который определяет значение базовых элементов (графем), порядок их следования и взаимоотношения друг с другом;
- по крайней мере один язык, распространенный в сообществе, конструкции которого отражаются в этих элементах и правилах, а также могут быть из них восстановлены путём интерпретации написанного;
- какие-либо физические средства отчетливого представления символов на каком-либо постоянном или отчасти непостоянном носителе, так, чтобы их можно было считать оттуда тем или иным способом (визуально или на ощупь).
Для большинства систем письма характерно такое упорядочение символических элементов, которое позволяет объединять их в более масштабные и крупноразмерные кластеры — слова, акронимы и другие лексемы, — за счет чего создается возможность передачи существенно большего количества значений, нежели то, которое может быть обеспечено самим символами. С целью достижения максимально полной передачи языкового содержания в системах письма используется также конкатенация малых групп символов. Во многих системах письма используется особый набор знаков — пунктуация, — посредством которого обеспечивается дополнительное структурирование и организация письменной речи, а также передача особенностей сообщения, которые передаются в речи посредством пауз, тона, ударения, интонирования и т. д. Кроме того, письменность обычно располагает определенным методом форматирования записанных сообщений, который следует правилам устной речи (грамматике, синтаксису и др.), дабы читающий имел возможность воспринять значение записанного сообщения как можно более точно.
Основная терминология
При рассмотрении конкретных систем письма изучение письменности в целом развивалось по нескольким, частично не связанным друг с другом направлениям. В силу этого используемая терминология может некоторым образом варьироваться в зависимости от той или иной области исследования.
Обобщенный термин «текст» относится к образцу письменного материала. Действие по порождению и записи текста, соответственно, определяется как письмо, а действие по просмотру и интерпретации текста — как чтение. Методология и правила, регулирующие соблюдение определенной структуры и последовательности письменных знаков, объединяются под наименованием орфографии, в рамках которой применительно к алфавитным системам письменности выделяется также и понятие правописания.
Специфическая базовая единица письменности, как уже говорилось выше, — графема. Графемы представляют собой минимальные значимые единицы, чья совокупность охватывает весь набор конструктивных элементов, из которых в соответствии с правилами их соотнесения и использования могут быть составлены записанные в одной или нескольких системах письма тексты. Данная концепция схожа с представлениями о фонеме, которые существуют в области изучения устной речи. Основными графемами для русского языка, к примеру, являются прописные и строчные буквы алфавита, соответствующие определенным фонемам, пунктуационные знаки, соответствующие ритмико-интонационному рисунку речи, и некоторые другие символы наподобие цифр.
Та или иная графема может быть представлена различными способами, причем каждая конкретная её запись может визуально отличаться от другой, но, тем не менее, все они будут интерпретироваться одинаково. Аналогично тому, как конкретный звук называется аллофоном фонемы, конкретная запись определяется как аллограф графемы. Тремя разными аллографами можно, к примеру, считать одну и ту же букву, набранную жирным шрифтом, подчеркнутым и курсивом. Выбор конкретного аллографа диктуется используемым носителем информации, средством записи, авторской стилистикой пишущего, особенностями предыдущих и последующих графем, временными ограничениями, предполагаемой аудиторией, преимущественно не осознаваемыми чертами индивидуального почерка и т. п.
Иногда для обозначения графемы используются термины «глиф», «знак», «символ» и им подобные. Конкретные значения этих терминов варьируются в зависимости от той или иной области знания; можно заметить, к примеру, что глифы в большинстве систем письма состоят из линий или черт и в силу этого называются линейными, однако в определенных разновидностях письменности они могут состоять из других конструктивных элементов (допустим, точек в шрифте Брайля) и, тем не менее, также именоваться глифами.
Письменность условна, как и язык, с которым она соотнесена. Степень её полноты определяется тем, насколько успешно она способна представлять в той или иной форме все то, что может быть выражено средствами устной речи.
Этапы формирования письменности
Современная письменность прошла достаточно длительный период становления. Можно выделить следующие этапы её формирования:
Предметное письмо
Изначально люди не обладали никакой письменностью. Поэтому было достаточно трудно передавать информацию на большие расстояния. Известная легенда (рассказанная Геродотом) о персидском царе Дарии I гласит, что как-то раз он получил послание от кочевников скифов. Послание включало в себя следующие четыре предмета: птицу, мышь, лягушку и стрелы. Гонец, доставивший послание, сообщил, что более ничего сообщать ему не велено, и с тем распрощался с царем. Встал вопрос, как же интерпретировать это послание скифов. Царь Дарий посчитал, что скифы отдают себя в его власть и в знак покорности принесли ему землю, воду и небо, ибо мышь означает землю, лягушка — воду, птица — небо, а стрелы означают, что скифы отказываются от сопротивления. Однако один из мудрецов возразил Дарию. Он истолковал послание скифов совершенно иначе: «Если вы, персы, как птицы не улетите в небо, или, как мыши не зароетесь в землю, или, как лягушки, не поскачете в болото, то не вернетесь назад, пораженные этими стрелами». Как оказалось в дальнейшем, этот мудрец был прав.
Пересказанная легенда раскрывает тот факт, что первоначально люди пытались передавать информацию при помощи различных предметов. Известными историческими примерами предметного письма также являются вампум (ирокезское письмо, представленное разноцветными ракушками, нанизанными на веревку) и кипу (перуанское письмо, в котором информация передавалась цветом и количеством узелков на веревках). Конечно, предметное письмо не было самым удобным средством передачи информации и со временем люди придумали более универсальные инструменты.
Пиктографическое письмо
Следующим этапом на пути формирования письменности стало письмо на основе изображений (пиктограмм). Можно вспомнить, что зарождение изобразительного искусства произошло ещё во времена древних людей прежде появления государственности. Однако эти ранние попытки все же не доходили до уровня систематически используемого для передачи информации инструмента. Сущность пиктографического письма заключается в том, что с помощью определенного знака выражается некоторое понятие. Например, понятие «человек» может быть передано изображением человека. Постепенно упрощаясь, пиктограммы все более удаляются от исходных изображений, начинают приобретать множественные значения.
Однако пиктография не могла выполнять все потребности письма, возникающие с развитием понятий и абстрактного мышления, и тогда рождается идеография («письмо понятиями»). Она используется для передачи того, что не обладает наглядностью. Например, для обозначения понятия «зоркость», которое нарисовать невозможно, изображали тот орган, через который оно проявляется, то есть — глаз. Таким образом, рисунок глаза как пиктограмма означает «глаз» и как идеограмма — «зоркость». Следовательно, рисунок мог иметь прямое и переносное значения.[1]
Иероглифическое письмо
 В иероглифическом письме зачастую трудно различить исходное изображение, лежащее в его основе. В иероглифах появляются типичные конструктивные элементы, повторяющиеся в разных знаках. Вероятно, причиной этого было стремление человека упростить запись письменного текста, упростить обучение письму. Тем не менее, иероглифическое письмо по-прежнему сохраняло существенный недостаток: оно не имело никакой связи с произношением слова. В результате письменная и устная речь существовали как бы по отдельности. Кроме того, в языках, для которых характерно изменение формы слова в зависимости от его синтаксической роли, приходилось дополнять иероглифы специальными обозначениями для форм слов.
В иероглифическом письме зачастую трудно различить исходное изображение, лежащее в его основе. В иероглифах появляются типичные конструктивные элементы, повторяющиеся в разных знаках. Вероятно, причиной этого было стремление человека упростить запись письменного текста, упростить обучение письму. Тем не менее, иероглифическое письмо по-прежнему сохраняло существенный недостаток: оно не имело никакой связи с произношением слова. В результате письменная и устная речь существовали как бы по отдельности. Кроме того, в языках, для которых характерно изменение формы слова в зависимости от его синтаксической роли, приходилось дополнять иероглифы специальными обозначениями для форм слов.
Слоговое письмо
Значительным шагом на пути сближения устной и письменной речи стало формирование слоговой письменности. Наиболее известными слоговыми письменностями являются клинописные (древнеперсидская, аккадская и другие наследники шумерского письма), западносемитские (финикийская, арабская и другие наследники древнеегипетской иероглифики) и японские слоговые системы (катакана и хирагана). Финикийское письмо сыграло в жизни человечества очень важную роль. Именно оно легло в основу греческого письма, от которого произошли латиница, кириллица и соответственно большинство современных письменностей.
Алфавитное письмо
Когда финикийским письмом стали пользоваться греки, они столкнулись с проблемой полноценной передачи звучания слов с помощью слоговой финикийской системы. Дело в том, что в финикийском письме, по существу, отсутствовали буквы для обозначения гласных звуков. Для греков в силу специфики образования форм слов это оказалось неудобным. Поэтому появились специальные символы для обозначения гласных. В результате письмо перешло на ещё более универсальный уровень. Теперь используя порядка 30 знаков, которые с легкостью мог выучить любой человек, можно было передать практически любые слова устной речи. Алфавитное письмо в силу своей простоты быстро распространилось по всему миру (хотя в некоторых цивилизациях переход к нему не произошёл).
Типы письменности человеческих языков
- Пиктографический — письменный знак привязан к определенному объекту.
- Идеографический — письменный знак привязан к определённому смыслу.
- Фоноидеографический — письменный знак привязан и к смыслу, и к звучанию
- Логографический — письменный знак обозначает определённое слово
- Морфемный — письменный знак обозначает определённую морфему (см. «Китайская письменность»)
- Фонетический — письменный знак привязан к определённому звучанию
- слоговой (силлабический) — каждый письменный знак обозначает определённый слог. Различают:
- собственно слоговое письмо — слоги с одинаковой согласной, но с разными гласными обозначаются совершенно разными знаками (например, японская кана);
- абугида — такие слоги обозначаются видоизменёнными формами одного базового знака (например, эфиопское письмо) и/или дополнительными знаками (индийское письмо)
- консонантный (квазиалфавитный) — на письме обозначаются только согласные. При своем развитии такие системы письма, как правило, обогащаются системами огласовок, в которых с помощью диакритических или дополнительных знаков можно обозначать гласные
- Консонантно-вокалическое письмо — буквы обозначают как гласные, так и согласные; на письме в целом соблюдается соответствие «одна графема (письменный знак) есть одна фонема».
- слоговой (силлабический) — каждый письменный знак обозначает определённый слог. Различают:
Алфавитами называют фонетические письменности, имеющие стандартный, так называемый, алфавитный порядок знаков. Знаки алфавитов называются буквами.
Вышеприведённые системы в чистом виде встречаются редко, обычно к базовой системе примешиваются элементы других систем.
Выражение «иероглифическое письмо» не имеет чётко определённого смысла.
- Древнеегипетское иероглифическое письмо было слоговым с элементами других систем.
- Древнекитайское иероглифическое письмо было логографическим, современное китайское — морфемное.
Основные виды письменностей
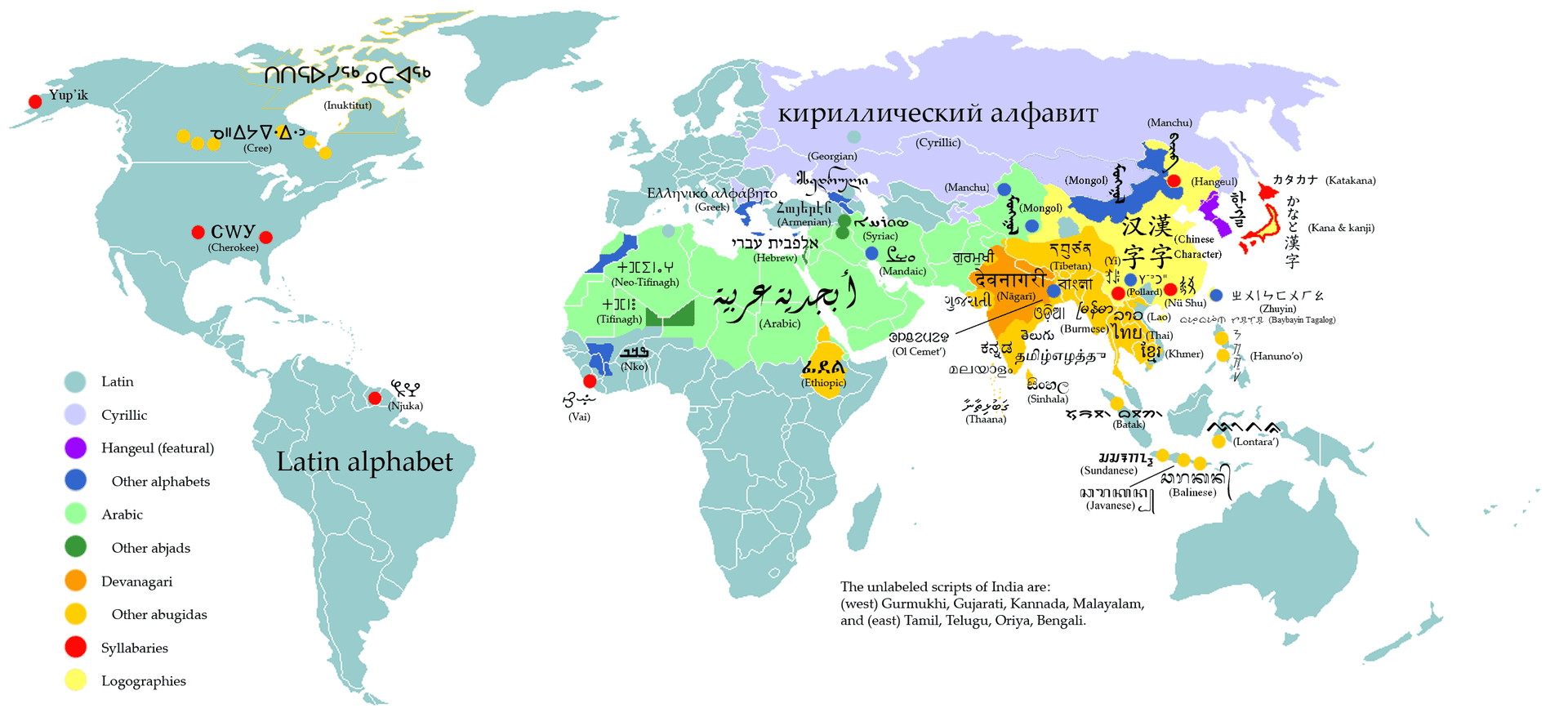
Ниже приводятся основные виды письменностей, сгруппированные по общему происхождению или региону.
Древние письменности Ближнего Востока и Средиземноморья
- Египетское письмо
- Клинопись
- Эламская иероглифика
- Лувийская иероглифика
- Критское письмо и его потомки — Линейное письмо А, Линейное письмо Б, Кипро-минойское письмо, Кипрское письмо
Семитское (звуковое) письмо и его производные (кроме греческого)
- Библское письмо
- Протоханаанейская письменность
- Протосинайская письменность
- Угаритский алфавит (клинописный)
- Древнеханаанейское письмо
- Финикийское письмо
- Моавитское письмо
- Палеоеврейское письмо
- Арамейское письмо
- Еврейский алфавит (квадратное письмо)
- Пальмирское письмо
- Сирийское письмо (эстрангело, несторианское и серто)
- Арабский алфавит
- Согдийское письмо
- Древнеливийское письмо (нумидийское)
- Древнеливийское письмо (Тифинаг)
- Турдетанское письмо
- недешифрованное письмо гуанчей
- Южноаравийское письмо
- Малоазийские алфавиты
- Иберское письмо
Системы, возникшие под влиянием семитоидных письменностей
- Иссыкское письмо
- Орхонские руны
- Болгарские руны
- Венгерские руны
- Тана (габули тана) для мальдивского языка, с 17 в. под арабским влиянием
Греческий и возникшие на его основе алфавиты
Письменности, возникшие под влиянием грекоидных
- Руны (германские)
- Армянский алфавит
- Грузинское письмо
- Агванское письмо
Индийское письмо (слоговое)
Китайское письмо и его производные
- Китайское письмо
- Японское слоговое письмо
- Чжурчжэньское письмо
- Киданьское письмо
- Тангутское письмо
- Чжуанское письмо
- Корейское письмо (Хангыль) — внешне оформлено в стиле китайского письма (которое также используется в Южной Корее), содержательно же является совершенно независимым буквенным письмом.
Другие древние и средневековые письменности
- Письмо майя
- Письмо ацтеков
- Письмо цуань для языков и (Китай)
- Письмо донгба (наси, Китай)
- Огамическое письмо
- Древнепермская письменность (абур)
Письменности, возникшие в XVIII—XX веках
Как правило, эти письменности были созданы миссионерами или носителями языков, под влиянием самой идеи письма.
Азия
- Письменности пахау и Полларда для языков мяо (Индокитай)
- Письмо Кая-ли для языка красных каренов и для некоторых его диалектов (Мьянма, Таиланд)
- Варанг-кшити для языка хо (языки мунда, Индия)
- Ол-чики — для языка сантали (языки мунда, Индия)
- Идеографическая письменность Теневиля для чукотского языка
Африка
- Письмо нко (c 1949 для языков манден в Гвинее и Мали)
- Басса (с 1900-х гг. по наше время)
- Бете
- Ваи (с 1820-х гг. по наше время)
- Кпелле (в 1930-е — 1940-е)
- Лома (в 1930-е — 1940-е) в Либерии
- Кикакуи, или менде (для языка менде) (в 1921—1940-е) в Сьерра-Леоне
- бамум (в 1896—1950-е) в Камеруне
- Османья (для языка сомали)
- Мандомбе (с 1978) в Анголе, Конго и ДРК
- Волофал (проект алфавита для языка волоф, 1960—1974)
Америка
- Письмо чероки
- Канадское слоговое письмо (для языков кри, эскимосских, оджибве и др.)
Письменности для искусственных языков
- Тенгвар
- Уникальная морфо-фонетическая письменность языка ифкуиль
- Системы письменности для клингонского языка (plqaD, Mandel)
- [tokipona.net/tp/SitelenSuwi.aspx Иероглифическое письмо] для токипоны
Нерасшифрованные письменности
- Ронго-ронго (исчезло в конце XIX века)
- Библское письмо (сер. II тыс. до н. э.)
- Фестский диск (сер. II тыс. до н. э.)
- Письменность долины Инда (протоиндское, или хараппское письмо — сер. III тыс. до н. э.)
- Троянское письмо (предположительно? Линейное письмо А) (сер. II тыс. до н. э.)
- Кипро-минойское письмо (исчезло в конце II тыс. до н. э.)
- Кипу инков (исчезло в XVII веке)
- Токапу инков (исчезло в XVII веке)
и многие другие
Письменности для жестовых языков
Существуют письменности для жестовых языков. В начале XXI века используется система SignWriting, созданная в 1974 году.
См. также
- Письмо (письменность)
- Список языков по системам письма
- История письменности
- Письменности Африки
- Письменности коренных народов Америки
- Палеография
- Кирилл и Мефодий
- Месроп Маштоц
Напишите отзыв о статье "Письменность"
Примечания
- ↑ Реформатский А. А. Введение в языковедение, М.: Аспект Пресс, 2006. — с.352 — 353
Литература
- Дирингер Д. Алфавит. М., 1963.
- Добльхофер Э. Знаки и чудеса. М., 1963.
- Истрин В. А. Возникновение и развитие письма. М., 1965.
- Реформатский А. А. Введение в языкознание. М., 2006
- Фридрих И. История письма. М., 2004.
- [ec-dejavu.ru/w/Writing.html Брейар Ж. Болезнь письма] // Семиотика безумия. Сб. статей. — Париж-Москва, 2005, с. 64-72
Ссылки

|
письменность в Викисловаре? |
|---|---|
| |
Письменность в Викицитатнике? |
| |
Письменность в Викитеке? |
| |
Письменность в Викиновостях? |
- [tapemark.narod.ru/les/375c.html Лингвистический энциклопедический словарь (1990) / Письмо]
- [lenta.ru/news/2016/05/30/firstsigns/ У пещерных европейцев нашли первую письменность]
Отрывок, характеризующий Письменность
Войска Даву, к которым принадлежали пленные, шли через Крымский брод и уже отчасти вступали в Калужскую улицу. Но обозы так растянулись, что последние обозы Богарне еще не вышли из Москвы в Калужскую улицу, а голова войск Нея уже выходила из Большой Ордынки.Пройдя Крымский брод, пленные двигались по нескольку шагов и останавливались, и опять двигались, и со всех сторон экипажи и люди все больше и больше стеснялись. Пройдя более часа те несколько сот шагов, которые отделяют мост от Калужской улицы, и дойдя до площади, где сходятся Замоскворецкие улицы с Калужскою, пленные, сжатые в кучу, остановились и несколько часов простояли на этом перекрестке. Со всех сторон слышался неумолкаемый, как шум моря, грохот колес, и топот ног, и неумолкаемые сердитые крики и ругательства. Пьер стоял прижатый к стене обгорелого дома, слушая этот звук, сливавшийся в его воображении с звуками барабана.
Несколько пленных офицеров, чтобы лучше видеть, влезли на стену обгорелого дома, подле которого стоял Пьер.
– Народу то! Эка народу!.. И на пушках то навалили! Смотри: меха… – говорили они. – Вишь, стервецы, награбили… Вон у того то сзади, на телеге… Ведь это – с иконы, ей богу!.. Это немцы, должно быть. И наш мужик, ей богу!.. Ах, подлецы!.. Вишь, навьючился то, насилу идет! Вот те на, дрожки – и те захватили!.. Вишь, уселся на сундуках то. Батюшки!.. Подрались!..
– Так его по морде то, по морде! Этак до вечера не дождешься. Гляди, глядите… а это, верно, самого Наполеона. Видишь, лошади то какие! в вензелях с короной. Это дом складной. Уронил мешок, не видит. Опять подрались… Женщина с ребеночком, и недурна. Да, как же, так тебя и пропустят… Смотри, и конца нет. Девки русские, ей богу, девки! В колясках ведь как покойно уселись!
Опять волна общего любопытства, как и около церкви в Хамовниках, надвинула всех пленных к дороге, и Пьер благодаря своему росту через головы других увидал то, что так привлекло любопытство пленных. В трех колясках, замешавшихся между зарядными ящиками, ехали, тесно сидя друг на друге, разряженные, в ярких цветах, нарумяненные, что то кричащие пискливыми голосами женщины.
С той минуты как Пьер сознал появление таинственной силы, ничто не казалось ему странно или страшно: ни труп, вымазанный для забавы сажей, ни эти женщины, спешившие куда то, ни пожарища Москвы. Все, что видел теперь Пьер, не производило на него почти никакого впечатления – как будто душа его, готовясь к трудной борьбе, отказывалась принимать впечатления, которые могли ослабить ее.
Поезд женщин проехал. За ним тянулись опять телеги, солдаты, фуры, солдаты, палубы, кареты, солдаты, ящики, солдаты, изредка женщины.
Пьер не видал людей отдельно, а видел движение их.
Все эти люди, лошади как будто гнались какой то невидимою силою. Все они, в продолжение часа, во время которого их наблюдал Пьер, выплывали из разных улиц с одним и тем же желанием скорее пройти; все они одинаково, сталкиваясь с другими, начинали сердиться, драться; оскаливались белые зубы, хмурились брови, перебрасывались все одни и те же ругательства, и на всех лицах было одно и то же молодечески решительное и жестоко холодное выражение, которое поутру поразило Пьера при звуке барабана на лице капрала.
Уже перед вечером конвойный начальник собрал свою команду и с криком и спорами втеснился в обозы, и пленные, окруженные со всех сторон, вышли на Калужскую дорогу.
Шли очень скоро, не отдыхая, и остановились только, когда уже солнце стало садиться. Обозы надвинулись одни на других, и люди стали готовиться к ночлегу. Все казались сердиты и недовольны. Долго с разных сторон слышались ругательства, злобные крики и драки. Карета, ехавшая сзади конвойных, надвинулась на повозку конвойных и пробила ее дышлом. Несколько солдат с разных сторон сбежались к повозке; одни били по головам лошадей, запряженных в карете, сворачивая их, другие дрались между собой, и Пьер видел, что одного немца тяжело ранили тесаком в голову.
Казалось, все эти люди испытывали теперь, когда остановились посреди поля в холодных сумерках осеннего вечера, одно и то же чувство неприятного пробуждения от охватившей всех при выходе поспешности и стремительного куда то движения. Остановившись, все как будто поняли, что неизвестно еще, куда идут, и что на этом движении много будет тяжелого и трудного.
С пленными на этом привале конвойные обращались еще хуже, чем при выступлении. На этом привале в первый раз мясная пища пленных была выдана кониною.
От офицеров до последнего солдата было заметно в каждом как будто личное озлобление против каждого из пленных, так неожиданно заменившее прежде дружелюбные отношения.
Озлобление это еще более усилилось, когда при пересчитывании пленных оказалось, что во время суеты, выходя из Москвы, один русский солдат, притворявшийся больным от живота, – бежал. Пьер видел, как француз избил русского солдата за то, что тот отошел далеко от дороги, и слышал, как капитан, его приятель, выговаривал унтер офицеру за побег русского солдата и угрожал ему судом. На отговорку унтер офицера о том, что солдат был болен и не мог идти, офицер сказал, что велено пристреливать тех, кто будет отставать. Пьер чувствовал, что та роковая сила, которая смяла его во время казни и которая была незаметна во время плена, теперь опять овладела его существованием. Ему было страшно; но он чувствовал, как по мере усилий, которые делала роковая сила, чтобы раздавить его, в душе его вырастала и крепла независимая от нее сила жизни.
Пьер поужинал похлебкою из ржаной муки с лошадиным мясом и поговорил с товарищами.
Ни Пьер и никто из товарищей его не говорили ни о том, что они видели в Москве, ни о грубости обращения французов, ни о том распоряжении пристреливать, которое было объявлено им: все были, как бы в отпор ухудшающемуся положению, особенно оживлены и веселы. Говорили о личных воспоминаниях, о смешных сценах, виденных во время похода, и заминали разговоры о настоящем положении.
Солнце давно село. Яркие звезды зажглись кое где по небу; красное, подобное пожару, зарево встающего полного месяца разлилось по краю неба, и огромный красный шар удивительно колебался в сероватой мгле. Становилось светло. Вечер уже кончился, но ночь еще не начиналась. Пьер встал от своих новых товарищей и пошел между костров на другую сторону дороги, где, ему сказали, стояли пленные солдаты. Ему хотелось поговорить с ними. На дороге французский часовой остановил его и велел воротиться.
Пьер вернулся, но не к костру, к товарищам, а к отпряженной повозке, у которой никого не было. Он, поджав ноги и опустив голову, сел на холодную землю у колеса повозки и долго неподвижно сидел, думая. Прошло более часа. Никто не тревожил Пьера. Вдруг он захохотал своим толстым, добродушным смехом так громко, что с разных сторон с удивлением оглянулись люди на этот странный, очевидно, одинокий смех.
– Ха, ха, ха! – смеялся Пьер. И он проговорил вслух сам с собою: – Не пустил меня солдат. Поймали меня, заперли меня. В плену держат меня. Кого меня? Меня! Меня – мою бессмертную душу! Ха, ха, ха!.. Ха, ха, ха!.. – смеялся он с выступившими на глаза слезами.
Какой то человек встал и подошел посмотреть, о чем один смеется этот странный большой человек. Пьер перестал смеяться, встал, отошел подальше от любопытного и оглянулся вокруг себя.
Прежде громко шумевший треском костров и говором людей, огромный, нескончаемый бивак затихал; красные огни костров потухали и бледнели. Высоко в светлом небе стоял полный месяц. Леса и поля, невидные прежде вне расположения лагеря, открывались теперь вдали. И еще дальше этих лесов и полей виднелась светлая, колеблющаяся, зовущая в себя бесконечная даль. Пьер взглянул в небо, в глубь уходящих, играющих звезд. «И все это мое, и все это во мне, и все это я! – думал Пьер. – И все это они поймали и посадили в балаган, загороженный досками!» Он улыбнулся и пошел укладываться спать к своим товарищам.
В первых числах октября к Кутузову приезжал еще парламентер с письмом от Наполеона и предложением мира, обманчиво означенным из Москвы, тогда как Наполеон уже был недалеко впереди Кутузова, на старой Калужской дороге. Кутузов отвечал на это письмо так же, как на первое, присланное с Лористоном: он сказал, что о мире речи быть не может.
Вскоре после этого из партизанского отряда Дорохова, ходившего налево от Тарутина, получено донесение о том, что в Фоминском показались войска, что войска эти состоят из дивизии Брусье и что дивизия эта, отделенная от других войск, легко может быть истреблена. Солдаты и офицеры опять требовали деятельности. Штабные генералы, возбужденные воспоминанием о легкости победы под Тарутиным, настаивали у Кутузова об исполнении предложения Дорохова. Кутузов не считал нужным никакого наступления. Вышло среднее, то, что должно было совершиться; послан был в Фоминское небольшой отряд, который должен был атаковать Брусье.
По странной случайности это назначение – самое трудное и самое важное, как оказалось впоследствии, – получил Дохтуров; тот самый скромный, маленький Дохтуров, которого никто не описывал нам составляющим планы сражений, летающим перед полками, кидающим кресты на батареи, и т. п., которого считали и называли нерешительным и непроницательным, но тот самый Дохтуров, которого во время всех войн русских с французами, с Аустерлица и до тринадцатого года, мы находим начальствующим везде, где только положение трудно. В Аустерлице он остается последним у плотины Аугеста, собирая полки, спасая, что можно, когда все бежит и гибнет и ни одного генерала нет в ариергарде. Он, больной в лихорадке, идет в Смоленск с двадцатью тысячами защищать город против всей наполеоновской армии. В Смоленске, едва задремал он на Молоховских воротах, в пароксизме лихорадки, его будит канонада по Смоленску, и Смоленск держится целый день. В Бородинский день, когда убит Багратион и войска нашего левого фланга перебиты в пропорции 9 к 1 и вся сила французской артиллерии направлена туда, – посылается никто другой, а именно нерешительный и непроницательный Дохтуров, и Кутузов торопится поправить свою ошибку, когда он послал было туда другого. И маленький, тихенький Дохтуров едет туда, и Бородино – лучшая слава русского войска. И много героев описано нам в стихах и прозе, но о Дохтурове почти ни слова.
Опять Дохтурова посылают туда в Фоминское и оттуда в Малый Ярославец, в то место, где было последнее сражение с французами, и в то место, с которого, очевидно, уже начинается погибель французов, и опять много гениев и героев описывают нам в этот период кампании, но о Дохтурове ни слова, или очень мало, или сомнительно. Это то умолчание о Дохтурове очевиднее всего доказывает его достоинства.
Естественно, что для человека, не понимающего хода машины, при виде ее действия кажется, что важнейшая часть этой машины есть та щепка, которая случайно попала в нее и, мешая ее ходу, треплется в ней. Человек, не знающий устройства машины, не может понять того, что не эта портящая и мешающая делу щепка, а та маленькая передаточная шестерня, которая неслышно вертится, есть одна из существеннейших частей машины.
10 го октября, в тот самый день, как Дохтуров прошел половину дороги до Фоминского и остановился в деревне Аристове, приготавливаясь в точности исполнить отданное приказание, все французское войско, в своем судорожном движении дойдя до позиции Мюрата, как казалось, для того, чтобы дать сражение, вдруг без причины повернуло влево на новую Калужскую дорогу и стало входить в Фоминское, в котором прежде стоял один Брусье. У Дохтурова под командою в это время были, кроме Дорохова, два небольших отряда Фигнера и Сеславина.
Вечером 11 го октября Сеславин приехал в Аристово к начальству с пойманным пленным французским гвардейцем. Пленный говорил, что войска, вошедшие нынче в Фоминское, составляли авангард всей большой армии, что Наполеон был тут же, что армия вся уже пятый день вышла из Москвы. В тот же вечер дворовый человек, пришедший из Боровска, рассказал, как он видел вступление огромного войска в город. Казаки из отряда Дорохова доносили, что они видели французскую гвардию, шедшую по дороге к Боровску. Из всех этих известий стало очевидно, что там, где думали найти одну дивизию, теперь была вся армия французов, шедшая из Москвы по неожиданному направлению – по старой Калужской дороге. Дохтуров ничего не хотел предпринимать, так как ему не ясно было теперь, в чем состоит его обязанность. Ему велено было атаковать Фоминское. Но в Фоминском прежде был один Брусье, теперь была вся французская армия. Ермолов хотел поступить по своему усмотрению, но Дохтуров настаивал на том, что ему нужно иметь приказание от светлейшего. Решено было послать донесение в штаб.
Для этого избран толковый офицер, Болховитинов, который, кроме письменного донесения, должен был на словах рассказать все дело. В двенадцатом часу ночи Болховитинов, получив конверт и словесное приказание, поскакал, сопутствуемый казаком, с запасными лошадьми в главный штаб.
Ночь была темная, теплая, осенняя. Шел дождик уже четвертый день. Два раза переменив лошадей и в полтора часа проскакав тридцать верст по грязной вязкой дороге, Болховитинов во втором часу ночи был в Леташевке. Слезши у избы, на плетневом заборе которой была вывеска: «Главный штаб», и бросив лошадь, он вошел в темные сени.
– Дежурного генерала скорее! Очень важное! – проговорил он кому то, поднимавшемуся и сопевшему в темноте сеней.
– С вечера нездоровы очень были, третью ночь не спят, – заступнически прошептал денщицкий голос. – Уж вы капитана разбудите сначала.
– Очень важное, от генерала Дохтурова, – сказал Болховитинов, входя в ощупанную им растворенную дверь. Денщик прошел вперед его и стал будить кого то:
– Ваше благородие, ваше благородие – кульер.
– Что, что? от кого? – проговорил чей то сонный голос.
– От Дохтурова и от Алексея Петровича. Наполеон в Фоминском, – сказал Болховитинов, не видя в темноте того, кто спрашивал его, но по звуку голоса предполагая, что это был не Коновницын.
Разбуженный человек зевал и тянулся.
– Будить то мне его не хочется, – сказал он, ощупывая что то. – Больнёшенек! Может, так, слухи.
– Вот донесение, – сказал Болховитинов, – велено сейчас же передать дежурному генералу.
– Постойте, огня зажгу. Куда ты, проклятый, всегда засунешь? – обращаясь к денщику, сказал тянувшийся человек. Это был Щербинин, адъютант Коновницына. – Нашел, нашел, – прибавил он.
Денщик рубил огонь, Щербинин ощупывал подсвечник.
– Ах, мерзкие, – с отвращением сказал он.
При свете искр Болховитинов увидел молодое лицо Щербинина со свечой и в переднем углу еще спящего человека. Это был Коновницын.
Когда сначала синим и потом красным пламенем загорелись серники о трут, Щербинин зажег сальную свечку, с подсвечника которой побежали обгладывавшие ее прусаки, и осмотрел вестника. Болховитинов был весь в грязи и, рукавом обтираясь, размазывал себе лицо.
– Да кто доносит? – сказал Щербинин, взяв конверт.
– Известие верное, – сказал Болховитинов. – И пленные, и казаки, и лазутчики – все единогласно показывают одно и то же.
– Нечего делать, надо будить, – сказал Щербинин, вставая и подходя к человеку в ночном колпаке, укрытому шинелью. – Петр Петрович! – проговорил он. Коновницын не шевелился. – В главный штаб! – проговорил он, улыбнувшись, зная, что эти слова наверное разбудят его. И действительно, голова в ночном колпаке поднялась тотчас же. На красивом, твердом лице Коновницына, с лихорадочно воспаленными щеками, на мгновение оставалось еще выражение далеких от настоящего положения мечтаний сна, но потом вдруг он вздрогнул: лицо его приняло обычно спокойное и твердое выражение.
– Ну, что такое? От кого? – неторопливо, но тотчас же спросил он, мигая от света. Слушая донесение офицера, Коновницын распечатал и прочел. Едва прочтя, он опустил ноги в шерстяных чулках на земляной пол и стал обуваться. Потом снял колпак и, причесав виски, надел фуражку.
– Ты скоро доехал? Пойдем к светлейшему.
Коновницын тотчас понял, что привезенное известие имело большую важность и что нельзя медлить. Хорошо ли, дурно ли это было, он не думал и не спрашивал себя. Его это не интересовало. На все дело войны он смотрел не умом, не рассуждением, а чем то другим. В душе его было глубокое, невысказанное убеждение, что все будет хорошо; но что этому верить не надо, и тем более не надо говорить этого, а надо делать только свое дело. И это свое дело он делал, отдавая ему все свои силы.
Петр Петрович Коновницын, так же как и Дохтуров, только как бы из приличия внесенный в список так называемых героев 12 го года – Барклаев, Раевских, Ермоловых, Платовых, Милорадовичей, так же как и Дохтуров, пользовался репутацией человека весьма ограниченных способностей и сведений, и, так же как и Дохтуров, Коновницын никогда не делал проектов сражений, но всегда находился там, где было труднее всего; спал всегда с раскрытой дверью с тех пор, как был назначен дежурным генералом, приказывая каждому посланному будить себя, всегда во время сраженья был под огнем, так что Кутузов упрекал его за то и боялся посылать, и был так же, как и Дохтуров, одной из тех незаметных шестерен, которые, не треща и не шумя, составляют самую существенную часть машины.
Выходя из избы в сырую, темную ночь, Коновницын нахмурился частью от головной усилившейся боли, частью от неприятной мысли, пришедшей ему в голову о том, как теперь взволнуется все это гнездо штабных, влиятельных людей при этом известии, в особенности Бенигсен, после Тарутина бывший на ножах с Кутузовым; как будут предлагать, спорить, приказывать, отменять. И это предчувствие неприятно ему было, хотя он и знал, что без этого нельзя.
Действительно, Толь, к которому он зашел сообщить новое известие, тотчас же стал излагать свои соображения генералу, жившему с ним, и Коновницын, молча и устало слушавший, напомнил ему, что надо идти к светлейшему.
Кутузов, как и все старые люди, мало спал по ночам. Он днем часто неожиданно задремывал; но ночью он, не раздеваясь, лежа на своей постели, большею частию не спал и думал.
Так он лежал и теперь на своей кровати, облокотив тяжелую, большую изуродованную голову на пухлую руку, и думал, открытым одним глазом присматриваясь к темноте.
С тех пор как Бенигсен, переписывавшийся с государем и имевший более всех силы в штабе, избегал его, Кутузов был спокойнее в том отношении, что его с войсками не заставят опять участвовать в бесполезных наступательных действиях. Урок Тарутинского сражения и кануна его, болезненно памятный Кутузову, тоже должен был подействовать, думал он.
«Они должны понять, что мы только можем проиграть, действуя наступательно. Терпение и время, вот мои воины богатыри!» – думал Кутузов. Он знал, что не надо срывать яблоко, пока оно зелено. Оно само упадет, когда будет зрело, а сорвешь зелено, испортишь яблоко и дерево, и сам оскомину набьешь. Он, как опытный охотник, знал, что зверь ранен, ранен так, как только могла ранить вся русская сила, но смертельно или нет, это был еще не разъясненный вопрос. Теперь, по присылкам Лористона и Бертелеми и по донесениям партизанов, Кутузов почти знал, что он ранен смертельно. Но нужны были еще доказательства, надо было ждать.
«Им хочется бежать посмотреть, как они его убили. Подождите, увидите. Все маневры, все наступления! – думал он. – К чему? Все отличиться. Точно что то веселое есть в том, чтобы драться. Они точно дети, от которых не добьешься толку, как было дело, оттого что все хотят доказать, как они умеют драться. Да не в том теперь дело.
И какие искусные маневры предлагают мне все эти! Им кажется, что, когда они выдумали две три случайности (он вспомнил об общем плане из Петербурга), они выдумали их все. А им всем нет числа!»
Неразрешенный вопрос о том, смертельна или не смертельна ли была рана, нанесенная в Бородине, уже целый месяц висел над головой Кутузова. С одной стороны, французы заняли Москву. С другой стороны, несомненно всем существом своим Кутузов чувствовал, что тот страшный удар, в котором он вместе со всеми русскими людьми напряг все свои силы, должен был быть смертелен. Но во всяком случае нужны были доказательства, и он ждал их уже месяц, и чем дальше проходило время, тем нетерпеливее он становился. Лежа на своей постели в свои бессонные ночи, он делал то самое, что делала эта молодежь генералов, то самое, за что он упрекал их. Он придумывал все возможные случайности, в которых выразится эта верная, уже свершившаяся погибель Наполеона. Он придумывал эти случайности так же, как и молодежь, но только с той разницей, что он ничего не основывал на этих предположениях и что он видел их не две и три, а тысячи. Чем дальше он думал, тем больше их представлялось. Он придумывал всякого рода движения наполеоновской армии, всей или частей ее – к Петербургу, на него, в обход его, придумывал (чего он больше всего боялся) и ту случайность, что Наполеон станет бороться против него его же оружием, что он останется в Москве, выжидая его. Кутузов придумывал даже движение наполеоновской армии назад на Медынь и Юхнов, но одного, чего он не мог предвидеть, это того, что совершилось, того безумного, судорожного метания войска Наполеона в продолжение первых одиннадцати дней его выступления из Москвы, – метания, которое сделало возможным то, о чем все таки не смел еще тогда думать Кутузов: совершенное истребление французов. Донесения Дорохова о дивизии Брусье, известия от партизанов о бедствиях армии Наполеона, слухи о сборах к выступлению из Москвы – все подтверждало предположение, что французская армия разбита и сбирается бежать; но это были только предположения, казавшиеся важными для молодежи, но не для Кутузова. Он с своей шестидесятилетней опытностью знал, какой вес надо приписывать слухам, знал, как способны люди, желающие чего нибудь, группировать все известия так, что они как будто подтверждают желаемое, и знал, как в этом случае охотно упускают все противоречащее. И чем больше желал этого Кутузов, тем меньше он позволял себе этому верить. Вопрос этот занимал все его душевные силы. Все остальное было для него только привычным исполнением жизни. Таким привычным исполнением и подчинением жизни были его разговоры с штабными, письма к m me Stael, которые он писал из Тарутина, чтение романов, раздачи наград, переписка с Петербургом и т. п. Но погибель французов, предвиденная им одним, было его душевное, единственное желание.

