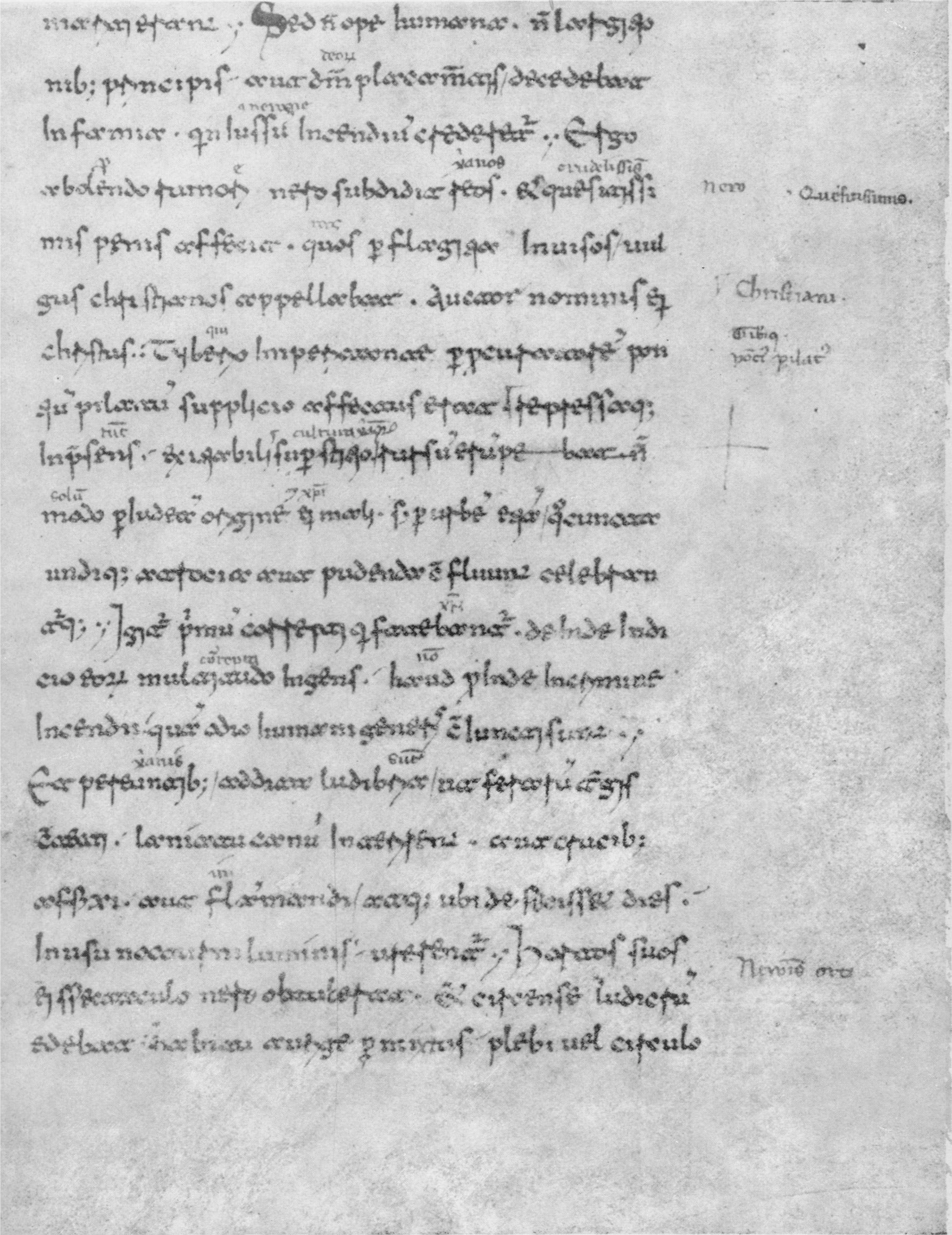Публий Корнелий Тацит
| Публий (Гай?) Корнелий Тацит | |
| лат. Publius (Gaius) Cornelius Tacitus | |
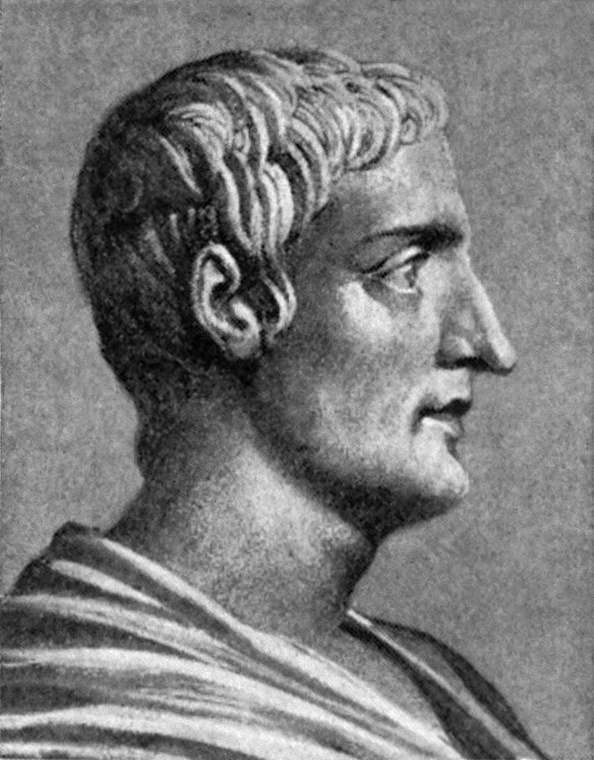 Тацит в представлении художника начала XX века | |
| Дата рождения: |
ок. 55 г. |
|---|---|
| Дата смерти: |
ок. 120 г. |
| Род деятельности: |
историк |
| Годы творчества: |
90-е — ок. 120 гг. |
| Язык произведений: |
латинский |
Пу́блий (или Гай) Корне́лий Та́цит[коммент. 1] (лат. Publius Cornelius Tacitus, или Gaius Cornelius Tacitus; середина 50-х — ок. 120 года) — древнеримский историк, один из самых известных писателей античности, автор трёх небольших сочинений («Агри́кола», «Германия», «Диалог об ораторах») и двух больших исторических трудов («История» и «Анналы»).
В молодости Тацит совмещал карьеру судебного оратора с политической деятельностью, стал сенатором, а в 97 году добился высшей магистратуры консула. Достигнув вершин политической карьеры, Тацит воочию наблюдал произвол императоров и раболепство сената. После убийства императора Домициана и перехода власти к династии Антонинов он решился описать события последних десятилетий, но не в русле придворной историографии, а как можно более правдиво. Для этого Тацит скрупулёзно изучал источники и старался восстановить полную картину событий. Накопленный материал историк излагал эффектным языком с обилием кратких отточенных фраз, сторонясь избитых выражений и ориентируясь на лучшие образцы латинской литературы (Саллюстия, Цицерона, Тита Ливия). В своих работах он не всегда был нейтрален, и описание правления императоров Тиберия и Нерона стилизовал под трагедию.
Благодаря таланту писателя, глубокому анализу источников и раскрытию психологии действующих лиц Тацит нередко считается величайшим из римских историков. В Новое время его сочинения обрели популярность в Европе и повлияли на развитие исторической и политической мысли.
Содержание
Биография
Происхождение, рождение, детство
Настоящее первое имя (преномен) Тацита точно неизвестно. Современники называли его просто Корнелием (по номену) или Тацитом (по когномену). В V веке Сидоний Аполлинарий упомянул его под именем Гай, но средневековые рукописи его сочинений подписаны именем Публий[1]. В современной историографии его чаще называют Публием[1].
Неизвестна и точная дата рождения Тацита. Основываясь на последовательности занятия магистратур (cursus honorum), его рождение относят к 50-м годам[2]. Большинство исследователей называют даты в промежутке с 55 до 58 года (Б. Боргези пишет, что Тацит родился в 55—56 годах[3], И. М. Гревс — около 55[4], Р. Сайм — в 56—57[5], Г. С. Кнабе — в 57—58 годах[6], М. фон Альбрехт — вскоре после середины 50-х годов[7], С. И. Соболевский — в 54—57 годах[8]; в авторитетной энциклопедии Pauly-Wissowa время рождения Тацита относится к 55—56 годам[9]).
Неизвестно и место рождения Тацита. Его отца часто отождествляют с Корнелием Тацитом, которого Плиний Старший упоминает в «Естественной истории» как всадника и прокуратора Белгской Галлии (Белгики)[10][11][12]. Плиний пишет, что наблюдал, как сын прокуратора необычайно быстро рос уже в первые три года жизни. В XIX веке было распространено мнение, что упомянутый Плинием Корнелий Тацит — отец историка, а быстро росший ребёнок — его брат. Альтернативной точкой зрения тогда было мнение, что прокуратором Белгики был сам римский историк[13]. В XX веке возобладало мнение о том, что прокуратор Белгики — отец известного Тацита[11]. Также допускается возможность, что речь могла идти о его дяде[7]. Но отсутствие надёжных сведений о времени пребывания Плиния на Рейне не даёт возможности установить, действительно ли он родился в Белгике. Кроме того, в середине I в. н. э. недавно присоединённая к Римской империи Белгика оставалась варварской областью, и местом его рождения чаще называют Транспаданию (северную часть бывшей Цизальпийской Галлии) или Нарбонскую Галлию[14][15][16][17]. По мнению Г. С. Кнабе, более вероятно рождение Тацита в Нарбонской Галлии, поскольку там наблюдается самая высокая плотность эпиграфических памятников с упоминанием имени Тацитов[18]. Аналогичного мнения придерживаются авторы «Кембриджской древней истории» Г. Тауненд и Г. Вулф[19][20]. Некоторые исследователи предполагают, что Тацит родился в Риме, поскольку видят в его творчестве высокомерное отношение к провинциалам[21]. Наконец, на основании того, что император Марк Клавдий Тацит родился в городе Интерамн (Терни), в эпоху Возрождения горожане решили считать историка своим земляком и поставили ему памятник[1][коммент. 2]. Но уже в XVI веке это было подвергнуто сомнению и в настоящее время не воспринимается всерьёз[1].
Его предки, скорее всего, происходили из Италии или Южной Франции. Когномен «Тацит» характерен для принципов образования имён в латинском языке[22]. Он происходит от глагола taceō — молчать, быть тихим[23]. Наиболее часто когномен «Тацит» встречается в Цизальпийской Галлии и Нарбонской Галлии[18][24], поэтому вполне вероятны кельтские корни семейства[25]. Несмотря на свидетельство Плиния о том, что Корнелии Тациты были всадниками (представителями плебейских ветвей рода Корнелиев), существует версия, что на самом деле он происходил из патрицианской ветви Корнелиев[21]. Некоторые учёные предполагают, что Тациты были потомками вольноотпущенников и, возможно, происходили от кого-то из десяти тысяч рабов, которым даровал свободу Луций Корнелий Сулла[24]. Но в современной историографии более распространено мнение, что предки Тацита получили римское гражданство примерно за сто-двести лет до его рождения при поддержке некоего римского магистрата Корнелия[26].
 На основании анализа детальных описаний историком различных провинций Римской империи Г. С. Кнабе предположил, что можно узнать районы, где он рос. По его мнению, ими были Белгика, Нижняя Германия, северо-восточная часть Нарбонской Галлии и долина реки По[27]. Р. Сайм, впрочем, указывает на то, что подробное описание Тацитом особенностей провинциальной географии было следствием использования хороших источников[28]. Если упомянутый Плинием Корнелий Тацит — отец историка и прокуратор провинции, то его детство должно было пройти в городе Августа Треверов (лат. Augusta Treverorum; современный Трир) или в Колонии Клавдия алтаря Агриппины (лат. Colonia Claudia Ara Agrippinensium; современный Кёльн)[29][30].
На основании анализа детальных описаний историком различных провинций Римской империи Г. С. Кнабе предположил, что можно узнать районы, где он рос. По его мнению, ими были Белгика, Нижняя Германия, северо-восточная часть Нарбонской Галлии и долина реки По[27]. Р. Сайм, впрочем, указывает на то, что подробное описание Тацитом особенностей провинциальной географии было следствием использования хороших источников[28]. Если упомянутый Плинием Корнелий Тацит — отец историка и прокуратор провинции, то его детство должно было пройти в городе Августа Треверов (лат. Augusta Treverorum; современный Трир) или в Колонии Клавдия алтаря Агриппины (лат. Colonia Claudia Ara Agrippinensium; современный Кёльн)[29][30].
Некоторые исследователи находят в творчестве Тацита галлицизмы (диалектные слова, распространённые в галльских провинциях), которые могут свидетельствовать о том, что образование историк получил за пределами Италии[22]. Кроме того, благодаря его неоднократным публичным выступлениям в Риме имеются свидетельства о заметном акценте историка. Этот акцент мог сложиться под влиянием формирования речевых навыков среди романизированных германцев[29]. Возвращение Тацита из Белгики в Рим, таким образом, произошло после середины 60-х годов, когда его акцент уже сложился[29]. Впрочем, эта гипотеза не является общепринятой.
Молодость, начало политической карьеры
Тацит получил хорошее риторическое образование[5]. Предполагается, что его учителем риторики мог быть Квинтилиан, а позднее — Марк Апр и Юлий Секунд[31]. Философской подготовки он, вероятно, не получил и позднее сдержанно относился к философии и философам[32]. Будущий историк добился большого успеха в публичных выступлениях, и Плиний Младший пишет о том, что в конце 70-х годов «громкая слава Тацита была уже в расцвете»[33]. Ничего не известно о его военной службе.
В 76 или 77 году Тацит обручился с дочерью полководца Гнея Юлия Агриколы по инициативе последнего[34][35][36]. Примерно в это же время начала стремительно развиваться карьера Тацита. Его собственное признание о том, что его карьере способствовали три императора — Веспасиан, Тит и Домициан — обычно истолковывается как внесение в список сенаторов Веспасианом, квестура во времена Тита и претура при Домициане[34][37]. Как правило, в римский сенат попадали все магистраты начиная с квестора или трибуна. Досрочное попадание Тацита в сенат стало свидетельством доверия со стороны нового императора[37]. Таким образом, Тацит попал в число «кандидатов цезаря» — лиц, рекомендованных императором к занятию должности и утверждавшихся сенатом вне зависимости от их способностей и заслуг[38]. Впрочем, по другой версии, в сенат он был введён только при Тите, то есть одновременно с квестурой[38][39]. В 81 или 82 году Тацит был квестором, а спустя два или три года стал трибуном или эдилом, хотя нет прямых свидетельств, указывающих на занятие этих должностей[38][40]. Майкл Грант предполагает, что в 85 году Тацит мог способствовать возвращению Агриколы из Британии[41], но маловероятно, что будущий историк был тогда достаточно влиятельным для оказания воздействия на императора.
В 88 году Тацит стал претором. Примерно в это же время он вошёл в коллегию квиндецемвиров, которая хранила Сивиллины книги и ведала некоторыми культами. Членство в этой коллегии было очень престижным[34][38][42]. Столь быстрое возвышение, по мнению исследователей, стало следствием верности династии Флавиев[43]. В 88 году Тацит участвовал в организации внеочередных Секулярных (Столетних) игр, созванных по инициативе Домициана, о чём пишет в «Анналах»:
«…Ведь и он [Домициан] также дал секулярные игры, и в их устройстве я принимал деятельное участие, облечённый званием жреца-квиндецимвира и тогда, сверх того, претор; говорю об этом не ради похвальбы, а потому, что эта забота издавна возлагалась на коллегию квиндецемвиров»[44]
Подробнее Тацит описал эти игры в несохранившихся книгах «Истории»[45]. Тем не менее, ему не удалось воспользоваться почётными лаврами организатора игр — в том же году вспыхнул мятеж Луция Антония Сатурнина, который Домициан жестоко подавил, после чего провёл массовые казни в Риме[46]. Когда император начал репрессии против реальных и вымышленных оппонентов, Тацит ему не противодействовал[7]. В 89—93 годах будущий историк отсутствовал в Риме, однако не представляется возможным установить, где он находился. Его отсутствие выводится из описания смерти его тестя Гнея Юлия Агриколы (93 год) в одноимённом сочинении:
«Но меня и его дочь, при всей нашей скорби из-за потери отца, охватывает ещё и горькое сожаление, что нам не пришлось находиться при нём во время его болезни, окружать нашим вниманием умирающего, запечатлеть в себе его образ, обнять его напоследок. Мы, разумеется, знаем, в чём состояли его напутствия и каковы были сказанные им перед кончиною слова, и все они глубоко запали нам в душу. Но наша печаль, наша сердечная рана в том, что из-за нашего длительного отсутствия он был потерян нами за четыре года до этого»[47]
На основании упоминавшегося свидетельства Плиния Старшего самого историка изредка считают прокуратором Белгики[48]. Г. С. Кнабе, основываясь на хорошем знании земель вдоль Рейна, приписывает Тациту пребывание в одной из германских провинций в ранге наместника[49]. Р. Сайм, впрочем, предполагает, что германские провинции и, в частности, Белгика, были слишком важными для управления пропретором[48]. Однако Тацит, по его мнению, как и большинство других амбициозных политиков, мог командовать легионом в одной из провинций[50]. Э. Бирли предполагает, что он командовал одним легионом, расквартированным на Рейне или на Дунае[51]. Существуют также предположения, что Тацит занимался гражданскими делами (прежде всего, судебными) в Каппадокии, Британии или Ближней Испании[52].
Консулат, последние годы жизни
 В 97 году Тацит стал одним из консулов-суффектов по заранее утверждённому списку. Ранее, в 96 году, Домициан был свергнут, императором стал Нерва. Из-за этого неясно, какой император составлял и утверждал список консулов на будущий год. Предполагается, что составлялся список Домицианом, а окончательно утверждался Нервой, поскольку известно, что консулами 69 года стали в основном люди, утверждённые ещё за шесть месяцев до нового года императором Нероном[48][53][54]. Другими консулами стали именитые политики, полководцы и юристы. Их одобрение Нервой стало знаком, что новую власть поддерживают самые известные люди из представителей нобилитета и талантливых выходцев из низов и что новый император намерен опираться на них, не предпринимая радикальных изменений и не используя силу[53]. Это было актуально, поскольку в Риме помнили о гражданской войне, которая охватила империю после падения династии Юлиев-Клавдиев. Состав консулов на 97 год показателен и тем, что почти все новые консулы были верны прежним принцепсам (до Домициана) и не принадлежали к сенатской оппозиции императорам[55]. Для Тацита, сына прокуратора и всадника по рождению, это была вершина очень удачной карьеры[48]. В месяцы консулата Тацита (будучи суффектом, он был одним из двух консулов не весь год) произошёл мятеж преторианцев под руководством Касперия Элиана[en], и историк был свидетелем или даже участником попыток урегулирования ситуации[56]. Именно в дни мятежа Нерва усыновил популярного полководца Марка Ульпия Траяна[коммент. 3], находившегося на Рейне, и послал ему письмо со строкой из Илиады «Слёзы мои отомсти аргивянам стрелами твоими!»[57][58]. Известно и о том, что в 97 году Тацит произнёс погребальную речь на похоронах консула Луция Вергиния Руфа[59]. Примерно в 100 году он вместе с Плинием Младшим участвовал в деле африканских провинциалов против проконсула Мария Приска — наместника, известного своими злоупотреблениями[60].
В 97 году Тацит стал одним из консулов-суффектов по заранее утверждённому списку. Ранее, в 96 году, Домициан был свергнут, императором стал Нерва. Из-за этого неясно, какой император составлял и утверждал список консулов на будущий год. Предполагается, что составлялся список Домицианом, а окончательно утверждался Нервой, поскольку известно, что консулами 69 года стали в основном люди, утверждённые ещё за шесть месяцев до нового года императором Нероном[48][53][54]. Другими консулами стали именитые политики, полководцы и юристы. Их одобрение Нервой стало знаком, что новую власть поддерживают самые известные люди из представителей нобилитета и талантливых выходцев из низов и что новый император намерен опираться на них, не предпринимая радикальных изменений и не используя силу[53]. Это было актуально, поскольку в Риме помнили о гражданской войне, которая охватила империю после падения династии Юлиев-Клавдиев. Состав консулов на 97 год показателен и тем, что почти все новые консулы были верны прежним принцепсам (до Домициана) и не принадлежали к сенатской оппозиции императорам[55]. Для Тацита, сына прокуратора и всадника по рождению, это была вершина очень удачной карьеры[48]. В месяцы консулата Тацита (будучи суффектом, он был одним из двух консулов не весь год) произошёл мятеж преторианцев под руководством Касперия Элиана[en], и историк был свидетелем или даже участником попыток урегулирования ситуации[56]. Именно в дни мятежа Нерва усыновил популярного полководца Марка Ульпия Траяна[коммент. 3], находившегося на Рейне, и послал ему письмо со строкой из Илиады «Слёзы мои отомсти аргивянам стрелами твоими!»[57][58]. Известно и о том, что в 97 году Тацит произнёс погребальную речь на похоронах консула Луция Вергиния Руфа[59]. Примерно в 100 году он вместе с Плинием Младшим участвовал в деле африканских провинциалов против проконсула Мария Приска — наместника, известного своими злоупотреблениями[60].
В 100—104 годах о Таците вновь ничего не известно, но он, скорее всего, вновь находился вне Рима. Впрочем, основания для этой гипотезы довольно шаткие, поскольку она основана на письме Плиния к Тациту с приветствием о возвращении из какого-то путешествия (Цицерон аналогичным образом приветствовал вернувшихся издалека)[61]. Наиболее вероятным местом его пребывания называются провинции Нижняя или Верхняя Германия, причём, скорее всего, он находился там в качестве наместника[62][63]. В эти годы военные действия на Рейне практически прекратились, и несколько легионов были переброшены на Дунай для войны с даками, поэтому не бывший профессиональным военным Тацит мог претендовать на эту должность[61][63].
Достоверно известно о проконсульстве Тацита в Азии с лета 112 до лета 113 годов — его имя и должность зафиксированы в надписи, найденной в конце XIX века в Милясах[63][64]. Провинция Азия была важна для империи, и императоры назначали туда проверенных людей. Назначение Тацита на 112/113 годы было особенно ответственным из-за готовившегося Траяном похода на Парфию[65].
На протяжении всей жизни Тацит дружил с Плинием Младшим — одним из виднейших римских интеллектуалов конца I века. Точная дата смерти историка неизвестна. На основании того, что он озвучивал намерение описать также правление Октавиана Августа, а также Нервы и Траяна, но не выполнил обещания, возможно, что он умер вскоре после издания «Анналов» (конец 110-х годов)[66]. Но отсутствие упоминаний о Таците в «Жизни двенадцати цезарей» Светония (этот автор никогда не называет по именам живущих людей) может свидетельствовать, что историк умер уже после выхода в свет этого произведения, то есть около 120 года или позднее[66]. Таким образом, Тацит умер в правление императора Адриана.
Литературная деятельность
Римская историография I века
К концу I века в Риме сложилась богатая историческая традиция. К этому времени было написано немало сочинений, описывавших как историю Рима от его основания, так и прошлое римских провинций, значительная часть которых ранее была самостоятельными государствами. Существовали и подробные работы об отдельных войнах или о небольших периодах времени. Обычно история считалась разновидностью ораторского искусства. Это было связано с тем, что в Древней Греции и Риме любые произведения обычно зачитывались и воспринимались на слух. Занятия историей были в почёте, и ей занимались самые высокопоставленные лица. Несколько исторических сочинений написал император Клавдий; автобиографические произведения оставили современники Тацита Веспасиан и Адриан, а Траян описал Дакийскую кампанию[67].
Но в целом во времена Тацита историография находилась в упадке. Во-первых, установление принципата разделило историков на две группы — поддерживавших империю и находившихся в оппозиции к ней или к правящему императору[68]. Авторы первой категории старались не затрагивать события последних десятилетий, ограничиваться отдельными эпизодами либо описывать недавние события, прославляя действующего императора и следуя официозной версии событий конца I века до н. э. — I века н. э. Во-вторых, авторам, которые писали о современных событиях, стало сложнее искать источники — многие очевидцы важных событий (дворцовые перевороты, заговоры, придворные интриги) умерщвлялись, высылались из Рима или хранили молчание, а важнейшие документы стали храниться при дворе императора, куда имели доступ немногие[67]. В-третьих, к правящей элите пришло понимание, что современные историки, описывая прошлое, нередко так или иначе проводят аналогии с современными реалиями и высказывают своё мнение о происходящих в обществе процессах. В результате появилась цензура исторических произведений[69][70]. О такой возможности был хорошо осведомлён и Тацит, который описывает трагическую судьбу Кремуция Корда и его исторического сочинения (он покончил жизнь самоубийством, а его работы были сожжены). Кроме того, Тацит упоминает Арулена Рустика и Геренния Сенециона, которых казнили, а их произведения сожгли на костре. В «Диалоге об ораторе» устами Юлия Секунда Тацит озвучивает распространённое мнение, что нежелательна публикация сочинений, которые могут быть истолкованы как скрытый выпад против императорской власти. Кроме того, потенциальные историки начали подвергаться давлению и из-за стремления раскрыть закулисную жизнь сената и придворных императора. Так, Плиний Младший упоминает о том, что однажды публично зачитывавшего своё сочинение Тацита (по-видимому, он читал первые книги своей «Истории») прервали друзья некоего человека. Они стали упрашивать его не продолжать чтение, поскольку историк готовился рассказать слушателям информацию, которая могла бы негативно сказаться на репутации их друга[70]. Таким образом, написание исторических сочинений стало сопряжено с различными трудностями. По этим причинам сравнительно нейтрального произведения, которое бы детально описывало правление первых римских императоров, к концу I века так и не появилось. За написание такой работы взялся Тацит.
Обзор произведений
Мысль написать историческое произведение о ближайшем прошлом, по всей видимости, пришла к Тациту вскоре после убийства Домициана. Однако, обратившись к литературному творчеству, он начал с небольших произведений. Сперва Тацит написал биографию своего тестя Агри́колы («De vita Iulii Agricolae» — «О жизни Юлия Агриколы»), где в том числе собрал воедино немало географических и этнографических подробностей о жизни британских племён. Уже во вступлении к «Агриколе» он характеризует правление Домициана как время, которое император отнял у римлян. Там же обозначено намерение автора написать всеобъемлющее историческое сочинение[71]:
«И всё же я не пожалею труда для написания сочинения, в котором пусть неискусным и необработанным языком — расскажу о былом нашем рабстве и о нынешнем благоденствии. А тем временем эта книга, задуманная как воздаяние должного памяти моего тестя Агриколы, будет принята с одобрением или во всяком случае снисходительно; ведь она — дань сыновней любви»[72].
Чуть позже в отдельном сочинении «Германия» («De origine et situ Germanorum» — «О происхождении и расположении германцев») Тацит описал опасных северных соседей Римской империи — германские племена. «Агрикола» и «Германия» перекликаются с общей идейной направленностью поздних работ историка. После их завершения Тацит приступил к написанию масштабного произведения о событиях 68—96 годов — «Истории» («Historiae» — «История»[коммент. 4]). Во время её создания им был также опубликован небольшой «Диалог об ораторах» («Dialogus de oratoribus»). К концу жизни историк занялся написанием труда «Анналы» («Annales»; первоначальным названием было «Ab excessu divi Augusti» — «От кончины божественного Августа») о событиях, предшествовавших описанным в «Истории» (то есть 14—68 годы).
Агрикола
 В 98 году Тацит написал биографию своего тестя Гнея Юлия Агри́колы с акцентом на его военных кампаниях на Британских островах — «De vita et moribus Iulii Agricolae». В настоящее время «Агрикола» чаще всего считается первым произведением Тацита[73][74] и датируется 98 годом[75][76], хотя существуют и иные датировки[77][78]. Исследователи отмечают определённое сходство «Агриколы» с laudatio — торжественными погребальными речами, которые обычно произносили на похоронах знатных римлян[79][80]. Возможно, это произведение было написано вместо погребальной речи, которую Тацит не смог произнести из-за отсутствия в Риме[81].
В 98 году Тацит написал биографию своего тестя Гнея Юлия Агри́колы с акцентом на его военных кампаниях на Британских островах — «De vita et moribus Iulii Agricolae». В настоящее время «Агрикола» чаще всего считается первым произведением Тацита[73][74] и датируется 98 годом[75][76], хотя существуют и иные датировки[77][78]. Исследователи отмечают определённое сходство «Агриколы» с laudatio — торжественными погребальными речами, которые обычно произносили на похоронах знатных римлян[79][80]. Возможно, это произведение было написано вместо погребальной речи, которую Тацит не смог произнести из-за отсутствия в Риме[81].
В произведении лаконично описывается юность и конец жизни Агриколы, между ними находятся пространные описания Британии и походов полководца, а в начале и конце — перекликающиеся друг с другом вступление и заключение[82]. Представляя своего тестя прежде всего в качестве крупного полководца, Тацит следовал традиции, заложенной ещё в республиканскую эпоху. В соответствии с ней, римские аристократы обладали особым набором качеств (лат. virtus[коммент. 5]) и проявляли их прежде всего в военных кампаниях[83]. Стиль сочинения характеризуется краткостью, возвышенностью слога и выразительными описаниями, что будет характерно и для более поздних произведений историка[84]. Кроме того, «Агрикола» в сжатой форме содержит основные идеи, которые впоследствии Тацит развивал в своих крупных произведениях[80].
Изображение историком Агриколы олицетворяет идеал римского гражданина[85]. На примере своего тестя историк доказывает, что умеренный и добродетельный человек способен выжить при любом, даже самом суровом императоре[77]. По сравнению с более распространёнными занимательными биографиями раннеимперского периода (сохранились сборники Плутарха и Светония), «Агрикола» отличается почти полным отсутствием тривиальных фактов и анекдотичных историй из жизни описываемого человека[84]. Кроме собственно биографического материала, Тацит использовал этнографические и географические отступления, благодаря чему «Агрикола» — важный источник по истории Британских островов в первый век римского владычества[80].
Германия
Вторым произведением Тацита стало сочинение «De origine, situ, moribus ac populis Germanorum» («О происхождении, расположении, нравах и населении Германии») — географический и этнографический очерк о жизни древних германцев и о расположении отдельных племён. Эта работа была написана вскоре после «Агриколы», в том же 98 году — на это указывает упоминание о втором консульстве Траяна[75][86]. «Германия» условно делится на две части — общую и специальную. В первом разделе Тацит описывает германцев целиком, во втором — каждое племя в отдельности[87][88]. Тацит подробно описывает нравы германцев, которых ценит достаточно высоко (он пишет не только о недостатках германских племён, но и об их достоинствах по сравнению с римлянами; подробнее см. ниже). Цель написания сочинения неясна — либо это было простое ознакомление с жизнью северных соседей, либо историк преследовал некую определённую цель (желание повлиять на Траяна и убедить его не начинать войну с воинственными племенами; указание на опасность, исходящую с севера, и так далее)[86].
Сочинение является крайне ценным источником по истории древних германцев. Благодаря наличию положительных характеристик древних германцев это произведение использовалось идеологами германского национализма и оказало большое влияние на развитие германского национального движения (подробнее см. ниже).
Диалог об ораторах
В основе этого произведения лежит сюжет о беседе нескольких известных в Риме ораторов о своём ремесле и его скромном месте в общественной жизни. Затрагивавшие вопрос о причинах упадка красноречия сочинения, подобные «Диалогу», были распространены в I веке н. э.[89][90], однако позиция Тацита на эту тему совершенно иная[91]. Ораторы Марк Апр и Юлий Секунд приходят к Куриацию Матерну, который на днях публично прочитал свою поэму о Катоне Младшем — одном из самых идеализируемых римских республиканцев и борцов с тиранией. С обсуждения целесообразности издания сочинения, которое восхваляет непримиримого защитника республиканского строя, начинается дискуссия о красноречии. После присоединения к Апру и Секунду Випстана Мессалы начинается обсуждение места ораторского мастерства в современном мире. По замечанию Г. С. Кнабе, дискуссия выглядит «как пародия на судебный процесс, с адвокатами, ответчиками и истцами, [повествование] пересыпано шутками, возражения высказываются с улыбкой»[92]. Молодой Тацит всё это время слушает своих наставников — известнейших ораторов Рима. Историчность главных героев находится под вопросом — иногда предполагается, что по крайней мере Марк Апр и Куриаций Матерн — персонажи вымышленные[93][94]. Разговор происходит около 75 года, но уточнить дату мешает оплошность Тацита: в тексте присутствует как указание на шестой год правления Веспасиана (между 1 июля 74 и 1 июля 75 года), так и упоминание того, что прошло сто двадцать лет со дня гибели Цицерона (то есть после 7 декабря 76 года)[93].
В XIX веке «Диалог» считали первым произведением Тацита и относили его создание примерно к 77 году[39][95], то есть вскоре после описанного им разговора. Позднее такой точки зрения придерживались, в частности, С. И. Соболевский[96] и С. И. Ковалёв[97][коммент. 6]. Однако в настоящее время выход в свет произведения относится ко времени после убийства Домициана[98]. Ряд учёных относят написание произведения примерно к 102 году или ещё более позднему времени[75][90][95][99][100][101], Г. С. Кнабе отстаивает идею о появлении «Диалога» во время работы над «Историей» около 105—107 годов[102]. Окончательная датировка, впрочем, остаётся неясной[100]. До конца не решён и вопрос о подлинности этого сочинения (см. ниже). Современные исследователи, как правило, соглашаются с авторством Тацита и рассматривают заложенные в «Диалоге» идеи как рассуждения историка о причинах своего перехода от ораторской карьеры к написанию истории и о выборе стиля для своих сочинений[103].
История
Тацит, пережив эпоху Домициана, твёрдо решил описать это непростое время, начав повествование с года четырёх императоров (69 год). Первоначально он планировал описать правление Домициана в негативном свете и противопоставить ему властвование Нервы и Траяна[104]. Впрочем, вскоре историк разочаровался в новом режиме, и изменение взглядов нашло отражение в его сочинениях[коммент. 7]. По этой причине, а также из-за деликатности темы историк решил отказаться от описания правления Нервы и Траяна[105]. На это решение повлияло и недовольство известных в Риме людей излишне откровенными рассказами о закулисной жизни римского сената, которые хорошо осведомлённый Тацит начал включать в повествование (см. выше).
В современной историографии окончание работы над произведением датируется примерно 109 годом[99][101][106][107], хотя нет свидетельств, позволяющих провести точную датировку[105]. Точное число книг «Истории» неизвестно: современные исследователи чаще говорят о 12 книгах[106][108], хотя из оглавления рукописи «Медицейская II» (см. ниже) следует, что «История» состояла из 14 книг[109]. Историк очень подробно описал события года четырёх императоров — ему он посвятил три книги, в то время как оставшимся 26-ти годам он посвятил девять книг[110].
Анналы
...С таковыми глубокими суждениями не удивительно, что Тацит, бич тиранов, не нравился Наполеону; удивительно чистосердечие Наполеона, в том признававшегося, не думая о добрых людях, готовых видеть тут ненависть тирана к своему мёртвому карателю.
Ещё во время написания «Истории» Тацит столкнулся с необходимостью исследования истоков проблем, с которыми римское общество столкнулось в год четырёх императоров и при Флавиях. Поэтому он начал написание произведения «Ab excessu divi Augusti» («От кончины божественного Августа»), в котором описал правление Тиберия, Калигулы, Клавдия и Нерона, а также, вероятно, шесть месяцев безвластия до начала повествования в «Истории»[111]. Только в Новое время это сочинение начали называть «Анналами». Это самое крупное произведение историка, состоявшее из 18 или 16 книг[109][112][коммент. 8]. Вероятно, объёмное сочинение было разделено на три части и издавалось постепенно. По разным оценкам, «Анналы» были написаны после 110[39] или после 113 года[75]. До наших дней целиком сохранились только книги I—IV (описывали события 14—28 годов) и XII—XV (48—65 годы), частично — VI, XI, XVI (31—37, 47—48, 65—66 годы), а также небольшой фрагмент книги V (события 29 года). Таким образом, в основном сохранились описания правления Тиберия и Нерона, частично — Клавдия и совершенно не дошёл рассказ об императорстве Калигулы. Кроме того, «Анналы» могли остаться незавершёнными — Тацит мог умереть, не успев завершить работу над книгами XVII и XVIII (67—68 годы)[113]. Из-за смерти историка книги XIII—XVI «Анналов» могли опубликовать в предварительной редакции, что объяснило бы некоторые содержательные, логические и стилистические недостатки этих книг[111]. В книге XV содержится описание казней христиан при Нероне — одно из первых независимых свидетельств о Христе и о существовании христианской общины в Риме, благодаря чему этому фрагменту уделяется пристальное внимание исследователей (см. ниже).
В «Анналах» Тацит озвучил намерение описать правление Октавиана Августа, но об этом сочинении ничего не известно — по-видимому, оно так и не было написано[105].
Источники
 Принято считать, что Тацит внимательно относился к подбору источников, в отличие от ряда современников, которые занимались лишь компилированием других работ. Из-за того, что историк практически никогда не называет свои источники информации, их установление проблематично. По словам немецкого филолога М. фон Альбрехта, Тацит атрибутирует только те мнения, «ответственность за которые он не желает брать на себя»[114].
Принято считать, что Тацит внимательно относился к подбору источников, в отличие от ряда современников, которые занимались лишь компилированием других работ. Из-за того, что историк практически никогда не называет свои источники информации, их установление проблематично. По словам немецкого филолога М. фон Альбрехта, Тацит атрибутирует только те мнения, «ответственность за которые он не желает брать на себя»[114].
Для большинства своих произведений он использует широкий круг источников — исторические произведения предшественников, политические памфлеты[коммент. 9], законодательные акты[115][116]. Кроме того, Тацит изучал мемуары видных римлян (например, Агриппины Младшей и Гнея Корбулона[117]) и собирал свидетельства очевидцев[115][116]. Собранные сведения Тацит старался детально анализировать и сравнивать друг с другом, чтобы выявлять недостоверную информацию[115]. Однако кропотливый труд по отбору источников не мешал историку записывать и всевозможные слухи (например, о том, что придворный Луций Элий Сеян в юности торговал собой)[118]. Впрочем, нередко Тацит указывает на то, что какая-то информация может и не соответствовать действительности[119].
Важным источником для Тацита служили акты сената из архива, хотя некоторые учёные оспаривают их важность для Тацита. По мнению Р. Сайма, подобная критика безосновательна, и по крайней мере в «Анналах» акты сената использовались очень часто[120]. Замечено, что информация, которая могла быть почерпнута именно из сенатских протоколов, обычно группируется в описании событий конца каждого года[116]. Нередко историк использовал официальные протоколы и тексты законодательных актов для уточнения или опровержения информации из других источников[121]. Современные исследователи обращают внимание на падение ценности актов сената в I веке н. э. Дело в том, что в терявший влияние сенат поступала уже не вся информация из провинций, а самые ценные документы стали храниться при дворе императора, куда имели доступ немногие[67]. Использовал Тацит и публичные выступления императоров и политиков, которые нередко записывались и затем распространялись[122]. Также он использовал отчёт Тиберия о своём правлении[123].
Ещё в XIX веке было замечено, что фактические сведения и особенности повествования у Тацита и писавшего по-гречески более позднего историка Диона Кассия нередко бывают похожи. До сих пор нет единого мнения, являются ли похожие фрагменты заимствованием Диона Кассия у Тацита, либо же оба историка использовали некоторые одинаковые сочинения предшественников, которые не дошли до наших дней[124]. В пользу последнего предположения свидетельствуют различные трактовки фактического материала и серьёзные различия в описании событий нескольких лет, например, 15—16 годов[125]. Немало сходств обнаруживается у историка со Светонием и Плутархом (описание Тацитом императоров Гальбы и Отона очень похоже на их описание в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха, однако оценки императоров у двух историков кардинально различаются)[126]. В качестве возможных источников их сведений называют сочинения Ауфидия Басса, Сервилия Нониана и Плиния Старшего[127]. Впрочем, все эти произведения не сохранились[127][128], а сам Тацит в предисловии к «Анналам» пишет о том, что ко времени написания сочинения история династии Юлиев-Клавдиев так не и была написана по политическим причинам[129].
С XIX века существует критическая традиция (см. ниже), представители которой отстаивали тезис об исключительно компилятивном характере работ Тацита и, таким образом, об их ненадёжности для современных историков[130]. В настоящее время она имеет немного последователей в чистом виде[130], как и сам подход, утверждающий компилятивный характер всей римской историографии[116]. При этом не отрицается решающая роль нескольких источников[126].
При написании «Германии» и этнографическо-географических пассажей в других сочинениях Тацит пользовался работами предшественников (сохранилась только «География» Страбона и немногочисленные фрагменты других сочинений) и записывал свидетельства путешественников[86]. Среди не дошедших до нашего времени работ предшественников источниками для «Германии» могли служить 104-я книга «Истории от основания города» Тита Ливия, «Германская война» Плиния Старшего и сочинения греческих авторов[131]. Несмотря на распространённое мнение о провинциальном происхождении Тацита и его наместничестве в провинциях, вопрос о роли личного опыта в описании германцев и географии Германии является дискуссионным[86].
Стиль сочинений
Стилистические особенности латинской литературы I века н. э.
Тацит, получив классическое риторическое образование и познакомившись с античной литературой, перенял ряд важных их установок, что объясняет немало особенностей его стиля. В античную эпоху стиль сочинения обычно зависел от жанра, в котором оно писалось[132]. Известно немало случаев, когда сочинения одного автора в разных жанрах различались по стилю настолько, что их принимали за работы разных писателей[132]. Поэтому употребление Тацитом специфической лексики в исторических произведениях и совершенно иной — в «Диалоге об ораторах» — в некоторой степени закономерно. Однако большое влияние Саллюстия — новатора в историографии — привело к тому, что границы латинской исторической прозы стали размываться. Из-за этого исторические произведения уже с I века до н. э. начинают мало-помалу включать в себя приёмы, характерные для риторического мастерства[132].
Уже в конце I века до н. э. римские ораторы начали разработку нового стиля публичных выступлений, который стал известен как «новое красноречие» или «новый стиль»[133]. В I веке н. э. он распространился на все основные жанры литературы[133]. Его становление связывается с упадком политического красноречия из-за падения Республики и концентрации реальной власти в руках императоров; вместо него продолжали развиваться судебное и торжественное красноречие[133]. Отличительные особенности «нового стиля» — краткие отточенные фразы, изобиловавшие антитезами и парадоксами, а также стремление произвести мгновенный эффект[133].
Влияние предшественников
Цицерон: «Не увидел он ни Италии, объятой пламенем войны, ни сената, сгоравшего завистью, ни государственных мужей, обвиняемых в злодейских поступках... ни неистовств Гая Мария, ни падения государства, в котором покойный блистал своими доблестями. <...> По моему мнению, ты, Красс, и счастливый в жизни, и вовремя застигнутый смертью...»
Тацит: «Не видел Агрикола осаждённой курии и запертого вооружённой силой сената, не видел одновременного избиения стольких людей консульского звания, ссылки и бегства стольких знатнейших женщин. <...> Счастлив ты, Агрикола, не только славой своей жизни, но и тем, что умер ты вовремя».
Поскольку римская историография во времена Тацита находилась в кризисе (см. выше), у него не было современников, которые могли бы служить для него ориентиром. В наибольшей степени на Тацита повлиял историк I века до н. э. Гай Саллюстий Крисп, известный своим скептицизмом в отношении современности, морализаторством и специфической речью, изобиловавшей архаизмами и редкими грамматическими конструкциями. Особенно сильно его влияние на Тацита проявляется как раз в области стиля[134][135][136]. Автор «Анналов» высоко ценил Саллюстия и, рассказывая о смерти приёмного сына Криспа, назвал его «прославленным историком»[137]. Через Саллюстия к Тациту может быть прослежена линия историков, отличавшихся спокойным стилем изложения и глубоким анализом политических событий. Начавшись от Фукидида в Древней Греции, посредством Полибия и Посидония этот вид историографии попал в Рим, где был развит Саллюстием и воспринят Тацитом[138][139].
В меньшей степени историк ориентировался на Марка Туллия Цицерона и Тита Ливия[136][140]; обнаруживается и влияние Вергилия[141][142]. При этом влияние Цицерона наиболее заметно в «Диалоге об ораторах»[143], а Ливия — в «Анналах» и «Истории»[144]. Однако влияние предшественников не ограничивалось тем, что Тацит следовал их стилю и принципам написания произведений; в его сочинениях найдено несколько переработанных, но узнаваемых фрагментов их сочинений (см. справа)[87][136]. Известны и другие подобные примеры. Так, речь Калгака в «Агриколе» Тацита напоминает речь Луция Катилины в «Заговоре Катилины» Саллюстия, а описание одной из битв в «Агриколе» схоже с изображением битвы при Цирте в «Югуртинской войне»[87]. Вероятно, параллелей можно было бы обнаружить ещё больше, если бы сохранилась «История», главное произведение Саллюстия.
Обзор
Несмотря на очевидные влияния со стороны предшественников, латинский язык Тацита очень самобытен[145]. Манера его речи, зачастую продуманная для нарочного усложнения восприятия, контрастировала со стилем сочинений большинства современников[145]. Из-за этого Тацит считается очень сложным для чтения автором[145].
Сочинения Тацита написаны с использованием различной стилистики. «Агрикола» представляет собой в стилистическом отношении ещё достаточно сырое произведение, с рядом недоработок и неясностей[131]. «Германия» написана в стиле, который называется филологами научным[146], но с чертами «нового стиля» (о «новом стиле» см. выше)[147]. Тем не менее, уже в этом произведении историк красочно (но не всегда точно) описывает военные действия[148], а также применяет характерные для «нового стиля» конструкции — антитезы, параллелизмы, краткие предложения, отточенные сентенции и другие[147]. Особняком от других работ историка в стилистическом отношении стоит «Диалог об ораторах». Из-за сильного контраста с другими сочинениями филологи нередко предполагали, что автором произведения является не Тацит. В настоящее время стилистические отличия списываются на совершенно иной жанр произведения, а благодаря способности писать в различной манере Тацит признаётся мастером латинской прозы (подробнее см. ниже). Две главные работы историка, «История» и «Анналы», написаны в стиле, который наиболее близок к сочинениям Саллюстия[144]. Ориентация на стиль Саллюстия была вызвана схожими причинами, которые побудили его заняться историей — Тацит, как и Саллюстий, разочаровался в политической системе своего времени[144]. Более сильные переживания по сравнению с предшественником заставили его занять ещё более пессимистическую позицию, и поэтому, по мнению М. Л. Гаспарова, произведения Тацита стилизованы под трагедию[149].
Особенности языка
Хотя стиль исторических сочинений Тацита больше всего похож на произведения Гая Саллюстия Криспа (см. выше), он не является радикальным приверженцем искусственной архаизации речи. Однако благодаря Катону Старшему и Саллюстию архаизмы применялись нередко во всей римской историографии[150]. Поэтому Тацит, следуя традиции и идеализируя прошлое, нередко применяет архаизмы. Впрочем, он находился и под сильным влиянием современной литературной моды: немало лексики, которая используется историком, встречается только у писателей «серебряного века» латинской литературы[151].
Наиболее чётко все черты специфического языка Тацита прослеживаются в «Анналах»[152]. Эволюция его стиля отразилась и на выборе им лексики. Так, в последних книгах «Анналов» крайне редко встречаются слова, использовавшиеся в более ранних сочинениях для обозначения добрых намерений и положительных качеств людей — pietas (благочестие, справедливость), providentia (предвидение, предусмотрительность, заботливость), felicitas (честность, плодородие)[153]. Описывая мрачные времена Тиберия и Нерона, Тацит ни разу не прибегает к словам humanitas (человеколюбие; человеческое достоинство), integritas (безупречность, правильность, честность) и некоторым другим[153]. Во всех своих произведениях он старается избегать просторечных, общепринятых и технических слов и заменять их более редкими аналогами: например, вместо virgines Vestales (девы-весталки) он пишет virgines Vestae (девы Весты); вместо Campus Martius (Марсово поле) — Campus Martis (поле Марса); вместо того, чтобы сказать «с помощью лопат и кирок» он пишет «посредством чего выносится земля и вырезается дёрн»[144][151]. Иногда Тацит прибегает к помощи не слишком распространённых выражений: например, вместо обычного senatus consultum (решение сената) он иногда употребляет consultum senatus (решение сената; иной порядок слов), senatus decretum (указ сената), decretum senatus (указ сената; иной порядок слов), decretum patrum (указ отцов)[145]. Тацит нередко применяет поэтизмы (слова, которые обычно используются в определённом значении в поэзии): regnator (вместо rex — царь), sinister[коммент. 10], cura, scriptura[коммент. 11], fabula и другие[151].
Среди наиболее часто используемых архаизаций языка в «Анналах» — более частое употребление глагола reor вместо обычного puto (оба слова — синонимы, и обозначают «я думаю», «я полагаю», «я считаю»)[145]. Другие частые устаревшие слова — claritudo вместо claritas (слава, почёт, знатность), luxus вместо luxuria (роскошь), maestitia вместо maeror (уныние, грусть, печаль), servitium вместо servitus (рабство, неволя)[154]. Вместо обычного senatores (сенаторы) историк часто употребляет patres (отцы)[154]. Кроме того, Тацит использует множество различных слов для изображения убийств, смертей и самоубийств[154]. Немало устаревших слов, используемых Тацитом, встречается и в работах историков-предшественников (в частности, torpedo[коммент. 12] вместо torpor — бездействие; оцепенение, окоченение)[150].
Избегает Тацит и греческих слов. Вместо того, чтобы назвать слово «σωτήρ» (сотер — спаситель, хранитель), он пишет «он усвоил себе название спасителя, выраженное греческим словом этого значения» (лат. conservatoris sibi nomen Graeco eius rei vocabulo adsumpsit)[151]. Схожим образом он заменяет пространным латинским объяснением греческие слова «цикута» и «евнух»[151].
«Onerabant multitudinem obvii ex urbe senatores equitesque, quidam metu, multi per adulationem, ceteri ac paulatim omnes ne aliis proficiscentibus ipsi remanerent».
«Прибавляли обременение к этой толпе выходившие навстречу из Рима сенаторы и всадники, некоторые из страха, многие вследствие раболепства, а остальные и, мало-помалу, все для того, чтобы не оставаться дома, когда идут другие» (пер. С. И. Соболевского; использованы различные грамматические конструкции).
«Толпа эта ещё увеличивалась за счёт сенаторов и всадников, которые выехали из столицы навстречу принцепсу, одни — движимые страхом, другие — подобострастием, остальные, число которых понемногу росло, — боязнью отстать от других» (пер. А. С. Бобовича; упомянутая особенность стиля Тацита утеряна).
Историк избегает периодического строя речи, который был призван делать её более приятной и доступной для восприятия на слух[155]. Вместо длинных периодов часто используются короткие — краткие предложения, не связанные друг с другом союзами и оборотами. Впрочем, в «Диалоге» Тацит следует за Цицероном и использует длинные периоды[152]. Нередко Тацит применяет разнообразные грамматические конструкции в одном предложении для однотипных построений (например, для перечисления целей поступков в одной фразе он может использовать как герундий, так и придаточные предложения; см. справа)[155]. Нередко он прибегает к ассонансам и аллитерациям: consurgere et… urgere, piscina… apiscendo, extrema Armenia и другие. Иногда они теряются в переводе: например, в книге I «Анналов» встречается словосочетание adornavit naves; в переводе А. С. Бобовича — оснастил корабли (созвучие утеряно), но в переводе Энтони Джона Вудмэна на английский язык — equipped ships. В книге XII «Анналов» — testamentum tamen haud recitatum, в упомянутом переводе на русский язык — Завещание его, однако, оглашено не было (созвучие утеряно), в переводе Э. Дж. Вудмэна на английский — Yet his will was still not read out[156]. Таким образом, нередко переводы на современные языки теряют особенности языка оригинала.
В «Анналах» присутствуют и отступления Тацита от классической грамматики латинского языка. В частности, он использует родительный падеж для выражения отношения либо области для обозначения свойства прилагательного[152]. Тацит очень активно использует метафоры[157]. В ряде случаев из-за активного использования метафор его речь становится двусмысленной. Например, в «Агриколе» Калгак, вождь каледонцев, в своей речи обвиняет римлян в разбое и завоевании земель ради удовлетворения растущих потребностей. Однако ряд выражений в этой речи многозначен и имеет сексуальный подтекст, и потому римляне могут быть представлены как насильники[157][коммент. 13]. Кроме того, историк часто прибегает к использованию анафор и зевгм[155].
Особенности изложения
Особенности стиля Тацита не ограничиваются специфическим языком; историк придерживался определённых правил компоновки материала. Он в целом придерживался римской традиции анналистического изложения событий по годам, с началом описания событий каждого года называнием консулов[коммент. 14][158]. В силу бо́льшей подробности (события года четырёх императоров описываются в нескольких книгах) «История» следует этому принципу лишь частично[158]. Предполагается, что упорное следование анналистической традиции было призвано подчеркнуть противопоставление республиканской и монархической эпох[159]. Внутри каждого года Тацит не следует строгой хронологии, а излагает события в определённом порядке: внутренние дела — внешняя политика — возвращение к внутренней политике (эта схема активно применяется Ливием)[159]. Кроме того, некоторые исследователи предполагают, что его книги были сгруппированы группами по шесть (так называемые гекса́ды — «шестикнижия»). Эти группы, вероятно, выдерживались в одном духе и посвящались раскрытию одной глобальной темы; например, в первой гексаде «Анналов» Тацит последовательно выявляет характер Тиберия[160].
Желая раскрыть истинную подоплёку событий, Тацит столкнулся с отсутствием источников о ситуации при дворе императора[103]. Он был вынужден судить о ней по двум в равной степени недостоверным источникам — слухам и официальным сообщениям[67]. Поэтому он старался тщательно сопоставлять имеющиеся в его распоряжении сведения (см. выше), чтобы раскрыть истинную картину дел. А для того, чтобы донести свою мысль до читателя и слушателя, даже не располагая надёжными источниками, Тацит прибегал к приёму группировки фактов. Благодаря расположению общих картин и частных эпизодов в соответствии с канонами ораторского мастерства достигался особый драматизм изложения[103]. Драматизация изложения достигается и определённой последовательностью расположения эпизодов: например, некоторые события года четырёх императоров в Риме воспринимаются как фарс, поскольку перед этим Тацит сообщает об изменениях в настроении легионов в Германии и на Востоке, которые в конце концов решат судьбу Рима[159]. Произведения Тацита отличаются также психологизмом — историк стремится раскрыть переживания отдельных людей и групп с помощью приёма мотивировки фактов[103]. Он прибегает к тщательному подбору речей и писем персонажей для лучшего раскрытия их целей и особенностей характера[161]. Нередко Тацит строит повествование вокруг противостояния двух людей — Германика и Тиберия, Гальбы и Отона[162]. При этом он стремится избежать описания действительности в чёрно-белых тонах[163].
Как правило, в своих работах Тацит избегает называть точные цифры. Вероятно, это делалось для того, чтобы не перегружать читателей и слушателей лишней информацией[164]. Нежелание называть точные числа приводит к тому, что историк иногда говорит обо всех людях (лат. omnes), когда известно, что на самом деле их было двое; порой слова «часто» (лат. saepe) или «всегда» (лат. semper) используются для обозначения двукратного действия[164]. При этом Тит Ливий и некоторые другие более ранние римские историки, наоборот, стремились записать как можно более точное (пусть и не всегда достоверное) количество убитых противников, объём добычи в пересчёте на серебро и золото. Впрочем, Саллюстий, на которого ориентировался Тацит, был одним из первых римских историков, кто стремился по возможности избегать точных цифр[164]. Кроме того, в прозаических жанрах римской литературы I века не было принято активно применять военные термины и географические названия в описаниях войн[132]. Тацит разделял это убеждение: в «Агриколе» упомянуто лишь одиннадцать географических названий, хотя основная часть произведения посвящена военным кампаниям Агриколы на Британских островах[165]. Впрочем, существует и альтернативная точка зрения на причины этого феномена: большинство римских историков (Саллюстий, Ливий, Тацит) могли попросту не знать особенностей географии большей части описываемых регионов[165]. Что касается описания сражений и военных кампаний, то историк допустил в них немало ошибок[166]. Нередко он использовал фрагменты описаний одних битв при изображении других сражений[166]. Он редко прибегает к описанию топографии местности и тактики сторон[165][166].
Взгляды Тацита
Политические взгляды
 Хотя Тацит описывает преимущественно политическую историю Рима, уже в XVI веке обратили внимание на неоднозначность его собственных воззрений[167]. Обычно внимание акцентируется на его скептическом отношении к римским императорам и к системе принципата в целом[168][169]. В своих сочинениях Тацит характеризует императоров с отрицательной стороны, и только про Веспасиана он говорит, что тот за годы своего правления изменился к лучшему[170]. Даже Октавиан Август, который завершил многолетние гражданские войны и на которого старались равняться последующие императоры, удостоился более чем сдержанной оценки историка[170]. С. И. Соболевский, однако, предполагает, что Тацит не был до конца откровенен, когда выражал своё мнение на политическую тематику: он никогда не высказывал своего неприятия монархии или отдельных монархов открыто[171]. Вероятно, это было связано с опасениями за свою жизнь и с желанием продолжить написание своих сочинений без давления — он был прекрасно знаком с попытками воздействия на историков, с цензурой их произведений и даже убийством самых неугодных (см. выше). Впрочем, реконструкцию политических взглядов Тацита осложняет то обстоятельство, что он не предлагает никакой политической программы[172] и обычно развивает лишь идею умеренности (лат. moderatio)[173]. Поэтому немало учёных полагают, что он относился не к радикальным противникам принципата, а лишь прагматично считал, что государство должно находиться под управлением достойного императора, поскольку монархия виделась ему неизбежной[168][169][174][175]. По словам Теодора Моммзена, Тацит был монархистом, «но по необходимости, — можно сказать, из отчаяния»[176]. В любом случае, римский историк отстаивает необходимость существования стабильной власти и дисциплинированных граждан[177].
Хотя Тацит описывает преимущественно политическую историю Рима, уже в XVI веке обратили внимание на неоднозначность его собственных воззрений[167]. Обычно внимание акцентируется на его скептическом отношении к римским императорам и к системе принципата в целом[168][169]. В своих сочинениях Тацит характеризует императоров с отрицательной стороны, и только про Веспасиана он говорит, что тот за годы своего правления изменился к лучшему[170]. Даже Октавиан Август, который завершил многолетние гражданские войны и на которого старались равняться последующие императоры, удостоился более чем сдержанной оценки историка[170]. С. И. Соболевский, однако, предполагает, что Тацит не был до конца откровенен, когда выражал своё мнение на политическую тематику: он никогда не высказывал своего неприятия монархии или отдельных монархов открыто[171]. Вероятно, это было связано с опасениями за свою жизнь и с желанием продолжить написание своих сочинений без давления — он был прекрасно знаком с попытками воздействия на историков, с цензурой их произведений и даже убийством самых неугодных (см. выше). Впрочем, реконструкцию политических взглядов Тацита осложняет то обстоятельство, что он не предлагает никакой политической программы[172] и обычно развивает лишь идею умеренности (лат. moderatio)[173]. Поэтому немало учёных полагают, что он относился не к радикальным противникам принципата, а лишь прагматично считал, что государство должно находиться под управлением достойного императора, поскольку монархия виделась ему неизбежной[168][169][174][175]. По словам Теодора Моммзена, Тацит был монархистом, «но по необходимости, — можно сказать, из отчаяния»[176]. В любом случае, римский историк отстаивает необходимость существования стабильной власти и дисциплинированных граждан[177].
В первый век существования Римской империи сенат был центром оппозиции императорам. Многие сенаторы с сожалением вспоминали о республиканской эпохе, когда им принадлежала реальная власть. Однако Тацит скептически оценивал перспективы сената вернуть себе прежние полномочия и придерживался невысокого мнения о самих сенаторах[170]. Историк критикует их за раболепство перед императорами и винит в том, что из-за их попыток угодить правителям роль сената со временем лишь уменьшалась[170]. В равной степени он клеймит лакейство и «старых», и «новых» сенаторов[коммент. 15]. Однако к нравственному облику представителей древних знатных родов он предъявляет более высокие требования[178]. Так, историк осуждает Ливию Юлию за её связь с Сеяном из-за того, что он был выходцем из муниципия[178][179], а Юлия Друза, по его мнению, достойна порицания из-за свадьбы с незнатным консуляром Гаем Рубеллием Бландом[178][180].
В целом негативно Тацит характеризует простых римлян. Его описания, как правило, касаются городских низов — пролетариев. Большинство из них составляли выходцы из провинций, почти не знакомые с римской культурой и слабо владевшие латинским языком, но своим количеством оказывавшие влияние на императоров[181]. Историк изображает простой народ непоследовательным, трусливым, жаждущим переворотов, хлеба и зрелищ[181]. Поэтому Тацит считает его непригодным для участия в политической жизни[181][182]. Кроме того, он отрицательно относится к возможности участия армии в политике: по его мнению, легионеров необходимо загружать работой, чтобы они и не думали о мятежах[182].
Вопреки неудовлетворённости монархией и монархами, Тацит не был убеждённым сторонником республики. Хотя он нигде не высказывается прямо о своём отношении к республиканской эпохе, характеристики этого времени почти всегда негативные[181]. Тем не менее, ему были близки представления о добродетели, доминировавшие в Ранней республике[183]. Поэтому Тацит, по-видимому, считал наилучшей из возможных форм политической организации Римскую республику в первые десятилетия своего существования (примерно до принятия Законов Двенадцати таблиц)[184]. Кроме того, историк обычно оценивает современность, сравнивая её с республиканским образцом[185].
Критике Тацита подверглась и известная теория смешанного государственного устройства, распространённая историком Полибием. Согласно этой теории, военные успехи Римской республики и её преимущества перед греческими полисами базировались на сочетании в Риме трёх форм правления — демократии, аристократии и монархии. Тацит же считает эту теорию оторванной от действительности; по его словам, смешанную форму правления «легче хвалить, чем осуществить на деле, а если она и бывает осуществлена, то не бывает долговечной»[172].
Исторические взгляды
«…я намерен, в немногих словах рассказав о событиях под конец жизни Августа, повести в дальнейшем рассказ о принципате Тиберия и его преемников, без гнева и пристрастия, причины которых от меня далеки»[186].
Историческим кредо Тацита обычно считаются его слова, сказанные в начале книги I «Анналов»: «без гнева и пристрастия» (лат. sine ira et studio). Автор выступает как сторонний наблюдатель, а своё отношение он старается выражать косвенно, с помощью риторических приёмов (см. выше). Известен он и стремлением установить причины событий[187]. Благодаря этому Тацит снискал популярность непредвзятого исследователя истории. Однако в XVIII—XIX веках его объективность была поставлена под сомнение (см. ниже). Особенно активно критиковалось изображение им Тиберия.
Историк отстаивал необходимость придания истории большей роли в обществе. В его время основным инструментом, которым руководствовались образованные люди в государственной деятельности, были прескриптивные философские учения, а не анализ прошлого и извлечение полезных рекомендаций. Учение стоиков предписывало римлянам действовать на благо государства и игнорировать придворные интриги, что критиковалось Тацитом за невозможность оказать влияние на ситуацию. Поэтому он отстаивал идею о необходимости глубокого понимания прошлого, чтобы решать проблемы настоящего[188]. Как и многие другие античные историки, он рассматривал историю как один из способов воздействия на нравы читателей и слушателей[189]. Вследствие этого убеждения он и собирал образцы выдающейся добродетели и выдающегося порока[189].
Для Тацита характерна высокая оценка роли личности в истории[187]. По Тациту, именно изменение морального облика людей привело к противоречивой политической ситуации в I веке. Он полагает, что каждый человек наделён уникальным характером от рождения, который может или проявляться в полном объёме, или намеренно скрываться[190]. Так, Тацит считает, что все добрые начинания Тиберия были лишь лицемерной ширмой, призванной скрыть его пороки[190]. Большую роль в представлениях Тацита об истории играет особое понимание virtus — набора положительных качеств, свойственных римлянам давних времён, но утерянных современниками историка. По его мнению, в I веке и императоры, и непримиримая им оппозиция в равной степени отреклись от традиционных римских доблестей[191]. Впрочем, он стремится проводить анализ не только психологический, но и социологический[192].
В работах Тацита встречается терминология, использование которой трактуется некоторыми исследователями как свидетельство циклического понимания истории (прежде всего, saeculum)[193]. Дискуссионным остаётся вопрос о влиянии традиционной римской религии на историка, его представлениях о роли богов и судьбы в истории (см. ниже).
Отношение к другим народам
Сочинения Тацита содержат немало экскурсов в географию, историю и этнографию других народов. Его интерес к ним вызван не только стремлением рассказать о событиях в разных частях империи, которые оказывали влияние на события в столице; историк следует традиции, заложенной ещё греками, при которой описание других народов помогает познать культурные особенности своей этнической группы. По традиционному античному представлению, другие народы воспринимаются им как варвары, которым противопоставляется цивилизованный народ — римляне[194]. Кроме того, Тацит прибегает к описанию культуры и истории других народов, когда по каким-то причинам не желает прямо говорить о тех же самых феноменах применительно к Риму и римлянам (в частности, из-за цензуры)[194].
Тацит много и часто критикует римлян за упадок морали в обществе, и он столь же строг в оценках других народов. В целом отрицательно он относится к цивилизованным народам Средиземноморья — народам Римской империи и её соседям: по его мнению, арабы и армяне вероломны, греки ненадёжны, раболепны и чванливы, евреи полны предрассудков, парфяне хвастливы и высокомерны[195]. При этом прохладное отношение историка к евреям основывается не столько на неприятии самих иудейских обычаев, сколько на прозелитизме, массовом обращении в иудаизм[196]. Поэтому, по словам А. Г. Грушевого, взгляды Тацита «не имеют ничего общего с антисемитизмом»[197]. Цви Явец предполагает, что Тацит мог уравновесить свою оценку евреев каким-нибудь положительным комментарием, но намеренно не сделал этого[198]. Израильский историк также предполагает, что Тацит мог целенаправленно создавать отрицательный образ евреев для обоснования политической экспансии Рима в Восточном Средиземноморье[199][коммент. 16]. Другие учёные видят в описании евреев проявление античной традиции познания своего народа (то есть римлян) через описание варваров[194].
Вместе с тем, историк демонстрирует двойственное отношение к варварским народам Европы — обитателям Британских островов и Германии. Сообщая о пристрастии германцев ко сну и выпивке, тем не менее Тацит приписывает им обладание той доблестью (virtus), которую вследствие изнеженного образа жизни теряют римляне[195]. Их положительные качества Тацит не ограничивает доблестью; достоинства германцев относятся ко многим сферам жизни, но особенно привлекают историка особенности семейной жизни северных соседей Рима[200]. Как правило, их положительные качества выражаются косвенно, через указание на то, что им несвойственны многие пороки римлян: «женщины не знают соблазнов зрелищ и пиров», «никто не осмеивает порок и не называет его модой»[201].
Высокая оценка нравов живущих по первобытным традициям варваров и противопоставление им изнеженных и развращённых цивилизованных народов — характерные идеи для многих римских авторов-моралистов[200]. У Тацита германцы ещё и романтически сближаются с римлянами первых лет Республики[183].
Немало литературы посвящено изучению вопроса о том, опасался ли Тацит германцев, видел ли он в них угрозу Риму. Хотя некоторые учёные склонны признавать опасения Тацита[195], этот вопрос продолжает оставаться нерешённым[202]. В любом случае, Тацит поддерживал сохранение власти Рима над другими народами. Будучи сенатором, он разделял убеждения о необходимости поддержания строгого порядка в провинциях[195]. По его мнению, наместники провинций должны были быть твёрдыми, хотя прежде всего — справедливыми[195].
Религиозные взгляды
Тацит был прекрасно знаком с римской религиозной теорией и практикой, о чём свидетельствует его членство в коллегии квиндецемвиров (пятнадцати жрецов священнодействий)[203]. Вследствие этого он уважительно относился к римским жреческим коллегиям[204]. Впрочем, несмотря на очевидное влияние традиционной римской религии на Тацита, оценки степени этого влияния разнятся. В частности, существует гипотеза, что целью «Истории» и «Анналов» Тацита на самом деле было исследование, как в I веке н. э. проявлялись ранее существовавшие предсказания (прежде всего, на материале Сивиллиных книг) и какова была роль богов в событиях последних лет[205]. Михаэль фон Альбрехт, напротив, полагает, что римский историк не находился под сильным влиянием римской религии. По его мнению, Тацит «юридически» относился к ней и считал, что к I веку н. э. она потеряла всякую актуальность[206].
В своих сочинениях Тацит уделяет немало внимания описанию знамений и чудес[206], что, впрочем, является характерной чертой всей античной историографии. Однако распространённые среди простых римлян суеверия он не принимает и стремится дистанцироваться от них[207]. Историк по-разному оценивает влияние богов, судьбы (fatum) и астрологических предсказаний в различных ситуациях, но уделяет большое значение влиянию fortuna (случай, который не поддаётся расчёту)[206]. Боги иногда вмешиваются в развитие событий, причём обычно Тацит представляет их гневающимися и лишь изредка — милостивыми[208]. В целом в его сочинениях роль богов, судьбы и предопределения скорее невелика, и обычно люди предстают свободными в своих поступках[207]. Мнение историка по большинству религиозных и философских вопросов исследователи оценивают как неопределённое[208].
Рукописи и издания
Рукописи
Сочинения Тацита не были известны широкому кругу римлян; лишь в конце III века император Марк Клавдий Тацит, считавший себя потомком историка, приказал всем библиотекам Империи иметь в своих фондах его сочинения. В дальнейшем его знают лишь некоторые позднеантичные интеллектуалы и считанные средневековые хронисты (подробнее см. ниже). Из-за небольшой популярности в Средние века сочинения Тацита сохранились лишь благодаря единичным рукописям.
I—VI книги «Анналов» сохранились в единственной рукописи, известной как «Медицейская I» (M1). Она была написана каролингским минускулом в середине IX века предположительно в Фульдском монастыре[209]. Её писали очень аккуратно, хотя при этом перенесли грамматические ошибки из предшествующих манускриптов. Внимательное палеографическое изучение рукописи указывает на то, что исходным текстом послужила грубая копия без пробелов между словами. В манускрипте никак не обозначен разрыв в два года описанных событий между главой 5.5 «Анналов» и уцелевшими отрывками книги VI, нет деления на главы и параграфы (они были сделаны уже в печатных изданиях XVII—XX веков)[209]. Через какое-то время после завершения «Медицейская I» оказалась в монастыре Корвей. Она была доставлена в Рим по просьбе римского папы Льва X (правил с 1513 года), и уже в 1515 году было напечатано первое полное собрание сочинений Тацита (см. ниже). В Корвей манускрипт не вернулся, но вместо него в монастырь был отправлен напечатанный экземпляр[210]. В настоящее время рукопись хранится в библиотеке Лауренциана во Флоренции[209].
В середине XI века в монастыре Монтекассино была создана рукопись, известная как «Медицейская II» (M2)[210][211]. Она включает книги XI—XVI «Анналов» и книги I—V «Истории». Рукопись была написана беневентским письмом (особой разновидностью рукописного шрифта). В манускрипте была применена сплошная нумерация книг (книги «Истории» I—V были пронумерованы как XVII—XXI). «Медицейская II» была обнаружена гуманистами около 1360 года, с неё сделали копию и переправили во Флоренцию[212]. Благодаря находке Тацита знал Боккаччо. В переписке между гуманистами Поджо Браччолини и Никколо Никколи содержится указание на то, что около 1427 года Никколи каким-то сомнительным способом получил в своё распоряжение этот манускрипт. После смерти де Никколи в 1437 году рукопись попала в Лауренциану. Из-за того, что «Медицейская II» была написана сложным для прочтения беневентским шрифтом, с неё сделали около 40 рукописных копий, и именно они служили основой для всех изданий вплоть до 1607 года (см. ниже)[210].
Исследователи также нашли указания на то, что могла существовать и третья рукопись «Анналов» и «Истории» Тацита: различное прочтение ряда спорных моментов в «Лейденской рукописи» (L) позволяет сделать вывод об использовании источника, отличного от «Медицейской II». Однако впоследствии разночтения между рукописями L и M2 стали рассматривать как результат работы филологов XV века[213].
«Агрикола» и «Германия» также сохранились благодаря одной-единственной рукописи, хотя ещё в середине XV века, возможно, их было две. В 1425 году Поджо Браччолини в письме к Никколо де Никколи сообщил о находке монахом Херсфельдского монастыря неизвестной рукописи Тацита с «Германией» и «Агриколой». Поджо пытался убедить монаха отправить ему манускрипт, но тот отказался. После этого де Никколи отправил письмо двум кардиналам, которые собирались посетить ряд монастырей во Франции и Германии, с просьбой привезти рукопись[213]. Неизвестно, откликнулись ли кардиналы на просьбу, но в 1455 году антиквар Пьер Кандидо Дечембрио видел малые сочинения Тацита в Риме[214].
В 1457—1458 годах Энеа Сильвио Пикколомини (в скором времени он стал папой римским под именем Пия II) использовал рукопись для написания полемического сочинения (подробнее см. ниже). Дальнейшая судьба этого манускрипта (условно его называют «Codex Hersfeldensis[de]»[215]) неизвестна. В XV веке было сделано множество рукописных копий «Диалогов» и «Агриколы», на основании которых были напечатаны первые современные издания. Долгое время на основании существования двух разных традиций прочтения отдельных фраз в рукописных копиях XV века и первых печатных изданиях предполагалось, что существовало две исходных рукописи для малых произведений Тацита — «рукопись X» и «рукопись Y». Однако в 1902 году в частной библиотеке в Ези был обнаружен манускрипт, получивший обозначение «Codex Aesinas» (Рукопись Ези). Вместе с сочинениями Тацита в этой рукописи содержался также перевод «Дневника Троянской войны» Диктиса Критского с древнегреческого на латинский язык, выполненный в IV веке неким Септимием. Манускрипт примечателен тем, что часть «Агриколы» написана почерком XV века, а часть — каролингским минускулом IX века. Кроме того, на полях записано большое количество альтернативных прочтений, в том числе и таких подробных, которые не мог оставить простой переписчик. Предполагается, что переписчик либо имел под рукой два манускрипта с разными прочтениями, либо переписывал текст со всеми маргиналиями. В почерке же XV века обычно признают руку Стефано Гварнери, основателя библиотеки Ези[214]. Из-за находки в Ези гипотеза о существовании двух исходных рукописей для поздних копий Тацита подвергается сомнению[216]. Однако неизвестно, является ли находка в Ези той самой рукописью, обнаруженной в Херсфельде около 1425 года и увиденной Дечембрио в 1455 году в Риме.
Во время Второй мировой войны «Рукописью Ези» заинтересовались в СС. Интерес к одному из самых ранних систематических описаний древних германцев был так велик (см. ниже), что «Codex Aesinas» изучал и привёз в Германию лично руководитель отдела «Аненербе» Рудольф Тилль. В 1943 году он издал фоторепродукцию обоих сочинений Тацита. После этого рукопись на долгое время исчезла и лишь недавно обнаружилась в Риме. В настоящее время ряд исследователей предполагает, что страницы IX века в «Рукописи Ези» — это часть Херсфельдского манускрипта. Существует также мнение, что Херсфельдский манускрипт утрачен безвозвратно, а находка из Ези — часть другого манускрипта, сделанная в то время, когда существовали и другие рукописи[216].
Первые печатные издания
 Первое печатное издание Тацита было выпущено около 1470 года (по другой версии, в 1472—1473 гг.) Венделином фон Шпейером (да Спира) в Венеции[217][218][219]. Фон Шпейер использовал рукопись «Медицейская II», в которой, в частности, отсутствовали книги I—VI «Анналов». В 1472, 1476 и 1481 годах издание фон Шпейера перепечатывалось в Болонье и Венеции. Около 1475—1477 годов Франциском Путеоланом (лат. Franciscus Puteolanus) в Милане было выпущено второе издание, включавшее также «Агриколу»[211][218][220]. Путеолан исправил ряд неточностей в первом издании, но, по-видимому, не использовал другие рукописи, а лишь провёл филологическую работу[221]. В 1497 году Филипп Пинций (лат. Philippus Pincius) выпустил в Венеции новое издание, основанное на тексте Путеолана[222]. Около 1473 года Кройснером в Нюрнберге было предпринято издание «Германии» на основе другой рукописи, отличной от тех вариантов, которые издавались в Италии. Годом позже отдельное издание «Германии» было выпущено в Риме, а в 1500 году «Германия» на основании третьей рукописи была выпущена Винтербургом в Вене в составе сборника[222]. Первое полное издание сохранившихся трудов Тацита (включая первые шесть книг «Анналов» из рукописи «Медицейская I») было осуществлено в 1515 году ватиканским библиотекарем Филиппо Бероальдо Младшим[de][210][223].
Первое печатное издание Тацита было выпущено около 1470 года (по другой версии, в 1472—1473 гг.) Венделином фон Шпейером (да Спира) в Венеции[217][218][219]. Фон Шпейер использовал рукопись «Медицейская II», в которой, в частности, отсутствовали книги I—VI «Анналов». В 1472, 1476 и 1481 годах издание фон Шпейера перепечатывалось в Болонье и Венеции. Около 1475—1477 годов Франциском Путеоланом (лат. Franciscus Puteolanus) в Милане было выпущено второе издание, включавшее также «Агриколу»[211][218][220]. Путеолан исправил ряд неточностей в первом издании, но, по-видимому, не использовал другие рукописи, а лишь провёл филологическую работу[221]. В 1497 году Филипп Пинций (лат. Philippus Pincius) выпустил в Венеции новое издание, основанное на тексте Путеолана[222]. Около 1473 года Кройснером в Нюрнберге было предпринято издание «Германии» на основе другой рукописи, отличной от тех вариантов, которые издавались в Италии. Годом позже отдельное издание «Германии» было выпущено в Риме, а в 1500 году «Германия» на основании третьей рукописи была выпущена Винтербургом в Вене в составе сборника[222]. Первое полное издание сохранившихся трудов Тацита (включая первые шесть книг «Анналов» из рукописи «Медицейская I») было осуществлено в 1515 году ватиканским библиотекарем Филиппо Бероальдо Младшим[de][210][223].
В начале XVI века Беат Ренан[en] издал комментированное издание сочинений Тацита, чем положил начало их активному филологическому изучению. По сведениям И. М. Тронского, оно было издано в 1519 году в Базеле[224], а по сведениям современного исследователя Рональда Мартина, Ренан выпустил два комментированных издания сочинений Тацита в 1533 и 1544 году[225]. С 1574 года было выпущено несколько изданий сочинений историка под редакцией известного филолога Юста Липсия с комментариями[226]. В 1607 году Курций Пикена (лат. Curtius Pichena) издал во Франкфурте первое издание, основанное на непосредственном изучении различных вариантов рукописей[210]. Однако из-за недостаточного опыта работы со средневековыми рукописями и Пикена, и Липсий соглашались с тем, что рукопись «Медицейская II» была создана в IV—V веках, хотя она писалась более поздним беневентским письмом[226].
Влияние Тацита
Античность и Средневековье
В античную эпоху Тацит не был очень известен. Хотя его друг Плиний Младший предсказывал в письмах, что его произведения будут бессмертными, в сочинениях других интеллектуалов античной эпохи его имя практически не встречается. Всплеск популярности Тацита пришёлся на краткое правление императора Марка Клавдия Тацита, который считал себя потомком историка и повелел всем библиотекам в империи иметь экземпляры его сочинений[227]. Кроме того, известный историк конца IV века Аммиан Марцеллин начал повествование в «Деяниях» (лат. Res Gestae) с 96 года (убийство Домициана и начало правления Нервы), то есть с момента окончания повествования в «Истории» Тацита[227]. Был хорошо знаком с его сочинениями и Павел Орозий. В своей «Истории против язычников» он нередко использует Тацита как источник информации, однако указывает на недостоверные сведения и на нежелание историка разобраться в истории, связанной с разрушением Содома и Гоморры[227][228][коммент. 17]. Тертуллиан называл его лжецом за рассказ об обычаях евреев[229]. В то же время, Кассиодор знает лишь «некоего Корнелия»[227].
 В Средние века о существовании сочинений Тацита знали лишь немногочисленные монахи в крупных монастырях. Тем не менее, его сочинения продолжали переписываться, и именно благодаря этим копиям труды римского историка известны до наших дней (см. выше). Во время каролингского возрождения его заново открыли для себя немецкие монахи, обнаружившие у Тацита важные сведения о древних германцах. В IX веке монахи Фульдского монастыря — одного из важнейших очагов сохранения античной культуры в Средние века — использовали сведения из рукописей Тацита для своих сочинений[230]. С его сочинениями были знакомы Эйнхард и Рудольф Фульдский[231]. Особенно активно Тацита использовал Рудольф, писавший о древних саксах[232]. Возможно, римского историка читали также Видукинд и Адам Бременский, но из-за того, что средневековые авторы не всегда указывали свои источники, если это были язычники, уточнить эти предположения невозможно[211].
В Средние века о существовании сочинений Тацита знали лишь немногочисленные монахи в крупных монастырях. Тем не менее, его сочинения продолжали переписываться, и именно благодаря этим копиям труды римского историка известны до наших дней (см. выше). Во время каролингского возрождения его заново открыли для себя немецкие монахи, обнаружившие у Тацита важные сведения о древних германцах. В IX веке монахи Фульдского монастыря — одного из важнейших очагов сохранения античной культуры в Средние века — использовали сведения из рукописей Тацита для своих сочинений[230]. С его сочинениями были знакомы Эйнхард и Рудольф Фульдский[231]. Особенно активно Тацита использовал Рудольф, писавший о древних саксах[232]. Возможно, римского историка читали также Видукинд и Адам Бременский, но из-за того, что средневековые авторы не всегда указывали свои источники, если это были язычники, уточнить эти предположения невозможно[211].
После открытия рукописей Тацита итальянскими гуманистами XIV века он очень скоро становится известен. Его популярности содействовала копия рукописи «Медицейская II», перевезённая из Монтекассино во Флоренцию (вероятно, при участии Джованни Бокаччо)[227]. Находя параллели между римской и современной историей, итальянские гуманисты нередко прибегали к «Анналам» и «Истории» Тацита — обличителя тиранов. Так, например, в 1404 году гуманист Леонардо Бруни использовал свидетельства римского историка для доказательства недостатков монархической формы правления[233]. Политический мыслитель Никколо Макиавелли сравнительно редко обращался к Тациту и уделял больше внимания Ливию[233]. Однако уже современники отмечали, что Макиавелли был близок по духу к Тациту, и когда сочинения итальянского мыслителя внесли в Индекс запрещённых книг, гуманисты стали обращаться к римскому историку вместо запрещённого флорентийца[233]. Несколько позже «Анналов» и «Истории» стала известна «Германия». Одним из первых, кто её использовал, был в середине XV века Энеа Сильвио Пикколомини, в 1458 году избранный папой римским под именем Пия II (см. ниже)[234].
Новое время
 Хотя сочинения Тацита издавались с 1470 года, его популярность первое время была невелика, поскольку тогда продолжали читать тех авторов, которые были хорошо известны в Средние века. Кроме того, до конца XVI века им интересовались почти исключительно в Италии и Германии. Всеевропейская популярность к нему пришла в конце XVI века с публикациями известного филолога Юста Липсия[236], а также благодаря лекциям Марка Антуана Мюре[237]. В результате, в XVII веке он стал одним из самых читаемых античных авторов[236]. Так, за 1600—1649 годы в Европе было напечатано по меньшей мере 67 изданий «Истории» и «Анналов»[236]. За этот же период было выпущено около 30 изданий Саллюстия, второго по популярности латинского автора[238]. Поскольку язык Тацита считался достаточно трудным, активно предпринимались попытки перевода его сочинений на современные языки[236]. Распространение сочинений римского историка, много внимания уделявшего закулисным интригам, дало импульс развитию политической мысли Возрождения[234].
Хотя сочинения Тацита издавались с 1470 года, его популярность первое время была невелика, поскольку тогда продолжали читать тех авторов, которые были хорошо известны в Средние века. Кроме того, до конца XVI века им интересовались почти исключительно в Италии и Германии. Всеевропейская популярность к нему пришла в конце XVI века с публикациями известного филолога Юста Липсия[236], а также благодаря лекциям Марка Антуана Мюре[237]. В результате, в XVII веке он стал одним из самых читаемых античных авторов[236]. Так, за 1600—1649 годы в Европе было напечатано по меньшей мере 67 изданий «Истории» и «Анналов»[236]. За этот же период было выпущено около 30 изданий Саллюстия, второго по популярности латинского автора[238]. Поскольку язык Тацита считался достаточно трудным, активно предпринимались попытки перевода его сочинений на современные языки[236]. Распространение сочинений римского историка, много внимания уделявшего закулисным интригам, дало импульс развитию политической мысли Возрождения[234].
Европейцы, читавшие Тацита в XVI и XVII веках, считали, что его описания императорского Рима напоминают реалии их времени, и, опираясь на произведения Тацита, переосмысливали подоплёку современных им политических событий[236]. Например, это происходило на рубеже XVI—XVII веков, когда смерть бездетных правителей Франции и Англии и последовавшие события приковали внимание к не всегда гладкой преемственности римских императоров[239]. В описании карьеры Сеяна в Европе видели собирательный образ временщика, высоко взлетевшего, но низко павшего[239]. Наконец, в свете активной цензуры правителями и католической церковью печатной продукции получила огромную актуальность критика Тацитом притеснений свободы слова[239]. Благодаря этому фрагмент «Анналов», где описывается судьба опального историка Авла Кремуция Корда (он покончил жизнь самоубийством, а его сочинения были сожжены), оказался одним из наиболее часто цитируемых отрывков этого сочинения[239]. Активное издание переводов Тацита, а также Тита Ливия и Саллюстия на английский язык сыграло немалую роль в подготовке Английской революции[240]. В 1627 году нидерландский учёный Исаак Дорислаус[en] начал читать в Кембриджском университете курс лекций об историке, но его интерпретация римских императоров как узурпаторов повлияла на его скорое отстранение от преподавания[241].
«История» и «Анналы» оказали большое влияние на историков XVI—XVII веков, и они подражали стилю Тацита, копировали структуру его сочинений и отбирали фактический материал по принципам своего римского предшественника[236]. Одним из первых историков, работавших под серьёзным влиянием Тацита, стал в начале XVI века флорентиец Франческо Гвиччардини, чья «История Италии» выдержана в стиле «Истории» и «Анналов»[234][242]. Кроме того, в Новое время сочинения Тацита служили основой для многих трактатов по политической философии благодаря богатому фактическому материалу, собранному историком[243][244]. Сильное влияние Тацита обнаруживается у классиков естественного права Гуго Гроция и Томаса Гоббса, а также у многих других мыслителей Нового времени — Фрэнсиса Бэкона, Мишеля Монтеня, Джона Мильтона, Бенджамина Франклина, Джона Адамса, Томаса Джефферсона[245][246][247].
Впрочем, уже в конце XVI века распространился и иной взгляд на сочинения набиравшего популярность автора. В это время, полное войн и междоусобиц, апологеты монархической формы правления начали акцентировать внимание на той строгой политике, которую проводили Октавиан Август и Тиберий для привнесения стабильности в политическую жизнь[248]. На первый план выставлялись и красочные описания гражданских войн, которые представлялись как большее зло, нежели ограничение прав и свобод. Таким образом, критика императоров привлекли к оправданию современных монархий. Кроме того, в 1589 году Юст Липсий, способствовавший распространению Тацита как издатель и комментатор его сочинений, издал работу «Шесть книг о политике». В ней он переосмыслил свои прежние взгляды на соотнесение идей Тацита с современностью. Если ранее он сравнивал герцога Альбу с деспотичным Тиберием, то теперь он искал у римского историка рекомендации по предотвращению гражданских войн и установлению сильной монархической власти[248]. Именитого филолога обвиняют в том, что он не гнушался вырывать слова Тацита и героев его сочинений из контекста, порой придавая им противоположный смысл[249]. Тем не менее, Липсий продолжал осуждать тиранов, злоупотреблявших своей властью[244].
Хотя с середины XVII века влияние Тацита как политического мыслителя стало снижаться, созданные им образы императорского Рима продолжали вызывать ассоциации с современностью[245]. Некоторые исследователи полагают, что большое воздействие произведений римского историка на развивающуюся политическую философию сохранялось вплоть до конца XVIII века[250]. Кроме того, его сочинения уже прочно вошли в состав неписаного канона исторической литературы[245]. В XVII веке Тацит становится очень популярным во Франции, чему способствовала эмиграция многих представителей итальянской элиты ко французскому двору[239]. Наибольший интерес в этот период вызывали его литературные таланты, и он вдохновляет немало французских литераторов. На основе сведений Тацита и под сильным влиянием его взглядов были созданы пьесы «Смерть Агриппины» Сирано де Бержерака, «Отон» Пьера Корнеля, «Британик» Жана Расина. В частности, Расин называл Тацита «величайшим живописцем древности»[251].
Несмотря на существование обширной традиции, трактовавшей Тацита как защитника монархии, изображение Тацитом императоров и его описание общественной жизни Рима указывало на совершенно иное направление политических симпатий античного историка[251]. В XVIII веке в Таците стали видеть не только одного из крупнейших противников монархии в римской литературе, но и горячего сторонника республиканской формы правления[251]. В начале века ирландский публицист Томас Гордон[en] опубликовал перевод сочинений Тацита на английский язык, а вместе с ним — трактат «Историко-политические рассуждения о книгах Тацита». Последнее сочинение придало импульс развитию антимонархической традиции[251]. Римский историк оставался образцом для многих профессиональных антиковедов. Так, британский историк Эдвард Гиббон, написавший известную работу «История упадка и разрушения Римской империи», во многом находился под влиянием Тацита[252]. Кроме того, на XVIII век приходятся первые попытки критического восприятия образов Рима, созданных римским историком. Например, Вольтер считал преувеличенными высказывания Тацита о Тиберии и Нероне[251]. Наполеон Бонапарт крайне негативно относился к творчеству римского историка и даже начал литературную кампанию с целью очернения одного из самых популярных античных авторов. В частности, Наполеон приказал печатать статьи с критикой Тацита как историка и писателя, а также требовал исключения его сочинений из школьного курса. По его мнению, Тацит был отсталым консерватором, который не захотел принять прогрессивную для своего времени имперскую форму правления[253]. Племянник Бонапарта Наполеон III, много занимавшийся изучением римской истории, тоже критиковал обличителя императоров-тиранов. При нём приверженцы императора выступали в печати, стремясь доказать неправоту оценок римского автора[254]. Впрочем, его продолжали ценить интеллектуалы. Особенно хорошо его знали в Германии (см. ниже). Карл Маркс и Фридрих Энгельс высоко оценивали Тацита и неоднократно обращались к его сочинениям. В частности, в классической работе Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» очень много ссылок на «Германию»[255][256]. Сочинения историка использовали также Георг Гегель, Фридрих Ницше, Макс Вебер[256].
К Тациту обращался Николай Карамзин во время работы над «Историей государства российского»[257]. Александр Пушкин внимательно читал Тацита и вдохновлялся им в процессе написания «Бориса Годунова», а среди заметок поэта есть «Замечания на „Анналы“ Тацита»[257][258]. В них Пушкин не столько обращал внимание на язык этого автора, сколько находил противоречия в сообщаемых им фактах, а также обращался к анализу историко-культурного контекста эпохи. В России революционное толкование идей Тацита вдохновляло декабристов[259] и Александра Герцена. Последний называл его «необъятно великим» и в 1838 году написал под его влиянием небольшую работу «Из римских сцен»[260].
Влияние в Германии
 Благодаря тому, что сочинения Тацита содержали немало географических и этнографических описаний германских территорий, они нередко использовались для исследования древней истории Германии.
Благодаря тому, что сочинения Тацита содержали немало географических и этнографических описаний германских территорий, они нередко использовались для исследования древней истории Германии.
Несмотря на достаточно активное использование в эпоху каролингского возрождения (см. выше), впоследствии Тацит был практически забыт в Германии вплоть до XV века, когда итальянские гуманисты стали внимательно изучать его рукописи (см. выше). 31 августа 1457 года кардинал Энеа Сильвио Пикколомини, в скором времени ставший папой римским под именем Пия II, получил письмо от секретаря епископа Майнца Мартина Майра (нем. Martin Mair)[261]. Майр озвучил распространённое в народе недовольство политикой католической церкви[261]. В Германии проводили параллели между текущей ситуацией и временами Римской империи, а церковную десятину сравнивали с уплатой налогов. Именно из-за римлян, полагали там, их некогда великая страна пришла в упадок. В ответ Пикколомини написал трактат, где на материале «Германии» Тацита показывал дикое и бесславное прошлое германцев (для этого он отобрал только негативные их характеристики у Тацита[261]) и прогресс, которого они добились благодаря Риму[262][263]. Это сочинение быстро распространилось в Германии, но своей цели не достигло. Оно было воспринято как провокация и лишь усилило антиитальянские и антипапские настроения[262]. Тем не менее, благодаря Пикколомини в Германии заново открыли сочинения Тацита — важнейшие источники по истории своих предков[264].
В 1500 году немецкий гуманист Конрад Цельтис указал на недостаточность знаний о древних германцах и призвал собирать и распространять все доступные свидетельства о них[265]. Впрочем, Цельтис был уже знаком с «Германией» — при занятии кафедры университета в Ингольштадте в 1492 году он произнёс речь, в основе которой лежало это сочинение[219]. Узнав о «Германии» от Пикколомини, Цельтис изучил это сочинение и стал распространять противоположную точку зрения на жизнь древних германцев[263]. Благодаря Пикколомини и Цельтису «Германия» Тацита начала активно печататься на немецкоязычных землях[коммент. 18], а в 1535 году Якоб Мицилл (Мольцер)[en] перевёл это сочинение на немецкий язык[265]. С подачи Цельтиса гуманист Ульрих фон Гуттен в начале XVI века обратился к сочинениям Тацита для создания идеализированного образа древних германцев. В отличие от Пикколомини, он подчеркнул не негативные характеристики германцев, а только позитивные. На основе «Германии», «Анналов», а также небольшой «Истории» римского автора Веллея Патеркула фон Гуттен создал идеализированный образ вождя германского племени херусков Арминия, разбившего римлян в Тевтобургском Лесу[219][224]. Немецкий гуманист утверждал, что Арминий — более талантливый полководец, чем Сципион, Ганнибал и Александр Македонский[263]. Благодаря фон Гуттену Арминий стал считаться национальным героем Германии, и образ борца за свободу своего народа против Рима сыграл значительную роль в становлении германского национального движения[224]. Трактовку фон Гуттеном Арминия поддержал инициатор Реформации Мартин Лютер, который высказал предположение, что Arminius — искажённая форма германского имени Hermann[263]. Некоторое время в начале XVI века популярными были шовинистические трактовки сочинений Тацита, утверждавшие вековечное превосходство германцев над римлянами[266]. Таким образом, небольшое сочинение римского историка получило актуальность в связи со становлением германского национального движения и началом Реформации[267].
«Сам я присоединяюсь к мнению тех, кто полагает, что населяющие Германию племена, никогда не подвергавшиеся смешению через браки с какими-либо иноплеменниками, искони составляют особый, сохранивший изначальную чистоту и лишь на себя самого похожий народ. Отсюда, несмотря на такое число людей, всем им присущ тот же облик: жёсткие голубые глаза, русые волосы, рослые тела, способные только к кратковременному усилию; вместе с тем им не хватает терпения, чтобы упорно и напряжённо трудиться, и они совсем не выносят жажды и зноя, тогда как непогода и почва приучили их легко претерпевать холод и голод».
В XVII веке тема противостояния с Римом более не была столь актуальной, и внимание к Тациту в Германии несколько ослабло. Изменилась и сфера использования «Германии» в литературе: записанные Тацитом свидетельства о древних германцах использовались уже повсеместно — от драматических и сатирических произведений до лингвистических трактатов[268]. К римскому историку активно обращались философы Иоганн Гердер и Иоганн Фихте[269], а в начале XIX века идеологи немецкого национализма Эрнст Мориц Арндт и Фридрих Людвиг Ян строили свои идеализированные картины жизни древних германцев на основе описаний Тацита. Арндт, в частности, приписывал немцам многие положительные черты, которые Тацит приписал древним германцам. Он также утверждал, что современные немцы сохранили значительно больше черт своих доблестных предков, чем все другие европейские народы унаследовали от своих праотцов[270]. При государственной поддержке был построен памятник Арминию, чьё строительство вдохновил памятник Верцингеторигу под Алезией[271]. По французскому образцу[коммент. 19] в Германии началось целенаправленное археологическое изучение местностей, описанных Тацитом[272]. Большинство исследований идеализировали германцев и прошлое в целом, а некоторые учёные обращались к Тациту в попытках реконструировать исконный немецкий Volksgeist — «народный дух»[272]. Со временем получила большое распространение идея об уникальности германцев и их превосходстве над другими народами Европы[272].
Благодаря тому, что в немецком национальном движении распространилась односторонняя трактовка «Германии» как сочинения, описывающего достоинства древних германцев, «Германия» нередко привлекалась идеологами национал-социализма в 1930-е годы. Наиболее активным человеком, который распространял и приспосабливал его для нужд национал-социализма, был рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Впервые он прочитал «Германию» в молодости и был ей потрясён[273]. После своего возвышения он всячески пропагандировал положительные характеристики германцев у Тацита[273], а в 1943 году направил в Италию руководителя отдела «Аненербе» Рудольфа Тилля для изучения «Codex Aesinas» (см. выше) — одной из древнейших рукописей «Германии»[274]. Особой популярностью пользовался фрагмент о сохранении германцами расовой чистоты (см. слева); это наблюдение римского историка служило одной из основ новой «антропологии»[275]. Так, в 30-е годы специалист по расовой теории Ганс Гюнтер считал это свидетельством заботы древних германцев о сохранении расовой чистоты[274], что согласовывалось с принятием в 1935 году Нюрнбергских расовых законов. Знакомство с наблюдениями Тацита о взаимосвязи расовой чистоты и военной доблести обнаруживается у Хьюстона Стюарта Чемберлена, Альфреда Розенберга и Адольфа Гитлера[275]. Иные толкования Тацита не приветствовались: когда в 1933 году кардинал Михаэль фон Фаульхабер обратился к верующим с новогодним посланием, используя доводы Пикколомини о варварстве древних германцев, его отпечатанную речь сжигали на улицах члены «Гитлерюгенда», а в сторону его резиденции дважды стреляли[273].
Научное изучение Тацита
Научное изучение сочинений
- Gaston Boissier 02.jpg
Гастон Буассье (1823—1908) — исследователь творчества Тацита и автор монографии о нём
- Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary B82 43-4.jpg
Василий Иванович Модестов (1839—1907) — автор монографии о Таците и перевода его сочинений на русский язык
- Ronald Syme.jpg
Рональд Сайм (1903—1989) — автор двухтомной монографии и ряда статей о Таците
В XVI веке Беат Ренан впервые осуществил издание сочинений Тацита с филологическими комментариями (см. выше). В нём он противостоял модным в то время попыткам использовать сочинения римского историка в немецкой публицистике (см. выше). В частности, публицисты нашли всем современным германским землям соответствия в виде племён древних германцев, что Ренан подверг сомнению[266]. Бо́льшую известность, однако, получили комментированные издания Тацита авторства известного филолога Юста Липсия (см. выше) — именно его обычно считают первым исследователем творчества Тацита[217]. Липсий предложил по меньшей мере тысячу эмендаций (целенаправленных исправлений, основанных на изучении разночтений во всех рукописях, с целью исключить ошибки средневековых переписчиков и восстановить оригинальное написание) к одним только «Анналам», хотя некоторые из них он позаимствовал у предшественников[226].
В 1734 году Шарль Монтескьё написал небольшой трактат «Рассуждение о причинах величия и упадка римлян». В этом сочинении французский просветитель критически подошёл к сведениям историка и, сопоставив его информацию с другими источниками, пришёл к выводу о его предвзятости[276]. Вольтер пошёл ещё дальше в оценке субъективности Тацита и считал его публицистом, к сведениям которого следует относиться скептически[277]. В XIX веке идеи о вторичности творчества Тацита получили в Европе большое распространение[254]. Как правило, исследователи признавали его несомненные литературные достоинства, но отрицали его мастерство историка[254]. Теодор Моммзен раскритиковал его отрывочные, недостоверные и противоречивые сведения о военных кампаниях и назвал Тацита «самым невоенным из историков»[166]. Невысоко оценивал его и французский историк Амедей Тьерри, который подчёркивал огромную важность Римской империи для европейской истории и скептически подошёл к Тациту, критиковавшему императоров[278]. Впрочем, существовали и более высокие его оценки как историка (в частности, Гастон Буассье считал его правдивым автором, хотя и признавал некоторую его предвзятость)[254].
В Российской империи изучением Тацита занимались Д. Л. Крюков[279], И. В. Цветаев[280], В. И. Модестов[281], М. П. Драгоманов[282], И. М. Гревс[283] (впрочем, его итоговая монография о Таците вышла лишь посмертно, в 1946 году, а в 1952 году её перевели на немецкий язык[284]). В. И. Модестов доказывал несостоятельность критической традиции, принижавшей значение римского историка как оригинального и достойного доверия автора, утверждал его беспристрастность, а позднее издал полный перевод его сочинений, который сохранял свою ценность и спустя столетие[281][283]. М. П. Драгоманов, напротив, критиковал предвзятость Тацита, который, по его мнению, был чересчур пристрастен в отношении императора Тиберия[282]. И. М. Гревс подчёркивал его мастерство в обличении пороков своего времени, в описании сражений (ср. с оценкой Моммзена) и в деловитости описания, упрекал в отсутствии единых критериев установления истины[284], но при этом признавал его в целом беспристрастным и правдивым, склонным к анализу ряда источников[285].
В начале XX века с накоплением и развитием историографии критическая традиция стала определять отношение к Тациту. Оценки историком первых римских императоров начали рассматриваться как необъективные практически повсеместно. Особенно ярко эта тенденция проявилась в освещении правления Тиберия[130][286]. Исследователи упрекали его в том, что в описании правления этого императора Тацит находился под решающим влиянием нескольких сочинений оппозиционно настроенных предшественников[287]. Кроме того, Тациту ставили в вину отражение не исторической реальности, а собственных представлений о ней, а также указывали на активное использование им риторических приёмов для поддержки своей позиции[287].
Во второй половине XX века появилось несколько крупных обобщающих работ, посвящённых Тациту. Двухтомная книга Рональда Сайма «Тацит», изданная в 1958 году, быстро завоевала признание в качестве фундаментальной не только о самом историке, но и о его времени. Эта работа стала также считаться одним из образцов того, как следует изучать жизнь и творчество автора в историко-культурном контексте[288]. Эта работа также показывает, насколько Сайм — один из крупнейших антиковедов XX века — находился под влиянием Тацита[288]. Помимо Сайма, монографические исследования издали Кларенс Менделл, Этторе Параторе, Рональд Мартин, Пьер Грималь, Рональд Меллор, Рианнон Эш. Кроме того, в 1968 году венгерский учёный Иштван Боржак[de] написал обстоятельную статью о нём для 11-го дополнительного тома энциклопедии Паули-Виссова. Занимались Тацитом и другие исследователи. В русскоязычной историографии единственной обобщающей работой об историке в этот период стала монография Г. С. Кнабе «Корнелий Тацит», изданная в 1981 году. Кроме него, в СССР изучением Тацита занимались И. М. Сидорова, А. Г. Бокщанин, М. А. Шмидт, И. М. Тронский, С. Л. Утченко, Т. И. Кузнецова, А. С. Крюков[289]. В этот период большинство учёных признало несомненные достоинства Тацита как литератора и как историка, однако зачастую его оценка правления Тиберия продолжала считаться необъективной[290].
Споры о подлинности сочинений
Вскоре после распространения работ Тацита в Европе у исследователей появились сомнения о подлинности «Диалога об ораторах», поскольку это сочинение сильно отличается по стилю от других работ историка. Ещё в XVI веке Беат Ренан и Юст Липсий впервые подвергли сомнению авторство Тацита[291][292]. Критика основывалась на стилистических различиях между «Диалогом» и другими произведениями Тацита (по стилю сочинение похоже на диалоги Цицерона[31]), из-за которых авторство «Диалога» приписывалось Квинтилиану, Светонию либо же Плинию Младшему. Впрочем, заметно отличающийся стиль может быть объяснён жанровыми различиями (основную часть произведения занимает прямая речь)[292]. В настоящее время полемика о подлинности «Диалога» завершена, и Тацит считается его автором практически всеми учёными-филологами[291][292][293].
Принадлежность Тациту больших исторических сочинений долгое время не подвергалась сомнению. Одним из первых усомнился в подлинности этих работ Вольтер[294], хотя французский просветитель ограничился лишь предположением. Новые попытки оспорить авторство Тацита появились уже в XIX веке под влиянием традиции гиперкритики источников и, прежде всего, школы Бартольда Нибура. При этом все попытки доказать поддельность сочинений Тацита были сделаны не историками, а публицистами. В 1878 году британский писатель Джон Уилсон Росс выпустил работу «Тацит и Браччолини: Анналы, созданные в пятнадцатом веке» (англ. Tacitus and Bracciolini: the Annals forged in the Fifteenth Century), в которой утверждал, что сочинения Тацита — это подделка, выполненная итальянским гуманистом Поджо Браччолини (Браччолини разыскал в монастырях Италии и Германии ряд рукописей латинских авторов, в том числе и сочинения Корнелия Тацита, подробнее см. выше)[294]. В 1890 году французский писатель Полидор Гошар[fr] издал сочинение «Об оригинальности Анналов и Истории Тацита» (фр. De l'authenticité des Annales et des Histoires de Tacite), в котором повторил основные мысли Росса в более развёрнутой форме[294]. Хотя оба этих сочинения вызвали некоторый интерес в обществе, учёным сообществом они не воспринимались всерьёз. К середине XX века они были отвергнуты абсолютным большинством исследователей[295].
Тацит о христианстве
 В книге XV «Анналов» Тацит уделяет один абзац описанию преследований и казней христиан при Нероне. Уже во время Великого пожара Рима в 64 году император начал искать виновных, и в качестве козлов отпущения его выбор пал на христианскую общину Рима.
В книге XV «Анналов» Тацит уделяет один абзац описанию преследований и казней христиан при Нероне. Уже во время Великого пожара Рима в 64 году император начал искать виновных, и в качестве козлов отпущения его выбор пал на христианскую общину Рима.
«Но ни средствами человеческими, ни щедротами принцепса, ни обращением за содействием к божествам невозможно было пресечь бесчестящую его [Нерона] молву, что пожар был устроен по его приказанию. И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал изощрённейшим казням тех, кто своими мерзостями навлёк на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат; подавленное на время это зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу, и не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме, куда отовсюду стекается всё наиболее гнусное и постыдное и где оно находит приверженцев. Итак, сначала были схвачены те, кто открыто признавал себя принадлежащими к этой секте, а затем по их указаниям и великое множество прочих, изобличённых не столько в злодейском поджоге, сколько в ненависти к роду людскому. Их умерщвление сопровождалось издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками, распинали на крестах, или обречённых на смерть в огне поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения. Для этого зрелища Нерон предоставил свои сады; тогда же он дал представление в цирке, во время которого сидел среди толпы в одежде возничего или правил упряжкой, участвуя в состязании колесниц. И хотя на христианах лежала вина и они заслуживали самой суровой кары, всё же эти жестокости пробуждали сострадание к ним, ибо казалось, что их истребляют не в видах общественной пользы, а вследствие кровожадности одного Нерона»[296].
В конце XIX века в изучении истории религии сложились два направления — мифологическое и историческое. Учёные, работавшие под влиянием мифологической школы, отрицали историчность Иисуса, а свидетельства о нём и христианах у римских авторов I—II веков н. э., как правило, считали вставками средневековых монахов-переписчиков. В частности, немецкий учёный Артур Древс считал упоминание Тацитом Христа более поздней подделкой[297]. Однако выводы мифологической школы были подвергнуты критике, и к 1940-му году она в основном утратила влияние в западной историографии[298]. В советской исторической науке представления, схожие с выводами мифологической школы, сохраняли влияние и позднее, до введения в оборот Кумранских рукописей.
 Учёные, работавшие в рамках исторической школы, постарались извлечь максимум информации из сравнительно небольшого пассажа Тацита. Это стало возможным в результате доказательства оригинальности этого фрагмента Тацита; в современной историографии принято считать рассказ римского историка правдивым[299][300]. В 1902 году филолог Георг Андресен предположил, что в оригинале рукописи «Медицейская II» — единственной, в которой сохранился этот фрагмент (см. выше) — слово, обозначающее христиан, изначально было написано по-иному, а затем исправлено. Согласно его наблюдениям, между буквами i и s в слове christianos находится необычно большой разрыв (см. справа), что нехарактерно для средневековых переписчиков — они старались экономить дорогой пергамент. Впоследствии с помощью изучения оригинала манускрипта под ультрафиолетовыми лучами было установлено, что первоначально в рукописи было написано chrestianos, но затем букву e исправили на i. При этом имя самого Христа в манускрипте однозначно указано как Christus[300]. Современные издания текста Тацита и исследования обычно следуют оригинальному прочтению рукописи (chrestianos, но Christus)[301]. Причина разночтения остаётся невыясненной.
Учёные, работавшие в рамках исторической школы, постарались извлечь максимум информации из сравнительно небольшого пассажа Тацита. Это стало возможным в результате доказательства оригинальности этого фрагмента Тацита; в современной историографии принято считать рассказ римского историка правдивым[299][300]. В 1902 году филолог Георг Андресен предположил, что в оригинале рукописи «Медицейская II» — единственной, в которой сохранился этот фрагмент (см. выше) — слово, обозначающее христиан, изначально было написано по-иному, а затем исправлено. Согласно его наблюдениям, между буквами i и s в слове christianos находится необычно большой разрыв (см. справа), что нехарактерно для средневековых переписчиков — они старались экономить дорогой пергамент. Впоследствии с помощью изучения оригинала манускрипта под ультрафиолетовыми лучами было установлено, что первоначально в рукописи было написано chrestianos, но затем букву e исправили на i. При этом имя самого Христа в манускрипте однозначно указано как Christus[300]. Современные издания текста Тацита и исследования обычно следуют оригинальному прочтению рукописи (chrestianos, но Christus)[301]. Причина разночтения остаётся невыясненной.
Немало литературы посвящено разбору вопросов о связи Великого пожара с преследованиями христиан Нероном, возможности причастности христиан к поджогам, а также юридическим основаниям для казни христиан[300]. Наконец, существуют и различные варианты понимания отдельных слов фрагмента (в частности, смысл некоторых фраз исказился при переводах на русский язык[302]).
Память
В 1935 г. Международный астрономический союз присвоил имя Тацита кратеру на видимой стороне Луны.
Библиография
Русские переводы:
- О положении, обычаях и народах древней Германии. Из сочинений Каия Корнелия Тацита. / Пер. В. Светова. СПб, 1772.
- Жизнь Юлия Агриколы. Творение Тацитово. / Пер. И. Горина. М., 1798. 103 стр.
- К. Корнелия Тацита Юлий Агрикола. / Пер. Ф. Поспелова. СПб, 1802. 100 стр.
- Разговор об ораторах, или О притчинах испортившегося красноречия, писанной римским историком К. Корнелием Тацитом. / Пер. Ф. Поспелова. СПб, 1805. 108 стр.
- Летописей К. Корнелия Тацита… / Пер. Ф. Поспелова. СПб, 1805—1806. Ч. 1. 1805. 424 стр. Ч. 2. 1805. 235 стр. Ч. 3. 1805. 605 стр. Ч. 4. 1806. 660 стр.
- История К. Корнелия Тацита. / Пер. Ф. Поспелова. СПб, 1807. 660 стр.
- Летопись К. Корнелия Тацита. / Пер. С. Румовского. СПб, 1806—1809. (на рус. и лат. яз.) Т. 1. 1806. XLVI, 468 стр. Т. 2. 1808. 279 стр. Т. 3. 1808. 305 стр. Т. 4. 1809. 319 стр.
- Летопись К. Корнелия Тацита. / Пер. А. Кронеберга. М., 1858. Ч. 1. 293 стр. Ч. 2. 241 стр.
- Книга П. Корнелия Тацита о положении, нравах и народах Германии. / Пер. Г. Нейкирха. Одесса, 1867. 55 стр.
- Сочинения П. Корнелия Тацита, все какие сохранились. / Пер. А. Клеванова. М., 1870.
- Ч. 1. Исторические записки. О Германии. Жизнь Агриколы. Разговор о старом и новом красноречии. LXI, 339 стр.
- Ч. 2. Летописей книги I—XVI. XXXVI, 384 стр.
- Сочинения Корнелия Тацита. / Пер., ст. и прим. В. И. Модестова. СПб., 1886—1887.
- Т. 1. Агрикола. Германия. Истории. 1886. 377 стр.
- Т. 2. Летопись. Разговор об ораторах. 1887. 577 стр.
- Корнелий Тацит. Сочинения. В 2 т. (Серия «Литературные памятники»). Л., Наука. 1969. Т. 1. Анналы. Малые произведения. 444 стр. Т. 2. История. 370 стр.
- перераб. издание: Корнелий Тацит. Сочинения. Т.1-2. Т.1. Анналы. Малые произведения. / Пер. А. С. Бобовича. 2-е изд., стереотипное. Т.2. История. / Пер. Г. С. Кнабе. 2-е изд., испр. и перераб. Статья И. М. Тронского. Отв. ред. С. Л. Утченко. (1-е изд. 1969 г.). (Серия «Литературные памятники»). СПб, Наука. 1993. 736 стр.
В серии «Loeb classical library» сочинения изданы в 5 томах.
В серии «Collection Budé» сочинения Тацита [www.lesbelleslettres.com/recherche/?fa=tags&tag=TACITE изданы] в 10 томах.
Напишите отзыв о статье "Публий Корнелий Тацит"
Примечания
- Комментарии
- ↑ Правильное латинское ударение — Та́цит, но в русском произношении иногда встречается не вполне верная форма «Таци́т», возникшая, вероятно, под влиянием французского произношения.
- ↑ Император Тацит заявлял о том, что он является потомком историка.
- ↑ Усыновление действующим императором означало, что Траян станет наследником Нервы.
- ↑ Historiae — именительный падеж, множественное число, то есть «Истории», однако в латинском языке так могли называть единое историческое сочинение в нескольких частях.
- ↑ Значение термина «virtus» в латинском языке более широко и включает в себя значения, связанные как с воинской доблестью, так и с нравственными достоинствами.
- ↑ С. И. Ковалёв (с. 468) так обосновывает отсутствие других произведений Тацита между «Диалогом» и «Агриколой»: «…длительный перерыв объясняется тем, что в правление Домициана (81 — 96 гг.) всякая возможность свободного литературного творчества была исключена».
- ↑ Например, в «Истории» он критикует Луция Вергиния Руфа, хотя в 97 году он произнёс похвальную речь на его похоронах.
- ↑ С. И. Соболевский (с. 258) утверждает, что существование лишь 16 книг «Анналов» — это общепринятое мнение. Однако его выводы основываются на исследовании рукописи «Медицейская II». При этом не учитывается, что при существовании лишь 16 книг «Анналов» последние два года правления Нерона должны быть изложены необычайно кратко.
- ↑ Жанр политического памфлета был распространён в Риме начиная с I века до н. э.; см. напр.: Горенштейн В. О. Гай Саллюстий Крисп // Гай Саллюстий Крисп. Сочинения. — М.: Наука, 1981. — С. 150: «Памфлет как литературная форма нередко использовался в политической жизни Рима. Первым известным нам памфлетом было письмо Цицерона к Помпею, посланное в Азию».
- ↑ Основное значение слова sinister — левый; у Тацита используется в значении «враждебный» и «неблагоприятный».
- ↑ Основное значение слова cura — забота, попечение, старание, усилие; scriptura — надпись, запись; у Тацита оба слова используются в значении «книга».
- ↑ В классическом латинском языке torpedo — угорь, электрический скат.
- ↑ Стивен Оукли (с. 197) поясняет: «В наиболее очевидном понимании римляне предстают как разбойники с большой дороги, люди, чьи безграничные желания опустошают мир; однако некоторые термины могут быть использованы в эротическом контексте: римляне насилуют весь мир». Оригинал: «In the most obvious reading of the passage the Romans are viewed as violent highwaymen (raptores, auferre, rapere), men whose unbridled appetites (satiaverit, pari adfectu, concupiscunt) empty the world (defuere, solitudinem); but raptor, consupisco and satio may be used also in erotic contexts: the Romans rape the world».
- ↑ Долгое время в Древнем Риме годы в Риме обозначали по именам двух консулов — например, «консульство Гая Юлия Цезаря и Марка Кальпурния Бибула» (59 год до н. э.). Известная эпоха «от основания Рима» (753 год до н. э.) была предложена лишь в I веке до н. э. Марком Теренцием Варроном. Тацит продолжает традиции анналистов, хотя консулы больше не обладали реальной властью.
- ↑ Под «старыми сенаторами» понимаются те, чьи предки сами заседали в сенате, под «новыми» — те, кто возвысился уже при императорах.
- ↑ Цитата: «Тацит предполагал, что его явно осуждающего описания было достаточно, чтобы настроить читателей против евреев» (с. 92); «Для того, чтобы оправдать полное разрушение храма, евреи должны были предстать как народ презренный с самого происхождения, и Тацит выполнил задачу блестяще» (с. 94). Оригинал: «Tacitus assumed that his explicitly deprecating description was enough to turn his readers against the Jews (pulsis cultoribus — obtinuere terras)» (P. 92); «In order to justify the total destruction of the temple, the Jews must appear as a despicable people from their very origins, and Tacitus fulfilled his task brilliantly» (P. 94).
- ↑ Тацит (История, V, 7) допускает, что Содом и Гоморра были уничтожены небесным огнём, но предполагает, что бесплодие окрестностей связано с испарениями Мёртвого моря. Орозий (История против язычников, I, 5) настаивает на версии книги Бытия о том, что города, «без сомнения, сгорели в наказание за грехи», а бесплодие земли — ещё одно следствие божественной кары.
- ↑ Если до 1500 года «Германию» на немецкоязычных землях напечатали лишь один раз (в Нюрнберге в 1476 году), то уже в первое десятилетие XVI века это сочинение начало издаваться очень часто; см. Krebs C. B. A dangerous book: the reception of the Germania // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 285—286: «…начиная с первого издания в Болонье в 1472 году, на протяжении почти трёх десятилетий, „Германия“ оставалась „итальянским“ делом (за исключением издания в Нюрнберге в 1476 году); но появление работы Цельтиса в 1500 году стало поворотным пунктом, и в последующие десятилетия „Германия“ печаталась преимущественно в германоязычных странах». Оригинал: «…starting with the editio princeps in Bologna in 1472, for almost three decades the Germania remained an ‘Italian’ affair (with the exception of Nuremberg in 1476); but the appearance of Celtis’ edition in 1500 marked a turning point, and in subsequent decades the Germania was printed mostly in German-speaking countries».
- ↑ Наполеон III активно покровительствовал исследованиям истории Древнего Рима, в том числе и изучению событий Галльской войны; см. Benario H. W. Tacitus’ «Germania» and Modern Germany // Illinois Classical Studies. Vol. 15, No. 1, 1990. — P. 170: «…французский император был ответственен за археологическое изучение многих аспектов битв и кампаний, описанных Цезарем…». Оригинал: «…the French Emperor had been responsible for the archaeological investigation of many aspects and sites of the battles and campaigns described by Caesar…».
- Использованная литература и источники
- ↑ 1 2 3 4 Соболевский С. И. Тацит // История римской литературы. Т. 2. Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 242
- ↑ Кнабе Г. С. Корнелий Тацит. Время. Жизнь. Книги. — М.: Наука, 1981. — С. 54
- ↑ Borghesi B. Oeuvres complètes de Bartolomeo Borghesi. Vol. 7. — Paris: Imprimerie Impériale, 1872. — P. 322
- ↑ Гревс И. М. Тацит. — М.—Л., 1946. — С. 14
- ↑ 1 2 Syme R. Tacitus. Vol. 1. — Oxford, 1958. — P. 63
- ↑ Кнабе Г. С. Корнелий Тацит. Время. Жизнь. Книги. — М.: Наука, 1981. — С. 63
- ↑ 1 2 3 Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 1194
- ↑ Соболевский С. И. Тацит // История римской литературы. Т. 2. Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 243
- ↑ Borzsak I. P. Cornelius Tacitus // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. — Bd. S XI. — Stuttgart: J. B. Metzler, 1968. — Sp. 376: текст на [de.wikisource.org/wiki/Paulys_Realencyclopädie_der_classischen_Altertumswissenschaft немецком]
- ↑ (Plin. N. H., VII, 16 (76)) Плиний Старший. Естественная история, VII, 16 (76)
- ↑ 1 2 Кнабе Г. С. Корнелий Тацит. Время. Жизнь. Книги. — М.: Наука, 1981. — С. 55
- ↑ Birley A. R. The Life and Death of Cornelius Tacitus // Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte. — Bd. 49, H. 2 (2nd Qtr., 2000). — P. 233
- ↑ The Natural History. Pliny the Elder. Translation and comments by John Bostock, H. T. Riley. — London: Taylor and Francis, 1855. — VII, 16 (76)
- ↑ Кнабе Г. С. Корнелий Тацит. Время. Жизнь. Книги. — М.: Наука, 1981. — С. 59
- ↑ Syme R. Tacitus. Vol. 2. — Oxford, 1958. — P. 615
- ↑ Barrett A. A. Introduction // Tacitus. The Annals. The Reigns of Tiberius, Claudius and Nero. — Oxford: Oxford University Press, 2008. — P. IX
- ↑ Gibson B. The High Empire: AD 69—200 // A Companion to Latin Literature. Ed. by S. Harrison. — Blackwell, 2005. — P. 72
- ↑ 1 2 Кнабе Г. С. Корнелий Тацит. Время. Жизнь. Книги. — М.: Наука, 1981. — С. 60
- ↑ Townend G. Literature and society // Cambridge Ancient History. Vol. X.: The Augustan Empire, 43 BC — AD 69. — P. 908
- ↑ Woolf G. Literacy // Cambridge Ancient History. Vol. XI.: The High Empire, AD 70—192. — P. 890
- ↑ 1 2 Syme R. Tacitus. Vol. 2. — Oxford, 1958. — P. 797
- ↑ 1 2 Syme R. Tacitus. Vol. 2. — Oxford, 1958. — P. 798
- ↑ de Vaan M. Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages. — Leiden—Boston: Brill, 2008. — P. 604—605
- ↑ 1 2 Gordon M. L. The Patria of Tacitus // The Journal of Roman Studies. — Vol. 26, Part 2 (1936). — P. 145
- ↑ Gordon M. L. The Patria of Tacitus // The Journal of Roman Studies. — Vol. 26, Part 2 (1936). — P. 150
- ↑ Birley A. R. The Life and Death of Cornelius Tacitus // Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte. — Bd. 49, H. 2 (2nd Qtr., 2000). — P. 233—234
- ↑ Кнабе Г. С. Корнелий Тацит. Время. Жизнь. Книги. — М.: Наука, 1981. — С. 57
- ↑ Syme R. Tacitus. Vol. 2. — Oxford, 1958. — P. 806
- ↑ 1 2 3 Кнабе Г. С. Корнелий Тацит. Время. Жизнь. Книги. — М.: Наука, 1981. — С. 58
- ↑ Syme R. Tacitus. Vol. 2. — Oxford, 1958. — P. 614
- ↑ 1 2 Тацит // Античные писатели. Словарь. СПб.: «Лань», 1999. — 448 с.
- ↑ Тронский И. М. Корнелий Тацит // Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Т. 2. — М.: Ладомир, 1993. — С. 206
- ↑ (Plin. Ep., VII, 20) Плиний Младший. Письма, VII, 20
- ↑ 1 2 3 Birley A. R. The Life and Death of Cornelius Tacitus // Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte. — Bd. 49, H. 2 (2nd Qtr., 2000). — P. 234
- ↑ Кнабе Г. С. Корнелий Тацит. Время. Жизнь. Книги. — М.: Наука, 1981. — С. 62
- ↑ Syme R. Tacitus. Vol. 1. — Oxford, 1958. — P. 64
- ↑ 1 2 Кнабе Г. С. Корнелий Тацит. Время. Жизнь. Книги. — М.: Наука, 1981. — С. 64
- ↑ 1 2 3 4 Тронский И. М. Корнелий Тацит // Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Т. 2. — М.: Ладомир, 1993. — С. 208
- ↑ 1 2 3 Тацит, Корнелий // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона
- ↑ Syme R. Tacitus. Vol. 1. — Oxford, 1958. — P. 65
- ↑ Грант М. Римские императоры. — М.: Терра—Книжный клуб, 1998. — С. 79
- ↑ Syme R. Tacitus. Vol. 1. — Oxford, 1958. — P. 66
- ↑ Кнабе Г. С. Корнелий Тацит. Время. Жизнь. Книги. — М.: Наука, 1981. — С. 68
- ↑ (Tac. Ann., XI, 11) Тацит. Анналы, XI, 11
- '↑ Тронский И. М. Корнелий Тацит // Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Т. 2. — М.: Ладомир, 1993. — С. 209
- ↑ Кнабе Г. С. Корнелий Тацит. Время. Жизнь. Книги. — М.: Наука, 1981. — С. 69-70
- ↑ (Tac. Agr., 45) Тацит. Агрикола, 45
- ↑ 1 2 3 4 Syme R. Tacitus. Vol. 1. — Oxford, 1958. — P. 70
- ↑ Кнабе Г. С. Корнелий Тацит. Время. Жизнь. Книги. — М.: Наука, 1981. — С. 79
- ↑ Syme R. Tacitus. Vol. 1. — Oxford, 1958. — P. 68
- ↑ Birley A. The Life and Death of Cornelius Tacitus // Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, Bd. 49, H. 2 (2nd Qtr., 2000). — P. 235
- ↑ Borzsak I. P. Cornelius Tacitus // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. — Bd. S XI. — Stuttgart: J. B. Metzler, 1968. — Sp. 387: текст на [de.wikisource.org/wiki/Paulys_Realencyclopädie_der_classischen_Altertumswissenschaft немецком]
- ↑ 1 2 Кнабе Г. С. Корнелий Тацит. Время. Жизнь. Книги. — М.: Наука, 1981. — С. 71
- ↑ Birley A. R. The Life and Death of Cornelius Tacitus // Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte. — Bd. 49, H. 2 (2nd Qtr., 2000). — P. 238
- '↑ Кнабе Г. С. Корнелий Тацит. Время. Жизнь. Книги. — М.: Наука, 1981. — С. 72
- ↑ Кнабе Г. С. Корнелий Тацит. Время. Жизнь. Книги. — М.: Наука, 1981. — С. 73
- ↑ (Hom. Il. 42) Гомер. Илиада, 42
- ↑ (Cass. Dio, LXVIII, 3) Дион Кассий. История, LXVIII, 3
- ↑ Тронский И. М. Корнелий Тацит // Публий Корнелий Тацит. Анналы. Малые произведения. История. Т. 2. — М.: Ладомир, 2003. — С. 773
- ↑ Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 1195
- ↑ 1 2 Syme R. Tacitus. Vol. 1. — Oxford, 1958. — P. 71
- ↑ Кнабе Г. С. Корнелий Тацит. Время. Жизнь. Книги. — М.: Наука, 1981. — С. 78
- ↑ 1 2 3 Syme R. Tacitus. Vol. 1. — Oxford, 1958. — P. 72
- ↑ Соболевский С. И. Тацит // История римской литературы. Т. 2. Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 244
- ↑ Кнабе Г. С. Корнелий Тацит. Время. Жизнь. Книги. — М.: Наука, 1981. — С. 75
- ↑ 1 2 Соболевский С. И. Тацит // История римской литературы. Т. 2. Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 245
- ↑ 1 2 3 4 Breisach E. Historiography: Ancient, Medieval, and Modern. 3rd Ed. — Chicago: Chicago University Press, 2007. — P. 66
- ↑ Breisach E. Historiography: Ancient, Medieval, and Modern. 3rd Ed. — Chicago: Chicago University Press, 2007. — P. 63
- ↑ Breisach E. Historiography: Ancient, Medieval, and Modern. 3rd Ed. — Chicago: Chicago University Press, 2007. — P. 65
- ↑ 1 2 Ash R. Fission and fusion: shifting Roman identities in the Histories // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 87
- ↑ Birley A. The Life and Death of Cornelius Tacitus // Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, Bd. 49, H. 2 (2nd Qtr., 2000). — P. 239
- ↑ (Tac. Agr. 3) Тацит. Агрикола, 3
- ↑ Кнабе Г. С. Корнелий Тацит. Время. Жизнь. Книги. — М.: Наука, 1981. — С. 108
- ↑ Birley A. R. The Agricola // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 48
- ↑ 1 2 3 4 Woodman A. J. Tacitus and the contemporary scene // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 31
- ↑ Mellor R. The Roman Historians. — London—New York: Routledge, 1999. — P. 78
- ↑ 1 2 Чистякова Н. А., Вулих Н. В. История античной литературы. — Л.: ЛГУ, 1963 — С. 411
- ↑ Гаспаров М. Л. Греческая и римская литература I в. н. э. // История всемирной литературы. В девяти томах. Т. 1. — М.: Наука, 1983. — С. 483
- ↑ Кнабе Г. С. Корнелий Тацит. Время. Жизнь. Книги. — М.: Наука, 1981. — С. 109
- ↑ 1 2 3 Mellor R. The Roman Historians. — London—New York: Routledge, 1999. — P. 143
- ↑ Тронский И. М. История античной литературы. — Л.: Учпедгиз, 1946. — С. 467
- ↑ Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 1199
- ↑ Goodyear F. R. D. Early Principate. History and biography. Tacitus // The Cambridge History of Classical Literature. Volume 2: Latin Literature. Ed. by E. J. Kenney, W. V. Clausen. — Cambridge: Cambridge University Press, 1982. — P. 643
- ↑ 1 2 Mellor R. The Roman Historians. — London—New York: Routledge, 1999. — P. 145
- ↑ Stadter P. A. Character in Politics // A Companion to Greek and Roman Political Thought. Ed. by R. K. Balot. — Wiley-Blackwell, 2009. — P. 464
- ↑ 1 2 3 4 Соболевский С. И. Тацит // История римской литературы. Т. 2. Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 253
- ↑ 1 2 3 Соболевский С. И. Тацит // История римской литературы. Т. 2. Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 252
- ↑ Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 1200
- ↑ Кнабе Г. С. Корнелий Тацит. Время. Жизнь. Книги. — М.: Наука, 1981. — С. 144
- ↑ 1 2 Goodyear F. R. D. Early Principate. History and biography. Tacitus // The Cambridge History of Classical Literature. Volume 2: Latin Literature. Ed. by E. J. Kenney, W. V. Clausen. — Cambridge: Cambridge University Press, 1982. — P. 645
- ↑ Лосев А. Ф. История античной эстетики. Том V. — М.—Харьков: АСТ—Фолио, 2000. — С. 598
- ↑ Кнабе Г. С. Корнелий Тацит. Время. Жизнь. Книги. — М.: Наука, 1981. — С. 154
- ↑ 1 2 Кнабе Г. С. Корнелий Тацит. Время. Жизнь. Книги. — М.: Наука, 1981. — С. 158
- ↑ Кнабе Г. С. Корнелий Тацит. Время. Жизнь. Книги. — М.: Наука, 1981. — С. 147
- ↑ 1 2 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Том V. — М.—Харьков: АСТ—Фолио, 2000. — С. 597
- ↑ Соболевский С. И. Тацит // История римской литературы. Т. 2. Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 246
- ↑ Ковалёв С. И. История Рима. — Л.: ЛГУ, 1986. — С. 468
- ↑ Gibson B. The High Empire: AD 69—200 // A Companion to Latin Literature. Ed. by S. Harrison. — Blackwell, 2005. — P. 70
- ↑ 1 2 Grant M. Greek and Roman historians: information and misinformation. — London—New York: Routledge, 1995. — P. 19
- ↑ 1 2 Goldberg S. M. The faces of eloquence: the Dialogus de oratoribus // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 74
- ↑ 1 2 Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 1198
- ↑ Кнабе Г. С. Корнелий Тацит. Время. Жизнь. Книги. — М.: Наука, 1981. — С. 152
- ↑ 1 2 3 4 Гаспаров М. Л. Греческая и римская литература I в. н. э. // История всемирной литературы. В девяти томах. Т. 1. — М.: Наука, 1983. — С. 484
- ↑ Ash R. Fission and fusion: shifting Roman identities in the Histories // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 86
- ↑ 1 2 3 Goodyear F. R. D. Early Principate. History and biography. Tacitus // The Cambridge History of Classical Literature. Volume 2: Latin Literature. Ed. by E. J. Kenney, W. V. Clausen. — Cambridge: Cambridge University Press, 1982. — P. 646
- ↑ 1 2 Mellor R. The Roman Historians. — London—New York: Routledge, 1999. — P. 80
- ↑ Ash R. Fission and fusion: shifting Roman identities in the Histories // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 89
- ↑ Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 1202
- ↑ 1 2 Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 1201
- ↑ Ash R. Fission and fusion: shifting Roman identities in the Histories // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 88
- ↑ 1 2 Goodyear F. R. D. Early Principate. History and biography. Tacitus // The Cambridge History of Classical Literature. Volume 2: Latin Literature. Ed. by E. J. Kenney, W. V. Clausen. — Cambridge: Cambridge University Press, 1982. — P. 647
- ↑ Соболевский С. И. Тацит // История римской литературы. Т. 2. Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 258
- ↑ Бокщанин А. Г. Источниковедение Древнего Рима. — М.: МГУ, 1981. — С. 100
- ↑ Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 1206
- ↑ 1 2 3 Бокщанин А. Г. Источниковедение Древнего Рима. — М.: МГУ, 1981. — С. 101
- ↑ 1 2 3 4 Goodyear F. R. D. Early Principate. History and biography. Tacitus // The Cambridge History of Classical Literature. Volume 2: Latin Literature. Ed. by E. J. Kenney, W. V. Clausen. — Cambridge: Cambridge University Press, 1982. — P. 648
- ↑ Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 1207
- ↑ Powell J. G. F. Dialogues and Treatises // A Companion to Latin Literature. Ed. by S. Harrison. — Blackwell, 2005. — P. 251
- ↑ Соболевский С. И. Тацит // История римской литературы. Т. 2. Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 277
- ↑ Syme R. Tacitus. Vol. 1. — Oxford, 1958. — P. 280—281
- ↑ Syme R. Tacitus. Vol. 1. — Oxford, 1958. — P. 281
- ↑ Syme R. Tacitus. Vol. 1. — Oxford, 1958. — P. 283
- ↑ Syme R. Tacitus. Vol. 1. — Oxford, 1958. — P. 277
- ↑ Соболевский С. И. Тацит // История римской литературы. Т. 2. Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 276
- ↑ Syme R. Tacitus. Vol. 1. — Oxford, 1958. — P. 273
- ↑ 1 2 Goodyear F. R. D. Early Principate. History and biography. Tacitus // The Cambridge History of Classical Literature. Volume 2: Latin Literature. Ed. by E. J. Kenney, W. V. Clausen. — Cambridge: Cambridge University Press, 1982. — P. 649
- ↑ 1 2 Syme R. Tacitus. Vol. 1. — Oxford, 1958. — P. 274
- ↑ Syme R. Tacitus. Vol. 1. — Oxford, 1958. — P. 285
- ↑ Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 1206—1207
- ↑ 1 2 3 Соболевский С. И. Тацит // История римской литературы. Т. 2. Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 274
- ↑ 1 2 Goodyear F. R. D. Early Principate. History and biography. Tacitus // The Cambridge History of Classical Literature. Volume 2: Latin Literature. Ed. by E. J. Kenney, W. V. Clausen. — Cambridge: Cambridge University Press, 1982. — P. 644
- ↑ 1 2 3 4 Гаспаров М. Л. Литература европейской античности. Введение. // История всемирной литературы. В девяти томах. Т. 1. — М.: Наука, 1983. — С. 309
- ↑ 1 2 3 4 Гаспаров М. Л. Греческая и римская литература I в. н. э. // История всемирной литературы. В девяти томах. Т. 1. — М.: Наука, 1983. — С. 469
- ↑ Mellor R. The Roman Historians. — London—New York: Routledge, 1999. — P. 46
- ↑ Гаспаров М. Л. Греческая и римская литература I в. до н. э. // История всемирной литературы. В девяти томах. Т. 1. — М.: Наука, 1983. — С. 448
- ↑ 1 2 3 Тронский И. М. Корнелий Тацит // Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Т. 2. — М.: Ладомир, 1993. — С. 213
- ↑ (Tac. Ann. III, 30) Тацит. Анналы. III, 30
- ↑ Тронский И. М. Корнелий Тацит // Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Т. 2. — М.: Ладомир, 1993. — С. 226
- ↑ Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 1224
- ↑ Borzsak I. P. Cornelius Tacitus // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. — Bd. S XI. — Stuttgart: J. B. Metzler, 1968. — Sp. 485: текст на [de.wikisource.org/wiki/Paulys_Realencyclopädie_der_classischen_Altertumswissenschaft немецком]
- ↑ Baxter R. T. S. Virgil’s Influence on Tacitus in Books 1 and 2 of the Annals // Classical Philology. — Vol. 67, No. 4 (Oct., 1972). — P. 246
- ↑ Baxter R. T. S. Virgil’s Influence on Tacitus in Book 3 of the Histories // Classical Philology. — Vol. 66, No. 2 (Apr., 1971). — P. 93-107
- ↑ Соболевский С. И. Тацит // История римской литературы. Т. 2. Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 248—249
- ↑ 1 2 3 4 Woodman A. J. Tacitus and the Annals // Tacitus. The Annals. — Indianapolis: Hackett Publishing, 2004. — P. XX
- ↑ 1 2 3 4 5 Woodman A. J. Tacitus and the Annals // Tacitus. The Annals. — Indianapolis: Hackett Publishing, 2004. — P. XXI
- ↑ Соболевский С. И. Тацит // История римской литературы. Т. 2. Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 254
- ↑ 1 2 Тронский И. М. Корнелий Тацит // Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Т. 2. — М.: Ладомир, 1993. — С. 217
- ↑ Соболевский С. И. Тацит // История римской литературы. Т. 2. Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 250
- ↑ Гаспаров М. Л. Избранные труды в трёх томах. Т. 1. — М.: Языки русской культуры, 1997. — С. 529
- ↑ 1 2 Oakley S. P. Style and language // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 196
- ↑ 1 2 3 4 5 Соболевский С. И. Тацит // История римской литературы. Т. 2. Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 283
- ↑ 1 2 3 Соболевский С. И. Тацит // История римской литературы. Т. 2. Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 285
- ↑ 1 2 Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 1221
- ↑ 1 2 3 Woodman A. J. The translation // Tacitus. The Annals. — Indianapolis: Hackett Publishing, 2004. — P. XXII
- ↑ 1 2 3 Соболевский С. И. Тацит // История римской литературы. Т. 2. Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 284
- ↑ Woodman A. J. The translation // Tacitus. The Annals. — Indianapolis: Hackett Publishing, 2004. — P. XXIV—XXV
- ↑ 1 2 Oakley S. P. Style and language // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 197
- ↑ 1 2 Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 1211
- ↑ 1 2 3 Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 1213
- ↑ Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 1210
- ↑ Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 1216
- ↑ Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 1214
- ↑ Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 1215
- ↑ 1 2 3 Соболевский С. И. Тацит // История римской литературы. Т. 2. Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 282
- ↑ 1 2 3 Grant M. Greek and Roman historians: information and misinformation. — London—New York: Routledge, 1995. — P. 72
- ↑ 1 2 3 4 Grant M. Greek and Roman historians: information and misinformation. — London—New York: Routledge, 1995. — P. 75
- ↑ Kapust D. Tacitus and Political Thought // A Companion to Tacitus. Ed. by V. E. Pagán. — Wiley—Blackwell, 2012. — P. 504
- ↑ 1 2 Kapust D. Tacitus and Political Thought // A Companion to Tacitus. Ed. by V. E. Pagán. — Wiley—Blackwell, 2012. — P. 505
- ↑ 1 2 Syme R. Tacitus. Vol. 1. — Oxford, 1958. — P. 547
- ↑ 1 2 3 4 Соболевский С. И. Тацит // История римской литературы. Т. 2. Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 264
- ↑ Соболевский С. И. Тацит // История римской литературы. Т. 2. Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 263
- ↑ 1 2 Соболевский С. И. Тацит // История римской литературы. Т. 2. Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 266
- ↑ Вержбицкий К. В. Политические взгляды Тацита // История. Мир прошлого в современном освещении. Сборник научных статей к 75-летию со дня рождения профессора Э. Д. Фролова. — СПб.: СПбГУ, 2008. — С. 346
- ↑ Вержбицкий К. В. Образ Тиберия в «Анналах» Тацита и проблема его достоверности // Университетский историк. Вып. 1. — СПб.: СПбГУ, 2002. — С. 38
- ↑ Вержбицкий К. В. Политические взгляды Тацита // История. Мир прошлого в современном освещении. Сборник научных статей к 75-летию со дня рождения профессора Э. Д. Фролова. — СПб.: СПбГУ, 2008. — С. 339
- ↑ Соболевский С. И. Тацит // История римской литературы. Т. 2. Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 269
- ↑ Fitzsimons M. A. The Mind of Tacitus // The Review of Politics, Vol. 38, No. 4 (Oct., 1976). — P. 489
- ↑ 1 2 3 Соболевский С. И. Тацит // История римской литературы. Т. 2. Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 267
- ↑ (Tac. Ann. IV, 3) Тацит. Анналы. IV, 3
- ↑ (Tac. Ann. IV, 3) Тацит. Анналы. VI, 27
- ↑ 1 2 3 4 Соболевский С. И. Тацит // История римской литературы. Т. 2. Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 265
- ↑ 1 2 Вержбицкий К. В. Политические взгляды Тацита // История. Мир прошлого в современном освещении. Сборник научных статей к 75-летию со дня рождения профессора Э. Д. Фролова. — СПб.: СПбГУ, 2008. — С. 341
- ↑ 1 2 Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 1228
- ↑ Соболевский С. И. Тацит // История римской литературы. Т. 2. Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 268
- ↑ Fitzsimons M. A. The Mind of Tacitus // The Review of Politics, Vol. 38, No. 4 (Oct., 1976). — P. 492
- ↑ (Tac. Ann. I, 1) Тацит. Анналы. I, 1; пер. А. С. Бобовича
- ↑ 1 2 Соболевский С. И. Тацит // История римской литературы. Т. 2. Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 271
- ↑ Кнабе Г. С. Корнелий Тацит. Время. Жизнь. Книги. — М.: Наука, 1981. — С. 159
- ↑ 1 2 Кроче Б. Теория и история историографии. — М.: Языки русской культуры, 1998. — С. 119
- ↑ 1 2 Грант М. Римские императоры. — М.: Терра—Книжный клуб, 1998. — С. 37
- ↑ Кнабе Г. С. Корнелий Тацит. Время. Жизнь. Книги. — М.: Наука, 1981. — С. 160
- ↑ Соболевский С. И. Тацит // История римской литературы. Т. 2. Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 272
- ↑ Davies J. Religion in historiography // The Cambridge Companion to the Roman Historians. — Cambridge: Cambridge University Press, 2009. — P. 176
- ↑ 1 2 3 Feldherr A. Barbarians II: Tacitus’ Jews // The Cambridge Companion to the Roman Historians. — Cambridge: Cambridge University Press, 2009. — P. 315
- ↑ 1 2 3 4 5 Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 1227
- ↑ Грушевой А. Г. Иудеи и иудаизм в истории Римской республики и Римской империи. — СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2008. — С. 194; С. 226; С. 230—231
- ↑ Грушевой А. Г. Иудеи и иудаизм в истории Римской республики и Римской империи. — СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2008. — С. 230
- ↑ Yavetz Z. Latin Authors on Jews and Dacians // Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, Bd. 47, H. 1 (1st Qtr., 1998). — P. 90
- ↑ Yavetz Z. Latin Authors on Jews and Dacians // Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, Bd. 47, H. 1 (1st Qtr., 1998). — P. 92; P. 94
- ↑ 1 2 Чистякова Н. А., Вулих Н. В. История античной литературы. — Л.: ЛГУ, 1963. — С. 412
- ↑ Дуров В. С. Художественная историография Древнего Рима. — СПб.: СПбГУ, 1993. — С. 98
- ↑ Benario H. W. Tacitus’ «Germania» and Modern Germany // Illinois Classical Studies. Vol. 15, No. 1, 1990. — P. 165
- ↑ Davies J. Religion in historiography // The Cambridge Companion to the Roman Historians. — Cambridge: Cambridge University Press, 2009. — P. 175
- ↑ Davies J. Religion in historiography // The Cambridge Companion to the Roman Historians. — Cambridge: Cambridge University Press, 2009. — P. 178
- ↑ Davies J. Religion in historiography // The Cambridge Companion to the Roman Historians. — Cambridge: Cambridge University Press, 2009. — P. 166
- ↑ 1 2 3 Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 1230
- ↑ 1 2 Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 1231
- ↑ 1 2 Соболевский С. И. Тацит // История римской литературы. Т. 2. Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 270
- ↑ 1 2 3 Martin R. H. From manuscript to print // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 243
- ↑ 1 2 3 4 5 Martin R. H. From manuscript to print // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 244
- ↑ 1 2 3 Тронский И. М. Корнелий Тацит // Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Т. 2. — М.: Ладомир, 1993. — С. 241
- ↑ Kapust D. Tacitus and Political Thought // A Companion to Tacitus. Ed. by V. E. Pagán. — Wiley—Blackwell, 2012. — P. 507
- ↑ 1 2 Martin R. H. From manuscript to print // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 245
- ↑ 1 2 Martin R. H. From manuscript to print // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 246
- ↑ Benario H. W. Tacitus’ «Germania» and Modern Germany // Illinois Classical Studies. Vol. 15, No. 1, 1990. — P. 166
- ↑ 1 2 Martin R. H. From manuscript to print // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 247
- ↑ 1 2 Martin R. H. From manuscript to print // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 242
- ↑ 1 2 Martin R. H. From manuscript to print // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 248
- ↑ 1 2 3 Benario H. W. Tacitus’ «Germania» and Modern Germany // Illinois Classical Studies. Vol. 15, No. 1, 1990. — P. 168
- ↑ The Germania of Tacitus. Ed. by R. P. Robinson. — Hildesheim: Georg Olms Verlag, 1991. — P. 327
- ↑ The Germania of Tacitus. Ed. by R. P. Robinson. — Hildesheim: Georg Olms Verlag, 1991. — P. 327—328
- ↑ 1 2 The Germania of Tacitus. Ed. by R. P. Robinson. — Hildesheim: Georg Olms Verlag, 1991. — P. 328
- ↑ Тронский И. М. Корнелий Тацит // Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Т. 2. — М.: Ладомир, 1993. — С. 241—242
- ↑ 1 2 3 Тронский И. М. Корнелий Тацит // Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Т. 2. — М.: Ладомир, 1993. — С. 243
- ↑ Martin R. H. From manuscript to print // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 249
- ↑ 1 2 3 Martin R. H. From manuscript to print // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 250
- ↑ 1 2 3 4 5 Mellor R. Tacitus. — Routledge, 1993. — P. 138
- ↑ Павел Орозий. История против язычников, I, 5
- ↑ Соболевский С. И. Тацит // История римской литературы. Т. 2. Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 273
- ↑ Krebs C. B. A dangerous book: the reception of the Germania // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 281
- ↑ Тронский И. М. Корнелий Тацит // Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Т. 2. — М.: Ладомир, 1993. — С. 240
- ↑ Krebs C. B. A dangerous book: the reception of the Germania // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 282
- ↑ 1 2 3 Mellor R. Tacitus. — Routledge, 1993. — P. 139
- ↑ 1 2 3 Mellor R. Tacitus. — Routledge, 1993. — P. 140
- ↑ Соболевский С. И. Тацит // История римской литературы. Т. 2. Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 287
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Gajda A. Tacitus and political thought in early modern Europe, c. 1530 — c. 1640 // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 253
- ↑ Gajda A. Tacitus and political thought in early modern Europe, c. 1530 — c. 1640 // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 254
- ↑ Osmond P. J. Princeps historiae Romanae: Sallust in Renaissance political thought // Memoirs of the American Academy in Rome. — 1995. Vol. 40. — P. 134
- ↑ 1 2 3 4 5 Gajda A. Tacitus and political thought in early modern Europe, c. 1530 — c. 1640 // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 258
- ↑ Gajda A. Tacitus and political thought in early modern Europe, c. 1530 — c. 1640 // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 266
- ↑ Gajda A. Tacitus and political thought in early modern Europe, c. 1530 — c. 1640 // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 267
- ↑ Gajda A. Tacitus and political thought in early modern Europe, c. 1530 — c. 1640 // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 255
- ↑ Gajda A. Tacitus and political thought in early modern Europe, c. 1530 — c. 1640 // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 253—254
- ↑ 1 2 Gajda A. Tacitus and political thought in early modern Europe, c. 1530 — c. 1640 // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 261
- ↑ 1 2 3 Gajda A. Tacitus and political thought in early modern Europe, c. 1530 — c. 1640 // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 268
- ↑ Mellor R. The Roman Historians. — London—New York: Routledge, 1999. — P. 108
- ↑ Kapust D. Tacitus and Political Thought // A Companion to Tacitus. Ed. by V. E. Pagán. — Wiley—Blackwell, 2012. — P. 513; P. 515
- ↑ 1 2 Gajda A. Tacitus and political thought in early modern Europe, c. 1530 — c. 1640 // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 259
- ↑ Gajda A. Tacitus and political thought in early modern Europe, c. 1530 — c. 1640 // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 260
- ↑ Kapust D. Tacitus and Political Thought // A Companion to Tacitus. Ed. by V. E. Pagán. — Wiley—Blackwell, 2012. — P. 514
- ↑ 1 2 3 4 5 Тронский И. М. Корнелий Тацит // Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Т. 2. — М.: Ладомир, 1993. — С. 244
- ↑ Cartledge P. Gibbon and Tacitus // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 277
- ↑ Тронский И. М. Корнелий Тацит // Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Т. 2. — М.: Ладомир, 1993. — С. 244—245
- ↑ 1 2 3 4 Тронский И. М. Корнелий Тацит // Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Т. 2. — М.: Ладомир, 1993. — С. 246
- ↑ Тронский И. М. Корнелий Тацит // Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Т. 2. — М.: Ладомир, 1993. — С. 245
- ↑ 1 2 Kapust D. Tacitus and Political Thought // A Companion to Tacitus. Ed. by V. E. Pagán. — Wiley—Blackwell, 2012. — P. 517
- ↑ 1 2 Чистякова Н. А., Вулих Н. В. История античной литературы. — Л.: ЛГУ, 1963 — С. 415
- ↑ Пушкин А. С. [feb-web.ru/feb/pushkin/texts/push17/vol12/y12-1922.htm Замечания на Анналы Тацита] // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 12. Критика. Автобиография. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. — С. 192—194
- ↑ Тронский И. М. История античной литературы. — Л.: Учпедгиз, 1946. — С. 470
- ↑ Чистякова Н. А., Вулих Н. В. История античной литературы. — Л.: ЛГУ, 1963 — С. 415—416
- ↑ 1 2 3 Benario H. W. Tacitus’ «Germania» and Modern Germany // Illinois Classical Studies. Vol. 15, No. 1, 1990. — P. 167
- ↑ 1 2 Krebs C. B. A dangerous book: the reception of the Germania // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 283
- ↑ 1 2 3 4 Mellor R. Tacitus. — Routledge, 1993. — P. 141
- ↑ Krebs C. B. A dangerous book: the reception of the Germania // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 284
- ↑ 1 2 Krebs C. B. A dangerous book: the reception of the Germania // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 285—286
- ↑ 1 2 Krebs C. B. A dangerous book: the reception of the Germania // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 288
- ↑ Benario H. W. Tacitus’ «Germania» and Modern Germany // Illinois Classical Studies. Vol. 15, No. 1, 1990. — P. 168—169
- ↑ Krebs C. B. A dangerous book: the reception of the Germania // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 288—289
- ↑ Krebs C. B. A dangerous book: the reception of the Germania // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 291—292
- ↑ Krebs C. B. A dangerous book: the reception of the Germania // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 293
- ↑ Benario H. W. Tacitus’ «Germania» and Modern Germany // Illinois Classical Studies. Vol. 15, No. 1, 1990. — P. 169
- ↑ 1 2 3 Benario H. W. Tacitus’ «Germania» and Modern Germany // Illinois Classical Studies. Vol. 15, No. 1, 1990. — P. 170
- ↑ 1 2 3 Krebs C. B. A dangerous book: the reception of the Germania // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 296
- ↑ 1 2 Krebs C. B. A dangerous book: the reception of the Germania // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 297
- ↑ 1 2 Benario H. W. Tacitus’ «Germania» and Modern Germany // Illinois Classical Studies. Vol. 15, No. 1, 1990. — P. 174
- ↑ Кузищин В. И. Французская просветительская историография // Историография античной истории. Под ред. В. И. Кузищина. — М.: Высшая школа, 1980. — С. 41
- ↑ Кузищин В. И. Французская просветительская историография // Историография античной истории. Под ред. В. И. Кузищина. — М.: Высшая школа, 1980. — С. 42
- ↑ Модестов В. И. [books.google.by/books?id=HZw9AAAAYAAJ&hl=ru&source=gbs_navlinks_s Тацит и его сочинения]. — СПб., 1864. — С. 186—188
- ↑ Фролов Э. Д. Изучение античности в России дореформенного периода // Историография античной истории. Под ред. В. И. Кузищина. — М.: Высшая школа, 1980. — С. 75
- ↑ Кузищин В. И., Фролов Э. Д. Изучение античности в России // Историография античной истории. Под ред. В. И. Кузищина. — М.: Высшая школа, 1980. — С. 131
- ↑ 1 2 Кузищин В. И., Фролов Э. Д. Изучение античности в России // Историография античной истории. Под ред. В. И. Кузищина. — М.: Высшая школа, 1980. — С. 136
- ↑ 1 2 Кузищин В. И., Фролов Э. Д. Изучение античности в России // Историография античной истории. Под ред. В. И. Кузищина. — М.: Высшая школа, 1980. — С. 138
- ↑ 1 2 Тронский И. М. Корнелий Тацит // Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Т. 2. — М.: Ладомир, 1993. — С. 247
- ↑ 1 2 Беликов А. П., Елагина А. А. Возрождение отечественного «тацитоведения» (40-70-е гг. XX века) // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. — 2009. Вып. 56, № 9. — С. 26
- ↑ Беликов А. П., Елагина А. А. Возрождение отечественного «тацитоведения» (40-70-е гг. XX века) // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. — 2009. Вып. 56, № 9. — С. 27
- ↑ Вержбицкий К. В. Образ Тиберия в «Анналах» Тацита и проблема его достоверности // Университетский историк. Вып. 1. — СПб.: СПбГУ, 2002. — С. 28
- ↑ 1 2 Вержбицкий К. В. Образ Тиберия в «Анналах» Тацита и проблема его достоверности // Университетский историк. Вып. 1. — СПб.: СПбГУ, 2002. — С. 30
- ↑ 1 2 Toher M. Tacitus’ Syme // The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — P. 318
- ↑ Беликов А. П., Елагина А. А. Возрождение отечественного «тацитоведения» (40-70-е гг. XX века) // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. — 2009. Вып. 56, № 9. — С. 27-30
- ↑ Вержбицкий К. В. Образ Тиберия в «Анналах» Тацита и проблема его достоверности // Университетский историк. Вып. 1. — СПб.: СПбГУ, 2002. — С. 28-29
- ↑ 1 2 Соболевский С. И. Тацит // История римской литературы. Т. 2. Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 248
- ↑ 1 2 3 Powell J. G. F. Dialogues and Treatises // A Companion to Latin Literature. Ed. by S. Harrison. — Blackwell, 2005. — P. 237
- ↑ Гревс И. М. Тацит. — М.—Л., 1946. — С. 89
- ↑ 1 2 3 Mendell C. W. Tacitus: the man and his work. — Yale University Press, 1957. — P. 219
- ↑ Mendell C. W. Tacitus: the man and his work. — Yale University Press, 1957. — P. 383
- ↑ (Tac. Ann., XV, 44) Тацит. Анналы, XV, 44; пер. А. С. Бобовича
- ↑ Немировский А. И. Германская историография античности // Историография античной истории. Под ред. В. И. Кузищина. — М.: Высшая школа, 1980. — С. 149
- ↑ Нехристианские свидетельства о Христе // Мень А. Библиологический словарь. В трёх томах. — М.: Фонд имени Александра Меня, 2002.
- ↑ Martin R. H. Tacitus. — Berkeley: University of California Press, 1981. — P. 182
- ↑ 1 2 3 Van Voorst R. Jesus Outside the New Testament: An Introduction to the Ancient Evidence. — Grand Rapids: Wm. B. Eerdemans, 2000. — P. 44
- ↑ Van Voorst R. Jesus Outside the New Testament: An Introduction to the Ancient Evidence. — Grand Rapids: Wm. B. Eerdemans, 2000. — P. 43
- ↑ Торканевский А. А. Рим в системе принципата и становление христианской общины Рима (I — середина II в. н. э.): Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук (07.00.03). — Минск, 2012. — С. 11-12
Литература
- Избранные монографии
- Гревс И. М. Тацит: Жизнь и творчество. — М.—Л., 1946. — 248 с.
- Дуров В. С. Художественная историография Древнего Рима. — СПб.: СПбГУ, 1993. — 144 с. ISBN 5-288-01199-0
- Историография античной истории. Под ред. В. И. Кузищина. — М.: Высшая школа, 1980. — 415 с.
- История всемирной литературы. В девяти томах. Т. 1. — М.: Наука, 1983. — 584 с.
- Кнабе Г. С. Корнелий Тацит. — М.: Наука, 1981. — 208 с.
- Крюков А. С. Летопись первого века: историческая проза Тацита. — Воронеж: ВГУ, 1997. — 194 с.
- Модестов В. И. [books.google.by/books?id=HZw9AAAAYAAJ&hl=ru&source=gbs_navlinks_s Тацит и его сочинения]. — СПб., 1864. — 206 с.
- Соболевский С. И. Тацит // История римской литературы. Т. 2. Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — М.: Изд-во АН СССР, 1962. — С. 242—288
- Тронский И. М. История античной литературы. — Л.: Учпедгиз, 1946. — 496 с.
- Тронский И. М. Корнелий Тацит // Публий Корнелий Тацит. Анналы. Малые произведения. История. Т. 2. — М.: Ладомир, 2003.
- фон Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2004. — 707 с. ISBN 5-87245-099-0
- Чистякова Н. А., Вулих Н. В. История античной литературы. — Л.: ЛГУ, 1963. — 451 с.
- A Companion to Latin Literature. Ed. by S. Harrison. — Blackwell, 2005. — 472 p. ISBN 0-631-23529-9
- Ancient Historiography and its Contexts: Studies in Honour of A. J. Woodman. Ed. by C. S. Kraus, J. Marincola, C. Pelling. — Oxford, 2010. — P. 269—384. ISBN 0-19-161409-2
- Breisach E. Historiography: Ancient, Medieval, and Modern. 3rd Ed. — Chicago: Chicago University Press, 2007. — 517 p. ISBN 0-226-07283-5
- Daniewski J. B. Swewowie Tacyta czyli Słowianie zachodni w czasach rzymskich. — Warszawa: Gebethner i Wolff, 1933. — 188 s.
- Grant M. Greek and Roman historians: information and misinformation. — London—New York: Routledge, 1995. — 172 p. ISBN 0-415-11769-0
- Hausmann M. Die Leserlenkung durch Tacitus in den Tiberius- und Claudiusbüchern der Annalen. — Berlin—New York: Walter de Gruyter, 2009. — 472 p. ISBN 3-11-021876-3
- Mellor R. Tacitus. — Routledge, 1993. — 200 p. ISBN 0-415-90665-2
- Mellor R. The Roman Historians. — London—New York: Routledge, 1999. — 212 p. ISBN 0-415-11774-7
- Mendell C. W. Tacitus: the man and his work. — Yale University Press, 1957. — 397 p. ISBN 0-208-00818-7
- Sailor D. Writing and Empire in Tacitus. — Cambridge, 2008. — 359 p. ISBN 0-521-89747-5
- Syme R. Tacitus. Vol. 1-2. — Oxford, 1958. — 476 p.; 398 p.
- The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — 366 p. ISBN 0-521-87460-2
- The Cambridge History of Classical Literature. Volume 2: Latin Literature. Ed. by E. J. Kenney, W. V. Clausen. — Cambridge: Cambridge University Press, 1982. — 980 p. ISBN 0-521-21043-7
- Van Voorst R. Jesus Outside the New Testament: An Introduction to the Ancient Evidence. — Grand Rapids: Wm. B. Eerdemans, 2000. — 248 p. ISBN 0-8028-4368-9
- Избранные статьи
- Балахванцев А. С. Дахи и арии у Тацита // Вестник древней истории. — 1998. № 2. — С. 152—160
- Беликов А. П., Елагина А. А. Возрождение отечественного «тацитоведения» (40-70-е гг. XX века) // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. — 2009. Вып. 56, № 9. — С. 26-30
- Вержбицкий К. В. Образ Тиберия в «Анналах» Тацита и проблема его достоверности // Университетский историк. Вып. 1. — СПб.: СПбГУ, 2002. — С. 27-42
- Гаспаров M. Л. Новая зарубежная литература о Таците и Светонии // Вестник древней истории. — 1964. № 1. — С. 176—191
- Иванова Ю. В., Соколов П. В. [www.hse.ru/data/2010/05/05/1216432345/WP6_2009_08.pdf Основные направления политической мысли и историографии Чинквеченто после Макьявелли и Гвиччардини] / Препринт. — М.: ГУ ВШЭ, 2009. — 36 с.
- Кнабе Г. С. Жизнеописание Аполлония Тианского, βασιλεύς χρηστός и Корнелий Тацит // Вестник древней истории. — 1972. № 3. — С. 30-63
- Кнабе Г. С. К биографии Тацита. Sine ira et studio // Вестник древней истории. — 1980. № 4. — С. 53-73
- Кнабе Г. С. Римская биография и «Жизнеописание Агриколы» Тацита // Вестник древней истории. — 1978. № 2. — С. 111—130
- Кнабе Г. С. Спорные вопросы биографии Тацита. Cursus honorum // Вестник древней истории. — 1977. № 1. — С. 123—144
- Колосова О. Г. Судьба человека и империи в диалоге Тацита «Об ораторах» (К интерпретации текста) // Вестник древней истории. — 1998. № 3. — С. 168—187
- Крюков А. С. Пролог в «Анналах» Тацита // Вестник древней истории. — 1983. № 2. — С. 140—144
- Крюков А. С. Устная традиция в «Анналах» Тацита // Вестник древней истории. — 1997. № 1. — С. 133—147
- Кудрявцев О. В. Источники Корнелия Тацита и Кассия Диона по истории походов Корбулона в Армению // Вестник древней истории. — 1954. № 2. — С. 128—141
- Кузнецова Т. И. Тацит и вопрос о судьбах римского красноречия // Кузнецова Т. И., Стрельникова И. П. Ораторское искусство в древнем Риме. — М.: Наука, 1976. — С. 228—252
- Утченко С. Л. Римская историография и римские историки // Историки Рима. — М.: Художественная литература, 1970. — C. 5-32
- Черняк А. Б. Тацит и жанр парных речей полководцев в античной историографии // Вестник древней истории. — 1983. № 4. — С. 150—162
- Черняк А. Б. Тацит о венедах (Germ. 46.2) // Вестник древней истории. — 1991. № 2. — С. 44-60
- Черняк А. Б. Тацит о смерти Клавдия (Ann. XII, 67, 1) (История текста на примере одного пассажа) // Вестник древней истории. — 1981. № 3. — С. 161—167
- Шмидт М. А. К вопросу о политических взглядах Тацита // Учёные записки Казанского университета. — 1956. Т. 116. Кн. 5. — С. 328—331
- Шмидт М. А. Образы римских императоров в «Анналах» Тацита // Учёные записки Казанского университета. — 1957. Т. 117. Кн. 9. — С. 108—111
- Adler E. Boudica’s Speeches in Tacitus and Dio // The Classical World, Vol. 101, No. 2 (Winter, 2008). — P. 173—195
- Allen W., Jr. Imperial Table Manners in Tacitus’ «Annals» // Latomus, T. 21, Fasc. 2 (1962). — P. 374—376
- Allen W., Jr. The Yale manuscript of Tacitus (Codex Budensis Rhenani) // The Yale University Library Gazette, Vol. 11, No. 4 (April 1937). — P. 81-86
- Ash R. An Exemplary Conflict: Tacitus’ Parthian Battle Narrative («Annals» 6.34-35) // Phoenix, Vol. 53, No. 1/2 (Spring — Summer, 1999). — P. 114—135
- Baxter R. T. S. Virgil’s Influence on Tacitus in Book 3 of the Histories // Classical Philology. Vol. 66, No. 2 (Apr., 1971). — P. 93-107
- Baxter R. T. S. Virgil’s Influence on Tacitus in Books 1 and 2 of the Annals // Classical Philology. Vol. 67, No. 4 (Oct., 1972). — P. 246—269
- Beare W. Tacitus on the Germans // Greece & Rome, Second Series, Vol. 11, No. 1 (Mar., 1964). — P. 64-76
- Benario H. W. Tacitus and the Principate // The Classical Journal, Vol. 60, No. 3 (Dec., 1964). — P. 97-106
- Benario H. W. Tacitus’ «Germania» and Modern Germany // Illinois Classical Studies. Vol. 15, No. 1, 1990. — P. 163—175
- Benario H. W. Vergil and Tacitus // The Classical Journal, Vol. 63, No. 1 (Oct., 1967). — P. 24-27
- Birley A. The Life and Death of Cornelius Tacitus // Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, Bd. 49, H. 2 (2nd Qtr., 2000). — P. 230—247
- Bradford A. T. Stuart Absolutism and the 'Utility' of Tacitus // Huntington Library Quarterly. Vol. 46, No. 2 (Spring, 1983). — P. 127—155
- Büchner K. Tacitus über die Christen // Aegyptus, Anno 33, No. 1 (1953). — P. 181—192
- Chapman C. S. The Artistry of Tacitus // Greece & Rome, Vol. 16, No. 47 (Apr., 1947). — P. 85-87
- Christ K. Tacitus und der Principat // Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, Bd. 27, H. 3 (3rd Qtr., 1978). — P. 449—487
- Clayton F. W. Tacitus and Nero’s Persecution of the Christians // The Classical Quarterly, Vol. 41, No. 3/4 (Jul. — Oct., 1947). — P. 81-85
- Cowan E. Tacitus, Tiberius and Augustus // Classical Antiquity, Vol. 28, No. 2 (October 2009). — P. 179—210
- Edwards R. Hunting for Boars with Pliny and Tacitus // Classical Antiquity, Vol. 27, No. 1 (April 2008). — P. 35-58
- Fitzsimons M. A. The Mind of Tacitus // The Review of Politics, Vol. 38, No. 4 (Oct., 1976). — P. 473—493
- Flach D. Von Tacitus zu Ammian // Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, Bd. 21, H. 2 (2nd Qtr., 1972). — P. 333—350
- Fuchs H. Tacitus über die Christen // Vigiliae Christianae, Vol. 4, No. 2 (Apr., 1950). — P. 65-93
- Gordon M. L. The Patria of Tacitus // The Journal of Roman Studies, Vol. 26, Part 2 (1936). — P. 145—151
- Griffin M. Claudius in Tacitus // The Classical Quarterly, New Series, Vol. 40, No. 2 (1990). — P. 482—501
- Haynes H. Tacitus’s Dangerous Word // Classical Antiquity, Vol. 23, No. 1 (April 2004). — P. 33-61
- Henry D., Walker B. Tacitus and Seneca // Greece & Rome, Second Series, Vol. 10, No. 2 (Oct., 1963). — P. 98-110
- Jens W. Libertas bei Tacitus // Hermes, 84. Bd., H. 3 (1956). — P. 331—352
- Kehoe D. Tacitus and Sallustius Crispus // The Classical Journal, Vol. 80, No. 3 (Feb. — Mar., 1985). — P. 247—254
- Kurfess A. Tacitus über die Christen // Vigiliae Christianae, Vol. 5, No. 3 (Jul., 1951). — P. 148—149
- Laupot E. Tacitus’ Fragment 2: The Anti-Roman Movement of the «Christiani» and the Nazoreans // Vigiliae Christianae, Vol. 54, No. 3 (2000). — P. 233—247
- Levene D. S. Tacitus’ «Dialogus» as Literary History // Transactions of the American Philological Association (1974-), Vol. 134, No. 1 (Spring, 2004). — P. 157—200
- Lord L. E. Tacitus the Historian // The Classical Journal, Vol. 21, No. 3 (Dec., 1925). — P. 177—190
- Marsh F. B. Tacitus and Aristocratic Tradition // Classical Philology, Vol. 21, No. 4 (Oct., 1926). — P. 289—310
- Mierow C. C. Tacitus Speaks // Studies in Philology, Vol. 38, No. 4 (Oct., 1941). — P. 553—570
- Mierow C. C. Tacitus the Biographer // Classical Philology, Vol. 34, No. 1 (Jan., 1939). — P. 36-44
- Miller N. P. Dramatic Speech in Tacitus // The American Journal of Philology, Vol. 85, No. 3 (Jul., 1964). — P. 279—296
- Miller N. P. Tacitus’ Narrative Technique // Greece & Rome, Second Series, Vol. 24, No. 1 (Apr., 1977). — P. 13-22
- Morgan M. G. Vespasian and the Omens in Tacitus «Histories» 2.78 // Phoenix, Vol. 50, No. 1 (Spring, 1996). — P. 41-55
- Nesselhauf H. Tacitus und Domitian // Hermes, 80. Bd., H. 2 (1952). — P. 222—245
- Oliver R. P. The Praenomen of Tacitus // The American Journal of Philology, Vol. 98, No. 1 (Spring, 1977). — P. 64-70
- Percival J. Tacitus and the Principate // Greece & Rome, Second Series, Vol. 27, No. 2 (Oct., 1980). — P. 119—133
- Perkins C. A. Tacitus on Otho // Latomus, T. 52, Fasc. 4 (1993). — P. 848—855
- Reid J. S. Tacitus as a Historian // The Journal of Roman Studies, Vol. 11, (1921). — P. 191—199
- Rogers R. S. Ignorance of the Law in Tacitus and Dio: Two Instances from the History of Tiberius // Transactions and Proceedings of the American Philological Association, Vol. 64, (1933). — P. 18-27
- Ryberg I. S. Tacitus’ Art of Innuendo // Transactions and Proceedings of the American Philological Association, Vol. 73, (1942). — P. 383—404
- Sailor D. Becoming Tacitus: Significance and Inconsequentiality in the Prologue of Agricola // Classical Antiquity, Vol. 23, No. 1 (April 2004). — P. 139—177
- Salmon J. H. M. Cicero and Tacitus in Sixteenth-Century France // The American Historical Review. Vol. 85, No. 2 (Apr., 1980). — P. 307—331
- Shotter D. C. A. Tacitus, Tiberius and Germanicus // Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, Bd. 17, H. 2 (Apr., 1968). — P. 194—214
- Syme R. Obituaries in Tacitus // The American Journal of Philology, Vol. 79, No. 1 (1958). — P. 18-31
- Syme R. Tacitus on Gaul // Latomus, T. 12, Fasc. 1 (Janvier-Mars 1953). — P. 25-37
- Tanner R. G. Tacitus and the Principate // Greece & Rome, Second Series, Vol. 16, No. 1 (Apr., 1969). — P. 95-99
- Turner A. J. Approaches to Tacitus’ «Agricola» // Latomus, T. 56, Fasc. 3 (1997). — P. 582—593
- Turpin W. Tacitus, Stoic exempla, and the praecipuum munus annalium // Classical Antiquity, Vol. 27, No. 2 (October 2008). — P. 359—404
- Walsh P. G. The Historian Tacitus // Studies: An Irish Quarterly Review, Vol. 47, No. 187 (Autumn, 1958). — P. 288—297
- Willrich H. Augustus bei Tacitus // Hermes, 62. Bd., H. 1 (Jan., 1927). — P. 54-78
- Woodhead A. G. Tacitus and Agricola // Phoenix, Vol. 2, No. 2 (Spring, 1948). — P. 45-55
- Yavetz Z. Latin Authors on Jews and Dacians // Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, Bd. 47, H. 1 (1st Qtr., 1998). — P. 77-107
- Диссертации
- Бутин А. А. Хронотоп принципата I — начала II в. н. э. (по произведениям Корнелия Тацита): дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук (24.00.01). — Ярославль, 2014. 198 с.
- Елагина А. А. Тацит и его историческая концепция: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук (07.00.09). — Казань, 1984. — 16 с.
- Кнабе Г. С. Корнелий Тацит и проблемы истории древнего Рима эпохи ранней империи (конец I — начало II вв.): Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра ист. наук (07.00.03). — Л., 1982. — 37 с.
- Крюков А. С. Поэтика исторической прозы Тацита: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра филол. наук (10.01.08; 10.02.14). — СПб., 2002. — 38 с.
- Маркин А. Н. Менталитет римской имперской аристократии в изображении Корнелия Тацита и Плиния Младшего: некоторые аспекты: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук (07.00.03). — М., 1997. — 24 с.
- Сидорова И. М. Язык «Анналов» Тацита (Лексические особенности). Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. филолог. наук. — Харьков, 1954.
- Торканевский А. А. Рим в системе принципата и становление христианской общины Рима (I — середина II в. н. э.): Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук (07.00.03). — Минск, 2012. — 23 с.
- Черниговский В. Б. Альтернативные высказывания Тацита и их художественная функция: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук (10.02.14). — М., 1983. — 22 с.
- Шуравина И. Н. Работа Корнелия Тацита «О происхождении германцев и местоположении Германии» как источник по истории древних германцев: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук (07.00.03). — М.: РУДН, 1994. — 16 с.
Ссылки
| |
Публий Корнелий Тацит в Викицитатнике? |
|---|---|
| |
Публий Корнелий Тацит в Викитеке? |
| |
Публий Корнелий Тацит на Викискладе? |
- [www.thelatinlibrary.com/tac.html Сочинения Тацита на латинском языке] (лат.). Проверено 01-14-2013. [www.webcitation.org/6DnTDkVH2 Архивировано из первоисточника 20 января 2013].
- [ancientrome.ru/antlitr/tacit/index.htm Тацит в русском переводе на сайте «История Древнего Рима»] (рус.). Проверено 01-14-2013. [www.webcitation.org/6DnTEFxRR Архивировано из первоисточника 20 января 2013].
| Эта статья входит в число избранных статей русскоязычного раздела Википедии. |
| Это статья 2013 года русскоязычного раздела Википедии. |
Отрывок, характеризующий Публий Корнелий Тацит
Сейчас только приехал от благодетеля, и спешу записать всё, что я испытал при этом. Иосиф Алексеевич живет бедно и страдает третий год мучительною болезнью пузыря. Никто никогда не слыхал от него стона, или слова ропота. С утра и до поздней ночи, за исключением часов, в которые он кушает самую простую пищу, он работает над наукой. Он принял меня милостиво и посадил на кровати, на которой он лежал; я сделал ему знак рыцарей Востока и Иерусалима, он ответил мне тем же, и с кроткой улыбкой спросил меня о том, что я узнал и приобрел в прусских и шотландских ложах. Я рассказал ему всё, как умел, передав те основания, которые я предлагал в нашей петербургской ложе и сообщил о дурном приеме, сделанном мне, и о разрыве, происшедшем между мною и братьями. Иосиф Алексеевич, изрядно помолчав и подумав, на всё это изложил мне свой взгляд, который мгновенно осветил мне всё прошедшее и весь будущий путь, предлежащий мне. Он удивил меня, спросив о том, помню ли я, в чем состоит троякая цель ордена: 1) в хранении и познании таинства; 2) в очищении и исправлении себя для воспринятия оного и 3) в исправлении рода человеческого чрез стремление к таковому очищению. Какая есть главнейшая и первая цель из этих трех? Конечно собственное исправление и очищение. Только к этой цели мы можем всегда стремиться независимо от всех обстоятельств. Но вместе с тем эта то цель и требует от нас наиболее трудов, и потому, заблуждаясь гордостью, мы, упуская эту цель, беремся либо за таинство, которое недостойны воспринять по нечистоте своей, либо беремся за исправление рода человеческого, когда сами из себя являем пример мерзости и разврата. Иллюминатство не есть чистое учение именно потому, что оно увлеклось общественной деятельностью и преисполнено гордости. На этом основании Иосиф Алексеевич осудил мою речь и всю мою деятельность. Я согласился с ним в глубине души своей. По случаю разговора нашего о моих семейных делах, он сказал мне: – Главная обязанность истинного масона, как я сказал вам, состоит в совершенствовании самого себя. Но часто мы думаем, что, удалив от себя все трудности нашей жизни, мы скорее достигнем этой цели; напротив, государь мой, сказал он мне, только в среде светских волнений можем мы достигнуть трех главных целей: 1) самопознания, ибо человек может познавать себя только через сравнение, 2) совершенствования, только борьбой достигается оно, и 3) достигнуть главной добродетели – любви к смерти. Только превратности жизни могут показать нам тщету ее и могут содействовать – нашей врожденной любви к смерти или возрождению к новой жизни. Слова эти тем более замечательны, что Иосиф Алексеевич, несмотря на свои тяжкие физические страдания, никогда не тяготится жизнию, а любит смерть, к которой он, несмотря на всю чистоту и высоту своего внутреннего человека, не чувствует еще себя достаточно готовым. Потом благодетель объяснил мне вполне значение великого квадрата мироздания и указал на то, что тройственное и седьмое число суть основание всего. Он советовал мне не отстраняться от общения с петербургскими братьями и, занимая в ложе только должности 2 го градуса, стараться, отвлекая братьев от увлечений гордости, обращать их на истинный путь самопознания и совершенствования. Кроме того для себя лично советовал мне первее всего следить за самим собою, и с этою целью дал мне тетрадь, ту самую, в которой я пишу и буду вписывать впредь все свои поступки».«Петербург, 23 го ноября.
«Я опять живу с женой. Теща моя в слезах приехала ко мне и сказала, что Элен здесь и что она умоляет меня выслушать ее, что она невинна, что она несчастна моим оставлением, и многое другое. Я знал, что ежели я только допущу себя увидать ее, то не в силах буду более отказать ей в ее желании. В сомнении своем я не знал, к чьей помощи и совету прибегнуть. Ежели бы благодетель был здесь, он бы сказал мне. Я удалился к себе, перечел письма Иосифа Алексеевича, вспомнил свои беседы с ним, и из всего вывел то, что я не должен отказывать просящему и должен подать руку помощи всякому, тем более человеку столь связанному со мною, и должен нести крест свой. Но ежели я для добродетели простил ее, то пускай и будет мое соединение с нею иметь одну духовную цель. Так я решил и так написал Иосифу Алексеевичу. Я сказал жене, что прошу ее забыть всё старое, прошу простить мне то, в чем я мог быть виноват перед нею, а что мне прощать ей нечего. Мне радостно было сказать ей это. Пусть она не знает, как тяжело мне было вновь увидать ее. Устроился в большом доме в верхних покоях и испытываю счастливое чувство обновления».
Как и всегда, и тогда высшее общество, соединяясь вместе при дворе и на больших балах, подразделялось на несколько кружков, имеющих каждый свой оттенок. В числе их самый обширный был кружок французский, Наполеоновского союза – графа Румянцева и Caulaincourt'a. В этом кружке одно из самых видных мест заняла Элен, как только она с мужем поселилась в Петербурге. У нее бывали господа французского посольства и большое количество людей, известных своим умом и любезностью, принадлежавших к этому направлению.
Элен была в Эрфурте во время знаменитого свидания императоров, и оттуда привезла эти связи со всеми Наполеоновскими достопримечательностями Европы. В Эрфурте она имела блестящий успех. Сам Наполеон, заметив ее в театре, сказал про нее: «C'est un superbe animal». [Это прекрасное животное.] Успех ее в качестве красивой и элегантной женщины не удивлял Пьера, потому что с годами она сделалась еще красивее, чем прежде. Но удивляло его то, что за эти два года жена его успела приобрести себе репутацию
«d'une femme charmante, aussi spirituelle, que belle». [прелестной женщины, столь же умной, сколько красивой.] Известный рrince de Ligne [князь де Линь] писал ей письма на восьми страницах. Билибин приберегал свои mots [словечки], чтобы в первый раз сказать их при графине Безуховой. Быть принятым в салоне графини Безуховой считалось дипломом ума; молодые люди прочитывали книги перед вечером Элен, чтобы было о чем говорить в ее салоне, и секретари посольства, и даже посланники, поверяли ей дипломатические тайны, так что Элен была сила в некотором роде. Пьер, который знал, что она была очень глупа, с странным чувством недоуменья и страха иногда присутствовал на ее вечерах и обедах, где говорилось о политике, поэзии и философии. На этих вечерах он испытывал чувство подобное тому, которое должен испытывать фокусник, ожидая всякий раз, что вот вот обман его откроется. Но оттого ли, что для ведения такого салона именно нужна была глупость, или потому что сами обманываемые находили удовольствие в этом обмане, обман не открывался, и репутация d'une femme charmante et spirituelle так непоколебимо утвердилась за Еленой Васильевной Безуховой, что она могла говорить самые большие пошлости и глупости, и всё таки все восхищались каждым ее словом и отыскивали в нем глубокий смысл, которого она сама и не подозревала.
Пьер был именно тем самым мужем, который нужен был для этой блестящей, светской женщины. Он был тот рассеянный чудак, муж grand seigneur [большой барин], никому не мешающий и не только не портящий общего впечатления высокого тона гостиной, но, своей противоположностью изяществу и такту жены, служащий выгодным для нее фоном. Пьер, за эти два года, вследствие своего постоянного сосредоточенного занятия невещественными интересами и искреннего презрения ко всему остальному, усвоил себе в неинтересовавшем его обществе жены тот тон равнодушия, небрежности и благосклонности ко всем, который не приобретается искусственно и который потому то и внушает невольное уважение. Он входил в гостиную своей жены как в театр, со всеми был знаком, всем был одинаково рад и ко всем был одинаково равнодушен. Иногда он вступал в разговор, интересовавший его, и тогда, без соображений о том, были ли тут или нет les messieurs de l'ambassade [служащие при посольстве], шамкая говорил свои мнения, которые иногда были совершенно не в тоне настоящей минуты. Но мнение о чудаке муже de la femme la plus distinguee de Petersbourg [самой замечательной женщины в Петербурге] уже так установилось, что никто не принимал au serux [всерьез] его выходок.
В числе многих молодых людей, ежедневно бывавших в доме Элен, Борис Друбецкой, уже весьма успевший в службе, был после возвращения Элен из Эрфурта, самым близким человеком в доме Безуховых. Элен называла его mon page [мой паж] и обращалась с ним как с ребенком. Улыбка ее в отношении его была та же, как и ко всем, но иногда Пьеру неприятно было видеть эту улыбку. Борис обращался с Пьером с особенной, достойной и грустной почтительностию. Этот оттенок почтительности тоже беспокоил Пьера. Пьер так больно страдал три года тому назад от оскорбления, нанесенного ему женой, что теперь он спасал себя от возможности подобного оскорбления во первых тем, что он не был мужем своей жены, во вторых тем, что он не позволял себе подозревать.
– Нет, теперь сделавшись bas bleu [синим чулком], она навсегда отказалась от прежних увлечений, – говорил он сам себе. – Не было примера, чтобы bas bleu имели сердечные увлечения, – повторял он сам себе неизвестно откуда извлеченное правило, которому несомненно верил. Но, странное дело, присутствие Бориса в гостиной жены (а он был почти постоянно), физически действовало на Пьера: оно связывало все его члены, уничтожало бессознательность и свободу его движений.
– Такая странная антипатия, – думал Пьер, – а прежде он мне даже очень нравился.
В глазах света Пьер был большой барин, несколько слепой и смешной муж знаменитой жены, умный чудак, ничего не делающий, но и никому не вредящий, славный и добрый малый. В душе же Пьера происходила за всё это время сложная и трудная работа внутреннего развития, открывшая ему многое и приведшая его ко многим духовным сомнениям и радостям.
Он продолжал свой дневник, и вот что он писал в нем за это время:
«24 ro ноября.
«Встал в восемь часов, читал Св. Писание, потом пошел к должности (Пьер по совету благодетеля поступил на службу в один из комитетов), возвратился к обеду, обедал один (у графини много гостей, мне неприятных), ел и пил умеренно и после обеда списывал пиесы для братьев. Ввечеру сошел к графине и рассказал смешную историю о Б., и только тогда вспомнил, что этого не должно было делать, когда все уже громко смеялись.
«Ложусь спать с счастливым и спокойным духом. Господи Великий, помоги мне ходить по стезям Твоим, 1) побеждать часть гневну – тихостью, медлением, 2) похоть – воздержанием и отвращением, 3) удаляться от суеты, но не отлучать себя от а) государственных дел службы, b) от забот семейных, с) от дружеских сношений и d) экономических занятий».
«27 го ноября.
«Встал поздно и проснувшись долго лежал на постели, предаваясь лени. Боже мой! помоги мне и укрепи меня, дабы я мог ходить по путям Твоим. Читал Св. Писание, но без надлежащего чувства. Пришел брат Урусов, беседовали о суетах мира. Рассказывал о новых предначертаниях государя. Я начал было осуждать, но вспомнил о своих правилах и слова благодетеля нашего о том, что истинный масон должен быть усердным деятелем в государстве, когда требуется его участие, и спокойным созерцателем того, к чему он не призван. Язык мой – враг мой. Посетили меня братья Г. В. и О., была приуготовительная беседа для принятия нового брата. Они возлагают на меня обязанность ритора. Чувствую себя слабым и недостойным. Потом зашла речь об объяснении семи столбов и ступеней храма. 7 наук, 7 добродетелей, 7 пороков, 7 даров Святого Духа. Брат О. был очень красноречив. Вечером совершилось принятие. Новое устройство помещения много содействовало великолепию зрелища. Принят был Борис Друбецкой. Я предлагал его, я и был ритором. Странное чувство волновало меня во всё время моего пребывания с ним в темной храмине. Я застал в себе к нему чувство ненависти, которое я тщетно стремлюсь преодолеть. И потому то я желал бы истинно спасти его от злого и ввести его на путь истины, но дурные мысли о нем не оставляли меня. Мне думалось, что его цель вступления в братство состояла только в желании сблизиться с людьми, быть в фаворе у находящихся в нашей ложе. Кроме тех оснований, что он несколько раз спрашивал, не находится ли в нашей ложе N. и S. (на что я не мог ему отвечать), кроме того, что он по моим наблюдениям не способен чувствовать уважения к нашему святому Ордену и слишком занят и доволен внешним человеком, чтобы желать улучшения духовного, я не имел оснований сомневаться в нем; но он мне казался неискренним, и всё время, когда я стоял с ним с глазу на глаз в темной храмине, мне казалось, что он презрительно улыбается на мои слова, и хотелось действительно уколоть его обнаженную грудь шпагой, которую я держал, приставленною к ней. Я не мог быть красноречив и не мог искренно сообщить своего сомнения братьям и великому мастеру. Великий Архитектон природы, помоги мне находить истинные пути, выводящие из лабиринта лжи».
После этого в дневнике было пропущено три листа, и потом было написано следующее:
«Имел поучительный и длинный разговор наедине с братом В., который советовал мне держаться брата А. Многое, хотя и недостойному, мне было открыто. Адонаи есть имя сотворившего мир. Элоим есть имя правящего всем. Третье имя, имя поизрекаемое, имеющее значение Всего . Беседы с братом В. подкрепляют, освежают и утверждают меня на пути добродетели. При нем нет места сомнению. Мне ясно различие бедного учения наук общественных с нашим святым, всё обнимающим учением. Науки человеческие всё подразделяют – чтобы понять, всё убивают – чтобы рассмотреть. В святой науке Ордена всё едино, всё познается в своей совокупности и жизни. Троица – три начала вещей – сера, меркурий и соль. Сера елейного и огненного свойства; она в соединении с солью, огненностью своей возбуждает в ней алкание, посредством которого притягивает меркурий, схватывает его, удерживает и совокупно производит отдельные тела. Меркурий есть жидкая и летучая духовная сущность – Христос, Дух Святой, Он».
«3 го декабря.
«Проснулся поздно, читал Св. Писание, но был бесчувствен. После вышел и ходил по зале. Хотел размышлять, но вместо того воображение представило одно происшествие, бывшее четыре года тому назад. Господин Долохов, после моей дуэли встретясь со мной в Москве, сказал мне, что он надеется, что я пользуюсь теперь полным душевным спокойствием, несмотря на отсутствие моей супруги. Я тогда ничего не отвечал. Теперь я припомнил все подробности этого свидания и в душе своей говорил ему самые злобные слова и колкие ответы. Опомнился и бросил эту мысль только тогда, когда увидал себя в распалении гнева; но недостаточно раскаялся в этом. После пришел Борис Друбецкой и стал рассказывать разные приключения; я же с самого его прихода сделался недоволен его посещением и сказал ему что то противное. Он возразил. Я вспыхнул и наговорил ему множество неприятного и даже грубого. Он замолчал и я спохватился только тогда, когда было уже поздно. Боже мой, я совсем не умею с ним обходиться. Этому причиной мое самолюбие. Я ставлю себя выше его и потому делаюсь гораздо его хуже, ибо он снисходителен к моим грубостям, а я напротив того питаю к нему презрение. Боже мой, даруй мне в присутствии его видеть больше мою мерзость и поступать так, чтобы и ему это было полезно. После обеда заснул и в то время как засыпал, услыхал явственно голос, сказавший мне в левое ухо: – „Твой день“.
«Я видел во сне, что иду я в темноте, и вдруг окружен собаками, но иду без страха; вдруг одна небольшая схватила меня за левое стегно зубами и не выпускает. Я стал давить ее руками. И только что я оторвал ее, как другая, еще большая, стала грызть меня. Я стал поднимать ее и чем больше поднимал, тем она становилась больше и тяжеле. И вдруг идет брат А. и взяв меня под руку, повел с собою и привел к зданию, для входа в которое надо было пройти по узкой доске. Я ступил на нее и доска отогнулась и упала, и я стал лезть на забор, до которого едва достигал руками. После больших усилий я перетащил свое тело так, что ноги висели на одной, а туловище на другой стороне. Я оглянулся и увидал, что брат А. стоит на заборе и указывает мне на большую аллею и сад, и в саду большое и прекрасное здание. Я проснулся. Господи, Великий Архитектон природы! помоги мне оторвать от себя собак – страстей моих и последнюю из них, совокупляющую в себе силы всех прежних, и помоги мне вступить в тот храм добродетели, коего лицезрения я во сне достигнул».
«7 го декабря.
«Видел сон, будто Иосиф Алексеевич в моем доме сидит, я рад очень, и желаю угостить его. Будто я с посторонними неумолчно болтаю и вдруг вспомнил, что это ему не может нравиться, и желаю к нему приблизиться и его обнять. Но только что приблизился, вижу, что лицо его преобразилось, стало молодое, и он мне тихо что то говорит из ученья Ордена, так тихо, что я не могу расслышать. Потом, будто, вышли мы все из комнаты, и что то тут случилось мудреное. Мы сидели или лежали на полу. Он мне что то говорил. А мне будто захотелось показать ему свою чувствительность и я, не вслушиваясь в его речи, стал себе воображать состояние своего внутреннего человека и осенившую меня милость Божию. И появились у меня слезы на глазах, и я был доволен, что он это приметил. Но он взглянул на меня с досадой и вскочил, пресекши свой разговор. Я обробел и спросил, не ко мне ли сказанное относилось; но он ничего не отвечал, показал мне ласковый вид, и после вдруг очутились мы в спальне моей, где стоит двойная кровать. Он лег на нее на край, и я будто пылал к нему желанием ласкаться и прилечь тут же. И он будто у меня спрашивает: „Скажите по правде, какое вы имеете главное пристрастие? Узнали ли вы его? Я думаю, что вы уже его узнали“. Я, смутившись сим вопросом, отвечал, что лень мое главное пристрастие. Он недоверчиво покачал головой. И я ему, еще более смутившись, отвечал, что я, хотя и живу с женою, по его совету, но не как муж жены своей. На это он возразил, что не должно жену лишать своей ласки, дал чувствовать, что в этом была моя обязанность. Но я отвечал, что я стыжусь этого, и вдруг всё скрылось. И я проснулся, и нашел в мыслях своих текст Св. Писания: Живот бе свет человеком, и свет во тме светит и тма его не объят . Лицо у Иосифа Алексеевича было моложавое и светлое. В этот день получил письмо от благодетеля, в котором он пишет об обязанностях супружества».
«9 го декабря.
«Видел сон, от которого проснулся с трепещущимся сердцем. Видел, будто я в Москве, в своем доме, в большой диванной, и из гостиной выходит Иосиф Алексеевич. Будто я тотчас узнал, что с ним уже совершился процесс возрождения, и бросился ему на встречу. Я будто его целую, и руки его, а он говорит: „Приметил ли ты, что у меня лицо другое?“ Я посмотрел на него, продолжая держать его в своих объятиях, и будто вижу, что лицо его молодое, но волос на голове нет, и черты совершенно другие. И будто я ему говорю: „Я бы вас узнал, ежели бы случайно с вами встретился“, и думаю между тем: „Правду ли я сказал?“ И вдруг вижу, что он лежит как труп мертвый; потом понемногу пришел в себя и вошел со мной в большой кабинет, держа большую книгу, писанную, в александрийский лист. И будто я говорю: „это я написал“. И он ответил мне наклонением головы. Я открыл книгу, и в книге этой на всех страницах прекрасно нарисовано. И я будто знаю, что эти картины представляют любовные похождения души с ее возлюбленным. И на страницах будто я вижу прекрасное изображение девицы в прозрачной одежде и с прозрачным телом, возлетающей к облакам. И будто я знаю, что эта девица есть ничто иное, как изображение Песни песней. И будто я, глядя на эти рисунки, чувствую, что я делаю дурно, и не могу оторваться от них. Господи, помоги мне! Боже мой, если это оставление Тобою меня есть действие Твое, то да будет воля Твоя; но ежели же я сам причинил сие, то научи меня, что мне делать. Я погибну от своей развратности, буде Ты меня вовсе оставишь».
Денежные дела Ростовых не поправились в продолжение двух лет, которые они пробыли в деревне.
Несмотря на то, что Николай Ростов, твердо держась своего намерения, продолжал темно служить в глухом полку, расходуя сравнительно мало денег, ход жизни в Отрадном был таков, и в особенности Митенька так вел дела, что долги неудержимо росли с каждым годом. Единственная помощь, которая очевидно представлялась старому графу, это была служба, и он приехал в Петербург искать места; искать места и вместе с тем, как он говорил, в последний раз потешить девчат.
Вскоре после приезда Ростовых в Петербург, Берг сделал предложение Вере, и предложение его было принято.
Несмотря на то, что в Москве Ростовы принадлежали к высшему обществу, сами того не зная и не думая о том, к какому они принадлежали обществу, в Петербурге общество их было смешанное и неопределенное. В Петербурге они были провинциалы, до которых не спускались те самые люди, которых, не спрашивая их к какому они принадлежат обществу, в Москве кормили Ростовы.
Ростовы в Петербурге жили так же гостеприимно, как и в Москве, и на их ужинах сходились самые разнообразные лица: соседи по Отрадному, старые небогатые помещики с дочерьми и фрейлина Перонская, Пьер Безухов и сын уездного почтмейстера, служивший в Петербурге. Из мужчин домашними людьми в доме Ростовых в Петербурге очень скоро сделались Борис, Пьер, которого, встретив на улице, затащил к себе старый граф, и Берг, который целые дни проводил у Ростовых и оказывал старшей графине Вере такое внимание, которое может оказывать молодой человек, намеревающийся сделать предложение.
Берг недаром показывал всем свою раненую в Аустерлицком сражении правую руку и держал совершенно не нужную шпагу в левой. Он так упорно и с такою значительностью рассказывал всем это событие, что все поверили в целесообразность и достоинство этого поступка, и Берг получил за Аустерлиц две награды.
В Финляндской войне ему удалось также отличиться. Он поднял осколок гранаты, которым был убит адъютант подле главнокомандующего и поднес начальнику этот осколок. Так же как и после Аустерлица, он так долго и упорно рассказывал всем про это событие, что все поверили тоже, что надо было это сделать, и за Финляндскую войну Берг получил две награды. В 19 м году он был капитан гвардии с орденами и занимал в Петербурге какие то особенные выгодные места.
Хотя некоторые вольнодумцы и улыбались, когда им говорили про достоинства Берга, нельзя было не согласиться, что Берг был исправный, храбрый офицер, на отличном счету у начальства, и нравственный молодой человек с блестящей карьерой впереди и даже прочным положением в обществе.
Четыре года тому назад, встретившись в партере московского театра с товарищем немцем, Берг указал ему на Веру Ростову и по немецки сказал: «Das soll mein Weib werden», [Она должна быть моей женой,] и с той минуты решил жениться на ней. Теперь, в Петербурге, сообразив положение Ростовых и свое, он решил, что пришло время, и сделал предложение.
Предложение Берга было принято сначала с нелестным для него недоумением. Сначала представилось странно, что сын темного, лифляндского дворянина делает предложение графине Ростовой; но главное свойство характера Берга состояло в таком наивном и добродушном эгоизме, что невольно Ростовы подумали, что это будет хорошо, ежели он сам так твердо убежден, что это хорошо и даже очень хорошо. Притом же дела Ростовых были очень расстроены, чего не мог не знать жених, а главное, Вере было 24 года, она выезжала везде, и, несмотря на то, что она несомненно была хороша и рассудительна, до сих пор никто никогда ей не сделал предложения. Согласие было дано.
– Вот видите ли, – говорил Берг своему товарищу, которого он называл другом только потому, что он знал, что у всех людей бывают друзья. – Вот видите ли, я всё это сообразил, и я бы не женился, ежели бы не обдумал всего, и это почему нибудь было бы неудобно. А теперь напротив, папенька и маменька мои теперь обеспечены, я им устроил эту аренду в Остзейском крае, а мне прожить можно в Петербурге при моем жалованьи, при ее состоянии и при моей аккуратности. Прожить можно хорошо. Я не из за денег женюсь, я считаю это неблагородно, но надо, чтоб жена принесла свое, а муж свое. У меня служба – у нее связи и маленькие средства. Это в наше время что нибудь такое значит, не так ли? А главное она прекрасная, почтенная девушка и любит меня…
Берг покраснел и улыбнулся.
– И я люблю ее, потому что у нее характер рассудительный – очень хороший. Вот другая ее сестра – одной фамилии, а совсем другое, и неприятный характер, и ума нет того, и эдакое, знаете?… Неприятно… А моя невеста… Вот будете приходить к нам… – продолжал Берг, он хотел сказать обедать, но раздумал и сказал: «чай пить», и, проткнув его быстро языком, выпустил круглое, маленькое колечко табачного дыма, олицетворявшее вполне его мечты о счастьи.
Подле первого чувства недоуменья, возбужденного в родителях предложением Берга, в семействе водворилась обычная в таких случаях праздничность и радость, но радость была не искренняя, а внешняя. В чувствах родных относительно этой свадьбы были заметны замешательство и стыдливость. Как будто им совестно было теперь за то, что они мало любили Веру, и теперь так охотно сбывали ее с рук. Больше всех смущен был старый граф. Он вероятно не умел бы назвать того, что было причиной его смущенья, а причина эта была его денежные дела. Он решительно не знал, что у него есть, сколько у него долгов и что он в состоянии будет дать в приданое Вере. Когда родились дочери, каждой было назначено по 300 душ в приданое; но одна из этих деревень была уж продана, другая заложена и так просрочена, что должна была продаваться, поэтому отдать имение было невозможно. Денег тоже не было.
Берг уже более месяца был женихом и только неделя оставалась до свадьбы, а граф еще не решил с собой вопроса о приданом и не говорил об этом с женою. Граф то хотел отделить Вере рязанское именье, то хотел продать лес, то занять денег под вексель. За несколько дней до свадьбы Берг вошел рано утром в кабинет к графу и с приятной улыбкой почтительно попросил будущего тестя объявить ему, что будет дано за графиней Верой. Граф так смутился при этом давно предчувствуемом вопросе, что сказал необдуманно первое, что пришло ему в голову.
– Люблю, что позаботился, люблю, останешься доволен…
И он, похлопав Берга по плечу, встал, желая прекратить разговор. Но Берг, приятно улыбаясь, объяснил, что, ежели он не будет знать верно, что будет дано за Верой, и не получит вперед хотя части того, что назначено ей, то он принужден будет отказаться.
– Потому что рассудите, граф, ежели бы я теперь позволил себе жениться, не имея определенных средств для поддержания своей жены, я поступил бы подло…
Разговор кончился тем, что граф, желая быть великодушным и не подвергаться новым просьбам, сказал, что он выдает вексель в 80 тысяч. Берг кротко улыбнулся, поцеловал графа в плечо и сказал, что он очень благодарен, но никак не может теперь устроиться в новой жизни, не получив чистыми деньгами 30 тысяч. – Хотя бы 20 тысяч, граф, – прибавил он; – а вексель тогда только в 60 тысяч.
– Да, да, хорошо, – скороговоркой заговорил граф, – только уж извини, дружок, 20 тысяч я дам, а вексель кроме того на 80 тысяч дам. Так то, поцелуй меня.
Наташе было 16 лет, и был 1809 год, тот самый, до которого она четыре года тому назад по пальцам считала с Борисом после того, как она с ним поцеловалась. С тех пор она ни разу не видала Бориса. Перед Соней и с матерью, когда разговор заходил о Борисе, она совершенно свободно говорила, как о деле решенном, что всё, что было прежде, – было ребячество, про которое не стоило и говорить, и которое давно было забыто. Но в самой тайной глубине ее души, вопрос о том, было ли обязательство к Борису шуткой или важным, связывающим обещанием, мучил ее.
С самых тех пор, как Борис в 1805 году из Москвы уехал в армию, он не видался с Ростовыми. Несколько раз он бывал в Москве, проезжал недалеко от Отрадного, но ни разу не был у Ростовых.
Наташе приходило иногда к голову, что он не хотел видеть ее, и эти догадки ее подтверждались тем грустным тоном, которым говаривали о нем старшие:
– В нынешнем веке не помнят старых друзей, – говорила графиня вслед за упоминанием о Борисе.
Анна Михайловна, в последнее время реже бывавшая у Ростовых, тоже держала себя как то особенно достойно, и всякий раз восторженно и благодарно говорила о достоинствах своего сына и о блестящей карьере, на которой он находился. Когда Ростовы приехали в Петербург, Борис приехал к ним с визитом.
Он ехал к ним не без волнения. Воспоминание о Наташе было самым поэтическим воспоминанием Бориса. Но вместе с тем он ехал с твердым намерением ясно дать почувствовать и ей, и родным ее, что детские отношения между ним и Наташей не могут быть обязательством ни для нее, ни для него. У него было блестящее положение в обществе, благодаря интимности с графиней Безуховой, блестящее положение на службе, благодаря покровительству важного лица, доверием которого он вполне пользовался, и у него были зарождающиеся планы женитьбы на одной из самых богатых невест Петербурга, которые очень легко могли осуществиться. Когда Борис вошел в гостиную Ростовых, Наташа была в своей комнате. Узнав о его приезде, она раскрасневшись почти вбежала в гостиную, сияя более чем ласковой улыбкой.
Борис помнил ту Наташу в коротеньком платье, с черными, блестящими из под локон глазами и с отчаянным, детским смехом, которую он знал 4 года тому назад, и потому, когда вошла совсем другая Наташа, он смутился, и лицо его выразило восторженное удивление. Это выражение его лица обрадовало Наташу.
– Что, узнаешь свою маленькую приятельницу шалунью? – сказала графиня. Борис поцеловал руку Наташи и сказал, что он удивлен происшедшей в ней переменой.
– Как вы похорошели!
«Еще бы!», отвечали смеющиеся глаза Наташи.
– А папа постарел? – спросила она. Наташа села и, не вступая в разговор Бориса с графиней, молча рассматривала своего детского жениха до малейших подробностей. Он чувствовал на себе тяжесть этого упорного, ласкового взгляда и изредка взглядывал на нее.
Мундир, шпоры, галстук, прическа Бориса, всё это было самое модное и сomme il faut [вполне порядочно]. Это сейчас заметила Наташа. Он сидел немножко боком на кресле подле графини, поправляя правой рукой чистейшую, облитую перчатку на левой, говорил с особенным, утонченным поджатием губ об увеселениях высшего петербургского света и с кроткой насмешливостью вспоминал о прежних московских временах и московских знакомых. Не нечаянно, как это чувствовала Наташа, он упомянул, называя высшую аристократию, о бале посланника, на котором он был, о приглашениях к NN и к SS.
Наташа сидела всё время молча, исподлобья глядя на него. Взгляд этот всё больше и больше, и беспокоил, и смущал Бориса. Он чаще оглядывался на Наташу и прерывался в рассказах. Он просидел не больше 10 минут и встал, раскланиваясь. Всё те же любопытные, вызывающие и несколько насмешливые глаза смотрели на него. После первого своего посещения, Борис сказал себе, что Наташа для него точно так же привлекательна, как и прежде, но что он не должен отдаваться этому чувству, потому что женитьба на ней – девушке почти без состояния, – была бы гибелью его карьеры, а возобновление прежних отношений без цели женитьбы было бы неблагородным поступком. Борис решил сам с собою избегать встреч с Наташей, нo, несмотря на это решение, приехал через несколько дней и стал ездить часто и целые дни проводить у Ростовых. Ему представлялось, что ему необходимо было объясниться с Наташей, сказать ей, что всё старое должно быть забыто, что, несмотря на всё… она не может быть его женой, что у него нет состояния, и ее никогда не отдадут за него. Но ему всё не удавалось и неловко было приступить к этому объяснению. С каждым днем он более и более запутывался. Наташа, по замечанию матери и Сони, казалась по старому влюбленной в Бориса. Она пела ему его любимые песни, показывала ему свой альбом, заставляла его писать в него, не позволяла поминать ему о старом, давая понимать, как прекрасно было новое; и каждый день он уезжал в тумане, не сказав того, что намерен был сказать, сам не зная, что он делал и для чего он приезжал, и чем это кончится. Борис перестал бывать у Элен, ежедневно получал укоризненные записки от нее и всё таки целые дни проводил у Ростовых.
Однажды вечером, когда старая графиня, вздыхая и крехтя, в ночном чепце и кофточке, без накладных буклей, и с одним бедным пучком волос, выступавшим из под белого, коленкорового чепчика, клала на коврике земные поклоны вечерней молитвы, ее дверь скрипнула, и в туфлях на босу ногу, тоже в кофточке и в папильотках, вбежала Наташа. Графиня оглянулась и нахмурилась. Она дочитывала свою последнюю молитву: «Неужели мне одр сей гроб будет?» Молитвенное настроение ее было уничтожено. Наташа, красная, оживленная, увидав мать на молитве, вдруг остановилась на своем бегу, присела и невольно высунула язык, грозясь самой себе. Заметив, что мать продолжала молитву, она на цыпочках подбежала к кровати, быстро скользнув одной маленькой ножкой о другую, скинула туфли и прыгнула на тот одр, за который графиня боялась, как бы он не был ее гробом. Одр этот был высокий, перинный, с пятью всё уменьшающимися подушками. Наташа вскочила, утонула в перине, перевалилась к стенке и начала возиться под одеялом, укладываясь, подгибая коленки к подбородку, брыкая ногами и чуть слышно смеясь, то закрываясь с головой, то взглядывая на мать. Графиня кончила молитву и с строгим лицом подошла к постели; но, увидав, что Наташа закрыта с головой, улыбнулась своей доброй, слабой улыбкой.
– Ну, ну, ну, – сказала мать.
– Мама, можно поговорить, да? – сказала Hаташa. – Ну, в душку один раз, ну еще, и будет. – И она обхватила шею матери и поцеловала ее под подбородок. В обращении своем с матерью Наташа выказывала внешнюю грубость манеры, но так была чутка и ловка, что как бы она ни обхватила руками мать, она всегда умела это сделать так, чтобы матери не было ни больно, ни неприятно, ни неловко.
– Ну, об чем же нынче? – сказала мать, устроившись на подушках и подождав, пока Наташа, также перекатившись раза два через себя, не легла с ней рядом под одним одеялом, выпростав руки и приняв серьезное выражение.
Эти ночные посещения Наташи, совершавшиеся до возвращения графа из клуба, были одним из любимейших наслаждений матери и дочери.
– Об чем же нынче? А мне нужно тебе сказать…
Наташа закрыла рукою рот матери.
– О Борисе… Я знаю, – сказала она серьезно, – я затем и пришла. Не говорите, я знаю. Нет, скажите! – Она отпустила руку. – Скажите, мама. Он мил?
– Наташа, тебе 16 лет, в твои года я была замужем. Ты говоришь, что Боря мил. Он очень мил, и я его люблю как сына, но что же ты хочешь?… Что ты думаешь? Ты ему совсем вскружила голову, я это вижу…
Говоря это, графиня оглянулась на дочь. Наташа лежала, прямо и неподвижно глядя вперед себя на одного из сфинксов красного дерева, вырезанных на углах кровати, так что графиня видела только в профиль лицо дочери. Лицо это поразило графиню своей особенностью серьезного и сосредоточенного выражения.
Наташа слушала и соображала.
– Ну так что ж? – сказала она.
– Ты ему вскружила совсем голову, зачем? Что ты хочешь от него? Ты знаешь, что тебе нельзя выйти за него замуж.
– Отчего? – не переменяя положения, сказала Наташа.
– Оттого, что он молод, оттого, что он беден, оттого, что он родня… оттого, что ты и сама не любишь его.
– А почему вы знаете?
– Я знаю. Это не хорошо, мой дружок.
– А если я хочу… – сказала Наташа.
– Перестань говорить глупости, – сказала графиня.
– А если я хочу…
– Наташа, я серьезно…
Наташа не дала ей договорить, притянула к себе большую руку графини и поцеловала ее сверху, потом в ладонь, потом опять повернула и стала целовать ее в косточку верхнего сустава пальца, потом в промежуток, потом опять в косточку, шопотом приговаривая: «январь, февраль, март, апрель, май».
– Говорите, мама, что же вы молчите? Говорите, – сказала она, оглядываясь на мать, которая нежным взглядом смотрела на дочь и из за этого созерцания, казалось, забыла всё, что она хотела сказать.
– Это не годится, душа моя. Не все поймут вашу детскую связь, а видеть его таким близким с тобой может повредить тебе в глазах других молодых людей, которые к нам ездят, и, главное, напрасно мучает его. Он, может быть, нашел себе партию по себе, богатую; а теперь он с ума сходит.
– Сходит? – повторила Наташа.
– Я тебе про себя скажу. У меня был один cousin…
– Знаю – Кирилла Матвеич, да ведь он старик?
– Не всегда был старик. Но вот что, Наташа, я поговорю с Борей. Ему не надо так часто ездить…
– Отчего же не надо, коли ему хочется?
– Оттого, что я знаю, что это ничем не кончится.
– Почему вы знаете? Нет, мама, вы не говорите ему. Что за глупости! – говорила Наташа тоном человека, у которого хотят отнять его собственность.
– Ну не выйду замуж, так пускай ездит, коли ему весело и мне весело. – Наташа улыбаясь поглядела на мать.
– Не замуж, а так , – повторила она.
– Как же это, мой друг?
– Да так . Ну, очень нужно, что замуж не выйду, а… так .
– Так, так, – повторила графиня и, трясясь всем своим телом, засмеялась добрым, неожиданным старушечьим смехом.
– Полноте смеяться, перестаньте, – закричала Наташа, – всю кровать трясете. Ужасно вы на меня похожи, такая же хохотунья… Постойте… – Она схватила обе руки графини, поцеловала на одной кость мизинца – июнь, и продолжала целовать июль, август на другой руке. – Мама, а он очень влюблен? Как на ваши глаза? В вас были так влюблены? И очень мил, очень, очень мил! Только не совсем в моем вкусе – он узкий такой, как часы столовые… Вы не понимаете?…Узкий, знаете, серый, светлый…
– Что ты врешь! – сказала графиня.
Наташа продолжала:
– Неужели вы не понимаете? Николенька бы понял… Безухий – тот синий, темно синий с красным, и он четвероугольный.
– Ты и с ним кокетничаешь, – смеясь сказала графиня.
– Нет, он франмасон, я узнала. Он славный, темно синий с красным, как вам растолковать…
– Графинюшка, – послышался голос графа из за двери. – Ты не спишь? – Наташа вскочила босиком, захватила в руки туфли и убежала в свою комнату.
Она долго не могла заснуть. Она всё думала о том, что никто никак не может понять всего, что она понимает, и что в ней есть.
«Соня?» подумала она, глядя на спящую, свернувшуюся кошечку с ее огромной косой. «Нет, куда ей! Она добродетельная. Она влюбилась в Николеньку и больше ничего знать не хочет. Мама, и та не понимает. Это удивительно, как я умна и как… она мила», – продолжала она, говоря про себя в третьем лице и воображая, что это говорит про нее какой то очень умный, самый умный и самый хороший мужчина… «Всё, всё в ней есть, – продолжал этот мужчина, – умна необыкновенно, мила и потом хороша, необыкновенно хороша, ловка, – плавает, верхом ездит отлично, а голос! Можно сказать, удивительный голос!» Она пропела свою любимую музыкальную фразу из Херубиниевской оперы, бросилась на постель, засмеялась от радостной мысли, что она сейчас заснет, крикнула Дуняшу потушить свечку, и еще Дуняша не успела выйти из комнаты, как она уже перешла в другой, еще более счастливый мир сновидений, где всё было так же легко и прекрасно, как и в действительности, но только было еще лучше, потому что было по другому.
На другой день графиня, пригласив к себе Бориса, переговорила с ним, и с того дня он перестал бывать у Ростовых.
31 го декабря, накануне нового 1810 года, le reveillon [ночной ужин], был бал у Екатерининского вельможи. На бале должен был быть дипломатический корпус и государь.
На Английской набережной светился бесчисленными огнями иллюминации известный дом вельможи. У освещенного подъезда с красным сукном стояла полиция, и не одни жандармы, но полицеймейстер на подъезде и десятки офицеров полиции. Экипажи отъезжали, и всё подъезжали новые с красными лакеями и с лакеями в перьях на шляпах. Из карет выходили мужчины в мундирах, звездах и лентах; дамы в атласе и горностаях осторожно сходили по шумно откладываемым подножкам, и торопливо и беззвучно проходили по сукну подъезда.
Почти всякий раз, как подъезжал новый экипаж, в толпе пробегал шопот и снимались шапки.
– Государь?… Нет, министр… принц… посланник… Разве не видишь перья?… – говорилось из толпы. Один из толпы, одетый лучше других, казалось, знал всех, и называл по имени знатнейших вельмож того времени.
Уже одна треть гостей приехала на этот бал, а у Ростовых, долженствующих быть на этом бале, еще шли торопливые приготовления одевания.
Много было толков и приготовлений для этого бала в семействе Ростовых, много страхов, что приглашение не будет получено, платье не будет готово, и не устроится всё так, как было нужно.
Вместе с Ростовыми ехала на бал Марья Игнатьевна Перонская, приятельница и родственница графини, худая и желтая фрейлина старого двора, руководящая провинциальных Ростовых в высшем петербургском свете.
В 10 часов вечера Ростовы должны были заехать за фрейлиной к Таврическому саду; а между тем было уже без пяти минут десять, а еще барышни не были одеты.
Наташа ехала на первый большой бал в своей жизни. Она в этот день встала в 8 часов утра и целый день находилась в лихорадочной тревоге и деятельности. Все силы ее, с самого утра, были устремлены на то, чтобы они все: она, мама, Соня были одеты как нельзя лучше. Соня и графиня поручились вполне ей. На графине должно было быть масака бархатное платье, на них двух белые дымковые платья на розовых, шелковых чехлах с розанами в корсаже. Волоса должны были быть причесаны a la grecque [по гречески].
Все существенное уже было сделано: ноги, руки, шея, уши были уже особенно тщательно, по бальному, вымыты, надушены и напудрены; обуты уже были шелковые, ажурные чулки и белые атласные башмаки с бантиками; прически были почти окончены. Соня кончала одеваться, графиня тоже; но Наташа, хлопотавшая за всех, отстала. Она еще сидела перед зеркалом в накинутом на худенькие плечи пеньюаре. Соня, уже одетая, стояла посреди комнаты и, нажимая до боли маленьким пальцем, прикалывала последнюю визжавшую под булавкой ленту.
– Не так, не так, Соня, – сказала Наташа, поворачивая голову от прически и хватаясь руками за волоса, которые не поспела отпустить державшая их горничная. – Не так бант, поди сюда. – Соня присела. Наташа переколола ленту иначе.
– Позвольте, барышня, нельзя так, – говорила горничная, державшая волоса Наташи.
– Ах, Боже мой, ну после! Вот так, Соня.
– Скоро ли вы? – послышался голос графини, – уж десять сейчас.
– Сейчас, сейчас. – А вы готовы, мама?
– Только току приколоть.
– Не делайте без меня, – крикнула Наташа: – вы не сумеете!
– Да уж десять.
На бале решено было быть в половине одиннадцатого, a надо было еще Наташе одеться и заехать к Таврическому саду.
Окончив прическу, Наташа в коротенькой юбке, из под которой виднелись бальные башмачки, и в материнской кофточке, подбежала к Соне, осмотрела ее и потом побежала к матери. Поворачивая ей голову, она приколола току, и, едва успев поцеловать ее седые волосы, опять побежала к девушкам, подшивавшим ей юбку.
Дело стояло за Наташиной юбкой, которая была слишком длинна; ее подшивали две девушки, обкусывая торопливо нитки. Третья, с булавками в губах и зубах, бегала от графини к Соне; четвертая держала на высоко поднятой руке всё дымковое платье.
– Мавруша, скорее, голубушка!
– Дайте наперсток оттуда, барышня.
– Скоро ли, наконец? – сказал граф, входя из за двери. – Вот вам духи. Перонская уж заждалась.
– Готово, барышня, – говорила горничная, двумя пальцами поднимая подшитое дымковое платье и что то обдувая и потряхивая, высказывая этим жестом сознание воздушности и чистоты того, что она держала.
Наташа стала надевать платье.
– Сейчас, сейчас, не ходи, папа, – крикнула она отцу, отворившему дверь, еще из под дымки юбки, закрывавшей всё ее лицо. Соня захлопнула дверь. Через минуту графа впустили. Он был в синем фраке, чулках и башмаках, надушенный и припомаженный.
– Ах, папа, ты как хорош, прелесть! – сказала Наташа, стоя посреди комнаты и расправляя складки дымки.
– Позвольте, барышня, позвольте, – говорила девушка, стоя на коленях, обдергивая платье и с одной стороны рта на другую переворачивая языком булавки.
– Воля твоя! – с отчаянием в голосе вскрикнула Соня, оглядев платье Наташи, – воля твоя, опять длинно!
Наташа отошла подальше, чтоб осмотреться в трюмо. Платье было длинно.
– Ей Богу, сударыня, ничего не длинно, – сказала Мавруша, ползавшая по полу за барышней.
– Ну длинно, так заметаем, в одну минутую заметаем, – сказала решительная Дуняша, из платочка на груди вынимая иголку и опять на полу принимаясь за работу.
В это время застенчиво, тихими шагами, вошла графиня в своей токе и бархатном платье.
– Уу! моя красавица! – закричал граф, – лучше вас всех!… – Он хотел обнять ее, но она краснея отстранилась, чтоб не измяться.
– Мама, больше на бок току, – проговорила Наташа. – Я переколю, и бросилась вперед, а девушки, подшивавшие, не успевшие за ней броситься, оторвали кусочек дымки.
– Боже мой! Что ж это такое? Я ей Богу не виновата…
– Ничего, заметаю, не видно будет, – говорила Дуняша.
– Красавица, краля то моя! – сказала из за двери вошедшая няня. – А Сонюшка то, ну красавицы!…
В четверть одиннадцатого наконец сели в кареты и поехали. Но еще нужно было заехать к Таврическому саду.
Перонская была уже готова. Несмотря на ее старость и некрасивость, у нее происходило точно то же, что у Ростовых, хотя не с такой торопливостью (для нее это было дело привычное), но также было надушено, вымыто, напудрено старое, некрасивое тело, также старательно промыто за ушами, и даже, и так же, как у Ростовых, старая горничная восторженно любовалась нарядом своей госпожи, когда она в желтом платье с шифром вышла в гостиную. Перонская похвалила туалеты Ростовых.
Ростовы похвалили ее вкус и туалет, и, бережа прически и платья, в одиннадцать часов разместились по каретам и поехали.
Наташа с утра этого дня не имела ни минуты свободы, и ни разу не успела подумать о том, что предстоит ей.
В сыром, холодном воздухе, в тесноте и неполной темноте колыхающейся кареты, она в первый раз живо представила себе то, что ожидает ее там, на бале, в освещенных залах – музыка, цветы, танцы, государь, вся блестящая молодежь Петербурга. То, что ее ожидало, было так прекрасно, что она не верила даже тому, что это будет: так это было несообразно с впечатлением холода, тесноты и темноты кареты. Она поняла всё то, что ее ожидает, только тогда, когда, пройдя по красному сукну подъезда, она вошла в сени, сняла шубу и пошла рядом с Соней впереди матери между цветами по освещенной лестнице. Только тогда она вспомнила, как ей надо было себя держать на бале и постаралась принять ту величественную манеру, которую она считала необходимой для девушки на бале. Но к счастью ее она почувствовала, что глаза ее разбегались: она ничего не видела ясно, пульс ее забил сто раз в минуту, и кровь стала стучать у ее сердца. Она не могла принять той манеры, которая бы сделала ее смешною, и шла, замирая от волнения и стараясь всеми силами только скрыть его. И эта то была та самая манера, которая более всего шла к ней. Впереди и сзади их, так же тихо переговариваясь и так же в бальных платьях, входили гости. Зеркала по лестнице отражали дам в белых, голубых, розовых платьях, с бриллиантами и жемчугами на открытых руках и шеях.
Наташа смотрела в зеркала и в отражении не могла отличить себя от других. Всё смешивалось в одну блестящую процессию. При входе в первую залу, равномерный гул голосов, шагов, приветствий – оглушил Наташу; свет и блеск еще более ослепил ее. Хозяин и хозяйка, уже полчаса стоявшие у входной двери и говорившие одни и те же слова входившим: «charme de vous voir», [в восхищении, что вижу вас,] так же встретили и Ростовых с Перонской.
Две девочки в белых платьях, с одинаковыми розами в черных волосах, одинаково присели, но невольно хозяйка остановила дольше свой взгляд на тоненькой Наташе. Она посмотрела на нее, и ей одной особенно улыбнулась в придачу к своей хозяйской улыбке. Глядя на нее, хозяйка вспомнила, может быть, и свое золотое, невозвратное девичье время, и свой первый бал. Хозяин тоже проводил глазами Наташу и спросил у графа, которая его дочь?
– Charmante! [Очаровательна!] – сказал он, поцеловав кончики своих пальцев.
В зале стояли гости, теснясь у входной двери, ожидая государя. Графиня поместилась в первых рядах этой толпы. Наташа слышала и чувствовала, что несколько голосов спросили про нее и смотрели на нее. Она поняла, что она понравилась тем, которые обратили на нее внимание, и это наблюдение несколько успокоило ее.
«Есть такие же, как и мы, есть и хуже нас» – подумала она.
Перонская называла графине самых значительных лиц, бывших на бале.
– Вот это голландский посланик, видите, седой, – говорила Перонская, указывая на старичка с серебряной сединой курчавых, обильных волос, окруженного дамами, которых он чему то заставлял смеяться.
– А вот она, царица Петербурга, графиня Безухая, – говорила она, указывая на входившую Элен.
– Как хороша! Не уступит Марье Антоновне; смотрите, как за ней увиваются и молодые и старые. И хороша, и умна… Говорят принц… без ума от нее. А вот эти две, хоть и нехороши, да еще больше окружены.
Она указала на проходивших через залу даму с очень некрасивой дочерью.
– Это миллионерка невеста, – сказала Перонская. – А вот и женихи.
– Это брат Безуховой – Анатоль Курагин, – сказала она, указывая на красавца кавалергарда, который прошел мимо их, с высоты поднятой головы через дам глядя куда то. – Как хорош! неправда ли? Говорят, женят его на этой богатой. .И ваш то соusin, Друбецкой, тоже очень увивается. Говорят, миллионы. – Как же, это сам французский посланник, – отвечала она о Коленкуре на вопрос графини, кто это. – Посмотрите, как царь какой нибудь. А всё таки милы, очень милы французы. Нет милей для общества. А вот и она! Нет, всё лучше всех наша Марья то Антоновна! И как просто одета. Прелесть! – А этот то, толстый, в очках, фармазон всемирный, – сказала Перонская, указывая на Безухова. – С женою то его рядом поставьте: то то шут гороховый!
Пьер шел, переваливаясь своим толстым телом, раздвигая толпу, кивая направо и налево так же небрежно и добродушно, как бы он шел по толпе базара. Он продвигался через толпу, очевидно отыскивая кого то.
Наташа с радостью смотрела на знакомое лицо Пьера, этого шута горохового, как называла его Перонская, и знала, что Пьер их, и в особенности ее, отыскивал в толпе. Пьер обещал ей быть на бале и представить ей кавалеров.
Но, не дойдя до них, Безухой остановился подле невысокого, очень красивого брюнета в белом мундире, который, стоя у окна, разговаривал с каким то высоким мужчиной в звездах и ленте. Наташа тотчас же узнала невысокого молодого человека в белом мундире: это был Болконский, который показался ей очень помолодевшим, повеселевшим и похорошевшим.
– Вот еще знакомый, Болконский, видите, мама? – сказала Наташа, указывая на князя Андрея. – Помните, он у нас ночевал в Отрадном.
– А, вы его знаете? – сказала Перонская. – Терпеть не могу. Il fait a present la pluie et le beau temps. [От него теперь зависит дождливая или хорошая погода. (Франц. пословица, имеющая значение, что он имеет успех.)] И гордость такая, что границ нет! По папеньке пошел. И связался с Сперанским, какие то проекты пишут. Смотрите, как с дамами обращается! Она с ним говорит, а он отвернулся, – сказала она, указывая на него. – Я бы его отделала, если бы он со мной так поступил, как с этими дамами.
Вдруг всё зашевелилось, толпа заговорила, подвинулась, опять раздвинулась, и между двух расступившихся рядов, при звуках заигравшей музыки, вошел государь. За ним шли хозяин и хозяйка. Государь шел быстро, кланяясь направо и налево, как бы стараясь скорее избавиться от этой первой минуты встречи. Музыканты играли Польской, известный тогда по словам, сочиненным на него. Слова эти начинались: «Александр, Елизавета, восхищаете вы нас…» Государь прошел в гостиную, толпа хлынула к дверям; несколько лиц с изменившимися выражениями поспешно прошли туда и назад. Толпа опять отхлынула от дверей гостиной, в которой показался государь, разговаривая с хозяйкой. Какой то молодой человек с растерянным видом наступал на дам, прося их посторониться. Некоторые дамы с лицами, выражавшими совершенную забывчивость всех условий света, портя свои туалеты, теснились вперед. Мужчины стали подходить к дамам и строиться в пары Польского.
Всё расступилось, и государь, улыбаясь и не в такт ведя за руку хозяйку дома, вышел из дверей гостиной. За ним шли хозяин с М. А. Нарышкиной, потом посланники, министры, разные генералы, которых не умолкая называла Перонская. Больше половины дам имели кавалеров и шли или приготовлялись итти в Польской. Наташа чувствовала, что она оставалась с матерью и Соней в числе меньшей части дам, оттесненных к стене и не взятых в Польской. Она стояла, опустив свои тоненькие руки, и с мерно поднимающейся, чуть определенной грудью, сдерживая дыхание, блестящими, испуганными глазами глядела перед собой, с выражением готовности на величайшую радость и на величайшее горе. Ее не занимали ни государь, ни все важные лица, на которых указывала Перонская – у ней была одна мысль: «неужели так никто не подойдет ко мне, неужели я не буду танцовать между первыми, неужели меня не заметят все эти мужчины, которые теперь, кажется, и не видят меня, а ежели смотрят на меня, то смотрят с таким выражением, как будто говорят: А! это не она, так и нечего смотреть. Нет, это не может быть!» – думала она. – «Они должны же знать, как мне хочется танцовать, как я отлично танцую, и как им весело будет танцовать со мною».
Звуки Польского, продолжавшегося довольно долго, уже начинали звучать грустно, – воспоминанием в ушах Наташи. Ей хотелось плакать. Перонская отошла от них. Граф был на другом конце залы, графиня, Соня и она стояли одни как в лесу в этой чуждой толпе, никому неинтересные и ненужные. Князь Андрей прошел с какой то дамой мимо них, очевидно их не узнавая. Красавец Анатоль, улыбаясь, что то говорил даме, которую он вел, и взглянул на лицо Наташе тем взглядом, каким глядят на стены. Борис два раза прошел мимо них и всякий раз отворачивался. Берг с женою, не танцовавшие, подошли к ним.
Наташе показалось оскорбительно это семейное сближение здесь, на бале, как будто не было другого места для семейных разговоров, кроме как на бале. Она не слушала и не смотрела на Веру, что то говорившую ей про свое зеленое платье.
Наконец государь остановился подле своей последней дамы (он танцовал с тремя), музыка замолкла; озабоченный адъютант набежал на Ростовых, прося их еще куда то посторониться, хотя они стояли у стены, и с хор раздались отчетливые, осторожные и увлекательно мерные звуки вальса. Государь с улыбкой взглянул на залу. Прошла минута – никто еще не начинал. Адъютант распорядитель подошел к графине Безуховой и пригласил ее. Она улыбаясь подняла руку и положила ее, не глядя на него, на плечо адъютанта. Адъютант распорядитель, мастер своего дела, уверенно, неторопливо и мерно, крепко обняв свою даму, пустился с ней сначала глиссадом, по краю круга, на углу залы подхватил ее левую руку, повернул ее, и из за всё убыстряющихся звуков музыки слышны были только мерные щелчки шпор быстрых и ловких ног адъютанта, и через каждые три такта на повороте как бы вспыхивало развеваясь бархатное платье его дамы. Наташа смотрела на них и готова была плакать, что это не она танцует этот первый тур вальса.
Князь Андрей в своем полковничьем, белом (по кавалерии) мундире, в чулках и башмаках, оживленный и веселый, стоял в первых рядах круга, недалеко от Ростовых. Барон Фиргоф говорил с ним о завтрашнем, предполагаемом первом заседании государственного совета. Князь Андрей, как человек близкий Сперанскому и участвующий в работах законодательной комиссии, мог дать верные сведения о заседании завтрашнего дня, о котором ходили различные толки. Но он не слушал того, что ему говорил Фиргоф, и глядел то на государя, то на сбиравшихся танцовать кавалеров, не решавшихся вступить в круг.
Князь Андрей наблюдал этих робевших при государе кавалеров и дам, замиравших от желания быть приглашенными.
Пьер подошел к князю Андрею и схватил его за руку.
– Вы всегда танцуете. Тут есть моя protegee [любимица], Ростова молодая, пригласите ее, – сказал он.
– Где? – спросил Болконский. – Виноват, – сказал он, обращаясь к барону, – этот разговор мы в другом месте доведем до конца, а на бале надо танцовать. – Он вышел вперед, по направлению, которое ему указывал Пьер. Отчаянное, замирающее лицо Наташи бросилось в глаза князю Андрею. Он узнал ее, угадал ее чувство, понял, что она была начинающая, вспомнил ее разговор на окне и с веселым выражением лица подошел к графине Ростовой.
– Позвольте вас познакомить с моей дочерью, – сказала графиня, краснея.
– Я имею удовольствие быть знакомым, ежели графиня помнит меня, – сказал князь Андрей с учтивым и низким поклоном, совершенно противоречащим замечаниям Перонской о его грубости, подходя к Наташе, и занося руку, чтобы обнять ее талию еще прежде, чем он договорил приглашение на танец. Он предложил тур вальса. То замирающее выражение лица Наташи, готовое на отчаяние и на восторг, вдруг осветилось счастливой, благодарной, детской улыбкой.
«Давно я ждала тебя», как будто сказала эта испуганная и счастливая девочка, своей проявившейся из за готовых слез улыбкой, поднимая свою руку на плечо князя Андрея. Они были вторая пара, вошедшая в круг. Князь Андрей был одним из лучших танцоров своего времени. Наташа танцовала превосходно. Ножки ее в бальных атласных башмачках быстро, легко и независимо от нее делали свое дело, а лицо ее сияло восторгом счастия. Ее оголенные шея и руки были худы и некрасивы. В сравнении с плечами Элен, ее плечи были худы, грудь неопределенна, руки тонки; но на Элен был уже как будто лак от всех тысяч взглядов, скользивших по ее телу, а Наташа казалась девочкой, которую в первый раз оголили, и которой бы очень стыдно это было, ежели бы ее не уверили, что это так необходимо надо.
Князь Андрей любил танцовать, и желая поскорее отделаться от политических и умных разговоров, с которыми все обращались к нему, и желая поскорее разорвать этот досадный ему круг смущения, образовавшегося от присутствия государя, пошел танцовать и выбрал Наташу, потому что на нее указал ему Пьер и потому, что она первая из хорошеньких женщин попала ему на глаза; но едва он обнял этот тонкий, подвижной стан, и она зашевелилась так близко от него и улыбнулась так близко ему, вино ее прелести ударило ему в голову: он почувствовал себя ожившим и помолодевшим, когда, переводя дыханье и оставив ее, остановился и стал глядеть на танцующих.
После князя Андрея к Наташе подошел Борис, приглашая ее на танцы, подошел и тот танцор адъютант, начавший бал, и еще молодые люди, и Наташа, передавая своих излишних кавалеров Соне, счастливая и раскрасневшаяся, не переставала танцовать целый вечер. Она ничего не заметила и не видала из того, что занимало всех на этом бале. Она не только не заметила, как государь долго говорил с французским посланником, как он особенно милостиво говорил с такой то дамой, как принц такой то и такой то сделали и сказали то то, как Элен имела большой успех и удостоилась особенного внимания такого то; она не видала даже государя и заметила, что он уехал только потому, что после его отъезда бал более оживился. Один из веселых котильонов, перед ужином, князь Андрей опять танцовал с Наташей. Он напомнил ей о их первом свиданьи в отрадненской аллее и о том, как она не могла заснуть в лунную ночь, и как он невольно слышал ее. Наташа покраснела при этом напоминании и старалась оправдаться, как будто было что то стыдное в том чувстве, в котором невольно подслушал ее князь Андрей.
Князь Андрей, как все люди, выросшие в свете, любил встречать в свете то, что не имело на себе общего светского отпечатка. И такова была Наташа, с ее удивлением, радостью и робостью и даже ошибками во французском языке. Он особенно нежно и бережно обращался и говорил с нею. Сидя подле нее, разговаривая с ней о самых простых и ничтожных предметах, князь Андрей любовался на радостный блеск ее глаз и улыбки, относившейся не к говоренным речам, а к ее внутреннему счастию. В то время, как Наташу выбирали и она с улыбкой вставала и танцовала по зале, князь Андрей любовался в особенности на ее робкую грацию. В середине котильона Наташа, окончив фигуру, еще тяжело дыша, подходила к своему месту. Новый кавалер опять пригласил ее. Она устала и запыхалась, и видимо подумала отказаться, но тотчас опять весело подняла руку на плечо кавалера и улыбнулась князю Андрею.
«Я бы рада была отдохнуть и посидеть с вами, я устала; но вы видите, как меня выбирают, и я этому рада, и я счастлива, и я всех люблю, и мы с вами всё это понимаем», и еще многое и многое сказала эта улыбка. Когда кавалер оставил ее, Наташа побежала через залу, чтобы взять двух дам для фигур.
«Ежели она подойдет прежде к своей кузине, а потом к другой даме, то она будет моей женой», сказал совершенно неожиданно сам себе князь Андрей, глядя на нее. Она подошла прежде к кузине.
«Какой вздор иногда приходит в голову! подумал князь Андрей; но верно только то, что эта девушка так мила, так особенна, что она не протанцует здесь месяца и выйдет замуж… Это здесь редкость», думал он, когда Наташа, поправляя откинувшуюся у корсажа розу, усаживалась подле него.
В конце котильона старый граф подошел в своем синем фраке к танцующим. Он пригласил к себе князя Андрея и спросил у дочери, весело ли ей? Наташа не ответила и только улыбнулась такой улыбкой, которая с упреком говорила: «как можно было спрашивать об этом?»
– Так весело, как никогда в жизни! – сказала она, и князь Андрей заметил, как быстро поднялись было ее худые руки, чтобы обнять отца и тотчас же опустились. Наташа была так счастлива, как никогда еще в жизни. Она была на той высшей ступени счастия, когда человек делается вполне доверчив и не верит в возможность зла, несчастия и горя.
Пьер на этом бале в первый раз почувствовал себя оскорбленным тем положением, которое занимала его жена в высших сферах. Он был угрюм и рассеян. Поперек лба его была широкая складка, и он, стоя у окна, смотрел через очки, никого не видя.
Наташа, направляясь к ужину, прошла мимо его.
Мрачное, несчастное лицо Пьера поразило ее. Она остановилась против него. Ей хотелось помочь ему, передать ему излишек своего счастия.
– Как весело, граф, – сказала она, – не правда ли?
Пьер рассеянно улыбнулся, очевидно не понимая того, что ему говорили.
– Да, я очень рад, – сказал он.
«Как могут они быть недовольны чем то, думала Наташа. Особенно такой хороший, как этот Безухов?» На глаза Наташи все бывшие на бале были одинаково добрые, милые, прекрасные люди, любящие друг друга: никто не мог обидеть друг друга, и потому все должны были быть счастливы.
На другой день князь Андрей вспомнил вчерашний бал, но не на долго остановился на нем мыслями. «Да, очень блестящий был бал. И еще… да, Ростова очень мила. Что то в ней есть свежее, особенное, не петербургское, отличающее ее». Вот всё, что он думал о вчерашнем бале, и напившись чаю, сел за работу.
Но от усталости или бессонницы (день был нехороший для занятий, и князь Андрей ничего не мог делать) он всё критиковал сам свою работу, как это часто с ним бывало, и рад был, когда услыхал, что кто то приехал.
Приехавший был Бицкий, служивший в различных комиссиях, бывавший во всех обществах Петербурга, страстный поклонник новых идей и Сперанского и озабоченный вестовщик Петербурга, один из тех людей, которые выбирают направление как платье – по моде, но которые по этому то кажутся самыми горячими партизанами направлений. Он озабоченно, едва успев снять шляпу, вбежал к князю Андрею и тотчас же начал говорить. Он только что узнал подробности заседания государственного совета нынешнего утра, открытого государем, и с восторгом рассказывал о том. Речь государя была необычайна. Это была одна из тех речей, которые произносятся только конституционными монархами. «Государь прямо сказал, что совет и сенат суть государственные сословия ; он сказал, что правление должно иметь основанием не произвол, а твердые начала . Государь сказал, что финансы должны быть преобразованы и отчеты быть публичны», рассказывал Бицкий, ударяя на известные слова и значительно раскрывая глаза.
– Да, нынешнее событие есть эра, величайшая эра в нашей истории, – заключил он.
Князь Андрей слушал рассказ об открытии государственного совета, которого он ожидал с таким нетерпением и которому приписывал такую важность, и удивлялся, что событие это теперь, когда оно совершилось, не только не трогало его, но представлялось ему более чем ничтожным. Он с тихой насмешкой слушал восторженный рассказ Бицкого. Самая простая мысль приходила ему в голову: «Какое дело мне и Бицкому, какое дело нам до того, что государю угодно было сказать в совете! Разве всё это может сделать меня счастливее и лучше?»
И это простое рассуждение вдруг уничтожило для князя Андрея весь прежний интерес совершаемых преобразований. В этот же день князь Андрей должен был обедать у Сперанского «en petit comite«, [в маленьком собрании,] как ему сказал хозяин, приглашая его. Обед этот в семейном и дружеском кругу человека, которым он так восхищался, прежде очень интересовал князя Андрея, тем более что до сих пор он не видал Сперанского в его домашнем быту; но теперь ему не хотелось ехать.
В назначенный час обеда, однако, князь Андрей уже входил в собственный, небольшой дом Сперанского у Таврического сада. В паркетной столовой небольшого домика, отличавшегося необыкновенной чистотой (напоминающей монашескую чистоту) князь Андрей, несколько опоздавший, уже нашел в пять часов собравшееся всё общество этого petit comite, интимных знакомых Сперанского. Дам не было никого кроме маленькой дочери Сперанского (с длинным лицом, похожим на отца) и ее гувернантки. Гости были Жерве, Магницкий и Столыпин. Еще из передней князь Андрей услыхал громкие голоса и звонкий, отчетливый хохот – хохот, похожий на тот, каким смеются на сцене. Кто то голосом, похожим на голос Сперанского, отчетливо отбивал: ха… ха… ха… Князь Андрей никогда не слыхал смеха Сперанского, и этот звонкий, тонкий смех государственного человека странно поразил его.
Князь Андрей вошел в столовую. Всё общество стояло между двух окон у небольшого стола с закуской. Сперанский в сером фраке с звездой, очевидно в том еще белом жилете и высоком белом галстухе, в которых он был в знаменитом заседании государственного совета, с веселым лицом стоял у стола. Гости окружали его. Магницкий, обращаясь к Михайлу Михайловичу, рассказывал анекдот. Сперанский слушал, вперед смеясь тому, что скажет Магницкий. В то время как князь Андрей вошел в комнату, слова Магницкого опять заглушились смехом. Громко басил Столыпин, пережевывая кусок хлеба с сыром; тихим смехом шипел Жерве, и тонко, отчетливо смеялся Сперанский.
Сперанский, всё еще смеясь, подал князю Андрею свою белую, нежную руку.
– Очень рад вас видеть, князь, – сказал он. – Минутку… обратился он к Магницкому, прерывая его рассказ. – У нас нынче уговор: обед удовольствия, и ни слова про дела. – И он опять обратился к рассказчику, и опять засмеялся.
Князь Андрей с удивлением и грустью разочарования слушал его смех и смотрел на смеющегося Сперанского. Это был не Сперанский, а другой человек, казалось князю Андрею. Всё, что прежде таинственно и привлекательно представлялось князю Андрею в Сперанском, вдруг стало ему ясно и непривлекательно.
За столом разговор ни на мгновение не умолкал и состоял как будто бы из собрания смешных анекдотов. Еще Магницкий не успел докончить своего рассказа, как уж кто то другой заявил свою готовность рассказать что то, что было еще смешнее. Анекдоты большею частью касались ежели не самого служебного мира, то лиц служебных. Казалось, что в этом обществе так окончательно было решено ничтожество этих лиц, что единственное отношение к ним могло быть только добродушно комическое. Сперанский рассказал, как на совете сегодняшнего утра на вопрос у глухого сановника о его мнении, сановник этот отвечал, что он того же мнения. Жерве рассказал целое дело о ревизии, замечательное по бессмыслице всех действующих лиц. Столыпин заикаясь вмешался в разговор и с горячностью начал говорить о злоупотреблениях прежнего порядка вещей, угрожая придать разговору серьезный характер. Магницкий стал трунить над горячностью Столыпина, Жерве вставил шутку и разговор принял опять прежнее, веселое направление.
Очевидно, Сперанский после трудов любил отдохнуть и повеселиться в приятельском кружке, и все его гости, понимая его желание, старались веселить его и сами веселиться. Но веселье это казалось князю Андрею тяжелым и невеселым. Тонкий звук голоса Сперанского неприятно поражал его, и неумолкавший смех своей фальшивой нотой почему то оскорблял чувство князя Андрея. Князь Андрей не смеялся и боялся, что он будет тяжел для этого общества. Но никто не замечал его несоответственности общему настроению. Всем было, казалось, очень весело.
Он несколько раз желал вступить в разговор, но всякий раз его слово выбрасывалось вон, как пробка из воды; и он не мог шутить с ними вместе.
Ничего не было дурного или неуместного в том, что они говорили, всё было остроумно и могло бы быть смешно; но чего то, того самого, что составляет соль веселья, не только не было, но они и не знали, что оно бывает.
После обеда дочь Сперанского с своей гувернанткой встали. Сперанский приласкал дочь своей белой рукой, и поцеловал ее. И этот жест показался неестественным князю Андрею.
Мужчины, по английски, остались за столом и за портвейном. В середине начавшегося разговора об испанских делах Наполеона, одобряя которые, все были одного и того же мнения, князь Андрей стал противоречить им. Сперанский улыбнулся и, очевидно желая отклонить разговор от принятого направления, рассказал анекдот, не имеющий отношения к разговору. На несколько мгновений все замолкли.
Посидев за столом, Сперанский закупорил бутылку с вином и сказав: «нынче хорошее винцо в сапожках ходит», отдал слуге и встал. Все встали и также шумно разговаривая пошли в гостиную. Сперанскому подали два конверта, привезенные курьером. Он взял их и прошел в кабинет. Как только он вышел, общее веселье замолкло и гости рассудительно и тихо стали переговариваться друг с другом.
– Ну, теперь декламация! – сказал Сперанский, выходя из кабинета. – Удивительный талант! – обратился он к князю Андрею. Магницкий тотчас же стал в позу и начал говорить французские шутливые стихи, сочиненные им на некоторых известных лиц Петербурга, и несколько раз был прерываем аплодисментами. Князь Андрей, по окончании стихов, подошел к Сперанскому, прощаясь с ним.
– Куда вы так рано? – сказал Сперанский.
– Я обещал на вечер…
Они помолчали. Князь Андрей смотрел близко в эти зеркальные, непропускающие к себе глаза и ему стало смешно, как он мог ждать чего нибудь от Сперанского и от всей своей деятельности, связанной с ним, и как мог он приписывать важность тому, что делал Сперанский. Этот аккуратный, невеселый смех долго не переставал звучать в ушах князя Андрея после того, как он уехал от Сперанского.
Вернувшись домой, князь Андрей стал вспоминать свою петербургскую жизнь за эти четыре месяца, как будто что то новое. Он вспоминал свои хлопоты, искательства, историю своего проекта военного устава, который был принят к сведению и о котором старались умолчать единственно потому, что другая работа, очень дурная, была уже сделана и представлена государю; вспомнил о заседаниях комитета, членом которого был Берг; вспомнил, как в этих заседаниях старательно и продолжительно обсуживалось всё касающееся формы и процесса заседаний комитета, и как старательно и кратко обходилось всё что касалось сущности дела. Он вспомнил о своей законодательной работе, о том, как он озабоченно переводил на русский язык статьи римского и французского свода, и ему стало совестно за себя. Потом он живо представил себе Богучарово, свои занятия в деревне, свою поездку в Рязань, вспомнил мужиков, Дрона старосту, и приложив к ним права лиц, которые он распределял по параграфам, ему стало удивительно, как он мог так долго заниматься такой праздной работой.
На другой день князь Андрей поехал с визитами в некоторые дома, где он еще не был, и в том числе к Ростовым, с которыми он возобновил знакомство на последнем бале. Кроме законов учтивости, по которым ему нужно было быть у Ростовых, князю Андрею хотелось видеть дома эту особенную, оживленную девушку, которая оставила ему приятное воспоминание.
Наташа одна из первых встретила его. Она была в домашнем синем платье, в котором она показалась князю Андрею еще лучше, чем в бальном. Она и всё семейство Ростовых приняли князя Андрея, как старого друга, просто и радушно. Всё семейство, которое строго судил прежде князь Андрей, теперь показалось ему составленным из прекрасных, простых и добрых людей. Гостеприимство и добродушие старого графа, особенно мило поразительное в Петербурге, было таково, что князь Андрей не мог отказаться от обеда. «Да, это добрые, славные люди, думал Болконский, разумеется, не понимающие ни на волос того сокровища, которое они имеют в Наташе; но добрые люди, которые составляют наилучший фон для того, чтобы на нем отделялась эта особенно поэтическая, переполненная жизни, прелестная девушка!»
Князь Андрей чувствовал в Наташе присутствие совершенно чуждого для него, особенного мира, преисполненного каких то неизвестных ему радостей, того чуждого мира, который еще тогда, в отрадненской аллее и на окне, в лунную ночь, так дразнил его. Теперь этот мир уже более не дразнил его, не был чуждый мир; но он сам, вступив в него, находил в нем новое для себя наслаждение.
После обеда Наташа, по просьбе князя Андрея, пошла к клавикордам и стала петь. Князь Андрей стоял у окна, разговаривая с дамами, и слушал ее. В середине фразы князь Андрей замолчал и почувствовал неожиданно, что к его горлу подступают слезы, возможность которых он не знал за собой. Он посмотрел на поющую Наташу, и в душе его произошло что то новое и счастливое. Он был счастлив и ему вместе с тем было грустно. Ему решительно не об чем было плакать, но он готов был плакать. О чем? О прежней любви? О маленькой княгине? О своих разочарованиях?… О своих надеждах на будущее?… Да и нет. Главное, о чем ему хотелось плакать, была вдруг живо сознанная им страшная противуположность между чем то бесконечно великим и неопределимым, бывшим в нем, и чем то узким и телесным, чем он был сам и даже была она. Эта противуположность томила и радовала его во время ее пения.
Только что Наташа кончила петь, она подошла к нему и спросила его, как ему нравится ее голос? Она спросила это и смутилась уже после того, как она это сказала, поняв, что этого не надо было спрашивать. Он улыбнулся, глядя на нее, и сказал, что ему нравится ее пение так же, как и всё, что она делает.
Князь Андрей поздно вечером уехал от Ростовых. Он лег спать по привычке ложиться, но увидал скоро, что он не может спать. Он то, зажжа свечку, сидел в постели, то вставал, то опять ложился, нисколько не тяготясь бессонницей: так радостно и ново ему было на душе, как будто он из душной комнаты вышел на вольный свет Божий. Ему и в голову не приходило, чтобы он был влюблен в Ростову; он не думал о ней; он только воображал ее себе, и вследствие этого вся жизнь его представлялась ему в новом свете. «Из чего я бьюсь, из чего я хлопочу в этой узкой, замкнутой рамке, когда жизнь, вся жизнь со всеми ее радостями открыта мне?» говорил он себе. И он в первый раз после долгого времени стал делать счастливые планы на будущее. Он решил сам собою, что ему надо заняться воспитанием своего сына, найдя ему воспитателя и поручив ему; потом надо выйти в отставку и ехать за границу, видеть Англию, Швейцарию, Италию. «Мне надо пользоваться своей свободой, пока так много в себе чувствую силы и молодости, говорил он сам себе. Пьер был прав, говоря, что надо верить в возможность счастия, чтобы быть счастливым, и я теперь верю в него. Оставим мертвым хоронить мертвых, а пока жив, надо жить и быть счастливым», думал он.
В одно утро полковник Адольф Берг, которого Пьер знал, как знал всех в Москве и Петербурге, в чистеньком с иголочки мундире, с припомаженными наперед височками, как носил государь Александр Павлович, приехал к нему.
– Я сейчас был у графини, вашей супруги, и был так несчастлив, что моя просьба не могла быть исполнена; надеюсь, что у вас, граф, я буду счастливее, – сказал он, улыбаясь.
– Что вам угодно, полковник? Я к вашим услугам.
– Я теперь, граф, уж совершенно устроился на новой квартире, – сообщил Берг, очевидно зная, что это слышать не могло не быть приятно; – и потому желал сделать так, маленький вечерок для моих и моей супруги знакомых. (Он еще приятнее улыбнулся.) Я хотел просить графиню и вас сделать мне честь пожаловать к нам на чашку чая и… на ужин.
– Только графиня Елена Васильевна, сочтя для себя унизительным общество каких то Бергов, могла иметь жестокость отказаться от такого приглашения. – Берг так ясно объяснил, почему он желает собрать у себя небольшое и хорошее общество, и почему это ему будет приятно, и почему он для карт и для чего нибудь дурного жалеет деньги, но для хорошего общества готов и понести расходы, что Пьер не мог отказаться и обещался быть.
– Только не поздно, граф, ежели смею просить, так без 10 ти минут в восемь, смею просить. Партию составим, генерал наш будет. Он очень добр ко мне. Поужинаем, граф. Так сделайте одолжение.
Противно своей привычке опаздывать, Пьер в этот день вместо восьми без 10 ти минут, приехал к Бергам в восемь часов без четверти.
Берги, припася, что нужно было для вечера, уже готовы были к приему гостей.
В новом, чистом, светлом, убранном бюстиками и картинками и новой мебелью, кабинете сидел Берг с женою. Берг, в новеньком, застегнутом мундире сидел возле жены, объясняя ей, что всегда можно и должно иметь знакомства людей, которые выше себя, потому что тогда только есть приятность от знакомств. – «Переймешь что нибудь, можешь попросить о чем нибудь. Вот посмотри, как я жил с первых чинов (Берг жизнь свою считал не годами, а высочайшими наградами). Мои товарищи теперь еще ничто, а я на ваканции полкового командира, я имею счастье быть вашим мужем (он встал и поцеловал руку Веры, но по пути к ней отогнул угол заворотившегося ковра). И чем я приобрел всё это? Главное умением выбирать свои знакомства. Само собой разумеется, что надо быть добродетельным и аккуратным».
Берг улыбнулся с сознанием своего превосходства над слабой женщиной и замолчал, подумав, что всё таки эта милая жена его есть слабая женщина, которая не может постигнуть всего того, что составляет достоинство мужчины, – ein Mann zu sein [быть мужчиной]. Вера в то же время также улыбнулась с сознанием своего превосходства над добродетельным, хорошим мужем, но который всё таки ошибочно, как и все мужчины, по понятию Веры, понимал жизнь. Берг, судя по своей жене, считал всех женщин слабыми и глупыми. Вера, судя по одному своему мужу и распространяя это замечание, полагала, что все мужчины приписывают только себе разум, а вместе с тем ничего не понимают, горды и эгоисты.
Берг встал и, обняв свою жену осторожно, чтобы не измять кружевную пелеринку, за которую он дорого заплатил, поцеловал ее в середину губ.
– Одно только, чтобы у нас не было так скоро детей, – сказал он по бессознательной для себя филиации идей.
– Да, – отвечала Вера, – я совсем этого не желаю. Надо жить для общества.
– Точно такая была на княгине Юсуповой, – сказал Берг, с счастливой и доброй улыбкой, указывая на пелеринку.
В это время доложили о приезде графа Безухого. Оба супруга переглянулись самодовольной улыбкой, каждый себе приписывая честь этого посещения.
«Вот что значит уметь делать знакомства, подумал Берг, вот что значит уметь держать себя!»
– Только пожалуйста, когда я занимаю гостей, – сказала Вера, – ты не перебивай меня, потому что я знаю чем занять каждого, и в каком обществе что надо говорить.
Берг тоже улыбнулся.
– Нельзя же: иногда с мужчинами мужской разговор должен быть, – сказал он.
Пьер был принят в новенькой гостиной, в которой нигде сесть нельзя было, не нарушив симметрии, чистоты и порядка, и потому весьма понятно было и не странно, что Берг великодушно предлагал разрушить симметрию кресла, или дивана для дорогого гостя, и видимо находясь сам в этом отношении в болезненной нерешительности, предложил решение этого вопроса выбору гостя. Пьер расстроил симметрию, подвинув себе стул, и тотчас же Берг и Вера начали вечер, перебивая один другого и занимая гостя.
Вера, решив в своем уме, что Пьера надо занимать разговором о французском посольстве, тотчас же начала этот разговор. Берг, решив, что надобен и мужской разговор, перебил речь жены, затрогивая вопрос о войне с Австриею и невольно с общего разговора соскочил на личные соображения о тех предложениях, которые ему были деланы для участия в австрийском походе, и о тех причинах, почему он не принял их. Несмотря на то, что разговор был очень нескладный, и что Вера сердилась за вмешательство мужского элемента, оба супруга с удовольствием чувствовали, что, несмотря на то, что был только один гость, вечер был начат очень хорошо, и что вечер был, как две капли воды похож на всякий другой вечер с разговорами, чаем и зажженными свечами.
Вскоре приехал Борис, старый товарищ Берга. Он с некоторым оттенком превосходства и покровительства обращался с Бергом и Верой. За Борисом приехала дама с полковником, потом сам генерал, потом Ростовы, и вечер уже совершенно, несомненно стал похож на все вечера. Берг с Верой не могли удерживать радостной улыбки при виде этого движения по гостиной, при звуке этого бессвязного говора, шуршанья платьев и поклонов. Всё было, как и у всех, особенно похож был генерал, похваливший квартиру, потрепавший по плечу Берга, и с отеческим самоуправством распорядившийся постановкой бостонного стола. Генерал подсел к графу Илье Андреичу, как к самому знатному из гостей после себя. Старички с старичками, молодые с молодыми, хозяйка у чайного стола, на котором были точно такие же печенья в серебряной корзинке, какие были у Паниных на вечере, всё было совершенно так же, как у других.
Пьер, как один из почетнейших гостей, должен был сесть в бостон с Ильей Андреичем, генералом и полковником. Пьеру за бостонным столом пришлось сидеть против Наташи и странная перемена, происшедшая в ней со дня бала, поразила его. Наташа была молчалива, и не только не была так хороша, как она была на бале, но она была бы дурна, ежели бы она не имела такого кроткого и равнодушного ко всему вида.
«Что с ней?» подумал Пьер, взглянув на нее. Она сидела подле сестры у чайного стола и неохотно, не глядя на него, отвечала что то подсевшему к ней Борису. Отходив целую масть и забрав к удовольствию своего партнера пять взяток, Пьер, слышавший говор приветствий и звук чьих то шагов, вошедших в комнату во время сбора взяток, опять взглянул на нее.
«Что с ней сделалось?» еще удивленнее сказал он сам себе.
Князь Андрей с бережливо нежным выражением стоял перед нею и говорил ей что то. Она, подняв голову, разрумянившись и видимо стараясь удержать порывистое дыхание, смотрела на него. И яркий свет какого то внутреннего, прежде потушенного огня, опять горел в ней. Она вся преобразилась. Из дурной опять сделалась такою же, какою она была на бале.
Князь Андрей подошел к Пьеру и Пьер заметил новое, молодое выражение и в лице своего друга.
Пьер несколько раз пересаживался во время игры, то спиной, то лицом к Наташе, и во всё продолжение 6 ти роберов делал наблюдения над ней и своим другом.
«Что то очень важное происходит между ними», думал Пьер, и радостное и вместе горькое чувство заставляло его волноваться и забывать об игре.
После 6 ти роберов генерал встал, сказав, что эдак невозможно играть, и Пьер получил свободу. Наташа в одной стороне говорила с Соней и Борисом, Вера о чем то с тонкой улыбкой говорила с князем Андреем. Пьер подошел к своему другу и спросив не тайна ли то, что говорится, сел подле них. Вера, заметив внимание князя Андрея к Наташе, нашла, что на вечере, на настоящем вечере, необходимо нужно, чтобы были тонкие намеки на чувства, и улучив время, когда князь Андрей был один, начала с ним разговор о чувствах вообще и о своей сестре. Ей нужно было с таким умным (каким она считала князя Андрея) гостем приложить к делу свое дипломатическое искусство.
Когда Пьер подошел к ним, он заметил, что Вера находилась в самодовольном увлечении разговора, князь Андрей (что с ним редко бывало) казался смущен.
– Как вы полагаете? – с тонкой улыбкой говорила Вера. – Вы, князь, так проницательны и так понимаете сразу характер людей. Что вы думаете о Натали, может ли она быть постоянна в своих привязанностях, может ли она так, как другие женщины (Вера разумела себя), один раз полюбить человека и навсегда остаться ему верною? Это я считаю настоящею любовью. Как вы думаете, князь?
– Я слишком мало знаю вашу сестру, – отвечал князь Андрей с насмешливой улыбкой, под которой он хотел скрыть свое смущение, – чтобы решить такой тонкий вопрос; и потом я замечал, что чем менее нравится женщина, тем она бывает постояннее, – прибавил он и посмотрел на Пьера, подошедшего в это время к ним.
– Да это правда, князь; в наше время, – продолжала Вера (упоминая о нашем времени, как вообще любят упоминать ограниченные люди, полагающие, что они нашли и оценили особенности нашего времени и что свойства людей изменяются со временем), в наше время девушка имеет столько свободы, что le plaisir d'etre courtisee [удовольствие иметь поклонников] часто заглушает в ней истинное чувство. Et Nathalie, il faut l'avouer, y est tres sensible. [И Наталья, надо признаться, на это очень чувствительна.] Возвращение к Натали опять заставило неприятно поморщиться князя Андрея; он хотел встать, но Вера продолжала с еще более утонченной улыбкой.
– Я думаю, никто так не был courtisee [предметом ухаживанья], как она, – говорила Вера; – но никогда, до самого последнего времени никто серьезно ей не нравился. Вот вы знаете, граф, – обратилась она к Пьеру, – даже наш милый cousin Борис, который был, entre nous [между нами], очень и очень dans le pays du tendre… [в стране нежностей…]
Князь Андрей нахмурившись молчал.
– Вы ведь дружны с Борисом? – сказала ему Вера.
– Да, я его знаю…
– Он верно вам говорил про свою детскую любовь к Наташе?
– А была детская любовь? – вдруг неожиданно покраснев, спросил князь Андрей.
– Да. Vous savez entre cousin et cousine cette intimite mene quelquefois a l'amour: le cousinage est un dangereux voisinage, N'est ce pas? [Знаете, между двоюродным братом и сестрой эта близость приводит иногда к любви. Такое родство – опасное соседство. Не правда ли?]
– О, без сомнения, – сказал князь Андрей, и вдруг, неестественно оживившись, он стал шутить с Пьером о том, как он должен быть осторожным в своем обращении с своими 50 ти летними московскими кузинами, и в середине шутливого разговора встал и, взяв под руку Пьера, отвел его в сторону.
– Ну что? – сказал Пьер, с удивлением смотревший на странное оживление своего друга и заметивший взгляд, который он вставая бросил на Наташу.
– Мне надо, мне надо поговорить с тобой, – сказал князь Андрей. – Ты знаешь наши женские перчатки (он говорил о тех масонских перчатках, которые давались вновь избранному брату для вручения любимой женщине). – Я… Но нет, я после поговорю с тобой… – И с странным блеском в глазах и беспокойством в движениях князь Андрей подошел к Наташе и сел подле нее. Пьер видел, как князь Андрей что то спросил у нее, и она вспыхнув отвечала ему.
Но в это время Берг подошел к Пьеру, настоятельно упрашивая его принять участие в споре между генералом и полковником об испанских делах.
Берг был доволен и счастлив. Улыбка радости не сходила с его лица. Вечер был очень хорош и совершенно такой, как и другие вечера, которые он видел. Всё было похоже. И дамские, тонкие разговоры, и карты, и за картами генерал, возвышающий голос, и самовар, и печенье; но одного еще недоставало, того, что он всегда видел на вечерах, которым он желал подражать.
Недоставало громкого разговора между мужчинами и спора о чем нибудь важном и умном. Генерал начал этот разговор и к нему то Берг привлек Пьера.
На другой день князь Андрей поехал к Ростовым обедать, так как его звал граф Илья Андреич, и провел у них целый день.
Все в доме чувствовали для кого ездил князь Андрей, и он, не скрывая, целый день старался быть с Наташей. Не только в душе Наташи испуганной, но счастливой и восторженной, но во всем доме чувствовался страх перед чем то важным, имеющим совершиться. Графиня печальными и серьезно строгими глазами смотрела на князя Андрея, когда он говорил с Наташей, и робко и притворно начинала какой нибудь ничтожный разговор, как скоро он оглядывался на нее. Соня боялась уйти от Наташи и боялась быть помехой, когда она была с ними. Наташа бледнела от страха ожидания, когда она на минуты оставалась с ним с глазу на глаз. Князь Андрей поражал ее своей робостью. Она чувствовала, что ему нужно было сказать ей что то, но что он не мог на это решиться.
Когда вечером князь Андрей уехал, графиня подошла к Наташе и шопотом сказала:
– Ну что?
– Мама, ради Бога ничего не спрашивайте у меня теперь. Это нельзя говорить, – сказала Наташа.
Но несмотря на то, в этот вечер Наташа, то взволнованная, то испуганная, с останавливающимися глазами лежала долго в постели матери. То она рассказывала ей, как он хвалил ее, то как он говорил, что поедет за границу, то, что он спрашивал, где они будут жить это лето, то как он спрашивал ее про Бориса.
– Но такого, такого… со мной никогда не бывало! – говорила она. – Только мне страшно при нем, мне всегда страшно при нем, что это значит? Значит, что это настоящее, да? Мама, вы спите?
– Нет, душа моя, мне самой страшно, – отвечала мать. – Иди.
– Все равно я не буду спать. Что за глупости спать? Maмаша, мамаша, такого со мной никогда не бывало! – говорила она с удивлением и испугом перед тем чувством, которое она сознавала в себе. – И могли ли мы думать!…
Наташе казалось, что еще когда она в первый раз увидала князя Андрея в Отрадном, она влюбилась в него. Ее как будто пугало это странное, неожиданное счастье, что тот, кого она выбрала еще тогда (она твердо была уверена в этом), что тот самый теперь опять встретился ей, и, как кажется, неравнодушен к ней. «И надо было ему нарочно теперь, когда мы здесь, приехать в Петербург. И надо было нам встретиться на этом бале. Всё это судьба. Ясно, что это судьба, что всё это велось к этому. Еще тогда, как только я увидала его, я почувствовала что то особенное».
– Что ж он тебе еще говорил? Какие стихи то эти? Прочти… – задумчиво сказала мать, спрашивая про стихи, которые князь Андрей написал в альбом Наташе.
– Мама, это не стыдно, что он вдовец?
– Полно, Наташа. Молись Богу. Les Marieiages se font dans les cieux. [Браки заключаются в небесах.]
– Голубушка, мамаша, как я вас люблю, как мне хорошо! – крикнула Наташа, плача слезами счастья и волнения и обнимая мать.
В это же самое время князь Андрей сидел у Пьера и говорил ему о своей любви к Наташе и о твердо взятом намерении жениться на ней.
В этот день у графини Елены Васильевны был раут, был французский посланник, был принц, сделавшийся с недавнего времени частым посетителем дома графини, и много блестящих дам и мужчин. Пьер был внизу, прошелся по залам, и поразил всех гостей своим сосредоточенно рассеянным и мрачным видом.
Пьер со времени бала чувствовал в себе приближение припадков ипохондрии и с отчаянным усилием старался бороться против них. Со времени сближения принца с его женою, Пьер неожиданно был пожалован в камергеры, и с этого времени он стал чувствовать тяжесть и стыд в большом обществе, и чаще ему стали приходить прежние мрачные мысли о тщете всего человеческого. В это же время замеченное им чувство между покровительствуемой им Наташей и князем Андреем, своей противуположностью между его положением и положением его друга, еще усиливало это мрачное настроение. Он одинаково старался избегать мыслей о своей жене и о Наташе и князе Андрее. Опять всё ему казалось ничтожно в сравнении с вечностью, опять представлялся вопрос: «к чему?». И он дни и ночи заставлял себя трудиться над масонскими работами, надеясь отогнать приближение злого духа. Пьер в 12 м часу, выйдя из покоев графини, сидел у себя наверху в накуренной, низкой комнате, в затасканном халате перед столом и переписывал подлинные шотландские акты, когда кто то вошел к нему в комнату. Это был князь Андрей.
– А, это вы, – сказал Пьер с рассеянным и недовольным видом. – А я вот работаю, – сказал он, указывая на тетрадь с тем видом спасения от невзгод жизни, с которым смотрят несчастливые люди на свою работу.
Князь Андрей с сияющим, восторженным и обновленным к жизни лицом остановился перед Пьером и, не замечая его печального лица, с эгоизмом счастия улыбнулся ему.
– Ну, душа моя, – сказал он, – я вчера хотел сказать тебе и нынче за этим приехал к тебе. Никогда не испытывал ничего подобного. Я влюблен, мой друг.
Пьер вдруг тяжело вздохнул и повалился своим тяжелым телом на диван, подле князя Андрея.
– В Наташу Ростову, да? – сказал он.
– Да, да, в кого же? Никогда не поверил бы, но это чувство сильнее меня. Вчера я мучился, страдал, но и мученья этого я не отдам ни за что в мире. Я не жил прежде. Теперь только я живу, но я не могу жить без нее. Но может ли она любить меня?… Я стар для нее… Что ты не говоришь?…
– Я? Я? Что я говорил вам, – вдруг сказал Пьер, вставая и начиная ходить по комнате. – Я всегда это думал… Эта девушка такое сокровище, такое… Это редкая девушка… Милый друг, я вас прошу, вы не умствуйте, не сомневайтесь, женитесь, женитесь и женитесь… И я уверен, что счастливее вас не будет человека.
– Но она!
– Она любит вас.
– Не говори вздору… – сказал князь Андрей, улыбаясь и глядя в глаза Пьеру.
– Любит, я знаю, – сердито закричал Пьер.
– Нет, слушай, – сказал князь Андрей, останавливая его за руку. – Ты знаешь ли, в каком я положении? Мне нужно сказать все кому нибудь.
– Ну, ну, говорите, я очень рад, – говорил Пьер, и действительно лицо его изменилось, морщина разгладилась, и он радостно слушал князя Андрея. Князь Андрей казался и был совсем другим, новым человеком. Где была его тоска, его презрение к жизни, его разочарованность? Пьер был единственный человек, перед которым он решался высказаться; но зато он ему высказывал всё, что у него было на душе. То он легко и смело делал планы на продолжительное будущее, говорил о том, как он не может пожертвовать своим счастьем для каприза своего отца, как он заставит отца согласиться на этот брак и полюбить ее или обойдется без его согласия, то он удивлялся, как на что то странное, чуждое, от него независящее, на то чувство, которое владело им.
– Я бы не поверил тому, кто бы мне сказал, что я могу так любить, – говорил князь Андрей. – Это совсем не то чувство, которое было у меня прежде. Весь мир разделен для меня на две половины: одна – она и там всё счастье надежды, свет; другая половина – всё, где ее нет, там всё уныние и темнота…
– Темнота и мрак, – повторил Пьер, – да, да, я понимаю это.
– Я не могу не любить света, я не виноват в этом. И я очень счастлив. Ты понимаешь меня? Я знаю, что ты рад за меня.
– Да, да, – подтверждал Пьер, умиленными и грустными глазами глядя на своего друга. Чем светлее представлялась ему судьба князя Андрея, тем мрачнее представлялась своя собственная.
Для женитьбы нужно было согласие отца, и для этого на другой день князь Андрей уехал к отцу.
Отец с наружным спокойствием, но внутренней злобой принял сообщение сына. Он не мог понять того, чтобы кто нибудь хотел изменять жизнь, вносить в нее что нибудь новое, когда жизнь для него уже кончалась. – «Дали бы только дожить так, как я хочу, а потом бы делали, что хотели», говорил себе старик. С сыном однако он употребил ту дипломацию, которую он употреблял в важных случаях. Приняв спокойный тон, он обсудил всё дело.
Во первых, женитьба была не блестящая в отношении родства, богатства и знатности. Во вторых, князь Андрей был не первой молодости и слаб здоровьем (старик особенно налегал на это), а она была очень молода. В третьих, был сын, которого жалко было отдать девчонке. В четвертых, наконец, – сказал отец, насмешливо глядя на сына, – я тебя прошу, отложи дело на год, съезди за границу, полечись, сыщи, как ты и хочешь, немца, для князя Николая, и потом, ежели уж любовь, страсть, упрямство, что хочешь, так велики, тогда женись.
– И это последнее мое слово, знай, последнее… – кончил князь таким тоном, которым показывал, что ничто не заставит его изменить свое решение.
Князь Андрей ясно видел, что старик надеялся, что чувство его или его будущей невесты не выдержит испытания года, или что он сам, старый князь, умрет к этому времени, и решил исполнить волю отца: сделать предложение и отложить свадьбу на год.
Через три недели после своего последнего вечера у Ростовых, князь Андрей вернулся в Петербург.
На другой день после своего объяснения с матерью, Наташа ждала целый день Болконского, но он не приехал. На другой, на третий день было то же самое. Пьер также не приезжал, и Наташа, не зная того, что князь Андрей уехал к отцу, не могла себе объяснить его отсутствия.
Так прошли три недели. Наташа никуда не хотела выезжать и как тень, праздная и унылая, ходила по комнатам, вечером тайно от всех плакала и не являлась по вечерам к матери. Она беспрестанно краснела и раздражалась. Ей казалось, что все знают о ее разочаровании, смеются и жалеют о ней. При всей силе внутреннего горя, это тщеславное горе усиливало ее несчастие.
Однажды она пришла к графине, хотела что то сказать ей, и вдруг заплакала. Слезы ее были слезы обиженного ребенка, который сам не знает, за что он наказан.
Графиня стала успокоивать Наташу. Наташа, вслушивавшаяся сначала в слова матери, вдруг прервала ее:
– Перестаньте, мама, я и не думаю, и не хочу думать! Так, поездил и перестал, и перестал…
Голос ее задрожал, она чуть не заплакала, но оправилась и спокойно продолжала: – И совсем я не хочу выходить замуж. И я его боюсь; я теперь совсем, совсем, успокоилась…
На другой день после этого разговора Наташа надела то старое платье, которое было ей особенно известно за доставляемую им по утрам веселость, и с утра начала тот свой прежний образ жизни, от которого она отстала после бала. Она, напившись чаю, пошла в залу, которую она особенно любила за сильный резонанс, и начала петь свои солфеджи (упражнения пения). Окончив первый урок, она остановилась на середине залы и повторила одну музыкальную фразу, особенно понравившуюся ей. Она прислушалась радостно к той (как будто неожиданной для нее) прелести, с которой эти звуки переливаясь наполнили всю пустоту залы и медленно замерли, и ей вдруг стало весело. «Что об этом думать много и так хорошо», сказала она себе и стала взад и вперед ходить по зале, ступая не простыми шагами по звонкому паркету, но на всяком шагу переступая с каблучка (на ней были новые, любимые башмаки) на носок, и так же радостно, как и к звукам своего голоса прислушиваясь к этому мерному топоту каблучка и поскрипыванью носка. Проходя мимо зеркала, она заглянула в него. – «Вот она я!» как будто говорило выражение ее лица при виде себя. – «Ну, и хорошо. И никого мне не нужно».
Лакей хотел войти, чтобы убрать что то в зале, но она не пустила его, опять затворив за ним дверь, и продолжала свою прогулку. Она возвратилась в это утро опять к своему любимому состоянию любви к себе и восхищения перед собою. – «Что за прелесть эта Наташа!» сказала она опять про себя словами какого то третьего, собирательного, мужского лица. – «Хороша, голос, молода, и никому она не мешает, оставьте только ее в покое». Но сколько бы ни оставляли ее в покое, она уже не могла быть покойна и тотчас же почувствовала это.
В передней отворилась дверь подъезда, кто то спросил: дома ли? и послышались чьи то шаги. Наташа смотрелась в зеркало, но она не видала себя. Она слушала звуки в передней. Когда она увидала себя, лицо ее было бледно. Это был он. Она это верно знала, хотя чуть слышала звук его голоса из затворенных дверей.
Наташа, бледная и испуганная, вбежала в гостиную.
– Мама, Болконский приехал! – сказала она. – Мама, это ужасно, это несносно! – Я не хочу… мучиться! Что же мне делать?…
Еще графиня не успела ответить ей, как князь Андрей с тревожным и серьезным лицом вошел в гостиную. Как только он увидал Наташу, лицо его просияло. Он поцеловал руку графини и Наташи и сел подле дивана.
– Давно уже мы не имели удовольствия… – начала было графиня, но князь Андрей перебил ее, отвечая на ее вопрос и очевидно торопясь сказать то, что ему было нужно.
– Я не был у вас всё это время, потому что был у отца: мне нужно было переговорить с ним о весьма важном деле. Я вчера ночью только вернулся, – сказал он, взглянув на Наташу. – Мне нужно переговорить с вами, графиня, – прибавил он после минутного молчания.
Графиня, тяжело вздохнув, опустила глаза.
– Я к вашим услугам, – проговорила она.
Наташа знала, что ей надо уйти, но она не могла этого сделать: что то сжимало ей горло, и она неучтиво, прямо, открытыми глазами смотрела на князя Андрея.
«Сейчас? Сию минуту!… Нет, это не может быть!» думала она.
Он опять взглянул на нее, и этот взгляд убедил ее в том, что она не ошиблась. – Да, сейчас, сию минуту решалась ее судьба.
– Поди, Наташа, я позову тебя, – сказала графиня шопотом.
Наташа испуганными, умоляющими глазами взглянула на князя Андрея и на мать, и вышла.
– Я приехал, графиня, просить руки вашей дочери, – сказал князь Андрей. Лицо графини вспыхнуло, но она ничего не сказала.
– Ваше предложение… – степенно начала графиня. – Он молчал, глядя ей в глаза. – Ваше предложение… (она сконфузилась) нам приятно, и… я принимаю ваше предложение, я рада. И муж мой… я надеюсь… но от нее самой будет зависеть…
– Я скажу ей тогда, когда буду иметь ваше согласие… даете ли вы мне его? – сказал князь Андрей.
– Да, – сказала графиня и протянула ему руку и с смешанным чувством отчужденности и нежности прижалась губами к его лбу, когда он наклонился над ее рукой. Она желала любить его, как сына; но чувствовала, что он был чужой и страшный для нее человек. – Я уверена, что мой муж будет согласен, – сказала графиня, – но ваш батюшка…
– Мой отец, которому я сообщил свои планы, непременным условием согласия положил то, чтобы свадьба была не раньше года. И это то я хотел сообщить вам, – сказал князь Андрей.
– Правда, что Наташа еще молода, но так долго.
– Это не могло быть иначе, – со вздохом сказал князь Андрей.
– Я пошлю вам ее, – сказала графиня и вышла из комнаты.
– Господи, помилуй нас, – твердила она, отыскивая дочь. Соня сказала, что Наташа в спальне. Наташа сидела на своей кровати, бледная, с сухими глазами, смотрела на образа и, быстро крестясь, шептала что то. Увидав мать, она вскочила и бросилась к ней.
– Что? Мама?… Что?
– Поди, поди к нему. Он просит твоей руки, – сказала графиня холодно, как показалось Наташе… – Поди… поди, – проговорила мать с грустью и укоризной вслед убегавшей дочери, и тяжело вздохнула.
Наташа не помнила, как она вошла в гостиную. Войдя в дверь и увидав его, она остановилась. «Неужели этот чужой человек сделался теперь всё для меня?» спросила она себя и мгновенно ответила: «Да, всё: он один теперь дороже для меня всего на свете». Князь Андрей подошел к ней, опустив глаза.
– Я полюбил вас с той минуты, как увидал вас. Могу ли я надеяться?
Он взглянул на нее, и серьезная страстность выражения ее лица поразила его. Лицо ее говорило: «Зачем спрашивать? Зачем сомневаться в том, чего нельзя не знать? Зачем говорить, когда нельзя словами выразить того, что чувствуешь».
Она приблизилась к нему и остановилась. Он взял ее руку и поцеловал.
– Любите ли вы меня?
– Да, да, – как будто с досадой проговорила Наташа, громко вздохнула, другой раз, чаще и чаще, и зарыдала.
– Об чем? Что с вами?
– Ах, я так счастлива, – отвечала она, улыбнулась сквозь слезы, нагнулась ближе к нему, подумала секунду, как будто спрашивая себя, можно ли это, и поцеловала его.
Князь Андрей держал ее руки, смотрел ей в глаза, и не находил в своей душе прежней любви к ней. В душе его вдруг повернулось что то: не было прежней поэтической и таинственной прелести желания, а была жалость к ее женской и детской слабости, был страх перед ее преданностью и доверчивостью, тяжелое и вместе радостное сознание долга, навеки связавшего его с нею. Настоящее чувство, хотя и не было так светло и поэтично как прежнее, было серьезнее и сильнее.
– Сказала ли вам maman, что это не может быть раньше года? – сказал князь Андрей, продолжая глядеть в ее глаза. «Неужели это я, та девочка ребенок (все так говорили обо мне) думала Наташа, неужели я теперь с этой минуты жена , равная этого чужого, милого, умного человека, уважаемого даже отцом моим. Неужели это правда! неужели правда, что теперь уже нельзя шутить жизнию, теперь уж я большая, теперь уж лежит на мне ответственность за всякое мое дело и слово? Да, что он спросил у меня?»
– Нет, – отвечала она, но она не понимала того, что он спрашивал.
– Простите меня, – сказал князь Андрей, – но вы так молоды, а я уже так много испытал жизни. Мне страшно за вас. Вы не знаете себя.
Наташа с сосредоточенным вниманием слушала, стараясь понять смысл его слов и не понимала.
– Как ни тяжел мне будет этот год, отсрочивающий мое счастье, – продолжал князь Андрей, – в этот срок вы поверите себя. Я прошу вас через год сделать мое счастье; но вы свободны: помолвка наша останется тайной и, ежели вы убедились бы, что вы не любите меня, или полюбили бы… – сказал князь Андрей с неестественной улыбкой.
– Зачем вы это говорите? – перебила его Наташа. – Вы знаете, что с того самого дня, как вы в первый раз приехали в Отрадное, я полюбила вас, – сказала она, твердо уверенная, что она говорила правду.
– В год вы узнаете себя…
– Целый год! – вдруг сказала Наташа, теперь только поняв то, что свадьба отсрочена на год. – Да отчего ж год? Отчего ж год?… – Князь Андрей стал ей объяснять причины этой отсрочки. Наташа не слушала его.
– И нельзя иначе? – спросила она. Князь Андрей ничего не ответил, но в лице его выразилась невозможность изменить это решение.
– Это ужасно! Нет, это ужасно, ужасно! – вдруг заговорила Наташа и опять зарыдала. – Я умру, дожидаясь года: это нельзя, это ужасно. – Она взглянула в лицо своего жениха и увидала на нем выражение сострадания и недоумения.
– Нет, нет, я всё сделаю, – сказала она, вдруг остановив слезы, – я так счастлива! – Отец и мать вошли в комнату и благословили жениха и невесту.
С этого дня князь Андрей женихом стал ездить к Ростовым.
Обручения не было и никому не было объявлено о помолвке Болконского с Наташей; на этом настоял князь Андрей. Он говорил, что так как он причиной отсрочки, то он и должен нести всю тяжесть ее. Он говорил, что он навеки связал себя своим словом, но что он не хочет связывать Наташу и предоставляет ей полную свободу. Ежели она через полгода почувствует, что она не любит его, она будет в своем праве, ежели откажет ему. Само собою разумеется, что ни родители, ни Наташа не хотели слышать об этом; но князь Андрей настаивал на своем. Князь Андрей бывал каждый день у Ростовых, но не как жених обращался с Наташей: он говорил ей вы и целовал только ее руку. Между князем Андреем и Наташей после дня предложения установились совсем другие чем прежде, близкие, простые отношения. Они как будто до сих пор не знали друг друга. И он и она любили вспоминать о том, как они смотрели друг на друга, когда были еще ничем , теперь оба они чувствовали себя совсем другими существами: тогда притворными, теперь простыми и искренними. Сначала в семействе чувствовалась неловкость в обращении с князем Андреем; он казался человеком из чуждого мира, и Наташа долго приучала домашних к князю Андрею и с гордостью уверяла всех, что он только кажется таким особенным, а что он такой же, как и все, и что она его не боится и что никто не должен бояться его. После нескольких дней, в семействе к нему привыкли и не стесняясь вели при нем прежний образ жизни, в котором он принимал участие. Он про хозяйство умел говорить с графом и про наряды с графиней и Наташей, и про альбомы и канву с Соней. Иногда домашние Ростовы между собою и при князе Андрее удивлялись тому, как всё это случилось и как очевидны были предзнаменования этого: и приезд князя Андрея в Отрадное, и их приезд в Петербург, и сходство между Наташей и князем Андреем, которое заметила няня в первый приезд князя Андрея, и столкновение в 1805 м году между Андреем и Николаем, и еще много других предзнаменований того, что случилось, было замечено домашними.
В доме царствовала та поэтическая скука и молчаливость, которая всегда сопутствует присутствию жениха и невесты. Часто сидя вместе, все молчали. Иногда вставали и уходили, и жених с невестой, оставаясь одни, всё также молчали. Редко они говорили о будущей своей жизни. Князю Андрею страшно и совестно было говорить об этом. Наташа разделяла это чувство, как и все его чувства, которые она постоянно угадывала. Один раз Наташа стала расспрашивать про его сына. Князь Андрей покраснел, что с ним часто случалось теперь и что особенно любила Наташа, и сказал, что сын его не будет жить с ними.
– Отчего? – испуганно сказала Наташа.
– Я не могу отнять его у деда и потом…
– Как бы я его любила! – сказала Наташа, тотчас же угадав его мысль; но я знаю, вы хотите, чтобы не было предлогов обвинять вас и меня.
Старый граф иногда подходил к князю Андрею, целовал его, спрашивал у него совета на счет воспитания Пети или службы Николая. Старая графиня вздыхала, глядя на них. Соня боялась всякую минуту быть лишней и старалась находить предлоги оставлять их одних, когда им этого и не нужно было. Когда князь Андрей говорил (он очень хорошо рассказывал), Наташа с гордостью слушала его; когда она говорила, то со страхом и радостью замечала, что он внимательно и испытующе смотрит на нее. Она с недоумением спрашивала себя: «Что он ищет во мне? Чего то он добивается своим взглядом! Что, как нет во мне того, что он ищет этим взглядом?» Иногда она входила в свойственное ей безумно веселое расположение духа, и тогда она особенно любила слушать и смотреть, как князь Андрей смеялся. Он редко смеялся, но зато, когда он смеялся, то отдавался весь своему смеху, и всякий раз после этого смеха она чувствовала себя ближе к нему. Наташа была бы совершенно счастлива, ежели бы мысль о предстоящей и приближающейся разлуке не пугала ее, так как и он бледнел и холодел при одной мысли о том.
Накануне своего отъезда из Петербурга, князь Андрей привез с собой Пьера, со времени бала ни разу не бывшего у Ростовых. Пьер казался растерянным и смущенным. Он разговаривал с матерью. Наташа села с Соней у шахматного столика, приглашая этим к себе князя Андрея. Он подошел к ним.
– Вы ведь давно знаете Безухого? – спросил он. – Вы любите его?
– Да, он славный, но смешной очень.
И она, как всегда говоря о Пьере, стала рассказывать анекдоты о его рассеянности, анекдоты, которые даже выдумывали на него.
– Вы знаете, я поверил ему нашу тайну, – сказал князь Андрей. – Я знаю его с детства. Это золотое сердце. Я вас прошу, Натали, – сказал он вдруг серьезно; – я уеду, Бог знает, что может случиться. Вы можете разлю… Ну, знаю, что я не должен говорить об этом. Одно, – чтобы ни случилось с вами, когда меня не будет…
– Что ж случится?…
– Какое бы горе ни было, – продолжал князь Андрей, – я вас прошу, m lle Sophie, что бы ни случилось, обратитесь к нему одному за советом и помощью. Это самый рассеянный и смешной человек, но самое золотое сердце.
Ни отец и мать, ни Соня, ни сам князь Андрей не могли предвидеть того, как подействует на Наташу расставанье с ее женихом. Красная и взволнованная, с сухими глазами, она ходила этот день по дому, занимаясь самыми ничтожными делами, как будто не понимая того, что ожидает ее. Она не плакала и в ту минуту, как он, прощаясь, последний раз поцеловал ее руку. – Не уезжайте! – только проговорила она ему таким голосом, который заставил его задуматься о том, не нужно ли ему действительно остаться и который он долго помнил после этого. Когда он уехал, она тоже не плакала; но несколько дней она не плача сидела в своей комнате, не интересовалась ничем и только говорила иногда: – Ах, зачем он уехал!
Но через две недели после его отъезда, она так же неожиданно для окружающих ее, очнулась от своей нравственной болезни, стала такая же как прежде, но только с измененной нравственной физиогномией, как дети с другим лицом встают с постели после продолжительной болезни.
Здоровье и характер князя Николая Андреича Болконского, в этот последний год после отъезда сына, очень ослабели. Он сделался еще более раздражителен, чем прежде, и все вспышки его беспричинного гнева большей частью обрушивались на княжне Марье. Он как будто старательно изыскивал все больные места ее, чтобы как можно жесточе нравственно мучить ее. У княжны Марьи были две страсти и потому две радости: племянник Николушка и религия, и обе были любимыми темами нападений и насмешек князя. О чем бы ни заговорили, он сводил разговор на суеверия старых девок или на баловство и порчу детей. – «Тебе хочется его (Николеньку) сделать такой же старой девкой, как ты сама; напрасно: князю Андрею нужно сына, а не девку», говорил он. Или, обращаясь к mademoiselle Bourime, он спрашивал ее при княжне Марье, как ей нравятся наши попы и образа, и шутил…
Он беспрестанно больно оскорблял княжну Марью, но дочь даже не делала усилий над собой, чтобы прощать его. Разве мог он быть виноват перед нею, и разве мог отец ее, который, она всё таки знала это, любил ее, быть несправедливым? Да и что такое справедливость? Княжна никогда не думала об этом гордом слове: «справедливость». Все сложные законы человечества сосредоточивались для нее в одном простом и ясном законе – в законе любви и самоотвержения, преподанном нам Тем, Который с любовью страдал за человечество, когда сам он – Бог. Что ей было за дело до справедливости или несправедливости других людей? Ей надо было самой страдать и любить, и это она делала.
Зимой в Лысые Горы приезжал князь Андрей, был весел, кроток и нежен, каким его давно не видала княжна Марья. Она предчувствовала, что с ним что то случилось, но он не сказал ничего княжне Марье о своей любви. Перед отъездом князь Андрей долго беседовал о чем то с отцом и княжна Марья заметила, что перед отъездом оба были недовольны друг другом.
Вскоре после отъезда князя Андрея, княжна Марья писала из Лысых Гор в Петербург своему другу Жюли Карагиной, которую княжна Марья мечтала, как мечтают всегда девушки, выдать за своего брата, и которая в это время была в трауре по случаю смерти своего брата, убитого в Турции.
«Горести, видно, общий удел наш, милый и нежный друг Julieie».
«Ваша потеря так ужасна, что я иначе не могу себе объяснить ее, как особенную милость Бога, Который хочет испытать – любя вас – вас и вашу превосходную мать. Ах, мой друг, религия, и только одна религия, может нас, уже не говорю утешить, но избавить от отчаяния; одна религия может объяснить нам то, чего без ее помощи не может понять человек: для чего, зачем существа добрые, возвышенные, умеющие находить счастие в жизни, никому не только не вредящие, но необходимые для счастия других – призываются к Богу, а остаются жить злые, бесполезные, вредные, или такие, которые в тягость себе и другим. Первая смерть, которую я видела и которую никогда не забуду – смерть моей милой невестки, произвела на меня такое впечатление. Точно так же как вы спрашиваете судьбу, для чего было умирать вашему прекрасному брату, точно так же спрашивала я, для чего было умирать этому ангелу Лизе, которая не только не сделала какого нибудь зла человеку, но никогда кроме добрых мыслей не имела в своей душе. И что ж, мой друг, вот прошло с тех пор пять лет, и я, с своим ничтожным умом, уже начинаю ясно понимать, для чего ей нужно было умереть, и каким образом эта смерть была только выражением бесконечной благости Творца, все действия Которого, хотя мы их большею частью не понимаем, суть только проявления Его бесконечной любви к Своему творению. Может быть, я часто думаю, она была слишком ангельски невинна для того, чтобы иметь силу перенести все обязанности матери. Она была безупречна, как молодая жена; может быть, она не могла бы быть такою матерью. Теперь, мало того, что она оставила нам, и в особенности князю Андрею, самое чистое сожаление и воспоминание, она там вероятно получит то место, которого я не смею надеяться для себя. Но, не говоря уже о ней одной, эта ранняя и страшная смерть имела самое благотворное влияние, несмотря на всю печаль, на меня и на брата. Тогда, в минуту потери, эти мысли не могли притти мне; тогда я с ужасом отогнала бы их, но теперь это так ясно и несомненно. Пишу всё это вам, мой друг, только для того, чтобы убедить вас в евангельской истине, сделавшейся для меня жизненным правилом: ни один волос с головы не упадет без Его воли. А воля Его руководствуется только одною беспредельною любовью к нам, и потому всё, что ни случается с нами, всё для нашего блага. Вы спрашиваете, проведем ли мы следующую зиму в Москве? Несмотря на всё желание вас видеть, не думаю и не желаю этого. И вы удивитесь, что причиною тому Буонапарте. И вот почему: здоровье отца моего заметно слабеет: он не может переносить противоречий и делается раздражителен. Раздражительность эта, как вы знаете, обращена преимущественно на политические дела. Он не может перенести мысли о том, что Буонапарте ведет дело как с равными, со всеми государями Европы и в особенности с нашим, внуком Великой Екатерины! Как вы знаете, я совершенно равнодушна к политическим делам, но из слов моего отца и разговоров его с Михаилом Ивановичем, я знаю всё, что делается в мире, и в особенности все почести, воздаваемые Буонапарте, которого, как кажется, еще только в Лысых Горах на всем земном шаре не признают ни великим человеком, ни еще менее французским императором. И мой отец не может переносить этого. Мне кажется, что мой отец, преимущественно вследствие своего взгляда на политические дела и предвидя столкновения, которые у него будут, вследствие его манеры, не стесняясь ни с кем, высказывать свои мнения, неохотно говорит о поездке в Москву. Всё, что он выиграет от лечения, он потеряет вследствие споров о Буонапарте, которые неминуемы. Во всяком случае это решится очень скоро. Семейная жизнь наша идет по старому, за исключением присутствия брата Андрея. Он, как я уже писала вам, очень изменился последнее время. После его горя, он теперь только, в нынешнем году, совершенно нравственно ожил. Он стал таким, каким я его знала ребенком: добрым, нежным, с тем золотым сердцем, которому я не знаю равного. Он понял, как мне кажется, что жизнь для него не кончена. Но вместе с этой нравственной переменой, он физически очень ослабел. Он стал худее чем прежде, нервнее. Я боюсь за него и рада, что он предпринял эту поездку за границу, которую доктора уже давно предписывали ему. Я надеюсь, что это поправит его. Вы мне пишете, что в Петербурге о нем говорят, как об одном из самых деятельных, образованных и умных молодых людей. Простите за самолюбие родства – я никогда в этом не сомневалась. Нельзя счесть добро, которое он здесь сделал всем, начиная с своих мужиков и до дворян. Приехав в Петербург, он взял только то, что ему следовало. Удивляюсь, каким образом вообще доходят слухи из Петербурга в Москву и особенно такие неверные, как тот, о котором вы мне пишете, – слух о мнимой женитьбе брата на маленькой Ростовой. Я не думаю, чтобы Андрей когда нибудь женился на ком бы то ни было и в особенности на ней. И вот почему: во первых я знаю, что хотя он и редко говорит о покойной жене, но печаль этой потери слишком глубоко вкоренилась в его сердце, чтобы когда нибудь он решился дать ей преемницу и мачеху нашему маленькому ангелу. Во вторых потому, что, сколько я знаю, эта девушка не из того разряда женщин, которые могут нравиться князю Андрею. Не думаю, чтобы князь Андрей выбрал ее своею женою, и откровенно скажу: я не желаю этого. Но я заболталась, кончаю свой второй листок. Прощайте, мой милый друг; да сохранит вас Бог под Своим святым и могучим покровом. Моя милая подруга, mademoiselle Bourienne, целует вас.
Мари».
В середине лета, княжна Марья получила неожиданное письмо от князя Андрея из Швейцарии, в котором он сообщал ей странную и неожиданную новость. Князь Андрей объявлял о своей помолвке с Ростовой. Всё письмо его дышало любовной восторженностью к своей невесте и нежной дружбой и доверием к сестре. Он писал, что никогда не любил так, как любит теперь, и что теперь только понял и узнал жизнь; он просил сестру простить его за то, что в свой приезд в Лысые Горы он ничего не сказал ей об этом решении, хотя и говорил об этом с отцом. Он не сказал ей этого потому, что княжна Марья стала бы просить отца дать свое согласие, и не достигнув бы цели, раздражила бы отца, и на себе бы понесла всю тяжесть его неудовольствия. Впрочем, писал он, тогда еще дело не было так окончательно решено, как теперь. «Тогда отец назначил мне срок, год, и вот уже шесть месяцев, половина прошло из назначенного срока, и я остаюсь более, чем когда нибудь тверд в своем решении. Ежели бы доктора не задерживали меня здесь, на водах, я бы сам был в России, но теперь возвращение мое я должен отложить еще на три месяца. Ты знаешь меня и мои отношения с отцом. Мне ничего от него не нужно, я был и буду всегда независим, но сделать противное его воле, заслужить его гнев, когда может быть так недолго осталось ему быть с нами, разрушило бы наполовину мое счастие. Я пишу теперь ему письмо о том же и прошу тебя, выбрав добрую минуту, передать ему письмо и известить меня о том, как он смотрит на всё это и есть ли надежда на то, чтобы он согласился сократить срок на три месяца».
После долгих колебаний, сомнений и молитв, княжна Марья передала письмо отцу. На другой день старый князь сказал ей спокойно:
– Напиши брату, чтоб подождал, пока умру… Не долго – скоро развяжу…
Княжна хотела возразить что то, но отец не допустил ее, и стал всё более и более возвышать голос.
– Женись, женись, голубчик… Родство хорошее!… Умные люди, а? Богатые, а? Да. Хороша мачеха у Николушки будет! Напиши ты ему, что пускай женится хоть завтра. Мачеха Николушки будет – она, а я на Бурьенке женюсь!… Ха, ха, ха, и ему чтоб без мачехи не быть! Только одно, в моем доме больше баб не нужно; пускай женится, сам по себе живет. Может, и ты к нему переедешь? – обратился он к княжне Марье: – с Богом, по морозцу, по морозцу… по морозцу!…
После этой вспышки, князь не говорил больше ни разу об этом деле. Но сдержанная досада за малодушие сына выразилась в отношениях отца с дочерью. К прежним предлогам насмешек прибавился еще новый – разговор о мачехе и любезности к m lle Bourienne.
– Отчего же мне на ней не жениться? – говорил он дочери. – Славная княгиня будет! – И в последнее время, к недоуменью и удивлению своему, княжна Марья стала замечать, что отец ее действительно начинал больше и больше приближать к себе француженку. Княжна Марья написала князю Андрею о том, как отец принял его письмо; но утешала брата, подавая надежду примирить отца с этою мыслью.
Николушка и его воспитание, Andre и религия были утешениями и радостями княжны Марьи; но кроме того, так как каждому человеку нужны свои личные надежды, у княжны Марьи была в самой глубокой тайне ее души скрытая мечта и надежда, доставлявшая ей главное утешение в ее жизни. Утешительную эту мечту и надежду дали ей божьи люди – юродивые и странники, посещавшие ее тайно от князя. Чем больше жила княжна Марья, чем больше испытывала она жизнь и наблюдала ее, тем более удивляла ее близорукость людей, ищущих здесь на земле наслаждений и счастия; трудящихся, страдающих, борющихся и делающих зло друг другу, для достижения этого невозможного, призрачного и порочного счастия. «Князь Андрей любил жену, она умерла, ему мало этого, он хочет связать свое счастие с другой женщиной. Отец не хочет этого, потому что желает для Андрея более знатного и богатого супружества. И все они борются и страдают, и мучают, и портят свою душу, свою вечную душу, для достижения благ, которым срок есть мгновенье. Мало того, что мы сами знаем это, – Христос, сын Бога сошел на землю и сказал нам, что эта жизнь есть мгновенная жизнь, испытание, а мы всё держимся за нее и думаем в ней найти счастье. Как никто не понял этого? – думала княжна Марья. Никто кроме этих презренных божьих людей, которые с сумками за плечами приходят ко мне с заднего крыльца, боясь попасться на глаза князю, и не для того, чтобы не пострадать от него, а для того, чтобы его не ввести в грех. Оставить семью, родину, все заботы о мирских благах для того, чтобы не прилепляясь ни к чему, ходить в посконном рубище, под чужим именем с места на место, не делая вреда людям, и молясь за них, молясь и за тех, которые гонят, и за тех, которые покровительствуют: выше этой истины и жизни нет истины и жизни!»
Была одна странница, Федосьюшка, 50 ти летняя, маленькая, тихенькая, рябая женщина, ходившая уже более 30 ти лет босиком и в веригах. Ее особенно любила княжна Марья. Однажды, когда в темной комнате, при свете одной лампадки, Федосьюшка рассказывала о своей жизни, – княжне Марье вдруг с такой силой пришла мысль о том, что Федосьюшка одна нашла верный путь жизни, что она решилась сама пойти странствовать. Когда Федосьюшка пошла спать, княжна Марья долго думала над этим и наконец решила, что как ни странно это было – ей надо было итти странствовать. Она поверила свое намерение только одному духовнику монаху, отцу Акинфию, и духовник одобрил ее намерение. Под предлогом подарка странницам, княжна Марья припасла себе полное одеяние странницы: рубашку, лапти, кафтан и черный платок. Часто подходя к заветному комоду, княжна Марья останавливалась в нерешительности о том, не наступило ли уже время для приведения в исполнение ее намерения.
Часто слушая рассказы странниц, она возбуждалась их простыми, для них механическими, а для нее полными глубокого смысла речами, так что она была несколько раз готова бросить всё и бежать из дому. В воображении своем она уже видела себя с Федосьюшкой в грубом рубище, шагающей с палочкой и котомочкой по пыльной дороге, направляя свое странствие без зависти, без любви человеческой, без желаний от угодников к угодникам, и в конце концов, туда, где нет ни печали, ни воздыхания, а вечная радость и блаженство.
«Приду к одному месту, помолюсь; не успею привыкнуть, полюбить – пойду дальше. И буду итти до тех пор, пока ноги подкосятся, и лягу и умру где нибудь, и приду наконец в ту вечную, тихую пристань, где нет ни печали, ни воздыхания!…» думала княжна Марья.
Но потом, увидав отца и особенно маленького Коко, она ослабевала в своем намерении, потихоньку плакала и чувствовала, что она грешница: любила отца и племянника больше, чем Бога.
Библейское предание говорит, что отсутствие труда – праздность была условием блаженства первого человека до его падения. Любовь к праздности осталась та же и в падшем человеке, но проклятие всё тяготеет над человеком, и не только потому, что мы в поте лица должны снискивать хлеб свой, но потому, что по нравственным свойствам своим мы не можем быть праздны и спокойны. Тайный голос говорит, что мы должны быть виновны за то, что праздны. Ежели бы мог человек найти состояние, в котором он, будучи праздным, чувствовал бы себя полезным и исполняющим свой долг, он бы нашел одну сторону первобытного блаженства. И таким состоянием обязательной и безупречной праздности пользуется целое сословие – сословие военное. В этой то обязательной и безупречной праздности состояла и будет состоять главная привлекательность военной службы.
Николай Ростов испытывал вполне это блаженство, после 1807 года продолжая служить в Павлоградском полку, в котором он уже командовал эскадроном, принятым от Денисова.
Ростов сделался загрубелым, добрым малым, которого московские знакомые нашли бы несколько mauvais genre [дурного тона], но который был любим и уважаем товарищами, подчиненными и начальством и который был доволен своей жизнью. В последнее время, в 1809 году, он чаще в письмах из дому находил сетования матери на то, что дела расстраиваются хуже и хуже, и что пора бы ему приехать домой, обрадовать и успокоить стариков родителей.
Читая эти письма, Николай испытывал страх, что хотят вывести его из той среды, в которой он, оградив себя от всей житейской путаницы, жил так тихо и спокойно. Он чувствовал, что рано или поздно придется опять вступить в тот омут жизни с расстройствами и поправлениями дел, с учетами управляющих, ссорами, интригами, с связями, с обществом, с любовью Сони и обещанием ей. Всё это было страшно трудно, запутано, и он отвечал на письма матери, холодными классическими письмами, начинавшимися: Ma chere maman [Моя милая матушка] и кончавшимися: votre obeissant fils, [Ваш послушный сын,] умалчивая о том, когда он намерен приехать. В 1810 году он получил письма родных, в которых извещали его о помолвке Наташи с Болконским и о том, что свадьба будет через год, потому что старый князь не согласен. Это письмо огорчило, оскорбило Николая. Во первых, ему жалко было потерять из дома Наташу, которую он любил больше всех из семьи; во вторых, он с своей гусарской точки зрения жалел о том, что его не было при этом, потому что он бы показал этому Болконскому, что совсем не такая большая честь родство с ним и что, ежели он любит Наташу, то может обойтись и без разрешения сумасбродного отца. Минуту он колебался не попроситься ли в отпуск, чтоб увидать Наташу невестой, но тут подошли маневры, пришли соображения о Соне, о путанице, и Николай опять отложил. Но весной того же года он получил письмо матери, писавшей тайно от графа, и письмо это убедило его ехать. Она писала, что ежели Николай не приедет и не возьмется за дела, то всё именье пойдет с молотка и все пойдут по миру. Граф так слаб, так вверился Митеньке, и так добр, и так все его обманывают, что всё идет хуже и хуже. «Ради Бога, умоляю тебя, приезжай сейчас же, ежели ты не хочешь сделать меня и всё твое семейство несчастными», писала графиня.
Письмо это подействовало на Николая. У него был тот здравый смысл посредственности, который показывал ему, что было должно.
Теперь должно было ехать, если не в отставку, то в отпуск. Почему надо было ехать, он не знал; но выспавшись после обеда, он велел оседлать серого Марса, давно не езженного и страшно злого жеребца, и вернувшись на взмыленном жеребце домой, объявил Лаврушке (лакей Денисова остался у Ростова) и пришедшим вечером товарищам, что подает в отпуск и едет домой. Как ни трудно и странно было ему думать, что он уедет и не узнает из штаба (что ему особенно интересно было), произведен ли он будет в ротмистры, или получит Анну за последние маневры; как ни странно было думать, что он так и уедет, не продав графу Голуховскому тройку саврасых, которых польский граф торговал у него, и которых Ростов на пари бил, что продаст за 2 тысячи, как ни непонятно казалось, что без него будет тот бал, который гусары должны были дать панне Пшаздецкой в пику уланам, дававшим бал своей панне Боржозовской, – он знал, что надо ехать из этого ясного, хорошего мира куда то туда, где всё было вздор и путаница.
Через неделю вышел отпуск. Гусары товарищи не только по полку, но и по бригаде, дали обед Ростову, стоивший с головы по 15 руб. подписки, – играли две музыки, пели два хора песенников; Ростов плясал трепака с майором Басовым; пьяные офицеры качали, обнимали и уронили Ростова; солдаты третьего эскадрона еще раз качали его, и кричали ура! Потом Ростова положили в сани и проводили до первой станции.
До половины дороги, как это всегда бывает, от Кременчуга до Киева, все мысли Ростова были еще назади – в эскадроне; но перевалившись за половину, он уже начал забывать тройку саврасых, своего вахмистра Дожойвейку, и беспокойно начал спрашивать себя о том, что и как он найдет в Отрадном. Чем ближе он подъезжал, тем сильнее, гораздо сильнее (как будто нравственное чувство было подчинено тому же закону скорости падения тел в квадратах расстояний), он думал о своем доме; на последней перед Отрадным станции, дал ямщику три рубля на водку, и как мальчик задыхаясь вбежал на крыльцо дома.
После восторгов встречи, и после того странного чувства неудовлетворения в сравнении с тем, чего ожидаешь – всё то же, к чему же я так торопился! – Николай стал вживаться в свой старый мир дома. Отец и мать были те же, они только немного постарели. Новое в них било какое то беспокойство и иногда несогласие, которого не бывало прежде и которое, как скоро узнал Николай, происходило от дурного положения дел. Соне был уже двадцатый год. Она уже остановилась хорошеть, ничего не обещала больше того, что в ней было; но и этого было достаточно. Она вся дышала счастьем и любовью с тех пор как приехал Николай, и верная, непоколебимая любовь этой девушки радостно действовала на него. Петя и Наташа больше всех удивили Николая. Петя был уже большой, тринадцатилетний, красивый, весело и умно шаловливый мальчик, у которого уже ломался голос. На Наташу Николай долго удивлялся, и смеялся, глядя на нее.
– Совсем не та, – говорил он.
– Что ж, подурнела?
– Напротив, но важность какая то. Княгиня! – сказал он ей шопотом.
– Да, да, да, – радостно говорила Наташа.
Наташа рассказала ему свой роман с князем Андреем, его приезд в Отрадное и показала его последнее письмо.
– Что ж ты рад? – спрашивала Наташа. – Я так теперь спокойна, счастлива.
– Очень рад, – отвечал Николай. – Он отличный человек. Что ж ты очень влюблена?
– Как тебе сказать, – отвечала Наташа, – я была влюблена в Бориса, в учителя, в Денисова, но это совсем не то. Мне покойно, твердо. Я знаю, что лучше его не бывает людей, и мне так спокойно, хорошо теперь. Совсем не так, как прежде…
Николай выразил Наташе свое неудовольствие о том, что свадьба была отложена на год; но Наташа с ожесточением напустилась на брата, доказывая ему, что это не могло быть иначе, что дурно бы было вступить в семью против воли отца, что она сама этого хотела.
– Ты совсем, совсем не понимаешь, – говорила она. Николай замолчал и согласился с нею.
Брат часто удивлялся глядя на нее. Совсем не было похоже, чтобы она была влюбленная невеста в разлуке с своим женихом. Она была ровна, спокойна, весела совершенно по прежнему. Николая это удивляло и даже заставляло недоверчиво смотреть на сватовство Болконского. Он не верил в то, что ее судьба уже решена, тем более, что он не видал с нею князя Андрея. Ему всё казалось, что что нибудь не то, в этом предполагаемом браке.
«Зачем отсрочка? Зачем не обручились?» думал он. Разговорившись раз с матерью о сестре, он, к удивлению своему и отчасти к удовольствию, нашел, что мать точно так же в глубине души иногда недоверчиво смотрела на этот брак.
– Вот пишет, – говорила она, показывая сыну письмо князя Андрея с тем затаенным чувством недоброжелательства, которое всегда есть у матери против будущего супружеского счастия дочери, – пишет, что не приедет раньше декабря. Какое же это дело может задержать его? Верно болезнь! Здоровье слабое очень. Ты не говори Наташе. Ты не смотри, что она весела: это уж последнее девичье время доживает, а я знаю, что с ней делается всякий раз, как письма его получаем. А впрочем Бог даст, всё и хорошо будет, – заключала она всякий раз: – он отличный человек.
Первое время своего приезда Николай был серьезен и даже скучен. Его мучила предстоящая необходимость вмешаться в эти глупые дела хозяйства, для которых мать вызвала его. Чтобы скорее свалить с плеч эту обузу, на третий день своего приезда он сердито, не отвечая на вопрос, куда он идет, пошел с нахмуренными бровями во флигель к Митеньке и потребовал у него счеты всего. Что такое были эти счеты всего, Николай знал еще менее, чем пришедший в страх и недоумение Митенька. Разговор и учет Митеньки продолжался недолго. Староста, выборный и земский, дожидавшиеся в передней флигеля, со страхом и удовольствием слышали сначала, как загудел и затрещал как будто всё возвышавшийся голос молодого графа, слышали ругательные и страшные слова, сыпавшиеся одно за другим.
– Разбойник! Неблагодарная тварь!… изрублю собаку… не с папенькой… обворовал… – и т. д.
Потом эти люди с неменьшим удовольствием и страхом видели, как молодой граф, весь красный, с налитой кровью в глазах, за шиворот вытащил Митеньку, ногой и коленкой с большой ловкостью в удобное время между своих слов толкнул его под зад и закричал: «Вон! чтобы духу твоего, мерзавец, здесь не было!»
Митенька стремглав слетел с шести ступеней и убежал в клумбу. (Клумба эта была известная местность спасения преступников в Отрадном. Сам Митенька, приезжая пьяный из города, прятался в эту клумбу, и многие жители Отрадного, прятавшиеся от Митеньки, знали спасительную силу этой клумбы.)
Жена Митеньки и свояченицы с испуганными лицами высунулись в сени из дверей комнаты, где кипел чистый самовар и возвышалась приказчицкая высокая постель под стеганным одеялом, сшитым из коротких кусочков.
Молодой граф, задыхаясь, не обращая на них внимания, решительными шагами прошел мимо них и пошел в дом.
Графиня узнавшая тотчас через девушек о том, что произошло во флигеле, с одной стороны успокоилась в том отношении, что теперь состояние их должно поправиться, с другой стороны она беспокоилась о том, как перенесет это ее сын. Она подходила несколько раз на цыпочках к его двери, слушая, как он курил трубку за трубкой.
На другой день старый граф отозвал в сторону сына и с робкой улыбкой сказал ему:
– А знаешь ли, ты, моя душа, напрасно погорячился! Мне Митенька рассказал все.
«Я знал, подумал Николай, что никогда ничего не пойму здесь, в этом дурацком мире».
– Ты рассердился, что он не вписал эти 700 рублей. Ведь они у него написаны транспортом, а другую страницу ты не посмотрел.
– Папенька, он мерзавец и вор, я знаю. И что сделал, то сделал. А ежели вы не хотите, я ничего не буду говорить ему.