Распад Австро-Венгрии
Распа́д А́встро-Венге́рской импе́рии — крупное геополитическое событие, произошедшее в результате нарастания внутренних социальных противоречий и обособления разных частей Австро-Венгрии. Поводом к распаду государства послужили Первая мировая война, неурожай 1918 года и экономический кризис.
17 октября 1918 года парламент Венгрии расторг унию с Австрией и провозгласил независимость страны, 28 октября образовалась Чехословакия, вслед за ней, 29 октября, возникло Государство Словенцев, Хорватов и Сербов. 3 ноября независимость провозгласила Западно-Украинская народная республика, 6 ноября в Кракове было объявлено о воссоздании Польши. Также в ходе распада империи возникли Тарнобжегская республика, Гуцульская республика, Русская Народная Республика Лемков, Республика Команча, Республика Прекмурье, Венгерская Советская Республика, Словацкая Советская Республика, Республика Банат, Республика Фиуме.
Остальные территории, населённые разделёнными народами, попали в состав уже существующих или новообразованных государств. Юридически распад империи был оформлен в Сен-Жерменском договоре с Австрией, который также выступал в качестве мирного договора после Первой мировой войны, и в Трианонском договоре с Венгрией.
Содержание
Причины
Империя Габсбургов, занимавшая обширную территорию в Европе и включавшая в себя около 20 народов, к началу XX века сильно ослабла изнутри из-за полувековых национальных споров и конфликтов практически во всех своих регионах. В Галиции происходило противостояние поляков и украинцев, в Трансильвании — румын и венгров, в Силезии — чехов и немцев[1], в Закарпатье — венгров и русин. Боснийцы, сербы и хорваты сражались за независимость[2] на Балканах и т. д.
С развитием капитализма и ростом количества предприятий формировался средний рабочий класс, который занялся отстаиванием интересов того народа, к которому он принадлежал[2]. Таким образом, с каждым годом на окраинах империи росла опасность сепаратизма. В 1848—1849 годах порабощёнными народами уже предпринималась попытка обрести независимость, во многих регионах империи развернулись военные действия. Даже Венгрия предприняла попытку отделиться от Габсбургской монархии, однако после войны была вновь включена в состав империи.
 После провала революции положение в стране только ухудшилось, хотя теперь противостояние народов вылилось в политические дебаты и пропаганду национальных идей. Лишь иногда происходили вооружённые столкновения, которые подавлялись имперскими войсками[2]. В 1867 году, с принятием новой общеимперской конституции и подписанием Австро-венгерского соглашения, империя ослабла ещё сильнее, так как делилась на две части: Австрию и Венгрию. Обе теперь получили право иметь собственные армии, сеймы, представительские учреждения и т.д., а собственный бюджет в каждой части империи существовал уже до принятия новой конституции. Собственный сейм получила Босния и Герцеговина (ей также принадлежала часть бюджета).
После провала революции положение в стране только ухудшилось, хотя теперь противостояние народов вылилось в политические дебаты и пропаганду национальных идей. Лишь иногда происходили вооружённые столкновения, которые подавлялись имперскими войсками[2]. В 1867 году, с принятием новой общеимперской конституции и подписанием Австро-венгерского соглашения, империя ослабла ещё сильнее, так как делилась на две части: Австрию и Венгрию. Обе теперь получили право иметь собственные армии, сеймы, представительские учреждения и т.д., а собственный бюджет в каждой части империи существовал уже до принятия новой конституции. Собственный сейм получила Босния и Герцеговина (ей также принадлежала часть бюджета).
Долгое время империей правил Франц-Иосиф I, который собрал вокруг себя сторонников-интернационалистов, что не позволяло Австро-Венгрии распасться на ряд унитарных и национально однородных государств. Однако и в правящей элите наметились разногласия, со временем переросшие в недоверие и открытое противостояние между чиновниками разных национальностей, даже эрцгерцог Франц Фердинанд заразился ненавистью к венграм как к национальности, всячески ужимая их права и помогая народам, которые испокон веков жили рядом с ними. Нетерпимость Франца Фердинанда к венгерской половине империи вылилась во фразу «Они мне антипатичны, хотя бы просто из-за языка», которую он произнёс после очередной безуспешной попытки выучить венгерский язык[2].
В таких условиях мощный бюрократический аппарат, в три раза превышающий численность австро-венгерской армии[2], начал «национализацию» местной власти по национальному и религиозному признаку, которая не проходила без кровопролития. Теперь идеи сепаратизма проникли во все слои общества, лишь крупная буржуазия поддерживала императора и желала целостности империи, надеясь на Франца-Иосифа как на спасителя Австро-Венгрии. Сам Франц-Иосиф прекрасно понимал, что распада ему в одиночку не сдержать, поэтому сетовал на свою безвыходность. «Моё несчастье, что я не могу найти государственного деятеля» — говорил он. Франц Фердинанд, несмотря на свою неприязнь к венграм, предпринимал попытки превратить империю в федерацию, которые, однако, завершались безуспешно вмешательством императора, боявшегося утратить всю полноту власти[2].
Ход событий
Общий кризис в тылу и на фронте
В январе-феврале 1918 года по стране прокатилась волна забастовок. Основные требования: перемирие с Россией на любых условиях, проведение демократических реформ, улучшение снабжения пищей[3].
Всеобщие забастовки начала года, нехватка провизии и распространение революционных идей негативно сказались на австро-венгерской армии и в конце-концов окончательно деморализовали её. Первым вооружённым восстанием в военно-морском флоте Австро-Венгрии было Которское[3]. Оно началось 1 февраля 1918 года в Которском заливе на Адриатике с бунта на крейсере «Санкт-Георг», позже к восставшим присоединились экипажи ещё 42 судов и рабочие порта. Восстали в основном матросы, принадлежвшие к национальным меньшинствам империи — словенцы, сербы, хорваты, венгры. Руководили ими Ф. Раш, М. Брничевич, А. Грабар и Е. Шишгорич. На судах создавались ревкомы. Восставшие требовали немедленного заключения мира с Россией на её условиях — то есть самоопределение народов Австро-Венгрии. 3 февраля из военно-морской базы в Пуле к бухте подошли несколько подлодок, по суше к порту была переброшена пехота. В тот же день восстание было подавлено, около 800 человек арестовали, всех руководителей расстреляли[3].
 На востоке ситуация сложилась ещё хуже. Несмотря на заявления австро-венгерских политиков о бесперспективности похода на Украину, австрийская армия продолжила наступление. В феврале с Украинской Народной Республикой (УНР) был подписан сепаратный мирный договор и ещё несколько хозяйственно-экономических договоров, а 29 апреля Центральная Рада УНР была замещена правительством Скоропадского. Тем временем в Галиции на волне сближения империи с УНР активизировались местные украинцы, которые 16 июля провели общенациональный съезд во Львове.
На востоке ситуация сложилась ещё хуже. Несмотря на заявления австро-венгерских политиков о бесперспективности похода на Украину, австрийская армия продолжила наступление. В феврале с Украинской Народной Республикой (УНР) был подписан сепаратный мирный договор и ещё несколько хозяйственно-экономических договоров, а 29 апреля Центральная Рада УНР была замещена правительством Скоропадского. Тем временем в Галиции на волне сближения империи с УНР активизировались местные украинцы, которые 16 июля провели общенациональный съезд во Львове.
1 мая по всей Австро-Венгрии прокатилась волна массовых демонстраций. 5 мая немцы поймали 18 австрийских солдат, пропагандировавших революцию, и расстреляли. В том же месяце в глубоком тылу империи, в городе Румбурк, восстал местный гарнизон. Восстание было подавлено. 17 июня в Вене прошёл голодный бунт, а 18 июня — всеобщая забастовка из-за голода.
В последние месяцы существования империи из австро-венгерской армии бежало около 150 000 человек[3] (для сравнения: число дезертиров с начала войны до августа 1918 года составляло 100 000 человек, а с августа по октябрь оно возросло в два с половиной раза и достигло 250 000 человек). 20 августа в Могилёве-Подольском произошло очередное восстание солдат. На этот раз причиной послужил приказ об отправке на Итальянский фронт, где в последнее время шли ожесточённые бои. В тот же день после 12-часового сражения восстание было подавлено, а выжившие повстанцы бежали к партизанам. В сентябре произошло восстание австро-венгерских войск в Одессе. Причина — приказ об отправке на Балканский фронт[3]. Вскоре вновь начались общенациональные стачки и забастовки в разных регионах империи, руководимые местными национальными комитетами. Это и послужило поводом к распаду Австро-Венгрии.
Австрия
Австрия являлась титульным государством в империи Габсбургов, вокруг неё объединились остальные части страны. В Вене заседало правительство Австро-Венгрии и все органы управления страной. Собственно сама Австрия не отпадала от империи и не провозглашала независимости, хотя и в ней происходили конфликты между итальянцами и австрийцами, а также между словенцами и австрийцами. Оба конфликта были решены мирным путём.
Австро-Венгерская империя подписала перемирие с Антантой 3 ноября 1918 года[4]. Империя в тот момент была децентрализована и фактически распалась, в Галиции уже два дня шла война (см. Королевство Галиции и Лодомерии), а Чехословакия провозгласила независимость. 6 ноября Польша провозгласила свою независимость.
12 ноября Карл I снял с себя полномочия императора Австрии и Богемии, хотя официально не отрёкся от престола[4], в Австрии провозглашена республика в составе Германии. Позже победившая в войне Антанта запретила подобный союз. Было создано Учредительное Собрание. Выборы в него состоялись 16 февраля 1919 года. На них победила Социал-демократическая партия Австрии, набравшая 1 200 000 голосов избирателей, или 41,6 % от общего числа голосов[4]. В итоге рейхсканцлером страны был избран Карл Реннер. 3 апреля Учредительное Собрание приняло решение об изгнании Габсбургов из Австрии.
В первые месяцы существования республики в государстве происходили голодные бунты, крестьянские восстания, забастовки рабочих. Это было вызвано всеобщим кризисом во всех регионах бывшей Австро-Венгрии и нехваткой продовольствия из-за мировой войны. В 1919 году, с провозглашением Венгерской Советской Республики, в Австрии начались выступления коммунистов[4]. Во время одного из таких митингов 15 июня митингующие предприняли попытку штурмовать тюрьму в Вене. Полиция пресекла действия демонстрантов, применив оружие. В итоге погибло 17 человек из числа митингующих, ещё около ста получили ранения разной тяжести[4].
К 1920 году положение в Австрии стабилизировалось, была принята конституция, были проведены реформы[4]. Первая Австрийская республика просуществовала до 1938 года, когда была присоединена к Третьему рейху.
Венгрия, Трансильвания и Буковина
 Ещё с 1867 года Венгрия и Австрия существовали в Австро-Венгрии как два отдельных государства, скреплённых личной унией. С началом распада империи Габсбургов 17 октября 1918 года парламент Венгрии разорвал унию с Австрией и провозгласил независимость страны. Несмотря на это, Венгрия продолжала де-факто оставаться в составе Австро-Венгрии. 30 октября в Будапеште вспыхнуло народное восстание[3], направленное против Габсбургской монархии. В тот же день Национальное собрание Словакии приняло «Мартинскую декларацию», по которой Словакия отделялась от Венгрии и входила в состав недавно образованной Чехословакии.
Ещё с 1867 года Венгрия и Австрия существовали в Австро-Венгрии как два отдельных государства, скреплённых личной унией. С началом распада империи Габсбургов 17 октября 1918 года парламент Венгрии разорвал унию с Австрией и провозгласил независимость страны. Несмотря на это, Венгрия продолжала де-факто оставаться в составе Австро-Венгрии. 30 октября в Будапеште вспыхнуло народное восстание[3], направленное против Габсбургской монархии. В тот же день Национальное собрание Словакии приняло «Мартинскую декларацию», по которой Словакия отделялась от Венгрии и входила в состав недавно образованной Чехословакии.
К власти пришло коалиционное правительство Михая Каройи. В Трансильвании в этот же день прошла всеобщая забастовка[5]. Уличные беспорядки в Будапеште продлились до 2 ноября. 3 ноября в Буковине образовалась Коммунистическая партия Буковины, требовавшая соединения региона с УССР. Тем временем 5 ноября в Будапеште Карл I был низложен с венгерского престола, хотя сам он сложил с себя полномочия венгерского короля 13 ноября, не отрёкшись, однако, от престола. Правительство страны возглавил Михай Каройи. Он правил страной несколько месяцев, однако не смог провести жизненно важных для страны реформ и установить дружественных отношений с Антантой[5].
Положение Венгрии ухудшилось и из-за вступления румынских войск в Трансильванию и её аннексии королевством Румыния. В стране активизировали свою деятельность социал-демократы и коммунисты. 20 февраля 1919 года в Будапеште произошёл погром газеты социал-демократов «Вереш Уйшаг» коммунистами[3]. Погибло 7 человек, включая полицейских, вмешавшихся в столкновения. Это послужило поводом для череды массовых арестов членов Коммунистической партии Венгрии. Несмотря на это, симпатии населения к коммунистам росли, и 1 марта под давлением общественности венгерское правительство вынуждено было легализовать коммунистов. 11 марта в Сегеде произошла антиправительственная демонстрация рабочих и военных. 18 марта во время демонстрации на Чепельском заводе зазвучали призывы к установлению в стране советской власти. 19 марта представитель Антанты в Будапеште вручил главе правительства Михаю Карольи карту Венгрии с новыми границами страны и попросил разрешения ввести в Венгрию войска Антанты для «предотвращения массовых беспорядков».
 20 марта ситуация в стране усугубилась. Коммунисты начали захватывать в Будапеште все правительственные организации. Правительство Карольи ушло в отставку. 21 марта было сформировано новое коммунистическое правительство во главе с Белой Куном и провозглашена Венгерская Советская республика. 22 марта правительство РСФСР первым признало новое государство и послало в Будапешт приветственную радиограмму[5]. 22 марта в Закарпатье была провозглашена советская власть, хотя на него претендовала ЗУНР. 25 марта была образована Венгерская Красная Армия, а 26 марта вышли первые декреты коммунистического правительства о национализации предприятий. 29 марта на спорной венгерско-чехословацкой границе произошло несколько крупных вооружённых столкновений между войсками обеих стран[5]. Венгрия объявила войну Чехословакии. 16 апреля румынские войска пересекли румыно-венгерскую демаркационную линию в Трансильвании и начали наступление на города Сольнок, Токай, Дебрецен, Орадя, Кечкемет, Мукачево, Хуст[5]. Тем временем на границе с новообразованной Югославией начались манёвры сербских войск, а чехословацкая армия начала наступление на северном фронте.
20 марта ситуация в стране усугубилась. Коммунисты начали захватывать в Будапеште все правительственные организации. Правительство Карольи ушло в отставку. 21 марта было сформировано новое коммунистическое правительство во главе с Белой Куном и провозглашена Венгерская Советская республика. 22 марта правительство РСФСР первым признало новое государство и послало в Будапешт приветственную радиограмму[5]. 22 марта в Закарпатье была провозглашена советская власть, хотя на него претендовала ЗУНР. 25 марта была образована Венгерская Красная Армия, а 26 марта вышли первые декреты коммунистического правительства о национализации предприятий. 29 марта на спорной венгерско-чехословацкой границе произошло несколько крупных вооружённых столкновений между войсками обеих стран[5]. Венгрия объявила войну Чехословакии. 16 апреля румынские войска пересекли румыно-венгерскую демаркационную линию в Трансильвании и начали наступление на города Сольнок, Токай, Дебрецен, Орадя, Кечкемет, Мукачево, Хуст[5]. Тем временем на границе с новообразованной Югославией начались манёвры сербских войск, а чехословацкая армия начала наступление на северном фронте.
 К 1 мая Чехословакия полностью оккупировала Закарпатье и часть Словакии, а ВКА удалось остановить румынские войска на реке Тиса. Начался массовый призыв в ВКА. 30 мая наступление румынских и чехословацких войск было остановлено, и началось контрнаступление ВКА на северном фронте. Контрнаступление получило название «Северный поход». В результате венграм удалось вторгнуться в Словакию и провозгласить Словацкую Советскую Республику. Закарпатье было провозглашено Подкарпатской Русью в составе Венгрии, хотя фактически продолжало контролироваться чехословацкой армией. Тем временем в июне в самой Венгрии начались антисоветские восстания, подавляемые войсками[5].
К 1 мая Чехословакия полностью оккупировала Закарпатье и часть Словакии, а ВКА удалось остановить румынские войска на реке Тиса. Начался массовый призыв в ВКА. 30 мая наступление румынских и чехословацких войск было остановлено, и началось контрнаступление ВКА на северном фронте. Контрнаступление получило название «Северный поход». В результате венграм удалось вторгнуться в Словакию и провозгласить Словацкую Советскую Республику. Закарпатье было провозглашено Подкарпатской Русью в составе Венгрии, хотя фактически продолжало контролироваться чехословацкой армией. Тем временем в июне в самой Венгрии начались антисоветские восстания, подавляемые войсками[5].
Уже в июле части ВКА начали эвакуацию из Словакии. 20 июля началось венгерское наступление на румынском фронте. Его план из-за предательства в рядах ВКА попал в руки к румынам, и наступление 30 июля было сорвано. Румыны перешли в наступление по всей линии фронта. 1 августа коммунисты вышли из коалиционного правительства. Новое правительство распустило ВКА и отменило конституцию Венгерской Советской республики[5], таким образом, коммунистический режим пал. 4 августа румынская армия вошла в Будапешт. 6 августа румыны назначили правителем Венгрии архиепископа Йозефа. Он был смещён с этой должности 23 августа по требованию Антанты[5]. После падения ВСР Иштван Бетлен и Миклош Хорти взяли контроль над западной Венгрией. 11 ноября их войска вошли в Будапешт, отбив его у румын. Хорти стал диктатором Венгрии (с официальным титулом регента, так как Венгрия формально оставалась монархией) и правил страной до 1944 года.
 4 июня 1920 года между Венгрией и странами-победительницами был подписан Трианонский договор, установивший современные границы Венгрии. К Румынии отошла Трансильвания и часть Баната, к Австрии — Бургенланд, к Чехословакии — Закарпатье и Словакия, к Югославии — Хорватия и Бачка[6]. Румыния также заняла Буковину, хотя та не входила в состав Венгрии. Ко времени подписания договора ни одна из этих территорий Венгрией не контролировалась. В связи с подписанием договора и огромными территориальными потерями в Венгрии установился реваншизм[6]; дошло до того, что в стране был объявлен траур, вплоть до 1938 года все флаги в Венгрии были приспущены, а в учебных заведениях каждый учебный день начинался с молитвы о восстановлении родины в прежних границах[6].
4 июня 1920 года между Венгрией и странами-победительницами был подписан Трианонский договор, установивший современные границы Венгрии. К Румынии отошла Трансильвания и часть Баната, к Австрии — Бургенланд, к Чехословакии — Закарпатье и Словакия, к Югославии — Хорватия и Бачка[6]. Румыния также заняла Буковину, хотя та не входила в состав Венгрии. Ко времени подписания договора ни одна из этих территорий Венгрией не контролировалась. В связи с подписанием договора и огромными территориальными потерями в Венгрии установился реваншизм[6]; дошло до того, что в стране был объявлен траур, вплоть до 1938 года все флаги в Венгрии были приспущены, а в учебных заведениях каждый учебный день начинался с молитвы о восстановлении родины в прежних границах[6].
Чехословакия и Закарпатье
За образование независимых Чехии и Словакии выступали интеллигенция и студенты. Сформировались две ветви освободительного движения. Первая во главе с Масариком, Бенешем и Штефаником уехала за границу и создала Чехословацкий национальный комитет, а другая осталась в стране, где вела пропаганду. Первая ветвь поддерживалась Антантой, с её помощью в странах Европы и самой Австро-Венгрии велась чехословацкая пропаганда. 6 января 1918 года Генеральным сеймом чешских имперских и земских депутатов была принята декларация с требованиями предоставить автономию чехам и словакам[3].
 12 октября в Праге для проведения стачек и забастовок был создан «Комитет действия». 14 октября в городах Млада-Болеслав, Брандис, Писек, Брно, Острава, Кралупи и Лаба были проведены демонстрации. Тогда же впервые публично прозвучал призыв к отделению чешских и словацких земель от Австро-Венгрии. В Чехии имперские войска в первый же день подавили демонстрацию, а в Моравии протесты были подавлены только 16 октября[3]. 18 октября в Вашингтоне (США) была опубликована декларация независимости Чехословакии. 24 октября Антанта, предоставившая политическое убежище Масарику и его сторонникам, официально признала правительством Чехословакии Чехословацкий национальный комитет. Во многом благодаря ей удалось создать Чехословакию.
12 октября в Праге для проведения стачек и забастовок был создан «Комитет действия». 14 октября в городах Млада-Болеслав, Брандис, Писек, Брно, Острава, Кралупи и Лаба были проведены демонстрации. Тогда же впервые публично прозвучал призыв к отделению чешских и словацких земель от Австро-Венгрии. В Чехии имперские войска в первый же день подавили демонстрацию, а в Моравии протесты были подавлены только 16 октября[3]. 18 октября в Вашингтоне (США) была опубликована декларация независимости Чехословакии. 24 октября Антанта, предоставившая политическое убежище Масарику и его сторонникам, официально признала правительством Чехословакии Чехословацкий национальный комитет. Во многом благодаря ей удалось создать Чехословакию.
28 октября Австро-Венгерское правительство направило Антанте ноту, в которой сообщалось о возможности капитуляции империи[1]. Нота была немедленно обнародована имперским правительством по всей стране, в том числе и в Праге. Люди восприняли написанное как окончательное завершение боевых действий, хотя сражения ещё шли, и вышли на улицы Праги, устроив торжества. Чешский национальный комитет воспользовался случившимся и бескровно перенял власть в городе. В первую очередь под контроль были взяты все склады с провизией, затем прошли успешные переговоры с командующим местным австро-венгерским гарнизоном Дзанантони, чтобы он не предпринимал силовых действий.
Узнав о переходе власти в городе к национальному комитету, люди вышли на улицы, начали срывать отовсюду австрийскую и габсбургскую символику, заменяя чехословацкой, и сбивать австрийские кокарды с австро-венгерских солдат. Это раздражало их и едва не привело к кровопролитию, однако вовремя вмешались члены Национального совета[1], которые уладили сложившуюся ситуацию. Но Словакия по-прежнему контролировалась имперскими войсками, а ситуация на границе Чехии с недавно провозглашённой Австрийской республикой и Германией обострилась, так как местные немцы не желали жить во враждебной им Чехословакии[1]. 14 ноября в Праге собралось Национальное собрание, на котором президентом Чехословакии был избран Томаш Масарик.
Так как граница с Польшей не была точно демаркирована, зимой 1919 года разразился Тешинский конфликт. Чехословацкой армии удалось разбить слабые польские части и перейти в наступление, однако в конфликт вмешалась Антанта, потребовавшая прекращения боевых действий. Войска Чехословакии вернулись на исходные позиции.
Сразу же после распада Габсбургской империи в Закарпатье началась борьба проукраинских, провенгерских и прочехословацких сил.
Венгрия не желала лишаться Закарпатья, поэтому 26 декабря провозгласила автономный статус Карпатской Руси в составе Венгрии под названием «Русская Краина» с центром в Мукачево. Однако, в начале 1919 года чешские войска заняли Закарпатье и Словакию[1], а 15 января вошли в Ужгород. С захватом в Венгрии власти советским правительством Чехословакия и Румыния начали войну против неё. Чехословакам и венграм также приходилось соперничать с Украинской Народной Республикой, которая, после решения «Собора всех русинов, живущих в Венгрии» о присоединении Закарпатья к Украинскому соборному государству, стала открыто претендовать на весь регион и ввела туда войска. 8 мая 1919 года «Центральный руський Народный Совет» в занятом чехословацкими войсками Ужгороде проголосовал за присоединение к Чехословакии. Однако Венгрия оккупировала юго-восточные районы Словакии, провозгласив там Словацкую Советскую республику и отрезав Закарпатье от Праги. 30 июля румынская армия перешла в победоносное наступление на румынском фронте и заняла Будапешт. Венгерская Советская республика потерпела поражение, а Чехословакия была восстановлена в прежних границах. С подписанием Трианонского договора при содействии Антанты 10 сентября 1919 года Закарпатье отошло к Чехословакии.
Королевство Галиции и Лодомерии
В королевстве Галиции и Лодомерии, образованном сразу после раздела Речи Посполитой, смешались сразу несколько народов, преобладающими среди которых были поляки и украинцы. Шло противостояние обоих народов с самого образования королевства. Полякам при поддержке Габсбургов долгое время удавалось сохранять в регионе правящие посты, оспариваемые украинцами. Это привело к почти вековой политическо-культурной борьбе.
 В первые годы XX века в Галиции массово формировались как украинские, так и польские военизированные молодёжные организации. С началом мировой войны галицийские украинцы провозгласили своей целью воссоединение Галиции и остальной Украины под властью австрийских Габсбургов. Когда в ходе войны в 1918 правительство империи де-факто признало УНР, местные украинцы активизировались. На съезде 16 июля во Львове украинцы решили, что «распад монархии особенно сильно прогрессирует на протяжении последних трёх месяцев».
В первые годы XX века в Галиции массово формировались как украинские, так и польские военизированные молодёжные организации. С началом мировой войны галицийские украинцы провозгласили своей целью воссоединение Галиции и остальной Украины под властью австрийских Габсбургов. Когда в ходе войны в 1918 правительство империи де-факто признало УНР, местные украинцы активизировались. На съезде 16 июля во Львове украинцы решили, что «распад монархии особенно сильно прогрессирует на протяжении последних трёх месяцев».
К началу осени активизировались поляки. 7 октября 1918 польский Регентский совет в Варшаве заявил о плане восстановления независимости Польши. 9 октября было принято решение возродить Польшу в границах Речи Посполитой, что на деле было невозможным. Со стороны украинцев последовала ответная реакция, и 10 октября украинская фракция во главе с Евгением Петрушевичем приняла решение созвать во Львове Украинский национальный совет (УНС). Возник он 18 октября и был возглавлен Костем Левицким.
В конце октября ситуация обострилась ещё сильнее, так как поляки создали «ликвидационную комиссию», основной целью которой было присоединение Галиции к возрождённой Польше. Комиссия сформировалась в Кракове и собиралась переехать во Львов, откуда планировалось управлять регионом. Это заставило украинцев поспешить с провозглашением ЗУНР, намечавшемся на 3 ноября.
 В ночь на 1 ноября части украинских сичевых стрельцов, ранее входивших в состав австро-венгерской армии, заняли все государственные учреждения во Львове, Тернополе, Станиславове, Золочеве, Раве-Русской, Сокале, Печенежине, Коломые и Снятыне. Австро-венгерский губернатор во Львове передал полномочия своему вице-президенту Владимиру Децкевичу, украинцу. Утром того же дня начались первые уличные бои между польскими ополченцами и украинскими сичевыми стрельцами, что официально считается началом Польско-украинской войны. Однако ЗУНР официально была создана только 10 ноября, а Польша — 11 ноября. 12 ноября Евгений Петрушевич стал президентом ЗУНР. Польшу возглавлял Юзеф Пилсудский, который в ходе войны основал Войско Польское, противопоставленное УГА.
В ночь на 1 ноября части украинских сичевых стрельцов, ранее входивших в состав австро-венгерской армии, заняли все государственные учреждения во Львове, Тернополе, Станиславове, Золочеве, Раве-Русской, Сокале, Печенежине, Коломые и Снятыне. Австро-венгерский губернатор во Львове передал полномочия своему вице-президенту Владимиру Децкевичу, украинцу. Утром того же дня начались первые уличные бои между польскими ополченцами и украинскими сичевыми стрельцами, что официально считается началом Польско-украинской войны. Однако ЗУНР официально была создана только 10 ноября, а Польша — 11 ноября. 12 ноября Евгений Петрушевич стал президентом ЗУНР. Польшу возглавлял Юзеф Пилсудский, который в ходе войны основал Войско Польское, противопоставленное УГА.
Реально власть ЗУНР распространялась только на Восточную Галицию и некоторое время на Буковину, хотя республика была провозглашена на территориях Закарпатья, в котором украинские интересы столкнулись с венгерскими и чехословацкими, всей Галиции, западная часть которой поочерёдно контролировалась воюющими сторонами, Волыни, которая вошла в состав Польши, и Буковины, которую заняли румынские войска. Кроме того, в Лемковщине возникли две лемковские республики и одна польская. Команчанская Республика (Восточно-Лемковская Республика) была провозглашена в селе Команча близ Сана, она претендовала на объединение с ЗУНР. Русская Народная Республика Лемков (Западно-Лемковская республика) была провозглашена в селе Фльоринка и претендовала на объединение с демократической Россией или Чехословакией. Республика, основанная местными поляками-коммунистами, называлась Тарнобжегской. Все три республики были ликвидированы польской армией.
С 21 по 22 ноября во Львове после кратковременного перемирия шли широкомасштабные бои. В результате поляки полностью овладели городом, а украинские войска вынуждены были отступить за городскую черту. В конце ноября — начале декабря поляки отбили у украинцев стратегически важные города в Западной Галиции и перешли к обороне. К тому времени в ЗУНР возникла регулярная Украинская Галицкая Армия, которая неоднократно в течение зимы предпринимала неудачные попытки прорвать линию фронта, стабилизировавшуюся по линии река Тесная↔Хыров↔Перемышль↔Львов↔Ярослав↔Любачев↔Рава-Русская↔Белз↔Крылов.
В конце 1918 года власти ЗУНР начали переговоры с директорией Симона Петлюры, который возглавил УНР. 3 января 1919 государства объявили об своём объединении, а 22 января был подписан «Акт злуки», согласно которому ЗУНР входила в состав украинского государства, превращаясь в субъект административно-территориального деления под названием ЗОУНР (Западная область Украинской народной республики). На деле, однако, это не принесло никаких результатов. Поляки продолжали успешно наступать на западе, в стране наблюдалась острая нехватка боеприпасов, а Симон Петлюра не спешил с помощью.
 В конфликт неоднократно вмешивалась Антанта с предложением подписать перемирие и размежевать границу между Польшей и ЗУНР, однако по разным причинам поочерёдно ни та, ни другая сторона не желали идти на компромисс.
В конфликт неоднократно вмешивалась Антанта с предложением подписать перемирие и размежевать границу между Польшей и ЗУНР, однако по разным причинам поочерёдно ни та, ни другая сторона не желали идти на компромисс.
Весной активные боевые действия возобновились. Сначала успешно наступали поляки, вытеснив УГА к Збручу и Днестру. В результате наступления украинские соединения УГА 1-я горная бригада и группа «Глубокая» попали в глубокий тыл поляков и ушли в Закарпатье, где прекратили своё существование. Однако 7 июня украинские войска предприняли «Чортковское наступление», которое продлилось до 22 июня. УГА удалось вновь взять под свой контроль Восточную Галицию. 28 июня Петрушевич принял полномочия диктатора, а в июле поляки перешли в решительное наступление, в результате которого УГА прекратила своё существование. 1 октября Польша и УНР заключили мир и установили общую границу. В конце лета УНР была уничтожена наступающими на запад советскими войсками. Вслед за Польско-украинской войной последовала Советско-польская, в которой поляки перед собой ставили цель возродить Польшу в границах 1772 года. По Рижскому договору 1921 года РСФСР и УССР признали Галицию за Польшей.
Королевство сербов, хорватов и словенцев
 Ещё в 1914 году, до начала Первой мировой войны, славянское население Балкан поддерживало Сербию. Когда началась война, в сербские войска из Австро-Венгрии бежало 35000 человек[7]. После череды поражений австро-венгерской армии сербские, хорватские, словенские и боснийские интеллигенция и политики в Австро-Венгрии начали ориентироваться на победу в войне стран Антанты. В 1915 году в Париже был создан Югославянский комитет, который вскоре переехал в Лондон. Его целью было проведение антиавстрийской кампании среди славянского населения Балкан. Комитет возглавил Анте Трумбич. Он провозгласил единство сербов, хорватов, словенцев и выразил надежду на создание единого югославянского государства[7]. Внутри Австро-Венгрии тоже наблюдались процессы единения южных славян, но под властью Габсбургов. Словенская национальная партия 30 мая 1917 года потребовала объединения Хорватии и Словении в составе Австро-Венгрии. Лидер партии заявил, что новое образование не представляет угрозы целостности империи, и что «идеей сепаратизма может воспользоваться только сербская пропаганда»[7].
Ещё в 1914 году, до начала Первой мировой войны, славянское население Балкан поддерживало Сербию. Когда началась война, в сербские войска из Австро-Венгрии бежало 35000 человек[7]. После череды поражений австро-венгерской армии сербские, хорватские, словенские и боснийские интеллигенция и политики в Австро-Венгрии начали ориентироваться на победу в войне стран Антанты. В 1915 году в Париже был создан Югославянский комитет, который вскоре переехал в Лондон. Его целью было проведение антиавстрийской кампании среди славянского населения Балкан. Комитет возглавил Анте Трумбич. Он провозгласил единство сербов, хорватов, словенцев и выразил надежду на создание единого югославянского государства[7]. Внутри Австро-Венгрии тоже наблюдались процессы единения южных славян, но под властью Габсбургов. Словенская национальная партия 30 мая 1917 года потребовала объединения Хорватии и Словении в составе Австро-Венгрии. Лидер партии заявил, что новое образование не представляет угрозы целостности империи, и что «идеей сепаратизма может воспользоваться только сербская пропаганда»[7].
 После Октябрьской революции в России в Боснии и Герцеговине, Хорватии и Словении начали происходить серьёзные изменения. В конце осени в газетах начали появляться призывы к властям прекратить войну и провести реформы, подобные советским. Росло недовольство превосходством австрийцев над остальными народами империи. 8 декабря того же года Антон Корошец в австрийском парламенте в Вене сделал громкое заявление: «Можно ли считать, что в Австрии имеется равенство и свобода, если австрийцы, составляющие меньшинство населения, имеют большинство мандатов в рейхсрате, тогда как славяне почти лишены представительства, хотя они и превосходят австрийцев по численности?»[7]
После Октябрьской революции в России в Боснии и Герцеговине, Хорватии и Словении начали происходить серьёзные изменения. В конце осени в газетах начали появляться призывы к властям прекратить войну и провести реформы, подобные советским. Росло недовольство превосходством австрийцев над остальными народами империи. 8 декабря того же года Антон Корошец в австрийском парламенте в Вене сделал громкое заявление: «Можно ли считать, что в Австрии имеется равенство и свобода, если австрийцы, составляющие меньшинство населения, имеют большинство мандатов в рейхсрате, тогда как славяне почти лишены представительства, хотя они и превосходят австрийцев по численности?»[7]
В стране разразился кризис. В октябре 1918 года он достиг своего апогея (см. Общий кризис в тылу и на фронте). Австро-Венгрия терпела поражение, Сербия наоборот восстанавливалась. 15 сентября 1918 года сербские войска перешли в наступление. Одновременно в тылу австро-венгерской армии в оккупированных Сербии и Черногории развернулось народно-освободительное движение. 1 ноября сербские войска вошли в Белград, а уже на следующий день они перешли в широкомасштабное наступление на Воеводину. На юге сербы продвинулись в Хорватию. К этому времени в Сербии была завершена работа над программой по решению югославянского вопроса. Планировалось объединить все населённые сербами, хорватами, словенцами и боснийцами земли в единое королевство, возглавляемое Карагеоргиевичами. Кроме этой программы, названной Корфской декларацией, существовали и другие, но менее радикальные[7].
Осенью в югославянских регионах Австро-Венгрии формировались местные и центральные правительства. Долгое время они не приступали к исполнению своих обязанностей, выжидая наиболее благоприятного момента для провозглашения независимости. 29 октября недавно возникшее Народное вече сербов, хорватов и словенцев заявило о готовности взять в свои руки всю полноту власти в регионе[7]. Местные славянские организации объявили о прекращении сотрудничества с правительством Австро-Венгрии, и в тот же день было провозглашено Государство Словенцев, Хорватов и Сербов (ГСХС). В историографии Запада это событие классифицируется как государственный переворот[7].
Люблянский Народный совет располагал не более чем сотней солдат и офицеров. Пойманные и задержанные днем солдаты, возвращавшиеся с фронта, ночью расходились по своим сёлам. Стража, поставленная с вечера, исчезала Бог знает куда. Утром находили в караульном помещении только прислонённую к стене винтовку…
словенский публицист
31 октября королевство заявило о нейтралитете в войне, однако Антанта продолжала военные действия против страны вплоть до капитуляции Австрии[7].
Новое государство просуществовало всего месяц. Международное признание удалось получить только со стороны Сербии и Венгрии, которые послали своих представителей в Загреб — столицу королевства. Вскоре началась череда неповиновений местных советов Народному вече, формировались отряды повстанцев, в государстве установилась анархия. Ситуация ухудшалась наступлением итальянцев на севере. Они захватили крупные портовые города Далмации и Словении, где базировался весь бывший флот Австро-Венгрии, попавший в руки правительству ГСХС.
ГСХС обратилось за помощью к США, Сербии, Великобритании и Франции с просьбой предотвратить оккупацию страны итальянскими войсками. Из Сербии в ГСХС был прислан Душан Симович. Он сформировал отряды югославянской армии, которые участвовали в боях против Италии и Австрии, которая тоже хотела оккупировать Словению.
6 ноября в Женеве состоялись переговоры между представителями ГСХС и Сербии. Обсуждался вопрос о формировании совместного правительства и дальнейшем объединении этих государств. 10 ноября переговоры завершились договорённостью о формировании общего правительства в Париже. Но уже через неделю обе стороны отказались от этой идеи. В ноябре в ГСХС из подчинения центральных властей вышли двенадцать местных комитетов, а в Боснии возникла самостоятельная республика со столицей в Баня-Луке. Через страну из Австрии в Сербию и наоборот постоянно шло железнодорожное движение, город Нови-Сад в Воеводине стал важнейшим железнодорожным узлом. Несмотря на это, перевозка по стране продовольствия и гуманитарной помощи была невозможна из-за разбитых железных дорог и перегруженности транспортных магистралей. 19 ноября правительство Далмации вручило правительству ГСХС ультиматум с требованием немедленно решить продовольственный вопрос, в противном случае оно подчинится Сербии. Вслед за Далмацией подобные ультиматумы выдвинул ряд приморских регионов страны. Неподчинение центральным властям приморских частей королевства повлекло за собой морскую блокаду ГСХС и, как следствие, ухудшение положения в и без того деморализованной стране.
Через город Нови-Сад ежедневно проезжали тысячи австро-венгерских войск из Сербии и столько же, а может быть и больше, из Австро-Венгрии в Сербию - бывшие военнопленные, интернированные и другие. Больные прибывали в вагонах для скота, где часто лежали на голых досках, не имея хлеба. Они ехали целыми днями, а многие, так и не добравшись до Нови-Сада, умирали. Трупы умерших валялись на улицах, на берегу Дуная…
член Народного вече Нови Сада
Реакция во всём мире на объединение южных славян в единое государство была крайне противоречивой. Так, США, Франция и Италия заявили о неприязни новому государству, премьер-министр Великобритании в своей речи перед парламентом сказал, что «развал Австро-Венгрии не отвечает нашим военным планам». В конце концов Антанта и другие державы всё же признали Югославию.
Югославия просуществовала до Второй мировой, когда была оккупирована итало-германскими войсками. После освобождения она стала республикой.
Экономика
 Австро-венгерская крона, ходившая по территории бывшей империи и после её распада, обесценилась. Причиной инфляции послужило увеличение количества банкнот в обращении. За несколько лет войны их число возросло в 13,17 раза[8]. В 1914 году крона на 30 % обеспечивались золотом, а к последним месяцам существования империи её обеспечение этим металлом составляло 1 %. В итоге банкнота по отношению к доллару США упала в 3,5 раза, а стоимость жизни выросла в 16,4 раза[8]. Постоянное падение кроны в цене негативно сказалось на товарном хозяйстве. Производители товаров не доверяли национальной валюте, отказываясь продавать за неё товар. Из-за этого частым явлением стали бартерные сделки. Кроме того, реальный процент по депозитам стал резко отрицательным, люди начали забирать из банков свои сбережения. Всё это было вызвано нестабильностью кроны.
Австро-венгерская крона, ходившая по территории бывшей империи и после её распада, обесценилась. Причиной инфляции послужило увеличение количества банкнот в обращении. За несколько лет войны их число возросло в 13,17 раза[8]. В 1914 году крона на 30 % обеспечивались золотом, а к последним месяцам существования империи её обеспечение этим металлом составляло 1 %. В итоге банкнота по отношению к доллару США упала в 3,5 раза, а стоимость жизни выросла в 16,4 раза[8]. Постоянное падение кроны в цене негативно сказалось на товарном хозяйстве. Производители товаров не доверяли национальной валюте, отказываясь продавать за неё товар. Из-за этого частым явлением стали бартерные сделки. Кроме того, реальный процент по депозитам стал резко отрицательным, люди начали забирать из банков свои сбережения. Всё это было вызвано нестабильностью кроны.
Важнейшей проблемой, которую должны были решить новые государства, была стабилизация курса валюты и предотвращение её дальнейшего обесценивания. Инициативу исправить положение взяла на себя Чехословакия. В первую очередь её правительство потребовало от ещё существовавшего Австро-Венгерского банка прекратить выплаты по военным облигациям и кредитование правительств Австрии и Венгрии[8]. Позже были проведены переговоры между имперским Центробанком и новообразованными государствами, на которых было принято решение разрешить всем новым государствам самим назначать эмиссаров для контроля за эмиссией. Центробанк со своей стороны обязался не предоставлять займы без ведома всех эмиссаров[8].
Однако имперский Центробанк скоро нарушил договорённости с правительствами новых государств, возобновив выплаты по облигациям и прокредитовав правительство Австрии. Потеряв доверие к Центробанку, новые государства стали сами обеспечивать свою экономику. 8 января 1919 года в Хорватии был подписан указ, согласно которому необходимо было проштамповать все кроны, обращавшиеся в тот момент в ней, чтобы отделить их от остальных денег бывшей империи. 25 февраля в Чехословакии произошёл секретный съезд Национальной Ассамблеи. Было принято решение наделить министра финансов правом проштамповать все кроны, обращающиеся в Чехословакии. Той же ночью все границы были перекрыты войсками, и почтовое сообщение с другими странами прервано на несколько недель. Эти действия Ассамблея предприняла для предотвращения контрабанды банкнот. С 3 марта по 9 проводилась проштамповка крон, после чего был принят закон, по которому в Чехословакии легально могут использоваться только чехословацкие деньги. Вслед за этим все отделения имперского Центробанка в стране попали под прямой контроль правительства[8].
Проштамповка местной валюты в Чехии и Югославии угрожала Австрии, так как все непроштампованные кроны попали в эту страну, что могло привести к усилению инфляции. Это заставило правительство Австрии провести проштамповку денег в своей стране. Венгрия проштамповала свою валюту только после окончания войны с Румынией и Чехословакией, а Польша это сделала уже в 1920 году[8].
 Внешний долг Австро-Венгрии был поровну разделён между всеми новообразованными государствами. Облигации были заменены новыми, в каждой стране своими. Все они номинировались в национальной валюте той страны, где выпускались. В случае возникновения «перевеса» долга бывшей империи в одной из стран он поровну перераспределялся между остальными. Таким образом, национальные экономики были сформированы и уже действовали. На мирной конференции, прошедшей после мировой войны, их только легализовали. 31 июля 1924 года имперский Центробанк официально прекратил своё существование[8]. Теперь каждое новое государство шло своим, отличным от других путём развития. Одни из них начали быстро и энергично восстанавливать хозяйство, другие же пережили кризис.
Внешний долг Австро-Венгрии был поровну разделён между всеми новообразованными государствами. Облигации были заменены новыми, в каждой стране своими. Все они номинировались в национальной валюте той страны, где выпускались. В случае возникновения «перевеса» долга бывшей империи в одной из стран он поровну перераспределялся между остальными. Таким образом, национальные экономики были сформированы и уже действовали. На мирной конференции, прошедшей после мировой войны, их только легализовали. 31 июля 1924 года имперский Центробанк официально прекратил своё существование[8]. Теперь каждое новое государство шло своим, отличным от других путём развития. Одни из них начали быстро и энергично восстанавливать хозяйство, другие же пережили кризис.
Последствия
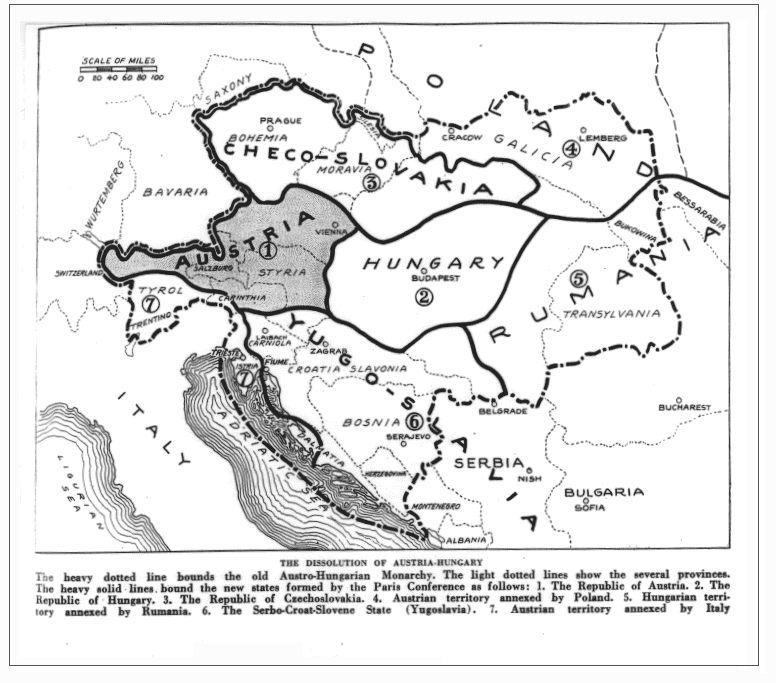 Австро-Венгрия распалась, едва завершилась Первая мировая война. Её территория была разделена между соседями Австро-Венгрии и новообразовавшимися государствами. Полный развал империи не входил в послевоенные планы Антанты, и та негативно восприняла его. Франция, США и Великобритания отнеслись к случившемуся с сожалением. По мнению Запада, империя служила защитным рубежом в Восточной Европе, оберегая Западную Европу от России и Турции. Создание новых государств также не понравилось Западу. Болезненно отреагировала Италия на возникновение ГСХС (позже Югославии), потенциального соперника в регионе. Но в распаде империи для Антанты были и плюсы. Теперь Австро-Венгрия не преграждала путь на Балканы, откуда можно было проникнуть в ослабшую и распавшуюся Османскую империю и Ближний Восток. Антанта в лице восстановленной Польши нашла стратегического союзника в восточной части Европы. Сложилась новая система международных отношений в Европе — Версальская, по которой Франция и Великобритания, а также их европейские союзники установили свою гегемонию практически над всей Европой: крупнейшие соперники этих стран были уничтожены[9].
Австро-Венгрия распалась, едва завершилась Первая мировая война. Её территория была разделена между соседями Австро-Венгрии и новообразовавшимися государствами. Полный развал империи не входил в послевоенные планы Антанты, и та негативно восприняла его. Франция, США и Великобритания отнеслись к случившемуся с сожалением. По мнению Запада, империя служила защитным рубежом в Восточной Европе, оберегая Западную Европу от России и Турции. Создание новых государств также не понравилось Западу. Болезненно отреагировала Италия на возникновение ГСХС (позже Югославии), потенциального соперника в регионе. Но в распаде империи для Антанты были и плюсы. Теперь Австро-Венгрия не преграждала путь на Балканы, откуда можно было проникнуть в ослабшую и распавшуюся Османскую империю и Ближний Восток. Антанта в лице восстановленной Польши нашла стратегического союзника в восточной части Европы. Сложилась новая система международных отношений в Европе — Версальская, по которой Франция и Великобритания, а также их европейские союзники установили свою гегемонию практически над всей Европой: крупнейшие соперники этих стран были уничтожены[9].
В связи с распадом Австро-Венгрии необходимо было подписать договор с каждой из возникших на её территории стран. 10 сентября 1919 года в городе Сен-Жермен был подписан Сен-Жерменский договор с Австрийской республикой. По этому договору Австрия должна была признать распад Австро-Венгрии и независимость возникших государств, а также согласиться с сложившимися границами. Со стороны стран Антанты в свою очередь признавалась независимость Австрийской республики, провозглашённой ещё 12 ноября 1918 года. Так как в составе Австро-Венгрии Австрии и Венгрии принадлежали разные территории, то территориальные потери Австрии ограничивались Цислейтанией. В итоге Австрия потеряла[9]:
- Чехию, вошедшую в состав Чехословакии;
- Словению, Боснию и Герцеговину, Далмацию и Истрию, которые вошли в состав Югославии;
- Южный Тироль, отошедший к Италии;
- Королевство Галиции и Лодомерии, ставшее частью возрождённой Польши;
 Кроме того, вся австрийская армия была демобилизована, а новая создавалась из контрактников и не могла превышать 30 000 человек, республике также запрещалось иметь флот и авиацию. Во всей стране оружие должен был выпускать всего один завод, принадлежащий государству. Австрия также облагалась репарациями и не должна была без согласия недавно возникшей Лиги Наций нарушать собственный суверенитет, то есть присоединяться к другим государствам. После этого был расторгнут союз Австрии и Германии[9].
Кроме того, вся австрийская армия была демобилизована, а новая создавалась из контрактников и не могла превышать 30 000 человек, республике также запрещалось иметь флот и авиацию. Во всей стране оружие должен был выпускать всего один завод, принадлежащий государству. Австрия также облагалась репарациями и не должна была без согласия недавно возникшей Лиги Наций нарушать собственный суверенитет, то есть присоединяться к другим государствам. После этого был расторгнут союз Австрии и Германии[9].
С Венгрией, как с участницей мировой войны, тоже был подписан договор. Его подписали 4 июня 1920 года в Большом Трианонском дворце в Версале, за что он получил название Трианонский. Венгрия, как и Австрия, демобилизовала свою армию и должна была ограничить её численность до 35000 человек. Кроме этого, ей запрещалось иметь флот, авиацию, тяжёлую артиллерию и танки. Страна также облагалась репарациями. Бывшие владения Венгрии в составе Австро-Венгрии (Транслейтания) были пересмотрены. По договору Венгрия теряла[9]:
- Трансильванию, вошедшую в состав Румынии;
- Хорватию, которая стала частью Югославии;
- Словакию и Закарпатье, которые отошли новообразованной Чехословакии;
- Порт Риека на побережье Адриатики перешёл под контроль Антанты, чтобы в дальнейшем превратить его в свободный город[9]; однако Риека в 1920 году была захвачена Габриеле д’Аннунцио, итальянским поэтом. Габриеле провозгласил Республику Фиуме, которая в том же году была ликвидирована итальянскими военно-морскими силами.
В дальнейшем, границы, установленные после распада Австро-Венгрии, изменялись во Вторую мировую войну, но после её окончания были восстановлены, хотя к СССР отошла Буковина, Закарпатье и Галиция. Во второй раз эти границы были изменены после раздела Чехословакии и распада Югославии, но в целом Венгрия и Австрия до сих пор находятся в границах 1919 и 1920 годов.
Важнейшим последствием распада империи стал рост национализма в новых государствах и, как следствие, замена имперской идеологии национальной, появление культурных и идеологических различий между народами бывшей империи. Многие народы так и не добились самоопределения. Это были украинцы, государство которых было ликвидировано, а его территория включена в состав Польши. Чехи, словаки и русины жили в едином государстве. Таким образом, положение многих народов только ухудшилось. Если в составе Австро-Венгрии они имели какое-то самоуправление и право на своих представителей в парламенте, то в составе новообразованных государств были ликвидированы их последние органы самоуправления. В дальнейшем каждая новая страна пошла своим путём развития, и различия между ними постоянно росли.
Альтернативные предложения
 С XIX века вплоть до самого распада Австро-Венгрии проживавшие на её юге славянские народы под влиянием панславянских идей неоднократно высказывались за превращение дуалистической монархии в федеративное государство, состоящее из трёх частей[7]. Ими должны были стать Австрия, Венгрия и Славия, сформированная из земель с преобладающим славянским населением. Славия должна была выступать в федерации наравне с Австрией и Венгрией. На деле эта идея так и не была реализована, хотя Босния и Герцеговина получили свой отдельный бюджет и сейм.
С XIX века вплоть до самого распада Австро-Венгрии проживавшие на её юге славянские народы под влиянием панславянских идей неоднократно высказывались за превращение дуалистической монархии в федеративное государство, состоящее из трёх частей[7]. Ими должны были стать Австрия, Венгрия и Славия, сформированная из земель с преобладающим славянским населением. Славия должна была выступать в федерации наравне с Австрией и Венгрией. На деле эта идея так и не была реализована, хотя Босния и Герцеговина получили свой отдельный бюджет и сейм.
Во время Первой мировой войны обе воюющие стороны высказывали мнения о сохранении Австро-Венгрии. Планировалось реорганизовать её в иное, новое государство, где все народы имели бы равные права. Замысел не удался из-за войны и волны сепаратизма в империи. В ходе Первой мировой идею превратить Австро-Венгрию в федерацию высказал президент США Вильсон в своём обращении к конгрессу. Его программа по урегулированию мировой войны, именуемая «14 пунктов», включала в себя предоставление автономии народам Австро-Венгерской империи[3], однако польские регионы Австро-Венгрии должны были войти в состав независимого польского государства. 18 октября Вильсон сделал заявление, что «не стоит играть в федерализм — народы империи хотят получить полную независимость»[7]. 16 октября Карл I издал манифест[3], в котором говорилось о преобразовании Австро-Венгерской империи в Федерацию самостоятельных государств:
Австрия должна стать, в соответствии с желаниями её народов, государством федеративным… К народам, на самоопределении которых будет основана новая империя, обращаюсь я — дабы участвовали в сим великом деле посредством национальных советов, которые должны представлять интересы народов в отношениях между собой и с моим правительством. Да выйдет наше Отечество из военных бурь как союз свободных народов.
Национальные советы, к созданию которых призывал император, появились, однако они занялись отнюдь не федерализацией Австро-Венгрии. Советы принялись отстаивать права представляемых ими народов на независимость, что в конце концов окончательно развалило лоскутную империю.
Напишите отзыв о статье "Распад Австро-Венгрии"
Примечания
- ↑ 1 2 3 4 5 [www.ua-reporter.com/novosti/40798 Крушение империи: как создавалась Чехословакия] (рус.). UA-Reporter.com (28.10.2008). Проверено 7 ноября 2008. [www.webcitation.org/654ugJbw2 Архивировано из первоисточника 30 января 2012].
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Шапошников Б. М. [militera.lib.ru/science/shaposhnikov1/01.html Мозг армии]. — Военная мысль.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [www.hrono.info/sobyt/1918av.html Революция и распад Австро-Венгрии 1918 г.] (рус.). ХРОНОС (04.12.2001). Проверено 8 ноября 2008. [www.webcitation.org/654uhddIa Архивировано из первоисточника 30 января 2012].
- ↑ 1 2 3 4 5 6 [www.hrono.ru/land/1900avst.html Австрия в XX веке] (рус.). ХРОНОС (15.12.2003). Проверено 15 ноября 2008. [www.webcitation.org/654ui5CiU Архивировано из первоисточника 30 января 2012].
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 [www.hrono.ru/sobyt/1919veng.html Венгерская Советская республика 1919 г.] (рус.). ХРОНОС (04.12.2001). Проверено 8 ноября 2008. [www.webcitation.org/654uiXGYd Архивировано из первоисточника 30 января 2012].
- ↑ 1 2 3 Мерников А. Г., Спектор А. А. Всемирная история войн. — Минск, 2005.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Писарев Ю.А. Создание Югославского государства в 1918 г.: уроки истории. — Новая и новейшая история, 1992. — № 1. vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/HISTORY/SERBIAN.HTM
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Pasvolsky L. Economic Nationalism of Danubian States. — С. 38—47.
- ↑ 1 2 3 4 5 Б. М. Меерсон, Д. В. Прокудин. [www.novsu.ru/npe/files/um/1412/bg/shell/arh/mono/Меерсон%20Б.,%20Прокудин%20Д.%20Лекции%20по%20истории%20западной%20цивилизации%20ХХ%20века.htm Версальская система международных отношений] (рус.). Проверено 16 ноября 2008. [www.webcitation.org/6HNXnruVm Архивировано из первоисточника 15 июня 2013].
См. также
- Австро-венгерское соглашение
- Создание Югославии
- Распад Российской империи
- Распад Османской империи
- Чешский коридор
- Колониальная экспансия Габсбургской монархии
- Соединённые Штаты Великой Австрии
Литература
- Sked Alan. The Decline And Fall of the Habsburg Empire, 1815–1918. — London: Longman, 1989.
- József Botlik. [www.corvinuslibrary.com/ruszin/karpatalja1.doc Csehszlovákia nemzetiségi politikája Kárpátalján 1919 — 1938-1939].
- Під прапором Великого Жовтня: збірник документів. — Ужгород, 1959.
- Wandycz P.S. The Lands of Partitioned Poland, 1795-1918. — London: Seattle & London, 1996.
- Трайнин И.П. Национальные противоречия в Австро-Венгрии и её распад. — Москва-Ленинград, 1947.
Ссылки
- [archive.is/20130108070249/www.hrono.info/maps/1918av.jpg Карта распада Австро-Венгрии]
- Шимов Я. [www.gazeta.ru/comments/2006/08/18_a_739331.shtml Как погибал «Советский Союз Центральной Европы». Первая часть].
- Шимов Я. [www.gazeta.ru/comments/2006/08/21_a_741517.shtml Как погибал «Советский Союз Центральной Европы». Вторая часть].
- Исламов Т. [vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/HISTORY/IMPERIA.HTM Австро-Венгрия в Первой мировой войне. Крах империи].
| |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эта статья входит в число хороших статей русскоязычного раздела Википедии. |
Отрывок, характеризующий Распад Австро-Венгрии
Пока происходят споры и интриги о будущем поле сражения, пока мы отыскиваем французов, ошибившись в их месте нахождения, французы натыкаются на дивизию Неверовского и подходят к самым стенам Смоленска.Надо принять неожиданное сражение в Смоленске, чтобы спасти свои сообщения. Сражение дается. Убиваются тысячи с той и с другой стороны.
Смоленск оставляется вопреки воле государя и всего народа. Но Смоленск сожжен самими жителями, обманутыми своим губернатором, и разоренные жители, показывая пример другим русским, едут в Москву, думая только о своих потерях и разжигая ненависть к врагу. Наполеон идет дальше, мы отступаем, и достигается то самое, что должно было победить Наполеона.
На другой день после отъезда сына князь Николай Андреич позвал к себе княжну Марью.
– Ну что, довольна теперь? – сказал он ей, – поссорила с сыном! Довольна? Тебе только и нужно было! Довольна?.. Мне это больно, больно. Я стар и слаб, и тебе этого хотелось. Ну радуйся, радуйся… – И после этого княжна Марья в продолжение недели не видала своего отца. Он был болен и не выходил из кабинета.
К удивлению своему, княжна Марья заметила, что за это время болезни старый князь так же не допускал к себе и m lle Bourienne. Один Тихон ходил за ним.
Через неделю князь вышел и начал опять прежнюю жизнь, с особенной деятельностью занимаясь постройками и садами и прекратив все прежние отношения с m lle Bourienne. Вид его и холодный тон с княжной Марьей как будто говорил ей: «Вот видишь, ты выдумала на меня налгала князю Андрею про отношения мои с этой француженкой и поссорила меня с ним; а ты видишь, что мне не нужны ни ты, ни француженка».
Одну половину дня княжна Марья проводила у Николушки, следя за его уроками, сама давала ему уроки русского языка и музыки, и разговаривая с Десалем; другую часть дня она проводила в своей половине с книгами, старухой няней и с божьими людьми, которые иногда с заднего крыльца приходили к ней.
О войне княжна Марья думала так, как думают о войне женщины. Она боялась за брата, который был там, ужасалась, не понимая ее, перед людской жестокостью, заставлявшей их убивать друг друга; но не понимала значения этой войны, казавшейся ей такою же, как и все прежние войны. Она не понимала значения этой войны, несмотря на то, что Десаль, ее постоянный собеседник, страстно интересовавшийся ходом войны, старался ей растолковать свои соображения, и несмотря на то, что приходившие к ней божьи люди все по своему с ужасом говорили о народных слухах про нашествие антихриста, и несмотря на то, что Жюли, теперь княгиня Друбецкая, опять вступившая с ней в переписку, писала ей из Москвы патриотические письма.
«Я вам пишу по русски, мой добрый друг, – писала Жюли, – потому что я имею ненависть ко всем французам, равно и к языку их, который я не могу слышать говорить… Мы в Москве все восторжены через энтузиазм к нашему обожаемому императору.
Бедный муж мой переносит труды и голод в жидовских корчмах; но новости, которые я имею, еще более воодушевляют меня.
Вы слышали, верно, о героическом подвиге Раевского, обнявшего двух сыновей и сказавшего: «Погибну с ними, но не поколеблемся!И действительно, хотя неприятель был вдвое сильнее нас, мы не колебнулись. Мы проводим время, как можем; но на войне, как на войне. Княжна Алина и Sophie сидят со мною целые дни, и мы, несчастные вдовы живых мужей, за корпией делаем прекрасные разговоры; только вас, мой друг, недостает… и т. д.
Преимущественно не понимала княжна Марья всего значения этой войны потому, что старый князь никогда не говорил про нее, не признавал ее и смеялся за обедом над Десалем, говорившим об этой войне. Тон князя был так спокоен и уверен, что княжна Марья, не рассуждая, верила ему.
Весь июль месяц старый князь был чрезвычайно деятелен и даже оживлен. Он заложил еще новый сад и новый корпус, строение для дворовых. Одно, что беспокоило княжну Марью, было то, что он мало спал и, изменив свою привычку спать в кабинете, каждый день менял место своих ночлегов. То он приказывал разбить свою походную кровать в галерее, то он оставался на диване или в вольтеровском кресле в гостиной и дремал не раздеваясь, между тем как не m lle Bourienne, a мальчик Петруша читал ему; то он ночевал в столовой.
Первого августа было получено второе письмо от кня зя Андрея. В первом письме, полученном вскоре после его отъезда, князь Андрей просил с покорностью прощения у своего отца за то, что он позволил себе сказать ему, и просил его возвратить ему свою милость. На это письмо старый князь отвечал ласковым письмом и после этого письма отдалил от себя француженку. Второе письмо князя Андрея, писанное из под Витебска, после того как французы заняли его, состояло из краткого описания всей кампании с планом, нарисованным в письме, и из соображений о дальнейшем ходе кампании. В письме этом князь Андрей представлял отцу неудобства его положения вблизи от театра войны, на самой линии движения войск, и советовал ехать в Москву.
За обедом в этот день на слова Десаля, говорившего о том, что, как слышно, французы уже вступили в Витебск, старый князь вспомнил о письме князя Андрея.
– Получил от князя Андрея нынче, – сказал он княжне Марье, – не читала?
– Нет, mon pere, [батюшка] – испуганно отвечала княжна. Она не могла читать письма, про получение которого она даже и не слышала.
– Он пишет про войну про эту, – сказал князь с той сделавшейся ему привычной, презрительной улыбкой, с которой он говорил всегда про настоящую войну.
– Должно быть, очень интересно, – сказал Десаль. – Князь в состоянии знать…
– Ах, очень интересно! – сказала m llе Bourienne.
– Подите принесите мне, – обратился старый князь к m llе Bourienne. – Вы знаете, на маленьком столе под пресс папье.
M lle Bourienne радостно вскочила.
– Ах нет, – нахмурившись, крикнул он. – Поди ты, Михаил Иваныч.
Михаил Иваныч встал и пошел в кабинет. Но только что он вышел, старый князь, беспокойно оглядывавшийся, бросил салфетку и пошел сам.
– Ничего то не умеют, все перепутают.
Пока он ходил, княжна Марья, Десаль, m lle Bourienne и даже Николушка молча переглядывались. Старый князь вернулся поспешным шагом, сопутствуемый Михаилом Иванычем, с письмом и планом, которые он, не давая никому читать во время обеда, положил подле себя.
Перейдя в гостиную, он передал письмо княжне Марье и, разложив пред собой план новой постройки, на который он устремил глаза, приказал ей читать вслух. Прочтя письмо, княжна Марья вопросительно взглянула на отца.
Он смотрел на план, очевидно, погруженный в свои мысли.
– Что вы об этом думаете, князь? – позволил себе Десаль обратиться с вопросом.
– Я! я!.. – как бы неприятно пробуждаясь, сказал князь, не спуская глаз с плана постройки.
– Весьма может быть, что театр войны так приблизится к нам…
– Ха ха ха! Театр войны! – сказал князь. – Я говорил и говорю, что театр войны есть Польша, и дальше Немана никогда не проникнет неприятель.
Десаль с удивлением посмотрел на князя, говорившего о Немане, когда неприятель был уже у Днепра; но княжна Марья, забывшая географическое положение Немана, думала, что то, что ее отец говорит, правда.
– При ростепели снегов потонут в болотах Польши. Они только могут не видеть, – проговорил князь, видимо, думая о кампании 1807 го года, бывшей, как казалось, так недавно. – Бенигсен должен был раньше вступить в Пруссию, дело приняло бы другой оборот…
– Но, князь, – робко сказал Десаль, – в письме говорится о Витебске…
– А, в письме, да… – недовольно проговорил князь, – да… да… – Лицо его приняло вдруг мрачное выражение. Он помолчал. – Да, он пишет, французы разбиты, при какой это реке?
Десаль опустил глаза.
– Князь ничего про это не пишет, – тихо сказал он.
– А разве не пишет? Ну, я сам не выдумал же. – Все долго молчали.
– Да… да… Ну, Михайла Иваныч, – вдруг сказал он, приподняв голову и указывая на план постройки, – расскажи, как ты это хочешь переделать…
Михаил Иваныч подошел к плану, и князь, поговорив с ним о плане новой постройки, сердито взглянув на княжну Марью и Десаля, ушел к себе.
Княжна Марья видела смущенный и удивленный взгляд Десаля, устремленный на ее отца, заметила его молчание и была поражена тем, что отец забыл письмо сына на столе в гостиной; но она боялась не только говорить и расспрашивать Десаля о причине его смущения и молчания, но боялась и думать об этом.
Ввечеру Михаил Иваныч, присланный от князя, пришел к княжне Марье за письмом князя Андрея, которое забыто было в гостиной. Княжна Марья подала письмо. Хотя ей это и неприятно было, она позволила себе спросить у Михаила Иваныча, что делает ее отец.
– Всё хлопочут, – с почтительно насмешливой улыбкой, которая заставила побледнеть княжну Марью, сказал Михаил Иваныч. – Очень беспокоятся насчет нового корпуса. Читали немножко, а теперь, – понизив голос, сказал Михаил Иваныч, – у бюра, должно, завещанием занялись. (В последнее время одно из любимых занятий князя было занятие над бумагами, которые должны были остаться после его смерти и которые он называл завещанием.)
– А Алпатыча посылают в Смоленск? – спросила княжна Марья.
– Как же с, уж он давно ждет.
Когда Михаил Иваныч вернулся с письмом в кабинет, князь в очках, с абажуром на глазах и на свече, сидел у открытого бюро, с бумагами в далеко отставленной руке, и в несколько торжественной позе читал свои бумаги (ремарки, как он называл), которые должны были быть доставлены государю после его смерти.
Когда Михаил Иваныч вошел, у него в глазах стояли слезы воспоминания о том времени, когда он писал то, что читал теперь. Он взял из рук Михаила Иваныча письмо, положил в карман, уложил бумаги и позвал уже давно дожидавшегося Алпатыча.
На листочке бумаги у него было записано то, что нужно было в Смоленске, и он, ходя по комнате мимо дожидавшегося у двери Алпатыча, стал отдавать приказания.
– Первое, бумаги почтовой, слышишь, восемь дестей, вот по образцу; золотообрезной… образчик, чтобы непременно по нем была; лаку, сургучу – по записке Михаила Иваныча.
Он походил по комнате и заглянул в памятную записку.
– Потом губернатору лично письмо отдать о записи.
Потом были нужны задвижки к дверям новой постройки, непременно такого фасона, которые выдумал сам князь. Потом ящик переплетный надо было заказать для укладки завещания.
Отдача приказаний Алпатычу продолжалась более двух часов. Князь все не отпускал его. Он сел, задумался и, закрыв глаза, задремал. Алпатыч пошевелился.
– Ну, ступай, ступай; ежели что нужно, я пришлю.
Алпатыч вышел. Князь подошел опять к бюро, заглянув в него, потрогал рукою свои бумаги, опять запер и сел к столу писать письмо губернатору.
Уже было поздно, когда он встал, запечатав письмо. Ему хотелось спать, но он знал, что не заснет и что самые дурные мысли приходят ему в постели. Он кликнул Тихона и пошел с ним по комнатам, чтобы сказать ему, где стлать постель на нынешнюю ночь. Он ходил, примеривая каждый уголок.
Везде ему казалось нехорошо, но хуже всего был привычный диван в кабинете. Диван этот был страшен ему, вероятно по тяжелым мыслям, которые он передумал, лежа на нем. Нигде не было хорошо, но все таки лучше всех был уголок в диванной за фортепиано: он никогда еще не спал тут.
Тихон принес с официантом постель и стал уставлять.
– Не так, не так! – закричал князь и сам подвинул на четверть подальше от угла, и потом опять поближе.
«Ну, наконец все переделал, теперь отдохну», – подумал князь и предоставил Тихону раздевать себя.
Досадливо морщась от усилий, которые нужно было делать, чтобы снять кафтан и панталоны, князь разделся, тяжело опустился на кровать и как будто задумался, презрительно глядя на свои желтые, иссохшие ноги. Он не задумался, а он медлил перед предстоявшим ему трудом поднять эти ноги и передвинуться на кровати. «Ох, как тяжело! Ох, хоть бы поскорее, поскорее кончились эти труды, и вы бы отпустили меня! – думал он. Он сделал, поджав губы, в двадцатый раз это усилие и лег. Но едва он лег, как вдруг вся постель равномерно заходила под ним вперед и назад, как будто тяжело дыша и толкаясь. Это бывало с ним почти каждую ночь. Он открыл закрывшиеся было глаза.
– Нет спокоя, проклятые! – проворчал он с гневом на кого то. «Да, да, еще что то важное было, очень что то важное я приберег себе на ночь в постели. Задвижки? Нет, про это сказал. Нет, что то такое, что то в гостиной было. Княжна Марья что то врала. Десаль что то – дурак этот – говорил. В кармане что то – не вспомню».
– Тишка! Об чем за обедом говорили?
– Об князе, Михайле…
– Молчи, молчи. – Князь захлопал рукой по столу. – Да! Знаю, письмо князя Андрея. Княжна Марья читала. Десаль что то про Витебск говорил. Теперь прочту.
Он велел достать письмо из кармана и придвинуть к кровати столик с лимонадом и витушкой – восковой свечкой и, надев очки, стал читать. Тут только в тишине ночи, при слабом свете из под зеленого колпака, он, прочтя письмо, в первый раз на мгновение понял его значение.
«Французы в Витебске, через четыре перехода они могут быть у Смоленска; может, они уже там».
– Тишка! – Тихон вскочил. – Нет, не надо, не надо! – прокричал он.
Он спрятал письмо под подсвечник и закрыл глаза. И ему представился Дунай, светлый полдень, камыши, русский лагерь, и он входит, он, молодой генерал, без одной морщины на лице, бодрый, веселый, румяный, в расписной шатер Потемкина, и жгучее чувство зависти к любимцу, столь же сильное, как и тогда, волнует его. И он вспоминает все те слова, которые сказаны были тогда при первом Свидании с Потемкиным. И ему представляется с желтизною в жирном лице невысокая, толстая женщина – матушка императрица, ее улыбки, слова, когда она в первый раз, обласкав, приняла его, и вспоминается ее же лицо на катафалке и то столкновение с Зубовым, которое было тогда при ее гробе за право подходить к ее руке.
«Ах, скорее, скорее вернуться к тому времени, и чтобы теперешнее все кончилось поскорее, поскорее, чтобы оставили они меня в покое!»
Лысые Горы, именье князя Николая Андреича Болконского, находились в шестидесяти верстах от Смоленска, позади его, и в трех верстах от Московской дороги.
В тот же вечер, как князь отдавал приказания Алпатычу, Десаль, потребовав у княжны Марьи свидания, сообщил ей, что так как князь не совсем здоров и не принимает никаких мер для своей безопасности, а по письму князя Андрея видно, что пребывание в Лысых Горах небезопасно, то он почтительно советует ей самой написать с Алпатычем письмо к начальнику губернии в Смоленск с просьбой уведомить ее о положении дел и о мере опасности, которой подвергаются Лысые Горы. Десаль написал для княжны Марьи письмо к губернатору, которое она подписала, и письмо это было отдано Алпатычу с приказанием подать его губернатору и, в случае опасности, возвратиться как можно скорее.
Получив все приказания, Алпатыч, провожаемый домашними, в белой пуховой шляпе (княжеский подарок), с палкой, так же как князь, вышел садиться в кожаную кибиточку, заложенную тройкой сытых саврасых.
Колокольчик был подвязан, и бубенчики заложены бумажками. Князь никому не позволял в Лысых Горах ездить с колокольчиком. Но Алпатыч любил колокольчики и бубенчики в дальней дороге. Придворные Алпатыча, земский, конторщик, кухарка – черная, белая, две старухи, мальчик казачок, кучера и разные дворовые провожали его.
Дочь укладывала за спину и под него ситцевые пуховые подушки. Свояченица старушка тайком сунула узелок. Один из кучеров подсадил его под руку.
– Ну, ну, бабьи сборы! Бабы, бабы! – пыхтя, проговорил скороговоркой Алпатыч точно так, как говорил князь, и сел в кибиточку. Отдав последние приказания о работах земскому и в этом уж не подражая князю, Алпатыч снял с лысой головы шляпу и перекрестился троекратно.
– Вы, ежели что… вы вернитесь, Яков Алпатыч; ради Христа, нас пожалей, – прокричала ему жена, намекавшая на слухи о войне и неприятеле.
– Бабы, бабы, бабьи сборы, – проговорил Алпатыч про себя и поехал, оглядывая вокруг себя поля, где с пожелтевшей рожью, где с густым, еще зеленым овсом, где еще черные, которые только начинали двоить. Алпатыч ехал, любуясь на редкостный урожай ярового в нынешнем году, приглядываясь к полоскам ржаных пелей, на которых кое где начинали зажинать, и делал свои хозяйственные соображения о посеве и уборке и о том, не забыто ли какое княжеское приказание.
Два раза покормив дорогой, к вечеру 4 го августа Алпатыч приехал в город.
По дороге Алпатыч встречал и обгонял обозы и войска. Подъезжая к Смоленску, он слышал дальние выстрелы, но звуки эти не поразили его. Сильнее всего поразило его то, что, приближаясь к Смоленску, он видел прекрасное поле овса, которое какие то солдаты косили, очевидно, на корм и по которому стояли лагерем; это обстоятельство поразило Алпатыча, но он скоро забыл его, думая о своем деле.
Все интересы жизни Алпатыча уже более тридцати лет были ограничены одной волей князя, и он никогда не выходил из этого круга. Все, что не касалось до исполнения приказаний князя, не только не интересовало его, но не существовало для Алпатыча.
Алпатыч, приехав вечером 4 го августа в Смоленск, остановился за Днепром, в Гаченском предместье, на постоялом дворе, у дворника Ферапонтова, у которого он уже тридцать лет имел привычку останавливаться. Ферапонтов двенадцать лет тому назад, с легкой руки Алпатыча, купив рощу у князя, начал торговать и теперь имел дом, постоялый двор и мучную лавку в губернии. Ферапонтов был толстый, черный, красный сорокалетний мужик, с толстыми губами, с толстой шишкой носом, такими же шишками над черными, нахмуренными бровями и толстым брюхом.
Ферапонтов, в жилете, в ситцевой рубахе, стоял у лавки, выходившей на улицу. Увидав Алпатыча, он подошел к нему.
– Добро пожаловать, Яков Алпатыч. Народ из города, а ты в город, – сказал хозяин.
– Что ж так, из города? – сказал Алпатыч.
– И я говорю, – народ глуп. Всё француза боятся.
– Бабьи толки, бабьи толки! – проговорил Алпатыч.
– Так то и я сужу, Яков Алпатыч. Я говорю, приказ есть, что не пустят его, – значит, верно. Да и мужики по три рубля с подводы просят – креста на них нет!
Яков Алпатыч невнимательно слушал. Он потребовал самовар и сена лошадям и, напившись чаю, лег спать.
Всю ночь мимо постоялого двора двигались на улице войска. На другой день Алпатыч надел камзол, который он надевал только в городе, и пошел по делам. Утро было солнечное, и с восьми часов было уже жарко. Дорогой день для уборки хлеба, как думал Алпатыч. За городом с раннего утра слышались выстрелы.
С восьми часов к ружейным выстрелам присоединилась пушечная пальба. На улицах было много народу, куда то спешащего, много солдат, но так же, как и всегда, ездили извозчики, купцы стояли у лавок и в церквах шла служба. Алпатыч прошел в лавки, в присутственные места, на почту и к губернатору. В присутственных местах, в лавках, на почте все говорили о войске, о неприятеле, который уже напал на город; все спрашивали друг друга, что делать, и все старались успокоивать друг друга.
У дома губернатора Алпатыч нашел большое количество народа, казаков и дорожный экипаж, принадлежавший губернатору. На крыльце Яков Алпатыч встретил двух господ дворян, из которых одного он знал. Знакомый ему дворянин, бывший исправник, говорил с жаром.
– Ведь это не шутки шутить, – говорил он. – Хорошо, кто один. Одна голова и бедна – так одна, а то ведь тринадцать человек семьи, да все имущество… Довели, что пропадать всем, что ж это за начальство после этого?.. Эх, перевешал бы разбойников…
– Да ну, будет, – говорил другой.
– А мне что за дело, пускай слышит! Что ж, мы не собаки, – сказал бывший исправник и, оглянувшись, увидал Алпатыча.
– А, Яков Алпатыч, ты зачем?
– По приказанию его сиятельства, к господину губернатору, – отвечал Алпатыч, гордо поднимая голову и закладывая руку за пазуху, что он делал всегда, когда упоминал о князе… – Изволили приказать осведомиться о положении дел, – сказал он.
– Да вот и узнавай, – прокричал помещик, – довели, что ни подвод, ничего!.. Вот она, слышишь? – сказал он, указывая на ту сторону, откуда слышались выстрелы.
– Довели, что погибать всем… разбойники! – опять проговорил он и сошел с крыльца.
Алпатыч покачал головой и пошел на лестницу. В приемной были купцы, женщины, чиновники, молча переглядывавшиеся между собой. Дверь кабинета отворилась, все встали с мест и подвинулись вперед. Из двери выбежал чиновник, поговорил что то с купцом, кликнул за собой толстого чиновника с крестом на шее и скрылся опять в дверь, видимо, избегая всех обращенных к нему взглядов и вопросов. Алпатыч продвинулся вперед и при следующем выходе чиновника, заложив руку зазастегнутый сюртук, обратился к чиновнику, подавая ему два письма.
– Господину барону Ашу от генерала аншефа князя Болконского, – провозгласил он так торжественно и значительно, что чиновник обратился к нему и взял его письмо. Через несколько минут губернатор принял Алпатыча и поспешно сказал ему:
– Доложи князю и княжне, что мне ничего не известно было: я поступал по высшим приказаниям – вот…
Он дал бумагу Алпатычу.
– А впрочем, так как князь нездоров, мой совет им ехать в Москву. Я сам сейчас еду. Доложи… – Но губернатор не договорил: в дверь вбежал запыленный и запотелый офицер и начал что то говорить по французски. На лице губернатора изобразился ужас.
– Иди, – сказал он, кивнув головой Алпатычу, и стал что то спрашивать у офицера. Жадные, испуганные, беспомощные взгляды обратились на Алпатыча, когда он вышел из кабинета губернатора. Невольно прислушиваясь теперь к близким и все усиливавшимся выстрелам, Алпатыч поспешил на постоялый двор. Бумага, которую дал губернатор Алпатычу, была следующая:
«Уверяю вас, что городу Смоленску не предстоит еще ни малейшей опасности, и невероятно, чтобы оный ею угрожаем был. Я с одной, а князь Багратион с другой стороны идем на соединение перед Смоленском, которое совершится 22 го числа, и обе армии совокупными силами станут оборонять соотечественников своих вверенной вам губернии, пока усилия их удалят от них врагов отечества или пока не истребится в храбрых их рядах до последнего воина. Вы видите из сего, что вы имеете совершенное право успокоить жителей Смоленска, ибо кто защищаем двумя столь храбрыми войсками, тот может быть уверен в победе их». (Предписание Барклая де Толли смоленскому гражданскому губернатору, барону Ашу, 1812 года.)
Народ беспокойно сновал по улицам.
Наложенные верхом возы с домашней посудой, стульями, шкафчиками то и дело выезжали из ворот домов и ехали по улицам. В соседнем доме Ферапонтова стояли повозки и, прощаясь, выли и приговаривали бабы. Дворняжка собака, лая, вертелась перед заложенными лошадьми.
Алпатыч более поспешным шагом, чем он ходил обыкновенно, вошел во двор и прямо пошел под сарай к своим лошадям и повозке. Кучер спал; он разбудил его, велел закладывать и вошел в сени. В хозяйской горнице слышался детский плач, надрывающиеся рыдания женщины и гневный, хриплый крик Ферапонтова. Кухарка, как испуганная курица, встрепыхалась в сенях, как только вошел Алпатыч.
– До смерти убил – хозяйку бил!.. Так бил, так волочил!..
– За что? – спросил Алпатыч.
– Ехать просилась. Дело женское! Увези ты, говорит, меня, не погуби ты меня с малыми детьми; народ, говорит, весь уехал, что, говорит, мы то? Как зачал бить. Так бил, так волочил!
Алпатыч как бы одобрительно кивнул головой на эти слова и, не желая более ничего знать, подошел к противоположной – хозяйской двери горницы, в которой оставались его покупки.
– Злодей ты, губитель, – прокричала в это время худая, бледная женщина с ребенком на руках и с сорванным с головы платком, вырываясь из дверей и сбегая по лестнице на двор. Ферапонтов вышел за ней и, увидав Алпатыча, оправил жилет, волосы, зевнул и вошел в горницу за Алпатычем.
– Аль уж ехать хочешь? – спросил он.
Не отвечая на вопрос и не оглядываясь на хозяина, перебирая свои покупки, Алпатыч спросил, сколько за постой следовало хозяину.
– Сочтем! Что ж, у губернатора был? – спросил Ферапонтов. – Какое решение вышло?
Алпатыч отвечал, что губернатор ничего решительно не сказал ему.
– По нашему делу разве увеземся? – сказал Ферапонтов. – Дай до Дорогобужа по семи рублей за подводу. И я говорю: креста на них нет! – сказал он.
– Селиванов, тот угодил в четверг, продал муку в армию по девяти рублей за куль. Что же, чай пить будете? – прибавил он. Пока закладывали лошадей, Алпатыч с Ферапонтовым напились чаю и разговорились о цене хлебов, об урожае и благоприятной погоде для уборки.
– Однако затихать стала, – сказал Ферапонтов, выпив три чашки чая и поднимаясь, – должно, наша взяла. Сказано, не пустят. Значит, сила… А намесь, сказывали, Матвей Иваныч Платов их в реку Марину загнал, тысяч осьмнадцать, что ли, в один день потопил.
Алпатыч собрал свои покупки, передал их вошедшему кучеру, расчелся с хозяином. В воротах прозвучал звук колес, копыт и бубенчиков выезжавшей кибиточки.
Было уже далеко за полдень; половина улицы была в тени, другая была ярко освещена солнцем. Алпатыч взглянул в окно и пошел к двери. Вдруг послышался странный звук дальнего свиста и удара, и вслед за тем раздался сливающийся гул пушечной пальбы, от которой задрожали стекла.
Алпатыч вышел на улицу; по улице пробежали два человека к мосту. С разных сторон слышались свисты, удары ядер и лопанье гранат, падавших в городе. Но звуки эти почти не слышны были и не обращали внимания жителей в сравнении с звуками пальбы, слышными за городом. Это было бомбардирование, которое в пятом часу приказал открыть Наполеон по городу, из ста тридцати орудий. Народ первое время не понимал значения этого бомбардирования.
Звуки падавших гранат и ядер возбуждали сначала только любопытство. Жена Ферапонтова, не перестававшая до этого выть под сараем, умолкла и с ребенком на руках вышла к воротам, молча приглядываясь к народу и прислушиваясь к звукам.
К воротам вышли кухарка и лавочник. Все с веселым любопытством старались увидать проносившиеся над их головами снаряды. Из за угла вышло несколько человек людей, оживленно разговаривая.
– То то сила! – говорил один. – И крышку и потолок так в щепки и разбило.
– Как свинья и землю то взрыло, – сказал другой. – Вот так важно, вот так подбодрил! – смеясь, сказал он. – Спасибо, отскочил, а то бы она тебя смазала.
Народ обратился к этим людям. Они приостановились и рассказывали, как подле самих их ядра попали в дом. Между тем другие снаряды, то с быстрым, мрачным свистом – ядра, то с приятным посвистыванием – гранаты, не переставали перелетать через головы народа; но ни один снаряд не падал близко, все переносило. Алпатыч садился в кибиточку. Хозяин стоял в воротах.
– Чего не видала! – крикнул он на кухарку, которая, с засученными рукавами, в красной юбке, раскачиваясь голыми локтями, подошла к углу послушать то, что рассказывали.
– Вот чуда то, – приговаривала она, но, услыхав голос хозяина, она вернулась, обдергивая подоткнутую юбку.
Опять, но очень близко этот раз, засвистело что то, как сверху вниз летящая птичка, блеснул огонь посередине улицы, выстрелило что то и застлало дымом улицу.
– Злодей, что ж ты это делаешь? – прокричал хозяин, подбегая к кухарке.
В то же мгновение с разных сторон жалобно завыли женщины, испуганно заплакал ребенок и молча столпился народ с бледными лицами около кухарки. Из этой толпы слышнее всех слышались стоны и приговоры кухарки:
– Ой о ох, голубчики мои! Голубчики мои белые! Не дайте умереть! Голубчики мои белые!..
Через пять минут никого не оставалось на улице. Кухарку с бедром, разбитым гранатным осколком, снесли в кухню. Алпатыч, его кучер, Ферапонтова жена с детьми, дворник сидели в подвале, прислушиваясь. Гул орудий, свист снарядов и жалостный стон кухарки, преобладавший над всеми звуками, не умолкали ни на мгновение. Хозяйка то укачивала и уговаривала ребенка, то жалостным шепотом спрашивала у всех входивших в подвал, где был ее хозяин, оставшийся на улице. Вошедший в подвал лавочник сказал ей, что хозяин пошел с народом в собор, где поднимали смоленскую чудотворную икону.
К сумеркам канонада стала стихать. Алпатыч вышел из подвала и остановился в дверях. Прежде ясное вечера нее небо все было застлано дымом. И сквозь этот дым странно светил молодой, высоко стоящий серп месяца. После замолкшего прежнего страшного гула орудий над городом казалась тишина, прерываемая только как бы распространенным по всему городу шелестом шагов, стонов, дальних криков и треска пожаров. Стоны кухарки теперь затихли. С двух сторон поднимались и расходились черные клубы дыма от пожаров. На улице не рядами, а как муравьи из разоренной кочки, в разных мундирах и в разных направлениях, проходили и пробегали солдаты. В глазах Алпатыча несколько из них забежали на двор Ферапонтова. Алпатыч вышел к воротам. Какой то полк, теснясь и спеша, запрудил улицу, идя назад.
– Сдают город, уезжайте, уезжайте, – сказал ему заметивший его фигуру офицер и тут же обратился с криком к солдатам:
– Я вам дам по дворам бегать! – крикнул он.
Алпатыч вернулся в избу и, кликнув кучера, велел ему выезжать. Вслед за Алпатычем и за кучером вышли и все домочадцы Ферапонтова. Увидав дым и даже огни пожаров, видневшиеся теперь в начинавшихся сумерках, бабы, до тех пор молчавшие, вдруг заголосили, глядя на пожары. Как бы вторя им, послышались такие же плачи на других концах улицы. Алпатыч с кучером трясущимися руками расправлял запутавшиеся вожжи и постромки лошадей под навесом.
Когда Алпатыч выезжал из ворот, он увидал, как в отпертой лавке Ферапонтова человек десять солдат с громким говором насыпали мешки и ранцы пшеничной мукой и подсолнухами. В то же время, возвращаясь с улицы в лавку, вошел Ферапонтов. Увидав солдат, он хотел крикнуть что то, но вдруг остановился и, схватившись за волоса, захохотал рыдающим хохотом.
– Тащи всё, ребята! Не доставайся дьяволам! – закричал он, сам хватая мешки и выкидывая их на улицу. Некоторые солдаты, испугавшись, выбежали, некоторые продолжали насыпать. Увидав Алпатыча, Ферапонтов обратился к нему.
– Решилась! Расея! – крикнул он. – Алпатыч! решилась! Сам запалю. Решилась… – Ферапонтов побежал на двор.
По улице, запружая ее всю, непрерывно шли солдаты, так что Алпатыч не мог проехать и должен был дожидаться. Хозяйка Ферапонтова с детьми сидела также на телеге, ожидая того, чтобы можно было выехать.
Была уже совсем ночь. На небе были звезды и светился изредка застилаемый дымом молодой месяц. На спуске к Днепру повозки Алпатыча и хозяйки, медленно двигавшиеся в рядах солдат и других экипажей, должны были остановиться. Недалеко от перекрестка, у которого остановились повозки, в переулке, горели дом и лавки. Пожар уже догорал. Пламя то замирало и терялось в черном дыме, то вдруг вспыхивало ярко, до странности отчетливо освещая лица столпившихся людей, стоявших на перекрестке. Перед пожаром мелькали черные фигуры людей, и из за неумолкаемого треска огня слышались говор и крики. Алпатыч, слезший с повозки, видя, что повозку его еще не скоро пропустят, повернулся в переулок посмотреть пожар. Солдаты шныряли беспрестанно взад и вперед мимо пожара, и Алпатыч видел, как два солдата и с ними какой то человек во фризовой шинели тащили из пожара через улицу на соседний двор горевшие бревна; другие несли охапки сена.
Алпатыч подошел к большой толпе людей, стоявших против горевшего полным огнем высокого амбара. Стены были все в огне, задняя завалилась, крыша тесовая обрушилась, балки пылали. Очевидно, толпа ожидала той минуты, когда завалится крыша. Этого же ожидал Алпатыч.
– Алпатыч! – вдруг окликнул старика чей то знакомый голос.
– Батюшка, ваше сиятельство, – отвечал Алпатыч, мгновенно узнав голос своего молодого князя.
Князь Андрей, в плаще, верхом на вороной лошади, стоял за толпой и смотрел на Алпатыча.
– Ты как здесь? – спросил он.
– Ваше… ваше сиятельство, – проговорил Алпатыч и зарыдал… – Ваше, ваше… или уж пропали мы? Отец…
– Как ты здесь? – повторил князь Андрей.
Пламя ярко вспыхнуло в эту минуту и осветило Алпатычу бледное и изнуренное лицо его молодого барина. Алпатыч рассказал, как он был послан и как насилу мог уехать.
– Что же, ваше сиятельство, или мы пропали? – спросил он опять.
Князь Андрей, не отвечая, достал записную книжку и, приподняв колено, стал писать карандашом на вырванном листе. Он писал сестре:
«Смоленск сдают, – писал он, – Лысые Горы будут заняты неприятелем через неделю. Уезжайте сейчас в Москву. Отвечай мне тотчас, когда вы выедете, прислав нарочного в Усвяж».
Написав и передав листок Алпатычу, он на словах передал ему, как распорядиться отъездом князя, княжны и сына с учителем и как и куда ответить ему тотчас же. Еще не успел он окончить эти приказания, как верховой штабный начальник, сопутствуемый свитой, подскакал к нему.
– Вы полковник? – кричал штабный начальник, с немецким акцентом, знакомым князю Андрею голосом. – В вашем присутствии зажигают дома, а вы стоите? Что это значит такое? Вы ответите, – кричал Берг, который был теперь помощником начальника штаба левого фланга пехотных войск первой армии, – место весьма приятное и на виду, как говорил Берг.
Князь Андрей посмотрел на него и, не отвечая, продолжал, обращаясь к Алпатычу:
– Так скажи, что до десятого числа жду ответа, а ежели десятого не получу известия, что все уехали, я сам должен буду все бросить и ехать в Лысые Горы.
– Я, князь, только потому говорю, – сказал Берг, узнав князя Андрея, – что я должен исполнять приказания, потому что я всегда точно исполняю… Вы меня, пожалуйста, извините, – в чем то оправдывался Берг.
Что то затрещало в огне. Огонь притих на мгновенье; черные клубы дыма повалили из под крыши. Еще страшно затрещало что то в огне, и завалилось что то огромное.
– Урруру! – вторя завалившемуся потолку амбара, из которого несло запахом лепешек от сгоревшего хлеба, заревела толпа. Пламя вспыхнуло и осветило оживленно радостные и измученные лица людей, стоявших вокруг пожара.
Человек во фризовой шинели, подняв кверху руку, кричал:
– Важно! пошла драть! Ребята, важно!..
– Это сам хозяин, – послышались голоса.
– Так, так, – сказал князь Андрей, обращаясь к Алпатычу, – все передай, как я тебе говорил. – И, ни слова не отвечая Бергу, замолкшему подле него, тронул лошадь и поехал в переулок.
От Смоленска войска продолжали отступать. Неприятель шел вслед за ними. 10 го августа полк, которым командовал князь Андрей, проходил по большой дороге, мимо проспекта, ведущего в Лысые Горы. Жара и засуха стояли более трех недель. Каждый день по небу ходили курчавые облака, изредка заслоняя солнце; но к вечеру опять расчищало, и солнце садилось в буровато красную мглу. Только сильная роса ночью освежала землю. Остававшиеся на корню хлеба сгорали и высыпались. Болота пересохли. Скотина ревела от голода, не находя корма по сожженным солнцем лугам. Только по ночам и в лесах пока еще держалась роса, была прохлада. Но по дороге, по большой дороге, по которой шли войска, даже и ночью, даже и по лесам, не было этой прохлады. Роса не заметна была на песочной пыли дороги, встолченной больше чем на четверть аршина. Как только рассветало, начиналось движение. Обозы, артиллерия беззвучно шли по ступицу, а пехота по щиколку в мягкой, душной, не остывшей за ночь, жаркой пыли. Одна часть этой песочной пыли месилась ногами и колесами, другая поднималась и стояла облаком над войском, влипая в глаза, в волоса, в уши, в ноздри и, главное, в легкие людям и животным, двигавшимся по этой дороге. Чем выше поднималось солнце, тем выше поднималось облако пыли, и сквозь эту тонкую, жаркую пыль на солнце, не закрытое облаками, можно было смотреть простым глазом. Солнце представлялось большим багровым шаром. Ветра не было, и люди задыхались в этой неподвижной атмосфере. Люди шли, обвязавши носы и рты платками. Приходя к деревне, все бросалось к колодцам. Дрались за воду и выпивали ее до грязи.
Князь Андрей командовал полком, и устройство полка, благосостояние его людей, необходимость получения и отдачи приказаний занимали его. Пожар Смоленска и оставление его были эпохой для князя Андрея. Новое чувство озлобления против врага заставляло его забывать свое горе. Он весь был предан делам своего полка, он был заботлив о своих людях и офицерах и ласков с ними. В полку его называли наш князь, им гордились и его любили. Но добр и кроток он был только с своими полковыми, с Тимохиным и т. п., с людьми совершенно новыми и в чужой среде, с людьми, которые не могли знать и понимать его прошедшего; но как только он сталкивался с кем нибудь из своих прежних, из штабных, он тотчас опять ощетинивался; делался злобен, насмешлив и презрителен. Все, что связывало его воспоминание с прошедшим, отталкивало его, и потому он старался в отношениях этого прежнего мира только не быть несправедливым и исполнять свой долг.
Правда, все в темном, мрачном свете представлялось князю Андрею – особенно после того, как оставили Смоленск (который, по его понятиям, можно и должно было защищать) 6 го августа, и после того, как отец, больной, должен был бежать в Москву и бросить на расхищение столь любимые, обстроенные и им населенные Лысые Горы; но, несмотря на то, благодаря полку князь Андрей мог думать о другом, совершенно независимом от общих вопросов предмете – о своем полку. 10 го августа колонна, в которой был его полк, поравнялась с Лысыми Горами. Князь Андрей два дня тому назад получил известие, что его отец, сын и сестра уехали в Москву. Хотя князю Андрею и нечего было делать в Лысых Горах, он, с свойственным ему желанием растравить свое горе, решил, что он должен заехать в Лысые Горы.
Он велел оседлать себе лошадь и с перехода поехал верхом в отцовскую деревню, в которой он родился и провел свое детство. Проезжая мимо пруда, на котором всегда десятки баб, переговариваясь, били вальками и полоскали свое белье, князь Андрей заметил, что на пруде никого не было, и оторванный плотик, до половины залитый водой, боком плавал посредине пруда. Князь Андрей подъехал к сторожке. У каменных ворот въезда никого не было, и дверь была отперта. Дорожки сада уже заросли, и телята и лошади ходили по английскому парку. Князь Андрей подъехал к оранжерее; стекла были разбиты, и деревья в кадках некоторые повалены, некоторые засохли. Он окликнул Тараса садовника. Никто не откликнулся. Обогнув оранжерею на выставку, он увидал, что тесовый резной забор весь изломан и фрукты сливы обдерганы с ветками. Старый мужик (князь Андрей видал его у ворот в детстве) сидел и плел лапоть на зеленой скамеечке.
Он был глух и не слыхал подъезда князя Андрея. Он сидел на лавке, на которой любил сиживать старый князь, и около него было развешено лычко на сучках обломанной и засохшей магнолии.
Князь Андрей подъехал к дому. Несколько лип в старом саду были срублены, одна пегая с жеребенком лошадь ходила перед самым домом между розанами. Дом был заколочен ставнями. Одно окно внизу было открыто. Дворовый мальчик, увидав князя Андрея, вбежал в дом.
Алпатыч, услав семью, один оставался в Лысых Горах; он сидел дома и читал Жития. Узнав о приезде князя Андрея, он, с очками на носу, застегиваясь, вышел из дома, поспешно подошел к князю и, ничего не говоря, заплакал, целуя князя Андрея в коленку.
Потом он отвернулся с сердцем на свою слабость и стал докладывать ему о положении дел. Все ценное и дорогое было отвезено в Богучарово. Хлеб, до ста четвертей, тоже был вывезен; сено и яровой, необыкновенный, как говорил Алпатыч, урожай нынешнего года зеленым взят и скошен – войсками. Мужики разорены, некоторый ушли тоже в Богучарово, малая часть остается.
Князь Андрей, не дослушав его, спросил, когда уехали отец и сестра, разумея, когда уехали в Москву. Алпатыч отвечал, полагая, что спрашивают об отъезде в Богучарово, что уехали седьмого, и опять распространился о долах хозяйства, спрашивая распоряжении.
– Прикажете ли отпускать под расписку командам овес? У нас еще шестьсот четвертей осталось, – спрашивал Алпатыч.
«Что отвечать ему? – думал князь Андрей, глядя на лоснеющуюся на солнце плешивую голову старика и в выражении лица его читая сознание того, что он сам понимает несвоевременность этих вопросов, но спрашивает только так, чтобы заглушить и свое горе.
– Да, отпускай, – сказал он.
– Ежели изволили заметить беспорядки в саду, – говорил Алпатыч, – то невозмежио было предотвратить: три полка проходили и ночевали, в особенности драгуны. Я выписал чин и звание командира для подачи прошения.
– Ну, что ж ты будешь делать? Останешься, ежели неприятель займет? – спросил его князь Андрей.
Алпатыч, повернув свое лицо к князю Андрею, посмотрел на него; и вдруг торжественным жестом поднял руку кверху.
– Он мой покровитель, да будет воля его! – проговорил он.
Толпа мужиков и дворовых шла по лугу, с открытыми головами, приближаясь к князю Андрею.
– Ну прощай! – сказал князь Андрей, нагибаясь к Алпатычу. – Уезжай сам, увози, что можешь, и народу вели уходить в Рязанскую или в Подмосковную. – Алпатыч прижался к его ноге и зарыдал. Князь Андрей осторожно отодвинул его и, тронув лошадь, галопом поехал вниз по аллее.
На выставке все так же безучастно, как муха на лице дорогого мертвеца, сидел старик и стукал по колодке лаптя, и две девочки со сливами в подолах, которые они нарвали с оранжерейных деревьев, бежали оттуда и наткнулись на князя Андрея. Увидав молодого барина, старшая девочка, с выразившимся на лице испугом, схватила за руку свою меньшую товарку и с ней вместе спряталась за березу, не успев подобрать рассыпавшиеся зеленые сливы.
Князь Андрей испуганно поспешно отвернулся от них, боясь дать заметить им, что он их видел. Ему жалко стало эту хорошенькую испуганную девочку. Он боялся взглянуть на нее, по вместе с тем ему этого непреодолимо хотелось. Новое, отрадное и успокоительное чувство охватило его, когда он, глядя на этих девочек, понял существование других, совершенно чуждых ему и столь же законных человеческих интересов, как и те, которые занимали его. Эти девочки, очевидно, страстно желали одного – унести и доесть эти зеленые сливы и не быть пойманными, и князь Андрей желал с ними вместе успеха их предприятию. Он не мог удержаться, чтобы не взглянуть на них еще раз. Полагая себя уже в безопасности, они выскочили из засады и, что то пища тоненькими голосками, придерживая подолы, весело и быстро бежали по траве луга своими загорелыми босыми ножонками.
Князь Андрей освежился немного, выехав из района пыли большой дороги, по которой двигались войска. Но недалеко за Лысыми Горами он въехал опять на дорогу и догнал свой полк на привале, у плотины небольшого пруда. Был второй час после полдня. Солнце, красный шар в пыли, невыносимо пекло и жгло спину сквозь черный сюртук. Пыль, все такая же, неподвижно стояла над говором гудевшими, остановившимися войсками. Ветру не было, В проезд по плотине на князя Андрея пахнуло тиной и свежестью пруда. Ему захотелось в воду – какая бы грязная она ни была. Он оглянулся на пруд, с которого неслись крики и хохот. Небольшой мутный с зеленью пруд, видимо, поднялся четверти на две, заливая плотину, потому что он был полон человеческими, солдатскими, голыми барахтавшимися в нем белыми телами, с кирпично красными руками, лицами и шеями. Все это голое, белое человеческое мясо с хохотом и гиком барахталось в этой грязной луже, как караси, набитые в лейку. Весельем отзывалось это барахтанье, и оттого оно особенно было грустно.
Один молодой белокурый солдат – еще князь Андрей знал его – третьей роты, с ремешком под икрой, крестясь, отступал назад, чтобы хорошенько разбежаться и бултыхнуться в воду; другой, черный, всегда лохматый унтер офицер, по пояс в воде, подергивая мускулистым станом, радостно фыркал, поливая себе голову черными по кисти руками. Слышалось шлепанье друг по другу, и визг, и уханье.
На берегах, на плотине, в пруде, везде было белое, здоровое, мускулистое мясо. Офицер Тимохин, с красным носиком, обтирался на плотине и застыдился, увидав князя, однако решился обратиться к нему:
– То то хорошо, ваше сиятельство, вы бы изволили! – сказал он.
– Грязно, – сказал князь Андрей, поморщившись.
– Мы сейчас очистим вам. – И Тимохин, еще не одетый, побежал очищать.
– Князь хочет.
– Какой? Наш князь? – заговорили голоса, и все заторопились так, что насилу князь Андрей успел их успокоить. Он придумал лучше облиться в сарае.
«Мясо, тело, chair a canon [пушечное мясо]! – думал он, глядя и на свое голое тело, и вздрагивая не столько от холода, сколько от самому ему непонятного отвращения и ужаса при виде этого огромного количества тел, полоскавшихся в грязном пруде.
7 го августа князь Багратион в своей стоянке Михайловке на Смоленской дороге писал следующее:
«Милостивый государь граф Алексей Андреевич.
(Он писал Аракчееву, но знал, что письмо его будет прочтено государем, и потому, насколько он был к тому способен, обдумывал каждое свое слово.)
Я думаю, что министр уже рапортовал об оставлении неприятелю Смоленска. Больно, грустно, и вся армия в отчаянии, что самое важное место понапрасну бросили. Я, с моей стороны, просил лично его убедительнейшим образом, наконец и писал; но ничто его не согласило. Я клянусь вам моею честью, что Наполеон был в таком мешке, как никогда, и он бы мог потерять половину армии, но не взять Смоленска. Войска наши так дрались и так дерутся, как никогда. Я удержал с 15 тысячами более 35 ти часов и бил их; но он не хотел остаться и 14 ти часов. Это стыдно, и пятно армии нашей; а ему самому, мне кажется, и жить на свете не должно. Ежели он доносит, что потеря велика, – неправда; может быть, около 4 тысяч, не более, но и того нет. Хотя бы и десять, как быть, война! Но зато неприятель потерял бездну…
Что стоило еще оставаться два дни? По крайней мере, они бы сами ушли; ибо не имели воды напоить людей и лошадей. Он дал слово мне, что не отступит, но вдруг прислал диспозицию, что он в ночь уходит. Таким образом воевать не можно, и мы можем неприятеля скоро привести в Москву…
Слух носится, что вы думаете о мире. Чтобы помириться, боже сохрани! После всех пожертвований и после таких сумасбродных отступлений – мириться: вы поставите всю Россию против себя, и всякий из нас за стыд поставит носить мундир. Ежели уже так пошло – надо драться, пока Россия может и пока люди на ногах…
Надо командовать одному, а не двум. Ваш министр, может, хороший по министерству; но генерал не то что плохой, но дрянной, и ему отдали судьбу всего нашего Отечества… Я, право, с ума схожу от досады; простите мне, что дерзко пишу. Видно, тот не любит государя и желает гибели нам всем, кто советует заключить мир и командовать армиею министру. Итак, я пишу вам правду: готовьте ополчение. Ибо министр самым мастерским образом ведет в столицу за собою гостя. Большое подозрение подает всей армии господин флигель адъютант Вольцоген. Он, говорят, более Наполеона, нежели наш, и он советует все министру. Я не токмо учтив против него, но повинуюсь, как капрал, хотя и старее его. Это больно; но, любя моего благодетеля и государя, – повинуюсь. Только жаль государя, что вверяет таким славную армию. Вообразите, что нашею ретирадою мы потеряли людей от усталости и в госпиталях более 15 тысяч; а ежели бы наступали, того бы не было. Скажите ради бога, что наша Россия – мать наша – скажет, что так страшимся и за что такое доброе и усердное Отечество отдаем сволочам и вселяем в каждого подданного ненависть и посрамление. Чего трусить и кого бояться?. Я не виноват, что министр нерешим, трус, бестолков, медлителен и все имеет худые качества. Вся армия плачет совершенно и ругают его насмерть…»
В числе бесчисленных подразделений, которые можно сделать в явлениях жизни, можно подразделить их все на такие, в которых преобладает содержание, другие – в которых преобладает форма. К числу таковых, в противоположность деревенской, земской, губернской, даже московской жизни, можно отнести жизнь петербургскую, в особенности салонную. Эта жизнь неизменна.
С 1805 года мы мирились и ссорились с Бонапартом, мы делали конституции и разделывали их, а салон Анны Павловны и салон Элен были точно такие же, какие они были один семь лет, другой пять лет тому назад. Точно так же у Анны Павловны говорили с недоумением об успехах Бонапарта и видели, как в его успехах, так и в потакании ему европейских государей, злостный заговор, имеющий единственной целью неприятность и беспокойство того придворного кружка, которого представительницей была Анна Павловна. Точно так же у Элен, которую сам Румянцев удостоивал своим посещением и считал замечательно умной женщиной, точно так же как в 1808, так и в 1812 году с восторгом говорили о великой нации и великом человеке и с сожалением смотрели на разрыв с Францией, который, по мнению людей, собиравшихся в салоне Элен, должен был кончиться миром.
В последнее время, после приезда государя из армии, произошло некоторое волнение в этих противоположных кружках салонах и произведены были некоторые демонстрации друг против друга, но направление кружков осталось то же. В кружок Анны Павловны принимались из французов только закоренелые легитимисты, и здесь выражалась патриотическая мысль о том, что не надо ездить во французский театр и что содержание труппы стоит столько же, сколько содержание целого корпуса. За военными событиями следилось жадно, и распускались самые выгодные для нашей армии слухи. В кружке Элен, румянцевском, французском, опровергались слухи о жестокости врага и войны и обсуживались все попытки Наполеона к примирению. В этом кружке упрекали тех, кто присоветывал слишком поспешные распоряжения о том, чтобы приготавливаться к отъезду в Казань придворным и женским учебным заведениям, находящимся под покровительством императрицы матери. Вообще все дело войны представлялось в салоне Элен пустыми демонстрациями, которые весьма скоро кончатся миром, и царствовало мнение Билибина, бывшего теперь в Петербурге и домашним у Элен (всякий умный человек должен был быть у нее), что не порох, а те, кто его выдумали, решат дело. В этом кружке иронически и весьма умно, хотя весьма осторожно, осмеивали московский восторг, известие о котором прибыло вместе с государем в Петербург.
В кружке Анны Павловны, напротив, восхищались этими восторгами и говорили о них, как говорит Плутарх о древних. Князь Василий, занимавший все те же важные должности, составлял звено соединения между двумя кружками. Он ездил к ma bonne amie [своему достойному другу] Анне Павловне и ездил dans le salon diplomatique de ma fille [в дипломатический салон своей дочери] и часто, при беспрестанных переездах из одного лагеря в другой, путался и говорил у Анны Павловны то, что надо было говорить у Элен, и наоборот.



