Руссель, Альбер
| Альбер Руссель Albert Charles Paul Marie Roussel (~ 1913 год) | |
 | |
| Основная информация | |
|---|---|
| Дата рождения | |
| Место рождения | |
| Дата смерти |
23 августа 1937 (68 лет) |
| Место смерти |
Руайян (департамент Приморская Шаранта, Франция) |
| Страна | |
| Профессии | |
Альбе́р Шарль Поль Мари Руссе́ль (фр. Albert Charles Paul Marie Roussel; 5 апреля 1869 — 23 августа 1937 года) — известный французский композитор первой трети XX века.
Начав свою жизнь гардемарином на военных кораблях дальнего плавания, он очень поздно (только к сорока годам) стал профессиональным музыкантом. В истории искусства найдётся очень немного художников, чья этика жизни и творчества приближалась бы к настолько суровому кодексу морали и чести, которому всю жизнь неуклонно следовал Руссель. Признание шло к нему долгим путём, но за всю свою жизнь он не сделал ни одного роняющего собственное достоинство шага ради ускорения этого пути.
Творческий путь Альбера Русселя отличался постоянным поиском своего стиля в запутанном лабиринте художественных направлений музыкальной Франции начала XX века. Пройдя последовательно через влияние Вагнера и Франка, затем через увлечение импрессионизмом Дебюсси, экзотическим ориентализмом, позднее — жёстким авангардом Стравинского и политональностью Мийо, Альбер Руссель под впечатлением примера поздних сочинений Эрика Сати закончил свой путь как виднейший неоклассицист в музыке.
В тридцатые годы XX века Альбер Руссель занял место общепризнанного и уважаемого лидера среди французских композиторов.
Содержание
Биография ещё не композитора
Альбе́р Ша́рль По́ль Мари́ Руссе́ль родился 5 апреля 1869 года в городе Туркуэн (Северный департамент Франции, граничащий с Фландрией) в семье богатых французских фабрикантов, торговцев текстилем. Фамилия Русселей была столь же давно известной, сколь и обеспеченной: поколение за поколением Руссели были образованными, культурными буржуа, активно участвующими в общественной и политической жизни своей провинции и даже Франции в целом. Так, пра-пра-пра-дед Альбера Русселя был депутатом от третьего сословия в Генеральных штатах 1789 года и голосовал за казнь Людовика XVI. Позднее, уже при Конвенте он занимал пост военного министра, а после 18 брюмера — отказался от политической деятельности и вернулся в свою провинцию, что, возможно, спасло ему жизнь[1]. Дед Альбера Русселя, уважаемый глава и владелец текстильной фабрики, в течение последних 30 лет своей жизни был бессменным мэром родного города Туркуэн.
Но, несмотря на богатство и прочное положение своей семьи, маленького Альбера Русселя ожидало тяжёлое детство. Он очень рано осиротел, потеряв отца ещё в младенчестве, а мать — в семилетнем возрасте. Ещё четыре года он прожил в семье своего деда, занимавшего в те годы должность мэра его родного города Туркуэн. Но когда Альберу исполнилось одиннадцать лет, его дед также скончался[2]. Ещё четыре года Альбер провёл в семье тётки — сестры своей покойной матери. Несмотря на заботливое и внимательное отношение родственников, мальчик чувствовал себя одиноким и всё свободное время отдавал чтению и фантазиям. Его любимый автор — Жюль Верн, пробудивший у него любопытство и желание путешествовать. Кроме того, едва ли не каждое лето он проводил на морском курорте в Бельгии. Возможно, всё это вместе постепенно воспитало в нём любовь к морю и, в конце концов, вызвало желание стать военным моряком. Одновременно Руссель увлекался математикой и другими точными науками. Кроме занятий в колледже, Руссель обучался дома игре на фортепиано, неизменно вызывая своей музыкальностью и восприимчивостью восторг пожилой учительницы, органистки местной церкви Нотр-Дам.
Одинокое, переполненное утратами близких детство, тем не менее, не искалечило психику Альбера Русселя, скорее, даже наоборот. Он выработал в себе и сохранил до конца жизни высокие и жёсткие моральные принципы, а также необычайную выдержку, самодисциплину и сдержанность, которые выгодно отличали его от большинства современных артистов и вызывали неизменное уважение окружающих.
В возрасте пятнадцати лет Руссель отправился в Париж, чтобы завершить среднее образование в лицее Станислава. Среди его учителей — известнейший историк французской литературы Рене Думик, а среди одноклассников — Эдмон Ростан, будущий поэт и драматург[1].
В 1887 году, после получения аттестата зрелости Руссель держит экзамен в Высшую военно-морскую школу. Среди шестисот кандидатов он принят по конкурсу — шестнадцатым. Впрочем, будущий морской офицер старается не забывать и о музыке. Отбывая практику в плавании по Атлантике на парусном фрегате «Мельпомена» (довольно симптоматичное название), Руссель организует из гардемаринов маленький оркестр и любительский хор, сопровождающий воскресные мессы своей, немного особенной музыкой. Курьёзно, что ради некоторого «разнообразия» Руссель вставляет в сопровождение мессы некоторые запомнившиеся ему по парижской жизни мелодии, например, королевский марш из «Прекрасной Елены» Оффенбаха[1].
После производства в офицеры Альбер Руссель получил назначение сначала на крейсер «Победитель», а затем на канонерку «Стикс», на которой совершил длительное плавание по южным морям на дальнем востоке. В 1889—90 годах Руссель входил в состав экипажа фрегата «Ифигения» и участвовал в кругосветной экспедиции. Как раз к этому времени относятся первые сочинения Русселя: «Фантазия» для скрипки и фортепиано, а затем «Анданте» для скрипки, альта, виолончели и органа. Работая над этими пьесами, Руссель имел возможность убедиться в недостатке знаний самых элементарных правил музыкальной композиции. Несмотря на самостоятельное изучение учебника гармонии Дюрана, Руссель ощущал себя в музыке совершенным дилетантом.
К профессиональной карьере его подтолкнула случайность или розыгрыш одного приятеля по морской службе. Однажды, когда в кают-компании Руссель наигрывал на рояле свои пьесы, один из сослуживцев, брат известного оперного певца, будучи в хорошем расположении духа, вызвался показать его сочинения своему брату и другим профессионалам. Спустя полгода, вернувшись из отпуска, сослуживец рассказал Русселю, что его пьесы произвели большое впечатление, и что маститый брат посоветовал Русселю всерьёз посвятить себя музыке… Спустя много лет, когда Альбер Руссель уже стал известным композитором, эта история неожиданно раскрылась. Старый приятель сознался, что находясь в отпуске попросту позабыл своё обещание, так и не показав своему брату пьесы Русселя. Однако, к тому времени дело было уже сделано. Руссель стал известным и уважаемым профессиональным музыкантом, композитором и профессором полифонии.
В 1894 году, возвратившись во Францию из дальнего похода, Альбер Руссель получил длительный отпуск, который провёл у своих родственников в Рубэ. Весь отпуск он решил посвятить изучению основ музыкальной теории. С просьбой дать ему частные уроки он обратился к директору консерватории в Рубэ Жюльену Косзулю, опытному и известному органисту школы Нидермейера. Пролистав первые творческие опыты молодого офицера, Косзуль настоятельно рекомендовал ему поехать в Париж и показать сочинения Эжену Жигу, профессору полифонии и композиции в школе Нидермейера. Недолго раздумывая, Руссель последовал совету Косзуля и получил очень благожелательный отзыв парижского профессора. Поверив высоким оценкам и рекомендациям Косзуля и Жигу серьёзно заняться музыкой, Руссель, наконец, принял решение оставить службу на флоте. В сентябре 1894 года Руссель вышел в отставку. Позднее Эжен Жигу говорил о своём одном из лучших учеников, Русселе, что «он одарён настоящим гением фуги»[1].
- Альбер Руссель необычно поздно решился выбрать карьеру профессионального музыканта. До 25 лет его занятия были весьма далеки от искусства. Подобно Римскому-Корсакову, всю свою первую молодость он провёл гардемарином в походах по дальним морям. Но впоследствии, даже занимаясь преподаванием или сочинением музыки, Руссель до конца своих дней сохранил и перенёс в своё творчество склонность к морю, путешествиям и экзотике дальних стран. И хотя ни в одном из его музыкальных произведений не встречается ни морских образов, ни даже самой темы моря, тем не менее дальние страны, походные наблюдения и экзотические народы оставили свой глубокий отпечаток, видимый всякому, кто соприкасается с творчеством Русселя.
Биография композитора
В октябре 1894 года Альбер Руссель поселился в Париже и начал активно изучать гармонию, контрапункт и фугу под руководством своего нового учителя, Эжена Жигу. Строгая школа Нидермейера, основанная на контрапункте строгого письма и высокие образцы, на которых Руссель проходил теорию музыки (Бах, Гендель, Моцарт и Бетховен) с самого начала способствуют формированию у него классически-прозрачного и ясного мышления. До конца своих дней Альбер Руссель сохранил благодарность и глубочайшее уважение к своему учителю. В своих «Воспоминаниях» он посвящает Эжену Жигу далеко не одну страницу, среди которых можно найти и такие слова:
…Широких взглядов, свободный от какой-либо схоластической предвзятости, точный в своих наблюдениях, ставивший чисто музыкальные соображения выше всяких школьных правил, а эстетические — выше междоусобных ссор, он живёт в моей памяти как совершенный образец учителя, у которого молодой музыкант мог выучиться своему искусству.— [1]
Судя по всему, именно по этому образцу Руссель и сам, несколькими годами позднее, строил и свою собственную преподавательскую работу. Слова Русселя, сказанные о своём учителе, Эжене Жигу в превосходной мере применимы и к нему самому.
В общей сложности период учения занимает у Русселя 15 лет — по существу, не такой большой срок, как это может показаться на первый взгляд. Именно столько длится обыкновенное высшее музыкальное образование (по современным стандартам). Однако учиться он начинает не с пяти или семи лет, как это обычно принято, а только с 25, так что окончательно перестаёт быть студентом — только к сорока годам. Вот что необходимо помнить, наблюдая довольно позднюю музыкальную карьеру Русселя. В 1898 году, превосходно подготовленный четырьмя годами обучения у Жигу, Руссель поступает в только что открывшуюся «Школу канторум» в класс полифонии, оркестровки и свободного сочинения Венсана д’Энди, одновременно маститого композитора вагнеровского направления, видного дирижёра и организатора музыкальной жизни Франции. В своей монографии, посвящённой жизни и творчеству Русселя, Андре Оэре исчерпывающим образом характеризует годы его учения и истоки формирования индивидуального стиля:
…в праздных спорах определения принадлежности Русселя к дебюссизму или д’эндизму, в противопоставлении системы воспитания Schola и Консерватории как-то забывают о решающем значении в его формировании как композитора, принципов школы Нидермейера, прежде всего благодаря Косзулю и Жигу. Принципов той самой школы, из стен которой вышли Сен-Санс, Габриэль Форе и Мессаже.— Hoeree A. Albert Roussel. — P., 1938. — P. 21[1].
Венсан д’Энди, очень скоро убедившись в исключительных познаниях нового студента в области полифонии, почти сразу назначил его своим ассистентом, а затем, по окончании курса в Schola cantorum, предложил ему руководить классом контрапункта и фуги. Таким образом, окончив через пять лет школу по классу полифонии, с 1902 года Руссель начинает сам преподавать в ней курс полифонии, одновременно продолжая учиться у Венсана д’Энди по другим предметам вплоть до 1908 года.
Schola cantorum, почти религиозное учебное музыкальное заведение, находившееся под патронатом Католического института, представляло собой особенное явление на музыкальной карте Франции начала XX века. С одной стороны, оно имело репутацию оплота консерватизма. Обучение в нём почти полностью строилось на изучении старинной церковной музыки, грегорианского хорала, техники старой полифонии (на примере творчества Палестрины, Шютца, Баха, Генделя, а также некоторых «особо допущенных» французских мастеров, таких как, Люлли, Рамо и Куперена. Также, разумеется, одним из главных столпов музыкальной системы Школы канторов был учитель и кумир её многолетнего бессменного главы Венсана д’Энди, маститый французский органист и композитор, Сезар Франк. Понятно, что профессору полифонии, каковым был Альбер Руссель, отводилась почётная роль проводника идей строгого стиля и церковных канонов старого письма. Казалось бы, что может быть консервативнее и суше изложенной программы? Однако, строгая и почти церковная Schola cantorum в начале 1900-х годов неожиданно становится противовесом почти загнившей бюрократической Академии музыки и омертвелой, ретроградной системы обучения в парижской консерватории. Из стен Школы канторов уже за первые десять лет её существования выходят как смелые музыканты-экспериментаторы, получившие крепкую профессиональную базу, так и дерзкие авангардисты первого ряда, взрывавшие устои современного искусства, такие как Эрик Сати или Эдгар Варез[3]. Между прочим, оба только что названных музыканта изучали курс контрапункта и полифонии в классе профессора Альбера Русселя, сохранив о нём самую добрую память и прекрасное отношение на долгие годы.
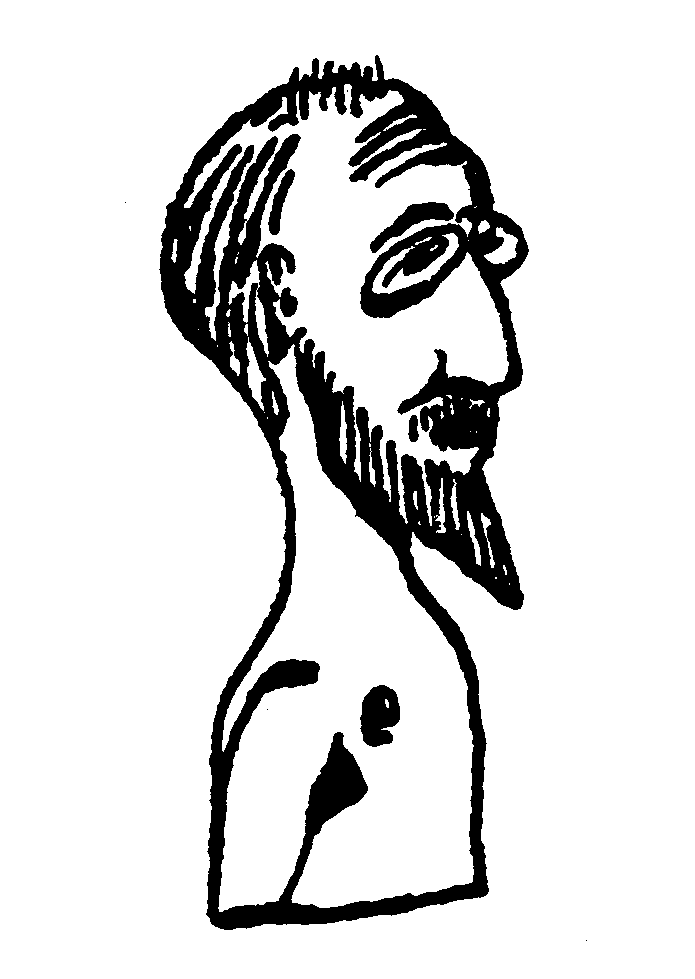 Ровный, выдержанный и неизменно внимательный характер Альбера Русселя как нельзя больше подходил именно для преподавательской работы с яркими творческими личностями. В течение двенадцати лет он был вдумчивым и обстоятельным педагогом Schola cantorum по истории и теории полифонического искусства. Из класса контрапункта Альбера Русселя вышли такие необычные и значительные композиторы, как Эрик Сати, Поль Ле Флем, Эдгар Варез, Алексис Ролан Манюэль, Ги де Лионкур, Марсель Орбан, а также многие зарубежные музыканты, среди которых известнейший чешский композитор Богуслав Мартину, румынский композитор Стан Голестан, уругваец Альфонсо Брока, итальянец Чезаре Бреро и чешка Юлия Рейсерова[1].
Ровный, выдержанный и неизменно внимательный характер Альбера Русселя как нельзя больше подходил именно для преподавательской работы с яркими творческими личностями. В течение двенадцати лет он был вдумчивым и обстоятельным педагогом Schola cantorum по истории и теории полифонического искусства. Из класса контрапункта Альбера Русселя вышли такие необычные и значительные композиторы, как Эрик Сати, Поль Ле Флем, Эдгар Варез, Алексис Ролан Манюэль, Ги де Лионкур, Марсель Орбан, а также многие зарубежные музыканты, среди которых известнейший чешский композитор Богуслав Мартину, румынский композитор Стан Голестан, уругваец Альфонсо Брока, итальянец Чезаре Бреро и чешка Юлия Рейсерова[1].
Даже вечно ехидный Эрик Сати (сорокалетний ученик, бывший старше своего педагога на три года) находил в своей душе только добрые слова о своём профессоре. Время от времени он любил приговаривать, подделываясь под тон Русселя, его любимую фразу — во время проверки домашних заданий: «Композитору, как и хирургу, необходимо всегда иметь при себе Инструментарий Точной Гармонии».[4]:195 Но и спустя десять лет после окончания курса контрапункта в своих статьях и заметках Эрик Сати не раз находил повод не без удовольствия отметить, что «…в течение трёх лет я работал (над собой) с Альбером Русселем, другом которого, смею заметить, остаюсь и до сих пор»[5]. Безусловно, по своим душевным и волевым качествам Руссель разительно отличался от обычной парижской богемы и артистических кругов.
Осенью 1909 года Руссель осуществляет свою давнюю мечту — путешествие в Индию. Ещё молодым офицером он познакомился с некоторыми портовыми городами. Теперь он с молодой женой совершает тщательно продуманное и составленное заранее путешествие по древним городам в глубине страны. По возвращении во Францию привезённые из Индии впечатления выливаются в несколько весьма примечательных для всей европейской музыки сочинений[6]. Первое из них — симфонический триптих «Вызов видений» (фр. Evocations) для солистов, хора и оркестра. Впервые исполненный в Париже 18 мая 1912 года, он поразил слушателей и критиков своей яркой экзотической необычностью в сочетании с импрессионистическим стилем. Руссель запечатлел в этом триптихе подземные храмы Эллоры, красоты залитых солнцем беломраморных дворцов в Джайпуре и песнь приветствия небу молодого факира на берегу Ганга в Бенаресе. Успех премьеры был ошеломительным. Русселя сразу и бесповоротно признали одним из лидеров современной французской музыки.
Следующим шумным успехом был отмечен его одноактный балет-пантомима «Пиршество паука» (фр. Le festin de l'araignée), поставленный в парижском Театре Искусств 3 апреля 1913 года. Вместо запланированных восьми спектаклей балет до конца сезона был показан 22 раза. На волне популярности Руссель создал симфоническую сюиту из своего балета, которая завоевала широкую известность и до сих пор занимает почётное место на концертных эстрадах мира наряду с «Фавном» Дебюсси, «Учеником чародея» Дюка и «Вальсом» Равеля[6]. Именно благодаря «Пиршеству паука» и «Вызову видений» в предвоенные годы Руссель окончательно входит в число виднейших композиторов-импрессионистов. Крупный парижский музыкальный издатель Жак Дюран, специализировавшийся на работе с импрессионистами, охотно издаёт его произведения наряду с музыкой Равеля, д’Энди, Дебюсси и Шмита[7]. В конце 1913 года Руссель получает заказ от Grand Opera на оперу по любому интересному для него либретто. И Руссель в качестве сюжета снова выбирает индийскую тему — легенду XIII века о Падмавати, верной жене Ратан-сена. Однако ему удалось только полгода работать над своей новой оперой.
Первая мировая война поставила жирную черту как в композиторской, так и в преподавательской работе Русселя. Ему сорок пять лет. Призывная комиссия не принимает его в действующую армию из-за состояния здоровья. Однако, Руссель всё же поступает волонтёром в Красный Крест и почти два года работает водителем скорой помощи в прифронтовой полосе. Даже в этом, далёком от музыки деле они с Морисом Равелем снова становятся близкими коллегами: уже в конце октября 1914 года и Морис Равель, также забракованный медиками, добровольцем поступит в автомобильный полк и прослужит шофёром грузовика до 1918 года[8]. Спустя полтора года службы в Красном Кресте, Альберу Русселю, впрочем, удалось перевестись ближе к фронту и поступить офицером транспортной службы — в действующую артиллерию. В чине лейтенанта Руссель принимал участие в военных действиях в Шампани, на Сомме и под Верденом в 1916—1917 годах. Чуть менее чем за год до окончания войны, в январе 1918 года Альбера Русселя всё же окончательно комиссовали из армии — так же, как и Равеля, по болезни. После демобилизации он долго восстанавливает подорванное войной здоровье. Только летом 1918 года Руссель смог возвратиться к нормальной жизни и снова взяться за прерванное сочинение оперы «Падмавати». К преподавательской работе в Schola cantorum Руссель больше не вернулся, однако и впредь охотно оказывал помощь в области полифонии и композиции обращавшимся к нему молодым музыкантам.
Ещё на фронте Русселя очень беспокоила судьба оставленного им сочинения оперы «Падмавати». Нужна ли будет кому-нибудь после тяжких лет войны эта старая повесть о любви и смерти?..
…Всё это наверняка станет «чем-то довоенным», то есть отделённым от нашего сегодня стеной, настоящей стеной… Ведь нужно будет начинать жить заново, с новым отношением к жизни, это не означает, что всё происходящее до войны будет забыто, но всё, что будет делаться после войны, станет другим. <…> Моя Падмавати ещё достаточно сильна, чтобы вынести испытание ещё двух-трёх лет ожидания (и каких лет!), прежде чем она встретится с публикой
Руссель немного ошибся. «Падмавати» пришлось дожидаться этой встречи не два-три, а ещё семь лет. Но зато премьера 1 июня 1923 года стала фундаментальным успехом Русселя. Впрочем, среди восторгов раздавались и отдельные критические голоса. Весьма показателен в этом смысле был отзыв Поля Дюка на премьеру большой оперы Русселя. Отдав должное высоким достоинствам музыки и чрезвычайной (поистине восточной) роскоши постановки, Дюка всё же счёл необходимым указать на некоторое злоупотребление внешними эффектами при недостаточно рельефной проработке характеров основных действующих лиц спектакля[9]. Однако мощная сила и оригинальность образного строя «Падмавати» побеждала все сомнения. При крайней сложности и дороговизне её постановки, она появлялась на сцене в 1925, 1927 и 1931 году, завоёвывая для Русселя всё большее число поклонников его таланта. В 1938 году уже раз упомянутый Артюр Оэре в своей книге о Русселе весьма справедливо посетовал на малую известность этой колоритной партитуры за пределами Франции.
Не только потому, что она вместе с «Антигоной» Онеггера и «Христофором Колумбом» Мийо относится к числу наиболее знаменательных творений нашего театра после войны, но главное, ещё и потому, что она обладает в самой высокой степени теми качествами, которые, по какой-то дурной традиции, не признают за французской музыкой: она отличается силой и глубиной.— Hoeree A. Albert Roussel. — P., 1938. — P. 59[1].
После окончания войны, в 1920 году Альбер Руссель купил загородный дом в Нормандии, недалеко от берега моря, где и провёл большую часть отведённых ему ещё семнадцати лет активной жизни. Последние полтора десятилетия жизни Русселя отличаются особой интенсивностью как творчества, так и общественной деятельности. Наряду с Равелем в 1920-е годы Руссель — признанный вождь французской музыки. С началом долгой болезни Равеля, когда тот постепенно отходит от участия в культурной жизни Парижа, Руссель остаётся практически единоличным лидером. В тридцатые годы Руссель возглавляет французскую секцию Международного общества современной музыки и вместе с Андре Капле входит в жюри ежегодного фестиваля. До конца жизни Руссель не теряет живости характера и остаётся открыт для всего нового. Он поддерживает творчество молодых французских композиторов, многое из последних тенденций авангарда проникает и в его произведения. Но и молодые композиторы с начала 20-х годов всё более присматриваются к его творчеству. После смерти Эрика Сати практически вся французская «Шестёрка» испытывает на себе влияние личности и творчества Русселя, в особенности — Артюр Онеггер.
Последнее своё плавание Руссель совершает уже не на восток, как это случалось ранее, а в Америку, с триумфальными гастрольными концертами. В 1930 году по заказу Сергея Кусевицкого Руссель пишет свою Третью Симфонию для празднования юбилея Бостонского оркестра. Это одно из сильнейших его произведений, полное силы, энергии, остроты и драматизма.
Последние полтора года жизни Руссель чувствует себя всё хуже, сердечная болезнь обостряется и весной 1937 года по настоянию врачей он уезжает на приморский курорт Руайян, на юго-западе Франции, чтобы отдохнуть и подлечиться. Однако, сердечные приступы учащаются и становятся всё сильнее. 13 августа Руссель вынужден прервать сочинение своего духового Трио для гобоя, кларнета и фагота. Мужественно и предельно спокойно, как и всё в своей жизни, Руссель переносит страдания от учащающихся сердечных приступов.
Альбер Руссель, 68 летний французский композитор, его смерть от очередного сердечного приступа наступила около четырёх часов дня 23 августа 1937 года, в городе Руайян на юго-западе Франции. Он умер в том же 1937 году, что и его ближайшие коллеги и близкие товарищи по пройденному творческому пути: Морис Равель и Габриэль Пьерне.
«Композитору, как и хирургу необходимо всегда иметь при себе Инструментарий Точной Гармонии» — вот что не следовало бы забывать.[4]:195
Очерк творчества
Полный список сочинений Альбера Русселя включает в себя 59 изданных опусов и ещё примерно полтора десятка рукописей. Очень широкий стилистический диапазон творчества Русселя может навести на мысль о некоторой эстетической всеядности композитора. Между тем, это совершенно не верно. Художник искренне рефлексирующий, постоянно испытывавший повышенную ответственность перед самим собой и искусством, сам Руссель объяснял свои постоянные поиски неослабевающим стремлением найти максимальную выразительность музыкального языка. В этом поиске несомненно нашла проявление его замкнутая романтическая натура и любовь к постижению природы вещей. Но существовал и ещё один постоянный источник, в течение всей жизни толкавший Русселя к обновлению средств музыкальной речи. Это — Восток, с красочной и эклектической культурой которого он познакомился во время нескольких путешествий. В произведениях самых разных лет Руссель вставляет характерные ладовые обороты из индийской, камбоджийской и индонезийской народной музыки. Однако это не является для него методом введения «местного колорита», но только средством обогащения музыкального языка.
В своих лучших сочинениях, к которым следует отнести Третью и Четвёртую симфонии, оперу-балет «Падмавати», балеты «Вакх и Ариадна» и «Пиршество паука», а также «Фламандскую рапсодию» для оркестра, Руссель явно демонстрирует свой, узнаваемый и оригинальный творческий почерк[9]. Его мелодический дар, впрочем, невелик. Тем не менее, многие темы обладают «характером», яркой интонацией и выразительностью.
Наибольшей ценностью в творчестве Русселя обладают его театральные работы, а также четыре симфонии и симфониетта, присутствие которых во французской музыке начала XX века можно признать почти уникальным явлением. По мнению многих музыковедов, французским композиторам в принципе чуждо так называемое симфоническое мышление. И в самом деле, «абсолютная музыка», не связанная со словом, литературной основой, программой, картинами природы или сценическим замыслом, весьма редко выходила из-под пера французских авторов. Четыре симфонии Альбера Русселя в известной степени переломили эту тенденцию. Причём, он сделал это, оставаясь истинно французским художником, безо всякого сдвига в область «немецкой дисциплины», против которой постоянно возражали Дебюсси и Равель. Но прежде всего заслуга Русселя в том, что его личный опыт дал толчок новому течению среди молодых французских композиторов, с новой силой обратившихся к чистой симфонической музыке. В этой связи достаточно назвать имена Артюра Онеггера, Дариюса Мийо, Анри Дютийё и Анри Соге[9].
На формирование стиля Русселя безусловно оказали влияние годы учения в Schola Cantorum. Такие авторитеты, как Палестрина и Бах, оставили свой отпечаток на зрелом стиле Русселя, богатом контрапунктами и сложной полифонической вязью голосов. В сравнении с тонкой нюансировкой близких ему французских композиторов, таких как Форе и Дебюсси, оркестр Русселя не в пример более плотный и тяжёлый, даже в тех его сочинениях, которые по традиции называются импрессионистскими. Во все периоды своего творчества, каким бы оно ни выглядело внешне, по своему темпераменту и способу мышления Руссель ближе всего стоял к классицизму.
В нескольких сочинениях Руссель также отдал дань такому новому и набиравшему в его время силу явлению, как американский джаз. Одно из его сочинений для голоса и фортепиано так и называется «Ночной джаз» (1929 год) и явно перекликается с такими произведениями его современников, как скрипичная соната Мориса Равеля, или балет «Сотворение мира» Дариюса Мийо.
В своей книге «Воспоминаний» Альбер Руссель избавил позднейших исследователей от необходимости делать собственные умозаключения. Он сам, как маститый педагог Schola cantorum, довольно убедительно проанализировал собственное творчество и выделил из него три ясно очерченных стилистических периода:
 Первый период, с 1898 до 1913 года, который условно можно назвать импрессионистским. В основном он включает в себя годы учения. Говоря в книге «Воспоминаний» о своём творчестве, автор кое-где смягчает формулировки. Так, по оценке Русселя, его музыка этих лет находилась «слегка, очень слегка под влиянием Дебюсси, имея в виду, прежде всего, склонность к жёсткой форме, которую мне привил мой учитель, Венсан д’Энди». Оценивая слова и музыку Русселя со стороны, можно сказать, что хотя этот период творчества вполне справедливо называется «импрессионистическим», тем не менее, в его музыке этого времени содержится не меньшее число и восточных влияний. Именно этим Альбер Руссель разительно отличался от своих коллег по музыкальному импрессионизму.
Первый период, с 1898 до 1913 года, который условно можно назвать импрессионистским. В основном он включает в себя годы учения. Говоря в книге «Воспоминаний» о своём творчестве, автор кое-где смягчает формулировки. Так, по оценке Русселя, его музыка этих лет находилась «слегка, очень слегка под влиянием Дебюсси, имея в виду, прежде всего, склонность к жёсткой форме, которую мне привил мой учитель, Венсан д’Энди». Оценивая слова и музыку Русселя со стороны, можно сказать, что хотя этот период творчества вполне справедливо называется «импрессионистическим», тем не менее, в его музыке этого времени содержится не меньшее число и восточных влияний. Именно этим Альбер Руссель разительно отличался от своих коллег по музыкальному импрессионизму.
Первый оркестровый опыт Русселя — симфоническая прелюдия «Воскресение» по роману Льва Толстого (1903 год). Она была исполнена 17 мая 1904 года в концерте Национального музыкального общества под управлением Альфреда Корто, неизменно проявлявшего интерес к творчеству Русселя. Непривычная густота музыкального языка, общий сумрачный колорит (прелюдия завершалась хоралом на обиходную грегорианскую тему), а также заметная перегрузка нижнего регистра в оркестре вызвали суровую отповедь критики начинающему композитору, находящемуся ещё под явным влиянием симфонического стиля Франка[10]. Руссель молча и спокойно принял критику, оставил партитуру в рукописи — и более к ней никогда не возвращался.
Совсем в ином духе выдержаны следующие оркестровые сочинения, отмеченные всё более нарастающем влиянием Клода Дебюсси. Мягкий и поэтичный «Летний вечер» (1904) и весьма красочный «Сбор винограда» (1905) по поэме Леконт де Лилля также впервые исполнял Корто. Несмотря на достаточно благожелательные отзывы прессы, Руссель уничтожил партитуру «Сбора винограда» сразу же после его исполнения, так как счёл неудавшимися как форму, так и оркестровку своего сочинения[10]. Затем Руссель с новыми силами берётся за уже начатую годом раньше четырёхчастную симфонию, которую называет «Поэма леса» (1904—1906). Классические формы симфонического цикла сочетаются в ней с картинами природы, разделёнными на четыре времени года. Части имеют подзаголовки: «Лес зимой», «Весеннее обновление», «Летний вечер» (ранее написанный как отдельная оркестровая пьеса) и «Фавн и дриады». Несколько раз части симфонии исполнялись в концертах по отдельности и только 7 февраля 1909 года в концерте Оркестра Ламурё состоялась полная премьера симфонии под управлением Венсана д’Энди. Авторитетные критики Жан Марноль и Гастон Карро высоко оценили «Поэму леса», увидев в её авторе многообещающего симфониста.
…в поколении композиторов, непосредственно следующих за Полем Дюка и Альбериком Маньяром, быть может именно он, Руссель, подаёт самые большие надежды. Чем больше он творит, тем заметнее в мсье Альбере Русселе проявляется недюжинная индивидуальность: и в том, о чём он говорит, и в том, как он выражает свои мысли. Индивидуальность его души обуславливает собой и индивидуальное своеобразие его стиля.— Karrot G. «Liberte», 9 fev.1909[10].
Почти одновременно с симфонией Руссель завершает камерный «Дивертисмент» для рояля и пяти духовых инструментов. Это жизнерадостная и брызжущая юмором музыка отличается виртуозным владением каждым инструментом и прекрасным ансамблем в целом. Музыкальные темы в нём рельефны и выпуклы, а линии и грани формы — чётки. Все эти черты, явно противоположные общей эстетике импрессионизма, предвосхищают неоклассические тенденции послевоенного творчества. Некоторые критики отметили в музыке «Дивертисмента» черты, сближающие творчество Русселя с набиравшим тогда силу — фовизмом в живописи.
Подытоживая сказанное, к наиболее известным работам первого периода можно отнести: «Дивертисмент» ор.6 для квинтета деревянных духовых и фортепиано (1906), Симфония № 1 «Поэма леса» ор.7 (1904—1906), «Продавец песка» музыка к спектаклю для детей (1908), «Вызов видений» ор.15 триптих для хора, оркестра и баритона (1910—1911) и балет-пантомима «Пиршество паука» ор.17 (1912). О двух последних сочинениях было сказано ранее.
Второй период творчества сам Руссель отсчитывает с 1918 года, когда он вернулся с войны и заканчивает — 1925 годом, когда окончательно оформляется его переход к неоклассицизму. По существу этот период можно назвать переходным или смешанным, в течение которого Руссель экспериментировал, постепенно формируя черты своего зрелого стиля. Связующим звеном между прошлой и новой музыкой для Русселя была партитура оперы «Падмавати», работа над которой продолжалась с перерывом на войну — почти восемь лет. Но в остальных произведениях этого времени импрессионистическая расплывчатость повсюду уступает ясным линиям, музыка приобретает определённость, более жёсткий ритм, кроме того, значительно увеличивается количество диссонансов. Безусловно, самым сложным и перегруженным сочинением этого периода является Вторая Симфония, написанная в 1919—1921 годах, после которой Руссель стал двигаться к более простым и точным формам музыкального языка. Вернувшись с фронта, Руссель очень сильно изменился. Он уже не мог писать как прежде, балансируя на грани импрессионистской красивости и восточной пышности языка. Серьёзные перемены в своём стиле и отношении к творчеству сам Руссель объяснял так:
…Четыре года войны для меня как музыканта не прошли даром. Я употребил их на размышления о своём искусстве. Из этого вынужденного пересмотра пройденного мной пути я извлёк много пользы. Как и многие, я был увлечён новыми методами музыкального мышления. Поначалу меня пленил импрессионизм; моя музыка, может быть, слишком сильно тяготела к внешней стороне явлений, к живописному началу, которое, — как я стал думать немного позднее, — лишало музыку какой-то части только ей присущей истины. С той поры я решил расширить гармоническое начало моего письма, я старался приблизиться к идее создания музыки, в которой замысел и его реализация проистекали бы из неё самой и заключались также в ней самой.— Руссель A. Воспоминания[11].
Именно Вторая Симфония, написанная на второй год после Возвращения, стала той окончательной чертой перелома, которой Руссель публично отделил себя от импрессионизма. Премьера «нового стиля» Русселя состоялась 4 марта 1922 года в концертах Паделу («Шаг Волка»). Жёсткостью и некрасивостью своего музыкального языка Вторая Симфония произвела неожиданное и неблагоприятное впечатление на всех: и на традиционалистов, любителей консонанса, и на сторонников импрессионизма, уже привыкших видеть Русселя в рядах правоверных «дебюссистов».
«…Увы, Альбер Руссель нас покидает. Он покидает нас не попрощавшись, молчаливо, скромно, сдержанно, как всегда… Вот видите, он уйдёт, он уходит, он ушёл… Но куда?»[11]— ( Vuillermoz Emile, «Excelsior», 6 marts 1922.)
Пространной и необычайно искренней тирадой на Вторую Симфонию Русселя откликнулся и его бывший ученик, Эрик Сати, в тот момент одинаково далёкий и от импрессионизма, родоначальником которого он сам был тридцать лет назад, и от чисто музыкальных поисков Альбера Русселя. Вторая симфония стала не только знаковым событием в послевоенной музыкальной жизни Франции, но лично Сати нашёл в ней лишний повод ещё раз противопоставить академистам и профессионалам от музыки — настоящее живое искусство.
Исполнение на одном из концертов «идущего волка» прекрасной симфонии Альбера Русселя было превосходным и благородным событием, взволновавшим наши мутные музыкальные воды. О ужас, о страх! — в них излилась ещё одна порция настоящей звуковой анархии — призрак, более известный под именем какофонии. <…> Среди многих упрёков, постоянно адресованных Альберу Русселю, есть один, который лучше всего застревает в моей памяти (возможно потому, что он имел прямое отношение к Римской Премии). В чём же его упрекают? — да в том, что он аматёр…, любитель.
- Сам собой возникает вопрос: но как же распознается этот «любитель»?.. Можете зря не ломать голову, ответ очень прост. Любитель — тот, кто не получил Большой Римской Премии, разумеется. Позвольте мне предельно вежливо и любезно задаться следующим вопросом: а что есть такое упомянутая выше Премия? Клеймо некоего высшего существа, незаурядного, высшего качества, несерийного, распроданного и редкого. Несомненно, глядя на Альбера Русселя сразу понятно, что он не превосходный, не из ряда вон выходящий, не высшего качества, не раскупаемый, совершенно серийный и совсем не редкостный — так надо думать. Я очень сожалею об этом, но люблю его от того ничуть не меньше, и он это хорошо знает, надеюсь.
— Эрик Сати. Происхождение Просвещения. — Feuilles Libres, iuni 1922.[4]:501—502
После Второй Симфонии и окончания работы над оперой «Падмавати» в творчестве Русселя продолжают нарастать неоклассические тенденции. Спустя всего четыре года после премьеры «Сократ» Сати, ставшего открытием нового стиля, в 1922—24 годах Руссель пишет свою лирическую сказку «Рождение Лиры» по Софоклу, пытаясь максимально приблизиться к античному театру. Поставленная 1 июля 1925 года в Grand Opera, эта партитура Русселя на два года опередила появление «Эдипа» Стравинского и «Антигоны» Онеггера.
К наиболее известным работам второго, переходного периода творчества Русселя можно отнести следующие сочинения: опера-балет «Падмавати» ор.18 (1914—1922), «К весеннему празднику» симфоническая пьеса ор.22 (1920), Симфония № 2 ор.23 (1919—1921), «Рождение Лиры» лирическая сказка ор.24 (1923—1924), «Игры флейты» для флейты и фортепиано ор.27 (1924) и «Серенада» для флейты, струнного трио и арфы ор.30 (1925).
Третий период своего творчества Руссель начинает с 1926 года, и предел ему поставил уже не он сам в книге «Воспоминаний», а его смерть — летом 1937 года. В эти последние 11 лет жизни Руссель нашёл свой «окончательный стиль» — неоклассицизм. В целом он остаётся авангардным композитором, хотя звучание его произведений постепенно становится всё более прозрачным и проясняется. Безусловно, неоклассицизм Русселя имеет свои особенные черты, отличающие его от других авторов, одновременно (или почти одновременно) с ним начинавших работать в этом стиле. Прежде всего, это прежняя полифоничность письма, склонность к политональности и полимодальности, традиционная классическая форма и ясная функциональная оркестровка. Кроме того, Руссель (в отличие, например, от Сати и Стравинского) в своём неоклассицизме никогда не избегал выражения ярких и сильных эмоций. В этом смысле его неоклассицизм можно было бы назвать отчасти бетховенским.
Главные черты нового стиля Русселя получили своё завершённое воплощение в его «Сюите в тоне фа» 1926 года, с которой, собственно, он и начинает отсчёт своего третьего периода. Сюита состоит из трёх танцев: Прелюдии, Сарабанды и Жиги. Первое исполнение состоялось в концертах Бостонского симфонического оркестра 21 января 1927 года под управлением Сергея Кусевицкого. Скоро после премьеры «Suite in Fa» вошла в число самых исполняемых концертных произведений Альбера Русселя. Сам автор, понимая важность этого небольшого произведения для собственного творческого поиска, спустя полтора года после бостонской премьеры дал его развёрнутый анализ перед первым исполнением в Париже:
…с точки зрения внешней формы композитор избрал для себя образцом классическое построение старинной сюиты, правда, значительно его омолодив.<…> Тематический материал в ней состоит из коротких отрезков, различные звуковые комбинации которых и образуют развитие. А сами эти развивающиеся эпизоды цепляются друг за друга без малейшей остановки, составляя единую непрерывную музыкальную ткань. Такими приёмами охотно пользовался Бах и некоторые его преемники.— Roussel A. «Guide de Concert». — 23 nov. 1928[11].
Таким образом, главную черту своего неоклассицизма назвал сам Руссель: это была не архаика или возврат к «прекрасной старине», а омоложение стиля. Классические формы и приёмы развития применялись им к современному музыкальному языку. После «Suite in Fa», своеобразного манифеста русселевского неоклассицизма, всё оставшееся время активной творческой жизни композитор продолжает идти по линии шлифовки и развития найденных и принятых им для себя музыкальных форм.
Третья симфония g-moll (1929—1930) и Четвёртая симфония A-dur (1934) представляют собой новые вершины в трактовке традиционного четырёхчастного симфонического цикла. Одновременно Руссель активно работает над дальнейшим «просветлением» и очищением своего стиля от «какофонии», в которой когда-то мягко упрекнул его Эрик Сати, одновременно стараясь не потерять современности музыкального языка. Своеобразным полигоном для этого движения становятся многочисленные камерные и концертные симфонические произведения, появившиеся в конце 1920-х годов, среди которых можно выделить Концерт для малого оркестра (1926—27), Концерт для фортепиано с оркестром (1927) и Маленькая сюита для оркестра (1929).
Третья симфония, написанная к 50-летию Бостонского симфонического оркестра, посвящена его дирижёру Сергею Кусевицкому и впервые была исполнена им в Бостоне, 17 октября 1930 года. Отзывы критики были почти единодушны: Руссель предложил истинно новаторское и одновременно классически стройное произведение. Третья симфония буквально поражает динамизмом, волевой силой и выпуклой рельефностью тематического материала. Вместе с тем она истинно по классически сжата и уравновешена во всех своих частях.
 Созданию Четвёртой симфонии непосредственно предшествовала Симфониетта для струнного оркестра в трёх частях, написанная Русселем на едином дыхании, всего за три недели (12 июля — 6 августа 1934 года). Это остроумное и яркое концертное сочинение предназначалось для нашумевшего тогда женского струнного оркестра под управлением Жанны Эврар и было исполнено с большим успехом 19 октября 1934 года в зале Гаво. Что также весьма показательно, во всех упомянутых сочинениях начисто отсутствует даже малейший намёк на какую-то программность или театральность; говоря более определённо, это и есть образцы того самого «чистого симфонизма», который обыкновенно считался совершенно нехарактерным для французской музыки.
Созданию Четвёртой симфонии непосредственно предшествовала Симфониетта для струнного оркестра в трёх частях, написанная Русселем на едином дыхании, всего за три недели (12 июля — 6 августа 1934 года). Это остроумное и яркое концертное сочинение предназначалось для нашумевшего тогда женского струнного оркестра под управлением Жанны Эврар и было исполнено с большим успехом 19 октября 1934 года в зале Гаво. Что также весьма показательно, во всех упомянутых сочинениях начисто отсутствует даже малейший намёк на какую-то программность или театральность; говоря более определённо, это и есть образцы того самого «чистого симфонизма», который обыкновенно считался совершенно нехарактерным для французской музыки.
В 1930 году (с июня по декабрь) Руссель создаёт одно из своих наиболее известных театральных сочинений — балет «Вакх и Ариадна». Несмотря на вполне «равелевское» название, в котором ощущается перекличка с «Дафнисом и Хлоей», балет является совершенно классическим как по форме, так и по музыкальному языку. Партитура «Вакха и Ариадны» находится вполне в русле Третьей и Четвёртой симфоний, однако не является чистой и отдельной от спектакля. Основной своей задачей в театральной музыке Руссель считал подчинение партитуры основному драматургическому и сюжетному развитию. Премьера балета состоялась 22 мая 1931 года в хореографии Сержа Лифаря и имела большой успех.
Последним обращением Русселя к античности и театру (весной 1935 года) стал его балет с хорами «Эней» (по «Энеидам» Вергилия). Пытаясь воспроизвести в своём балете основные синтетические черты античной трагедии, Руссель на деле создаёт новую форму спектакля, в которой сочетаются черты балета-пантомимы с отдельными элементами оратории и кантаты. Впервые «Эней» был исполнен в 1935 году в Брюсселе на сцене Дворца Искусств. Большой успех премьеры вызвал международный резонанс, и в том же году состоялась постановка «Энея» и в миланском театре La Scala. Париж, несколько замешкавшись, увидел «Энея» в Grand Opera уже после смерти Русселя, в 1938 году.
Последним крупным сочинением Русселя стала «Фламандская рапсодия» (написанная в апреле-июне 1936 года), в которой он вернулся и отдал дань народной музыке своей малой родины. Туркуэн, где прошло детство Русселя и где многие столетия жили его предки, находится во французской области Фландрии, бо́льшая часть которой вошла в состав территории Бельгии. Руссель часто любил подчёркивать своё фламандское происхождение и не без удовольствия отмечал в собственном характере многие национальные черты. «Фламандская рапсодия» написана на материале пяти подлинных фламандских мелодий, которые Руссель почерпнул из сборника бельгийского фольклориста Эрнеста Классона — «Народные песни бельгийских провинций». Большую часть из этих песен Руссель знал с детства. Рапсодия начинается торжественной декламацией песни «Осада Бург-оп-Зома», затем в разработку включается «Боевая песня гёзов», отдельный эпизод образует лирическая «Колыбельная» а за ней следует плясовая песенка «Карелтье». По сравнению с другими симфоническими сочинениями Русселя, музыкальное построение «Фламандской рапсодии» очень просто, но тембровая и полифоническая изобретательность превращает её в заразительно весёлую и остроумную концертную пьесу, в которой большой композитор как бы приближает свою музыку к самому широкому слушателю. По всей видимости, это было прямым откликом Русселя на тяжёлую предвоенную политическую ситуацию середины 1930-х годов. Достаточно сказать, что непосредственно перед созданием своей рапсодии Альбер Руссель был избран президентом Народной музыкальной федерации Франции, главная задача которой — была сближение академического искусства с массовым слушателем. Исполненная впервые в Брюсселе 12 декабря 1936 года и в Париже 21 января 1937 года (по управлением Шарля Мюнша, «Фламандская рапсодия» очень быстро стала одним из самых популярных и часто исполняемых произведений Русселя.
В завершении остаётся перечислить только наиболее значительные работы третьего периода творчества Альбера Русселя: это, прежде всего, «Suite in Fa» ор.33 для оркестра (1926), Концерт для малого оркестра ор.34 (1926—1927), Симфония № 3 соль минор ор.42 (1929—1930), «Вакх и Ариадна» балет ор.43 (1930), Симфониетта для струнного оркестра ор.52 (1934), Симфония № 4 ля мажор ор.53 (1934), «Эней» балет с хорами ор.54 (1934), «Фламандская рапсодия» для оркестра ор.56 (1936), Концертино для виолончели и оркестра ор.57 (1936) и струнное трио ор.58 (1937).
Сочинения Альбера Русселя
Оперы
Падмавати, опера-балет в 2-х действиях, соч. 18 (1913-18), пост. Парижская опера, 1 июня 1923
Рождение лиры, опера (лирическая сказка) в 1 действии, соч. 24 (1923-24), пост. Парижская опера, 1 июля 1925
Завещание тётушки Каролины, комическая опера в 3-х действиях (1932-1933), пост. 14 ноября 1936
Балеты
Пир паука, балет в одном действии, соч. 17 (1912), пост. Париж, 3 апреля 1913
Сарабанда, номер для коллективного детского балета "Веер Жанны" (1927), пост. Париж, 16 июня 1927
Вакх и Ариадна, балет в двух действиях, соч. 43 (1930), пост. Парижская опера, 22 мая 1931
Эней, балет для хора и оркестра, соч. 54 (1935), пост. Брюссель, 31 июля 1935
Музыка для театра
Продавец песка, музыка к спектаклю по сказке Жоржа Жан-Обри, соч. 13 (1908), пост. Гавр, 16 декабря 1908
Вступление ко 2му акту пьесы Ромена Роллана "Четырнадцатое июля" (1936), пост. Париж, 14 июля 1936
Эльпенор, радиофоническая поэма для флейты и струнного квартета, соч. 59 (1937), пост. Брюссель, 1947
Сочинения для оркестра
Воскресение, Прелюдия для оркестра ор. 4 (1903)
Симфония № 1 ре минор "Поэма леса", Op. 7 (1904-1906)
Заклинания для солистов, хора и оркестра, соч. 15 (1910-11)
Падмавати, сюиты из оперы № № 1 & 2, соч. 18 (1918)
К весеннему празднику, симфоническая поэма, Op. 22 (1920)
Симфония № 2 си-бемоль мажор, соч. 23 (1919-1921)
Сюита для оркестра фа мажор, соч. 33 (1926)
Концерт для маленького оркестра (1926-1927)
Маленькая сюита, соч. 39 (1929)
Симфония № 3 соль минор, соч. 42 (1929-30)
Симфониетта для струнного оркестра, соч. 52 (1934)
Симфония № 4 ля мажор, соч. 53 (1934)
Фламандская рапсодия, соч. 56 (1936)
Концерты
Концерт для фортепиано с оркестром соль мажор, соч. 36 (1926-27)
Концертино для виолончели с оркестром, соч. 57 (1936)
Вокально-оркестровые сочинения
Боевая песнь франков для мужского хора, духовых и ударных ad libitum (1926)
80й Псалом для тенора, хора и оркестра, соч. 37 (1928)
Для духового оркестра
Великий день, соч. 48 (1932)
Камерная музыка
Фортепианное трио ми-бемоль мажор, Op.2 (1902)
Дивертисмент для фортепиано и квинтета духовых, Op.6 (1906)
Соната № 1 для скрипки и фортепиано, Op.11 (1907-08)
Экспромт для арфы соло, Op.21 (1919)
Игроки на флейте для флейты и фортепиано, Op.27 (1924)
Соната № 2 для скрипки и фортепиано, Op.28 (1924)
Сеговия для гитары (или фортепиано), Op.29 (1925)
Серенада для флейты, струнного трио и арфы, Op.30 (1925)
Дуэт для фагота и контрабаса (1925)
Ария для гобоя и фортепиано (1927-28)
Трио для флейты, альта и виолончели, Op.40 (1929)
Струнный квартет, Op.45 (1931-32)
Анданте и Скерцо, для флейты и фортепиано, Op.51 (1934)
Свирель, для флейты-пикколо и фортепиано (1934)
Трио для струнных, Op.58 (1937)
Анданте из неоконченного трио для гобоя, кларнета и фагота (1937)
Фортепианная музыка
Прошедшие часы, op.1 (1898)
История с куклой (1904)
Деревенские танцы, op.5 (1906)
Сюита в фа-диез, op.14 (1910)
Маленький канон перпетуум (1913)
Сонатина, op.16 (1914)
Сомнения (1919)
На приёме у Муз (Посвящение Дебюсси) (1920)
Прелюдия и фуга (Посвящение Баху), op.46 (1932)
Три пьесы, op.49 (1933)
Органные пьесы
Прелюдия и Фугетта, соч. 41 (1929)
Вокальные произведения
Четыре поэмы Анри де Ренье, op.3 (1903)
Четыре поэмы Анри де Ренье, Op.8 (1907)
Угроза, соч. 9 (1907-1908)
Пламя соч. 10 (1908)
Две китайские поэмы op.12 (1908)
Два романса Op.19 (1918, оркест. 1928)
Два романса Op.20 (1919)
Две поэмы Ронсара для флейты и сопрано, Op.26 (1924)
Анакреонтические оды op.31 (1926)
Анакреонтические оды op.32 (1926)
Две китайские поэмы соч.35 (1927)
Вокализ (1927)
Ночной джаз Op.38 (1928)
Вокализ (1928)
Цветок для моей дочери, романс на ст. Д.Джойса (1931)
Две идиллии Op.44 (1932)
Две китайские поэмы op.47 (1932)
Два романса Op.50 (1934)
Два романса Op.55 (1935)
Для хора а капелла
Два мадригала для 4х голосов (1897)
Мадригал для муз для 3х женских голосов (1923)
Источники
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Филенко Г. Французская музыка первой половины XX века. — Л.: Музыка, 1983. — С. 16—19.
- ↑ Шнеерсон Г. Французская музыка XX века. — М.: Музыка, 1964. — С. 150.
- ↑ Шнеерсон Г. Французская музыка XX века. — М.: Музыка, 1964. — С. 50—51.
- ↑ 1 2 3 Сати Э., Ханон Ю. «Воспоминания задним числом». — СПб.: Центр Средней Музыки, 2009. — 682 с.
- ↑ Erik Satie. Ecrits. — P.: Editions Gerard Lebovici, 1990. — С. 55.
- ↑ 1 2 Филенко Г. Французская музыка первой половины XX века. — Л.: Музыка, 1983. — С. 25—31.
- ↑ Равель в зеркале своих писем / Составители М. Жерар и Р. Шалю. — Л.: Музыка, 1988. — С. 188.
- ↑ Равель в зеркале своих писем / Составители М. Жерар и Р. Шалю. — Л.: Музыка, 1988. — С. 106.
- ↑ 1 2 3 Шнеерсон Г. Французская музыка XX века. — М.: Музыка, 1964. — С. 151—155.
- ↑ 1 2 3 Филенко Г. Французская музыка первой половины XX века. — Л.: Музыка, 1983. — С. 23—24.
- ↑ 1 2 3 Филенко Г. Французская музыка первой половины XX века. — Л.: Музыка, 1983. — С. 33—37.
Напишите отзыв о статье "Руссель, Альбер"
Ссылки
- [khanograf.ru/arte/Альбер_Руссель_(Эрик_Сати._Лица) Альбер Руссель: «очень странный, но композитор»]
- [khanograf.ru/arte/Альбер_Руссель,_артефакты_(Эрик_Сати._Лица) Руссель: наследие, список сочинений почти полный]
Отрывок, характеризующий Руссель, Альбер
– Уже неделя, как началась кампания, и вы не сумели защитить Вильну. Вы разрезаны надвое и прогнаны из польских провинций. Ваша армия ропщет…– Напротив, ваше величество, – сказал Балашев, едва успевавший запоминать то, что говорилось ему, и с трудом следивший за этим фейерверком слов, – войска горят желанием…
– Я все знаю, – перебил его Наполеон, – я все знаю, и знаю число ваших батальонов так же верно, как и моих. У вас нет двухсот тысяч войска, а у меня втрое столько. Даю вам честное слово, – сказал Наполеон, забывая, что это его честное слово никак не могло иметь значения, – даю вам ma parole d'honneur que j'ai cinq cent trente mille hommes de ce cote de la Vistule. [честное слово, что у меня пятьсот тридцать тысяч человек по сю сторону Вислы.] Турки вам не помощь: они никуда не годятся и доказали это, замирившись с вами. Шведы – их предопределение быть управляемыми сумасшедшими королями. Их король был безумный; они переменили его и взяли другого – Бернадота, который тотчас сошел с ума, потому что сумасшедший только, будучи шведом, может заключать союзы с Россией. – Наполеон злобно усмехнулся и опять поднес к носу табакерку.
На каждую из фраз Наполеона Балашев хотел и имел что возразить; беспрестанно он делал движение человека, желавшего сказать что то, но Наполеон перебивал его. Например, о безумии шведов Балашев хотел сказать, что Швеция есть остров, когда Россия за нее; но Наполеон сердито вскрикнул, чтобы заглушить его голос. Наполеон находился в том состоянии раздражения, в котором нужно говорить, говорить и говорить, только для того, чтобы самому себе доказать свою справедливость. Балашеву становилось тяжело: он, как посол, боялся уронить достоинство свое и чувствовал необходимость возражать; но, как человек, он сжимался нравственно перед забытьем беспричинного гнева, в котором, очевидно, находился Наполеон. Он знал, что все слова, сказанные теперь Наполеоном, не имеют значения, что он сам, когда опомнится, устыдится их. Балашев стоял, опустив глаза, глядя на движущиеся толстые ноги Наполеона, и старался избегать его взгляда.
– Да что мне эти ваши союзники? – говорил Наполеон. – У меня союзники – это поляки: их восемьдесят тысяч, они дерутся, как львы. И их будет двести тысяч.
И, вероятно, еще более возмутившись тем, что, сказав это, он сказал очевидную неправду и что Балашев в той же покорной своей судьбе позе молча стоял перед ним, он круто повернулся назад, подошел к самому лицу Балашева и, делая энергические и быстрые жесты своими белыми руками, закричал почти:
– Знайте, что ежели вы поколеблете Пруссию против меня, знайте, что я сотру ее с карты Европы, – сказал он с бледным, искаженным злобой лицом, энергическим жестом одной маленькой руки ударяя по другой. – Да, я заброшу вас за Двину, за Днепр и восстановлю против вас ту преграду, которую Европа была преступна и слепа, что позволила разрушить. Да, вот что с вами будет, вот что вы выиграли, удалившись от меня, – сказал он и молча прошел несколько раз по комнате, вздрагивая своими толстыми плечами. Он положил в жилетный карман табакерку, опять вынул ее, несколько раз приставлял ее к носу и остановился против Балашева. Он помолчал, поглядел насмешливо прямо в глаза Балашеву и сказал тихим голосом: – Et cependant quel beau regne aurait pu avoir votre maitre! [A между тем какое прекрасное царствование мог бы иметь ваш государь!]
Балашев, чувствуя необходимость возражать, сказал, что со стороны России дела не представляются в таком мрачном виде. Наполеон молчал, продолжая насмешливо глядеть на него и, очевидно, его не слушая. Балашев сказал, что в России ожидают от войны всего хорошего. Наполеон снисходительно кивнул головой, как бы говоря: «Знаю, так говорить ваша обязанность, но вы сами в это не верите, вы убеждены мною».
В конце речи Балашева Наполеон вынул опять табакерку, понюхал из нее и, как сигнал, стукнул два раза ногой по полу. Дверь отворилась; почтительно изгибающийся камергер подал императору шляпу и перчатки, другой подал носовои платок. Наполеон, ne глядя на них, обратился к Балашеву.
– Уверьте от моего имени императора Александра, – сказал оц, взяв шляпу, – что я ему предан по прежнему: я анаю его совершенно и весьма высоко ценю высокие его качества. Je ne vous retiens plus, general, vous recevrez ma lettre a l'Empereur. [Не удерживаю вас более, генерал, вы получите мое письмо к государю.] – И Наполеон пошел быстро к двери. Из приемной все бросилось вперед и вниз по лестнице.
После всего того, что сказал ему Наполеон, после этих взрывов гнева и после последних сухо сказанных слов:
«Je ne vous retiens plus, general, vous recevrez ma lettre», Балашев был уверен, что Наполеон уже не только не пожелает его видеть, но постарается не видать его – оскорбленного посла и, главное, свидетеля его непристойной горячности. Но, к удивлению своему, Балашев через Дюрока получил в этот день приглашение к столу императора.
На обеде были Бессьер, Коленкур и Бертье. Наполеон встретил Балашева с веселым и ласковым видом. Не только не было в нем выражения застенчивости или упрека себе за утреннюю вспышку, но он, напротив, старался ободрить Балашева. Видно было, что уже давно для Наполеона в его убеждении не существовало возможности ошибок и что в его понятии все то, что он делал, было хорошо не потому, что оно сходилось с представлением того, что хорошо и дурно, но потому, что он делал это.
Император был очень весел после своей верховой прогулки по Вильне, в которой толпы народа с восторгом встречали и провожали его. Во всех окнах улиц, по которым он проезжал, были выставлены ковры, знамена, вензеля его, и польские дамы, приветствуя его, махали ему платками.
За обедом, посадив подле себя Балашева, он обращался с ним не только ласково, но обращался так, как будто он и Балашева считал в числе своих придворных, в числе тех людей, которые сочувствовали его планам и должны были радоваться его успехам. Между прочим разговором он заговорил о Москве и стал спрашивать Балашева о русской столице, не только как спрашивает любознательный путешественник о новом месте, которое он намеревается посетить, но как бы с убеждением, что Балашев, как русский, должен быть польщен этой любознательностью.
– Сколько жителей в Москве, сколько домов? Правда ли, что Moscou называют Moscou la sainte? [святая?] Сколько церквей в Moscou? – спрашивал он.
И на ответ, что церквей более двухсот, он сказал:
– К чему такая бездна церквей?
– Русские очень набожны, – отвечал Балашев.
– Впрочем, большое количество монастырей и церквей есть всегда признак отсталости народа, – сказал Наполеон, оглядываясь на Коленкура за оценкой этого суждения.
Балашев почтительно позволил себе не согласиться с мнением французского императора.
– У каждой страны свои нравы, – сказал он.
– Но уже нигде в Европе нет ничего подобного, – сказал Наполеон.
– Прошу извинения у вашего величества, – сказал Балашев, – кроме России, есть еще Испания, где также много церквей и монастырей.
Этот ответ Балашева, намекавший на недавнее поражение французов в Испании, был высоко оценен впоследствии, по рассказам Балашева, при дворе императора Александра и очень мало был оценен теперь, за обедом Наполеона, и прошел незаметно.
По равнодушным и недоумевающим лицам господ маршалов видно было, что они недоумевали, в чем тут состояла острота, на которую намекала интонация Балашева. «Ежели и была она, то мы не поняли ее или она вовсе не остроумна», – говорили выражения лиц маршалов. Так мало был оценен этот ответ, что Наполеон даже решительно не заметил его и наивно спросил Балашева о том, на какие города идет отсюда прямая дорога к Москве. Балашев, бывший все время обеда настороже, отвечал, что comme tout chemin mene a Rome, tout chemin mene a Moscou, [как всякая дорога, по пословице, ведет в Рим, так и все дороги ведут в Москву,] что есть много дорог, и что в числе этих разных путей есть дорога на Полтаву, которую избрал Карл XII, сказал Балашев, невольно вспыхнув от удовольствия в удаче этого ответа. Не успел Балашев досказать последних слов: «Poltawa», как уже Коленкур заговорил о неудобствах дороги из Петербурга в Москву и о своих петербургских воспоминаниях.
После обеда перешли пить кофе в кабинет Наполеона, четыре дня тому назад бывший кабинетом императора Александра. Наполеон сел, потрогивая кофе в севрской чашке, и указал на стул подло себя Балашеву.
Есть в человеке известное послеобеденное расположение духа, которое сильнее всяких разумных причин заставляет человека быть довольным собой и считать всех своими друзьями. Наполеон находился в этом расположении. Ему казалось, что он окружен людьми, обожающими его. Он был убежден, что и Балашев после его обеда был его другом и обожателем. Наполеон обратился к нему с приятной и слегка насмешливой улыбкой.
– Это та же комната, как мне говорили, в которой жил император Александр. Странно, не правда ли, генерал? – сказал он, очевидно, не сомневаясь в том, что это обращение не могло не быть приятно его собеседнику, так как оно доказывало превосходство его, Наполеона, над Александром.
Балашев ничего не мог отвечать на это и молча наклонил голову.
– Да, в этой комнате, четыре дня тому назад, совещались Винцингероде и Штейн, – с той же насмешливой, уверенной улыбкой продолжал Наполеон. – Чего я не могу понять, – сказал он, – это того, что император Александр приблизил к себе всех личных моих неприятелей. Я этого не… понимаю. Он не подумал о том, что я могу сделать то же? – с вопросом обратился он к Балашеву, и, очевидно, это воспоминание втолкнуло его опять в тот след утреннего гнева, который еще был свеж в нем.
– И пусть он знает, что я это сделаю, – сказал Наполеон, вставая и отталкивая рукой свою чашку. – Я выгоню из Германии всех его родных, Виртембергских, Баденских, Веймарских… да, я выгоню их. Пусть он готовит для них убежище в России!
Балашев наклонил голову, видом своим показывая, что он желал бы откланяться и слушает только потому, что он не может не слушать того, что ему говорят. Наполеон не замечал этого выражения; он обращался к Балашеву не как к послу своего врага, а как к человеку, который теперь вполне предан ему и должен радоваться унижению своего бывшего господина.
– И зачем император Александр принял начальство над войсками? К чему это? Война мое ремесло, а его дело царствовать, а не командовать войсками. Зачем он взял на себя такую ответственность?
Наполеон опять взял табакерку, молча прошелся несколько раз по комнате и вдруг неожиданно подошел к Балашеву и с легкой улыбкой так уверенно, быстро, просто, как будто он делал какое нибудь не только важное, но и приятное для Балашева дело, поднял руку к лицу сорокалетнего русского генерала и, взяв его за ухо, слегка дернул, улыбнувшись одними губами.
– Avoir l'oreille tiree par l'Empereur [Быть выдранным за ухо императором] считалось величайшей честью и милостью при французском дворе.
– Eh bien, vous ne dites rien, admirateur et courtisan de l'Empereur Alexandre? [Ну у, что ж вы ничего не говорите, обожатель и придворный императора Александра?] – сказал он, как будто смешно было быть в его присутствии чьим нибудь courtisan и admirateur [придворным и обожателем], кроме его, Наполеона.
– Готовы ли лошади для генерала? – прибавил он, слегка наклоняя голову в ответ на поклон Балашева.
– Дайте ему моих, ему далеко ехать…
Письмо, привезенное Балашевым, было последнее письмо Наполеона к Александру. Все подробности разговора были переданы русскому императору, и война началась.
После своего свидания в Москве с Пьером князь Андреи уехал в Петербург по делам, как он сказал своим родным, но, в сущности, для того, чтобы встретить там князя Анатоля Курагина, которого он считал необходимым встретить. Курагина, о котором он осведомился, приехав в Петербург, уже там не было. Пьер дал знать своему шурину, что князь Андрей едет за ним. Анатоль Курагин тотчас получил назначение от военного министра и уехал в Молдавскую армию. В это же время в Петербурге князь Андрей встретил Кутузова, своего прежнего, всегда расположенного к нему, генерала, и Кутузов предложил ему ехать с ним вместе в Молдавскую армию, куда старый генерал назначался главнокомандующим. Князь Андрей, получив назначение состоять при штабе главной квартиры, уехал в Турцию.
Князь Андрей считал неудобным писать к Курагину и вызывать его. Не подав нового повода к дуэли, князь Андрей считал вызов с своей стороны компрометирующим графиню Ростову, и потому он искал личной встречи с Курагиным, в которой он намерен был найти новый повод к дуэли. Но в Турецкой армии ему также не удалось встретить Курагина, который вскоре после приезда князя Андрея в Турецкую армию вернулся в Россию. В новой стране и в новых условиях жизни князю Андрею стало жить легче. После измены своей невесты, которая тем сильнее поразила его, чем старательнее он скрывал ото всех произведенное на него действие, для него были тяжелы те условия жизни, в которых он был счастлив, и еще тяжелее были свобода и независимость, которыми он так дорожил прежде. Он не только не думал тех прежних мыслей, которые в первый раз пришли ему, глядя на небо на Аустерлицком поле, которые он любил развивать с Пьером и которые наполняли его уединение в Богучарове, а потом в Швейцарии и Риме; но он даже боялся вспоминать об этих мыслях, раскрывавших бесконечные и светлые горизонты. Его интересовали теперь только самые ближайшие, не связанные с прежними, практические интересы, за которые он ухватывался с тем большей жадностью, чем закрытое были от него прежние. Как будто тот бесконечный удаляющийся свод неба, стоявший прежде над ним, вдруг превратился в низкий, определенный, давивший его свод, в котором все было ясно, но ничего не было вечного и таинственного.
Из представлявшихся ему деятельностей военная служба была самая простая и знакомая ему. Состоя в должности дежурного генерала при штабе Кутузова, он упорно и усердно занимался делами, удивляя Кутузова своей охотой к работе и аккуратностью. Не найдя Курагина в Турции, князь Андрей не считал необходимым скакать за ним опять в Россию; но при всем том он знал, что, сколько бы ни прошло времени, он не мог, встретив Курагина, несмотря на все презрение, которое он имел к нему, несмотря на все доказательства, которые он делал себе, что ему не стоит унижаться до столкновения с ним, он знал, что, встретив его, он не мог не вызвать его, как не мог голодный человек не броситься на пищу. И это сознание того, что оскорбление еще не вымещено, что злоба не излита, а лежит на сердце, отравляло то искусственное спокойствие, которое в виде озабоченно хлопотливой и несколько честолюбивой и тщеславной деятельности устроил себе князь Андрей в Турции.
В 12 м году, когда до Букарешта (где два месяца жил Кутузов, проводя дни и ночи у своей валашки) дошла весть о войне с Наполеоном, князь Андрей попросил у Кутузова перевода в Западную армию. Кутузов, которому уже надоел Болконский своей деятельностью, служившей ему упреком в праздности, Кутузов весьма охотно отпустил его и дал ему поручение к Барклаю де Толли.
Прежде чем ехать в армию, находившуюся в мае в Дрисском лагере, князь Андрей заехал в Лысые Горы, которые были на самой его дороге, находясь в трех верстах от Смоленского большака. Последние три года и жизни князя Андрея было так много переворотов, так много он передумал, перечувствовал, перевидел (он объехал и запад и восток), что его странно и неожиданно поразило при въезде в Лысые Горы все точно то же, до малейших подробностей, – точно то же течение жизни. Он, как в заколдованный, заснувший замок, въехал в аллею и в каменные ворота лысогорского дома. Та же степенность, та же чистота, та же тишина были в этом доме, те же мебели, те же стены, те же звуки, тот же запах и те же робкие лица, только несколько постаревшие. Княжна Марья была все та же робкая, некрасивая, стареющаяся девушка, в страхе и вечных нравственных страданиях, без пользы и радости проживающая лучшие годы своей жизни. Bourienne была та же радостно пользующаяся каждой минутой своей жизни и исполненная самых для себя радостных надежд, довольная собой, кокетливая девушка. Она только стала увереннее, как показалось князю Андрею. Привезенный им из Швейцарии воспитатель Десаль был одет в сюртук русского покроя, коверкая язык, говорил по русски со слугами, но был все тот же ограниченно умный, образованный, добродетельный и педантический воспитатель. Старый князь переменился физически только тем, что с боку рта у него стал заметен недостаток одного зуба; нравственно он был все такой же, как и прежде, только с еще большим озлоблением и недоверием к действительности того, что происходило в мире. Один только Николушка вырос, переменился, разрумянился, оброс курчавыми темными волосами и, сам не зная того, смеясь и веселясь, поднимал верхнюю губку хорошенького ротика точно так же, как ее поднимала покойница маленькая княгиня. Он один не слушался закона неизменности в этом заколдованном, спящем замке. Но хотя по внешности все оставалось по старому, внутренние отношения всех этих лиц изменились, с тех пор как князь Андрей не видал их. Члены семейства были разделены на два лагеря, чуждые и враждебные между собой, которые сходились теперь только при нем, – для него изменяя свой обычный образ жизни. К одному принадлежали старый князь, m lle Bourienne и архитектор, к другому – княжна Марья, Десаль, Николушка и все няньки и мамки.
Во время его пребывания в Лысых Горах все домашние обедали вместе, но всем было неловко, и князь Андрей чувствовал, что он гость, для которого делают исключение, что он стесняет всех своим присутствием. Во время обеда первого дня князь Андрей, невольно чувствуя это, был молчалив, и старый князь, заметив неестественность его состояния, тоже угрюмо замолчал и сейчас после обеда ушел к себе. Когда ввечеру князь Андрей пришел к нему и, стараясь расшевелить его, стал рассказывать ему о кампании молодого графа Каменского, старый князь неожиданно начал с ним разговор о княжне Марье, осуждая ее за ее суеверие, за ее нелюбовь к m lle Bourienne, которая, по его словам, была одна истинно предана ему.
Старый князь говорил, что ежели он болен, то только от княжны Марьи; что она нарочно мучает и раздражает его; что она баловством и глупыми речами портит маленького князя Николая. Старый князь знал очень хорошо, что он мучает свою дочь, что жизнь ее очень тяжела, но знал тоже, что он не может не мучить ее и что она заслуживает этого. «Почему же князь Андрей, который видит это, мне ничего не говорит про сестру? – думал старый князь. – Что же он думает, что я злодей или старый дурак, без причины отдалился от дочери и приблизил к себе француженку? Он не понимает, и потому надо объяснить ему, надо, чтоб он выслушал», – думал старый князь. И он стал объяснять причины, по которым он не мог переносить бестолкового характера дочери.
– Ежели вы спрашиваете меня, – сказал князь Андрей, не глядя на отца (он в первый раз в жизни осуждал своего отца), – я не хотел говорить; но ежели вы меня спрашиваете, то я скажу вам откровенно свое мнение насчет всего этого. Ежели есть недоразумения и разлад между вами и Машей, то я никак не могу винить ее – я знаю, как она вас любит и уважает. Ежели уж вы спрашиваете меня, – продолжал князь Андрей, раздражаясь, потому что он всегда был готов на раздражение в последнее время, – то я одно могу сказать: ежели есть недоразумения, то причиной их ничтожная женщина, которая бы не должна была быть подругой сестры.
Старик сначала остановившимися глазами смотрел на сына и ненатурально открыл улыбкой новый недостаток зуба, к которому князь Андрей не мог привыкнуть.
– Какая же подруга, голубчик? А? Уж переговорил! А?
– Батюшка, я не хотел быть судьей, – сказал князь Андрей желчным и жестким тоном, – но вы вызвали меня, и я сказал и всегда скажу, что княжна Марья ни виновата, а виноваты… виновата эта француженка…
– А присудил!.. присудил!.. – сказал старик тихим голосом и, как показалось князю Андрею, с смущением, но потом вдруг он вскочил и закричал: – Вон, вон! Чтоб духу твоего тут не было!..
Князь Андрей хотел тотчас же уехать, но княжна Марья упросила остаться еще день. В этот день князь Андрей не виделся с отцом, который не выходил и никого не пускал к себе, кроме m lle Bourienne и Тихона, и спрашивал несколько раз о том, уехал ли его сын. На другой день, перед отъездом, князь Андрей пошел на половину сына. Здоровый, по матери кудрявый мальчик сел ему на колени. Князь Андрей начал сказывать ему сказку о Синей Бороде, но, не досказав, задумался. Он думал не об этом хорошеньком мальчике сыне в то время, как он его держал на коленях, а думал о себе. Он с ужасом искал и не находил в себе ни раскаяния в том, что он раздражил отца, ни сожаления о том, что он (в ссоре в первый раз в жизни) уезжает от него. Главнее всего ему было то, что он искал и не находил той прежней нежности к сыну, которую он надеялся возбудить в себе, приласкав мальчика и посадив его к себе на колени.
– Ну, рассказывай же, – говорил сын. Князь Андрей, не отвечая ему, снял его с колон и пошел из комнаты.
Как только князь Андрей оставил свои ежедневные занятия, в особенности как только он вступил в прежние условия жизни, в которых он был еще тогда, когда он был счастлив, тоска жизни охватила его с прежней силой, и он спешил поскорее уйти от этих воспоминаний и найти поскорее какое нибудь дело.
– Ты решительно едешь, Andre? – сказала ему сестра.
– Слава богу, что могу ехать, – сказал князь Андрей, – очень жалею, что ты не можешь.
– Зачем ты это говоришь! – сказала княжна Марья. – Зачем ты это говоришь теперь, когда ты едешь на эту страшную войну и он так стар! M lle Bourienne говорила, что он спрашивал про тебя… – Как только она начала говорить об этом, губы ее задрожали и слезы закапали. Князь Андрей отвернулся от нее и стал ходить по комнате.
– Ах, боже мой! Боже мой! – сказал он. – И как подумаешь, что и кто – какое ничтожество может быть причиной несчастья людей! – сказал он со злобою, испугавшею княжну Марью.
Она поняла, что, говоря про людей, которых он называл ничтожеством, он разумел не только m lle Bourienne, делавшую его несчастие, но и того человека, который погубил его счастие.
– Andre, об одном я прошу, я умоляю тебя, – сказала она, дотрогиваясь до его локтя и сияющими сквозь слезы глазами глядя на него. – Я понимаю тебя (княжна Марья опустила глаза). Не думай, что горе сделали люди. Люди – орудие его. – Она взглянула немного повыше головы князя Андрея тем уверенным, привычным взглядом, с которым смотрят на знакомое место портрета. – Горе послано им, а не людьми. Люди – его орудия, они не виноваты. Ежели тебе кажется, что кто нибудь виноват перед тобой, забудь это и прости. Мы не имеем права наказывать. И ты поймешь счастье прощать.
– Ежели бы я был женщина, я бы это делал, Marie. Это добродетель женщины. Но мужчина не должен и не может забывать и прощать, – сказал он, и, хотя он до этой минуты не думал о Курагине, вся невымещенная злоба вдруг поднялась в его сердце. «Ежели княжна Марья уже уговаривает меня простить, то, значит, давно мне надо было наказать», – подумал он. И, не отвечая более княжне Марье, он стал думать теперь о той радостной, злобной минуте, когда он встретит Курагина, который (он знал) находится в армии.
Княжна Марья умоляла брата подождать еще день, говорила о том, что она знает, как будет несчастлив отец, ежели Андрей уедет, не помирившись с ним; но князь Андрей отвечал, что он, вероятно, скоро приедет опять из армии, что непременно напишет отцу и что теперь чем дольше оставаться, тем больше растравится этот раздор.
– Adieu, Andre! Rappelez vous que les malheurs viennent de Dieu, et que les hommes ne sont jamais coupables, [Прощай, Андрей! Помни, что несчастия происходят от бога и что люди никогда не бывают виноваты.] – были последние слова, которые он слышал от сестры, когда прощался с нею.
«Так это должно быть! – думал князь Андрей, выезжая из аллеи лысогорского дома. – Она, жалкое невинное существо, остается на съедение выжившему из ума старику. Старик чувствует, что виноват, но не может изменить себя. Мальчик мой растет и радуется жизни, в которой он будет таким же, как и все, обманутым или обманывающим. Я еду в армию, зачем? – сам не знаю, и желаю встретить того человека, которого презираю, для того чтобы дать ему случай убить меня и посмеяться надо мной!И прежде были все те же условия жизни, но прежде они все вязались между собой, а теперь все рассыпалось. Одни бессмысленные явления, без всякой связи, одно за другим представлялись князю Андрею.
Князь Андрей приехал в главную квартиру армии в конце июня. Войска первой армии, той, при которой находился государь, были расположены в укрепленном лагере у Дриссы; войска второй армии отступали, стремясь соединиться с первой армией, от которой – как говорили – они были отрезаны большими силами французов. Все были недовольны общим ходом военных дел в русской армии; но об опасности нашествия в русские губернии никто и не думал, никто и не предполагал, чтобы война могла быть перенесена далее западных польских губерний.
Князь Андрей нашел Барклая де Толли, к которому он был назначен, на берегу Дриссы. Так как не было ни одного большого села или местечка в окрестностях лагеря, то все огромное количество генералов и придворных, бывших при армии, располагалось в окружности десяти верст по лучшим домам деревень, по сю и по ту сторону реки. Барклай де Толли стоял в четырех верстах от государя. Он сухо и холодно принял Болконского и сказал своим немецким выговором, что он доложит о нем государю для определения ему назначения, а покамест просит его состоять при его штабе. Анатоля Курагина, которого князь Андрей надеялся найти в армии, не было здесь: он был в Петербурге, и это известие было приятно Болконскому. Интерес центра производящейся огромной войны занял князя Андрея, и он рад был на некоторое время освободиться от раздражения, которое производила в нем мысль о Курагине. В продолжение первых четырех дней, во время которых он не был никуда требуем, князь Андрей объездил весь укрепленный лагерь и с помощью своих знаний и разговоров с сведущими людьми старался составить себе о нем определенное понятие. Но вопрос о том, выгоден или невыгоден этот лагерь, остался нерешенным для князя Андрея. Он уже успел вывести из своего военного опыта то убеждение, что в военном деле ничего не значат самые глубокомысленно обдуманные планы (как он видел это в Аустерлицком походе), что все зависит от того, как отвечают на неожиданные и не могущие быть предвиденными действия неприятеля, что все зависит от того, как и кем ведется все дело. Для того чтобы уяснить себе этот последний вопрос, князь Андрей, пользуясь своим положением и знакомствами, старался вникнуть в характер управления армией, лиц и партий, участвовавших в оном, и вывел для себя следующее понятие о положении дел.
Когда еще государь был в Вильне, армия была разделена натрое: 1 я армия находилась под начальством Барклая де Толли, 2 я под начальством Багратиона, 3 я под начальством Тормасова. Государь находился при первой армии, но не в качестве главнокомандующего. В приказе не было сказано, что государь будет командовать, сказано только, что государь будет при армии. Кроме того, при государе лично не было штаба главнокомандующего, а был штаб императорской главной квартиры. При нем был начальник императорского штаба генерал квартирмейстер князь Волконский, генералы, флигель адъютанты, дипломатические чиновники и большое количество иностранцев, но не было штаба армии. Кроме того, без должности при государе находились: Аракчеев – бывший военный министр, граф Бенигсен – по чину старший из генералов, великий князь цесаревич Константин Павлович, граф Румянцев – канцлер, Штейн – бывший прусский министр, Армфельд – шведский генерал, Пфуль – главный составитель плана кампании, генерал адъютант Паулучи – сардинский выходец, Вольцоген и многие другие. Хотя эти лица и находились без военных должностей при армии, но по своему положению имели влияние, и часто корпусный начальник и даже главнокомандующий не знал, в качестве чего спрашивает или советует то или другое Бенигсен, или великий князь, или Аракчеев, или князь Волконский, и не знал, от его ли лица или от государя истекает такое то приказание в форме совета и нужно или не нужно исполнять его. Но это была внешняя обстановка, существенный же смысл присутствия государя и всех этих лиц, с придворной точки (а в присутствии государя все делаются придворными), всем был ясен. Он был следующий: государь не принимал на себя звания главнокомандующего, но распоряжался всеми армиями; люди, окружавшие его, были его помощники. Аракчеев был верный исполнитель блюститель порядка и телохранитель государя; Бенигсен был помещик Виленской губернии, который как будто делал les honneurs [был занят делом приема государя] края, а в сущности был хороший генерал, полезный для совета и для того, чтобы иметь его всегда наготове на смену Барклая. Великий князь был тут потому, что это было ему угодно. Бывший министр Штейн был тут потому, что он был полезен для совета, и потому, что император Александр высоко ценил его личные качества. Армфельд был злой ненавистник Наполеона и генерал, уверенный в себе, что имело всегда влияние на Александра. Паулучи был тут потому, что он был смел и решителен в речах, Генерал адъютанты были тут потому, что они везде были, где государь, и, наконец, – главное – Пфуль был тут потому, что он, составив план войны против Наполеона и заставив Александра поверить в целесообразность этого плана, руководил всем делом войны. При Пфуле был Вольцоген, передававший мысли Пфуля в более доступной форме, чем сам Пфуль, резкий, самоуверенный до презрения ко всему, кабинетный теоретик.
Кроме этих поименованных лиц, русских и иностранных (в особенности иностранцев, которые с смелостью, свойственной людям в деятельности среди чужой среды, каждый день предлагали новые неожиданные мысли), было еще много лиц второстепенных, находившихся при армии потому, что тут были их принципалы.
В числе всех мыслей и голосов в этом огромном, беспокойном, блестящем и гордом мире князь Андрей видел следующие, более резкие, подразделения направлений и партий.
Первая партия была: Пфуль и его последователи, теоретики войны, верящие в то, что есть наука войны и что в этой науке есть свои неизменные законы, законы облического движения, обхода и т. п. Пфуль и последователи его требовали отступления в глубь страны, отступления по точным законам, предписанным мнимой теорией войны, и во всяком отступлении от этой теории видели только варварство, необразованность или злонамеренность. К этой партии принадлежали немецкие принцы, Вольцоген, Винцингероде и другие, преимущественно немцы.
Вторая партия была противуположная первой. Как и всегда бывает, при одной крайности были представители другой крайности. Люди этой партии были те, которые еще с Вильны требовали наступления в Польшу и свободы от всяких вперед составленных планов. Кроме того, что представители этой партии были представители смелых действий, они вместе с тем и были представителями национальности, вследствие чего становились еще одностороннее в споре. Эти были русские: Багратион, начинавший возвышаться Ермолов и другие. В это время была распространена известная шутка Ермолова, будто бы просившего государя об одной милости – производства его в немцы. Люди этой партии говорили, вспоминая Суворова, что надо не думать, не накалывать иголками карту, а драться, бить неприятеля, не впускать его в Россию и не давать унывать войску.
К третьей партии, к которой более всего имел доверия государь, принадлежали придворные делатели сделок между обоими направлениями. Люди этой партии, большей частью не военные и к которой принадлежал Аракчеев, думали и говорили, что говорят обыкновенно люди, не имеющие убеждений, но желающие казаться за таковых. Они говорили, что, без сомнения, война, особенно с таким гением, как Бонапарте (его опять называли Бонапарте), требует глубокомысленнейших соображений, глубокого знания науки, и в этом деле Пфуль гениален; но вместе с тем нельзя не признать того, что теоретики часто односторонни, и потому не надо вполне доверять им, надо прислушиваться и к тому, что говорят противники Пфуля, и к тому, что говорят люди практические, опытные в военном деле, и изо всего взять среднее. Люди этой партии настояли на том, чтобы, удержав Дрисский лагерь по плану Пфуля, изменить движения других армий. Хотя этим образом действий не достигалась ни та, ни другая цель, но людям этой партии казалось так лучше.
Четвертое направление было направление, которого самым видным представителем был великий князь, наследник цесаревич, не могший забыть своего аустерлицкого разочарования, где он, как на смотр, выехал перед гвардиею в каске и колете, рассчитывая молодецки раздавить французов, и, попав неожиданно в первую линию, насилу ушел в общем смятении. Люди этой партии имели в своих суждениях и качество и недостаток искренности. Они боялись Наполеона, видели в нем силу, в себе слабость и прямо высказывали это. Они говорили: «Ничего, кроме горя, срама и погибели, из всего этого не выйдет! Вот мы оставили Вильну, оставили Витебск, оставим и Дриссу. Одно, что нам остается умного сделать, это заключить мир, и как можно скорее, пока не выгнали нас из Петербурга!»
Воззрение это, сильно распространенное в высших сферах армии, находило себе поддержку и в Петербурге, и в канцлере Румянцеве, по другим государственным причинам стоявшем тоже за мир.
Пятые были приверженцы Барклая де Толли, не столько как человека, сколько как военного министра и главнокомандующего. Они говорили: «Какой он ни есть (всегда так начинали), но он честный, дельный человек, и лучше его нет. Дайте ему настоящую власть, потому что война не может идти успешно без единства начальствования, и он покажет то, что он может сделать, как он показал себя в Финляндии. Ежели армия наша устроена и сильна и отступила до Дриссы, не понесши никаких поражений, то мы обязаны этим только Барклаю. Ежели теперь заменят Барклая Бенигсеном, то все погибнет, потому что Бенигсен уже показал свою неспособность в 1807 году», – говорили люди этой партии.
Шестые, бенигсенисты, говорили, напротив, что все таки не было никого дельнее и опытнее Бенигсена, и, как ни вертись, все таки придешь к нему. И люди этой партии доказывали, что все наше отступление до Дриссы было постыднейшее поражение и беспрерывный ряд ошибок. «Чем больше наделают ошибок, – говорили они, – тем лучше: по крайней мере, скорее поймут, что так не может идти. А нужен не какой нибудь Барклай, а человек, как Бенигсен, который показал уже себя в 1807 м году, которому отдал справедливость сам Наполеон, и такой человек, за которым бы охотно признавали власть, – и таковой есть только один Бенигсен».
Седьмые – были лица, которые всегда есть, в особенности при молодых государях, и которых особенно много было при императоре Александре, – лица генералов и флигель адъютантов, страстно преданные государю не как императору, но как человека обожающие его искренно и бескорыстно, как его обожал Ростов в 1805 м году, и видящие в нем не только все добродетели, но и все качества человеческие. Эти лица хотя и восхищались скромностью государя, отказывавшегося от командования войсками, но осуждали эту излишнюю скромность и желали только одного и настаивали на том, чтобы обожаемый государь, оставив излишнее недоверие к себе, объявил открыто, что он становится во главе войска, составил бы при себе штаб квартиру главнокомандующего и, советуясь, где нужно, с опытными теоретиками и практиками, сам бы вел свои войска, которых одно это довело бы до высшего состояния воодушевления.
Восьмая, самая большая группа людей, которая по своему огромному количеству относилась к другим, как 99 к 1 му, состояла из людей, не желавших ни мира, ни войны, ни наступательных движений, ни оборонительного лагеря ни при Дриссе, ни где бы то ни было, ни Барклая, ни государя, ни Пфуля, ни Бенигсена, но желающих только одного, и самого существенного: наибольших для себя выгод и удовольствий. В той мутной воде перекрещивающихся и перепутывающихся интриг, которые кишели при главной квартире государя, в весьма многом можно было успеть в таком, что немыслимо бы было в другое время. Один, не желая только потерять своего выгодного положения, нынче соглашался с Пфулем, завтра с противником его, послезавтра утверждал, что не имеет никакого мнения об известном предмете, только для того, чтобы избежать ответственности и угодить государю. Другой, желающий приобрести выгоды, обращал на себя внимание государя, громко крича то самое, на что намекнул государь накануне, спорил и кричал в совете, ударяя себя в грудь и вызывая несоглашающихся на дуэль и тем показывая, что он готов быть жертвою общей пользы. Третий просто выпрашивал себе, между двух советов и в отсутствие врагов, единовременное пособие за свою верную службу, зная, что теперь некогда будет отказать ему. Четвертый нечаянно все попадался на глаза государю, отягченный работой. Пятый, для того чтобы достигнуть давно желанной цели – обеда у государя, ожесточенно доказывал правоту или неправоту вновь выступившего мнения и для этого приводил более или менее сильные и справедливые доказательства.
Все люди этой партии ловили рубли, кресты, чины и в этом ловлении следили только за направлением флюгера царской милости, и только что замечали, что флюгер обратился в одну сторону, как все это трутневое население армии начинало дуть в ту же сторону, так что государю тем труднее было повернуть его в другую. Среди неопределенности положения, при угрожающей, серьезной опасности, придававшей всему особенно тревожный характер, среди этого вихря интриг, самолюбий, столкновений различных воззрений и чувств, при разноплеменности всех этих лиц, эта восьмая, самая большая партия людей, нанятых личными интересами, придавала большую запутанность и смутность общему делу. Какой бы ни поднимался вопрос, а уж рой этих трутней, не оттрубив еще над прежней темой, перелетал на новую и своим жужжанием заглушал и затемнял искренние, спорящие голоса.
Из всех этих партий, в то самое время, как князь Андрей приехал к армии, собралась еще одна, девятая партия, начинавшая поднимать свой голос. Это была партия людей старых, разумных, государственно опытных и умевших, не разделяя ни одного из противоречащих мнений, отвлеченно посмотреть на все, что делалось при штабе главной квартиры, и обдумать средства к выходу из этой неопределенности, нерешительности, запутанности и слабости.
Люди этой партии говорили и думали, что все дурное происходит преимущественно от присутствия государя с военным двором при армии; что в армию перенесена та неопределенная, условная и колеблющаяся шаткость отношений, которая удобна при дворе, но вредна в армии; что государю нужно царствовать, а не управлять войском; что единственный выход из этого положения есть отъезд государя с его двором из армии; что одно присутствие государя парализует пятьдесят тысяч войска, нужных для обеспечения его личной безопасности; что самый плохой, но независимый главнокомандующий будет лучше самого лучшего, но связанного присутствием и властью государя.
В то самое время как князь Андрей жил без дела при Дриссе, Шишков, государственный секретарь, бывший одним из главных представителей этой партии, написал государю письмо, которое согласились подписать Балашев и Аракчеев. В письме этом, пользуясь данным ему от государя позволением рассуждать об общем ходе дел, он почтительно и под предлогом необходимости для государя воодушевить к войне народ в столице, предлагал государю оставить войско.
Одушевление государем народа и воззвание к нему для защиты отечества – то самое (насколько оно произведено было личным присутствием государя в Москве) одушевление народа, которое было главной причиной торжества России, было представлено государю и принято им как предлог для оставления армии.
Х
Письмо это еще не было подано государю, когда Барклай за обедом передал Болконскому, что государю лично угодно видеть князя Андрея, для того чтобы расспросить его о Турции, и что князь Андрей имеет явиться в квартиру Бенигсена в шесть часов вечера.
В этот же день в квартире государя было получено известие о новом движении Наполеона, могущем быть опасным для армии, – известие, впоследствии оказавшееся несправедливым. И в это же утро полковник Мишо, объезжая с государем дрисские укрепления, доказывал государю, что укрепленный лагерь этот, устроенный Пфулем и считавшийся до сих пор chef d'?uvr'ом тактики, долженствующим погубить Наполеона, – что лагерь этот есть бессмыслица и погибель русской армии.
Князь Андрей приехал в квартиру генерала Бенигсена, занимавшего небольшой помещичий дом на самом берегу реки. Ни Бенигсена, ни государя не было там, но Чернышев, флигель адъютант государя, принял Болконского и объявил ему, что государь поехал с генералом Бенигсеном и с маркизом Паулучи другой раз в нынешний день для объезда укреплений Дрисского лагеря, в удобности которого начинали сильно сомневаться.
Чернышев сидел с книгой французского романа у окна первой комнаты. Комната эта, вероятно, была прежде залой; в ней еще стоял орган, на который навалены были какие то ковры, и в одном углу стояла складная кровать адъютанта Бенигсена. Этот адъютант был тут. Он, видно, замученный пирушкой или делом, сидел на свернутой постеле и дремал. Из залы вели две двери: одна прямо в бывшую гостиную, другая направо в кабинет. Из первой двери слышались голоса разговаривающих по немецки и изредка по французски. Там, в бывшей гостиной, были собраны, по желанию государя, не военный совет (государь любил неопределенность), но некоторые лица, которых мнение о предстоящих затруднениях он желал знать. Это не был военный совет, но как бы совет избранных для уяснения некоторых вопросов лично для государя. На этот полусовет были приглашены: шведский генерал Армфельд, генерал адъютант Вольцоген, Винцингероде, которого Наполеон называл беглым французским подданным, Мишо, Толь, вовсе не военный человек – граф Штейн и, наконец, сам Пфуль, который, как слышал князь Андрей, был la cheville ouvriere [основою] всего дела. Князь Андрей имел случай хорошо рассмотреть его, так как Пфуль вскоре после него приехал и прошел в гостиную, остановившись на минуту поговорить с Чернышевым.
Пфуль с первого взгляда, в своем русском генеральском дурно сшитом мундире, который нескладно, как на наряженном, сидел на нем, показался князю Андрею как будто знакомым, хотя он никогда не видал его. В нем был и Вейротер, и Мак, и Шмидт, и много других немецких теоретиков генералов, которых князю Андрею удалось видеть в 1805 м году; но он был типичнее всех их. Такого немца теоретика, соединявшего в себе все, что было в тех немцах, еще никогда не видал князь Андрей.
Пфуль был невысок ростом, очень худ, но ширококост, грубого, здорового сложения, с широким тазом и костлявыми лопатками. Лицо у него было очень морщинисто, с глубоко вставленными глазами. Волоса его спереди у висков, очевидно, торопливо были приглажены щеткой, сзади наивно торчали кисточками. Он, беспокойно и сердито оглядываясь, вошел в комнату, как будто он всего боялся в большой комнате, куда он вошел. Он, неловким движением придерживая шпагу, обратился к Чернышеву, спрашивая по немецки, где государь. Ему, видно, как можно скорее хотелось пройти комнаты, окончить поклоны и приветствия и сесть за дело перед картой, где он чувствовал себя на месте. Он поспешно кивал головой на слова Чернышева и иронически улыбался, слушая его слова о том, что государь осматривает укрепления, которые он, сам Пфуль, заложил по своей теории. Он что то басисто и круто, как говорят самоуверенные немцы, проворчал про себя: Dummkopf… или: zu Grunde die ganze Geschichte… или: s'wird was gescheites d'raus werden… [глупости… к черту все дело… (нем.) ] Князь Андрей не расслышал и хотел пройти, но Чернышев познакомил князя Андрея с Пфулем, заметив, что князь Андрей приехал из Турции, где так счастливо кончена война. Пфуль чуть взглянул не столько на князя Андрея, сколько через него, и проговорил смеясь: «Da muss ein schoner taktischcr Krieg gewesen sein». [«То то, должно быть, правильно тактическая была война.» (нем.) ] – И, засмеявшись презрительно, прошел в комнату, из которой слышались голоса.
Видно, Пфуль, уже всегда готовый на ироническое раздражение, нынче был особенно возбужден тем, что осмелились без него осматривать его лагерь и судить о нем. Князь Андрей по одному короткому этому свиданию с Пфулем благодаря своим аустерлицким воспоминаниям составил себе ясную характеристику этого человека. Пфуль был один из тех безнадежно, неизменно, до мученичества самоуверенных людей, которыми только бывают немцы, и именно потому, что только немцы бывают самоуверенными на основании отвлеченной идеи – науки, то есть мнимого знания совершенной истины. Француз бывает самоуверен потому, что он почитает себя лично, как умом, так и телом, непреодолимо обворожительным как для мужчин, так и для женщин. Англичанин самоуверен на том основании, что он есть гражданин благоустроеннейшего в мире государства, и потому, как англичанин, знает всегда, что ему делать нужно, и знает, что все, что он делает как англичанин, несомненно хорошо. Итальянец самоуверен потому, что он взволнован и забывает легко и себя и других. Русский самоуверен именно потому, что он ничего не знает и знать не хочет, потому что не верит, чтобы можно было вполне знать что нибудь. Немец самоуверен хуже всех, и тверже всех, и противнее всех, потому что он воображает, что знает истину, науку, которую он сам выдумал, но которая для него есть абсолютная истина. Таков, очевидно, был Пфуль. У него была наука – теория облического движения, выведенная им из истории войн Фридриха Великого, и все, что встречалось ему в новейшей истории войн Фридриха Великого, и все, что встречалось ему в новейшей военной истории, казалось ему бессмыслицей, варварством, безобразным столкновением, в котором с обеих сторон было сделано столько ошибок, что войны эти не могли быть названы войнами: они не подходили под теорию и не могли служить предметом науки.
В 1806 м году Пфуль был одним из составителей плана войны, кончившейся Иеной и Ауерштетом; но в исходе этой войны он не видел ни малейшего доказательства неправильности своей теории. Напротив, сделанные отступления от его теории, по его понятиям, были единственной причиной всей неудачи, и он с свойственной ему радостной иронией говорил: «Ich sagte ja, daji die ganze Geschichte zum Teufel gehen wird». [Ведь я же говорил, что все дело пойдет к черту (нем.) ] Пфуль был один из тех теоретиков, которые так любят свою теорию, что забывают цель теории – приложение ее к практике; он в любви к теории ненавидел всякую практику и знать ее не хотел. Он даже радовался неуспеху, потому что неуспех, происходивший от отступления в практике от теории, доказывал ему только справедливость его теории.
Он сказал несколько слов с князем Андреем и Чернышевым о настоящей войне с выражением человека, который знает вперед, что все будет скверно и что даже не недоволен этим. Торчавшие на затылке непричесанные кисточки волос и торопливо прилизанные височки особенно красноречиво подтверждали это.
Он прошел в другую комнату, и оттуда тотчас же послышались басистые и ворчливые звуки его голоса.
Не успел князь Андрей проводить глазами Пфуля, как в комнату поспешно вошел граф Бенигсен и, кивнув головой Болконскому, не останавливаясь, прошел в кабинет, отдавая какие то приказания своему адъютанту. Государь ехал за ним, и Бенигсен поспешил вперед, чтобы приготовить кое что и успеть встретить государя. Чернышев и князь Андрей вышли на крыльцо. Государь с усталым видом слезал с лошади. Маркиз Паулучи что то говорил государю. Государь, склонив голову налево, с недовольным видом слушал Паулучи, говорившего с особенным жаром. Государь тронулся вперед, видимо, желая окончить разговор, но раскрасневшийся, взволнованный итальянец, забывая приличия, шел за ним, продолжая говорить:
– Quant a celui qui a conseille ce camp, le camp de Drissa, [Что же касается того, кто присоветовал Дрисский лагерь,] – говорил Паулучи, в то время как государь, входя на ступеньки и заметив князя Андрея, вглядывался в незнакомое ему лицо.
– Quant a celui. Sire, – продолжал Паулучи с отчаянностью, как будто не в силах удержаться, – qui a conseille le camp de Drissa, je ne vois pas d'autre alternative que la maison jaune ou le gibet. [Что же касается, государь, до того человека, который присоветовал лагерь при Дрисее, то для него, по моему мнению, есть только два места: желтый дом или виселица.] – Не дослушав и как будто не слыхав слов итальянца, государь, узнав Болконского, милостиво обратился к нему:
– Очень рад тебя видеть, пройди туда, где они собрались, и подожди меня. – Государь прошел в кабинет. За ним прошел князь Петр Михайлович Волконский, барон Штейн, и за ними затворились двери. Князь Андрей, пользуясь разрешением государя, прошел с Паулучи, которого он знал еще в Турции, в гостиную, где собрался совет.
Князь Петр Михайлович Волконский занимал должность как бы начальника штаба государя. Волконский вышел из кабинета и, принеся в гостиную карты и разложив их на столе, передал вопросы, на которые он желал слышать мнение собранных господ. Дело было в том, что в ночь было получено известие (впоследствии оказавшееся ложным) о движении французов в обход Дрисского лагеря.
Первый начал говорить генерал Армфельд, неожиданно, во избежание представившегося затруднения, предложив совершенно новую, ничем (кроме как желанием показать, что он тоже может иметь мнение) не объяснимую позицию в стороне от Петербургской и Московской дорог, на которой, по его мнению, армия должна была, соединившись, ожидать неприятеля. Видно было, что этот план давно был составлен Армфельдом и что он теперь изложил его не столько с целью отвечать на предлагаемые вопросы, на которые план этот не отвечал, сколько с целью воспользоваться случаем высказать его. Это было одно из миллионов предположений, которые так же основательно, как и другие, можно было делать, не имея понятия о том, какой характер примет война. Некоторые оспаривали его мнение, некоторые защищали его. Молодой полковник Толь горячее других оспаривал мнение шведского генерала и во время спора достал из бокового кармана исписанную тетрадь, которую он попросил позволения прочесть. В пространно составленной записке Толь предлагал другой – совершенно противный и плану Армфельда и плану Пфуля – план кампании. Паулучи, возражая Толю, предложил план движения вперед и атаки, которая одна, по его словам, могла вывести нас из неизвестности и западни, как он называл Дрисский лагерь, в которой мы находились. Пфуль во время этих споров и его переводчик Вольцоген (его мост в придворном отношении) молчали. Пфуль только презрительно фыркал и отворачивался, показывая, что он никогда не унизится до возражения против того вздора, который он теперь слышит. Но когда князь Волконский, руководивший прениями, вызвал его на изложение своего мнения, он только сказал:
– Что же меня спрашивать? Генерал Армфельд предложил прекрасную позицию с открытым тылом. Или атаку von diesem italienischen Herrn, sehr schon! [этого итальянского господина, очень хорошо! (нем.) ] Или отступление. Auch gut. [Тоже хорошо (нем.) ] Что ж меня спрашивать? – сказал он. – Ведь вы сами знаете все лучше меня. – Но когда Волконский, нахмурившись, сказал, что он спрашивает его мнение от имени государя, то Пфуль встал и, вдруг одушевившись, начал говорить:
- Родившиеся 5 апреля
- Родившиеся в 1869 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Туркуэне
- Умершие 23 августа
- Умершие в 1937 году
- Умершие в департаменте Приморская Шаранта
- Музыканты по алфавиту
- Композиторы по алфавиту
- Композиторы Франции
- Композиторы XIX века
- Композиторы XX века
- Педагоги по алфавиту
- Музыкальные педагоги Франции
- Музыкальные педагоги XIX века
- Музыкальные педагоги XX века
- Выпускники Schola Cantorum de Paris
- Академические музыканты Франции
- Оперные композиторы

