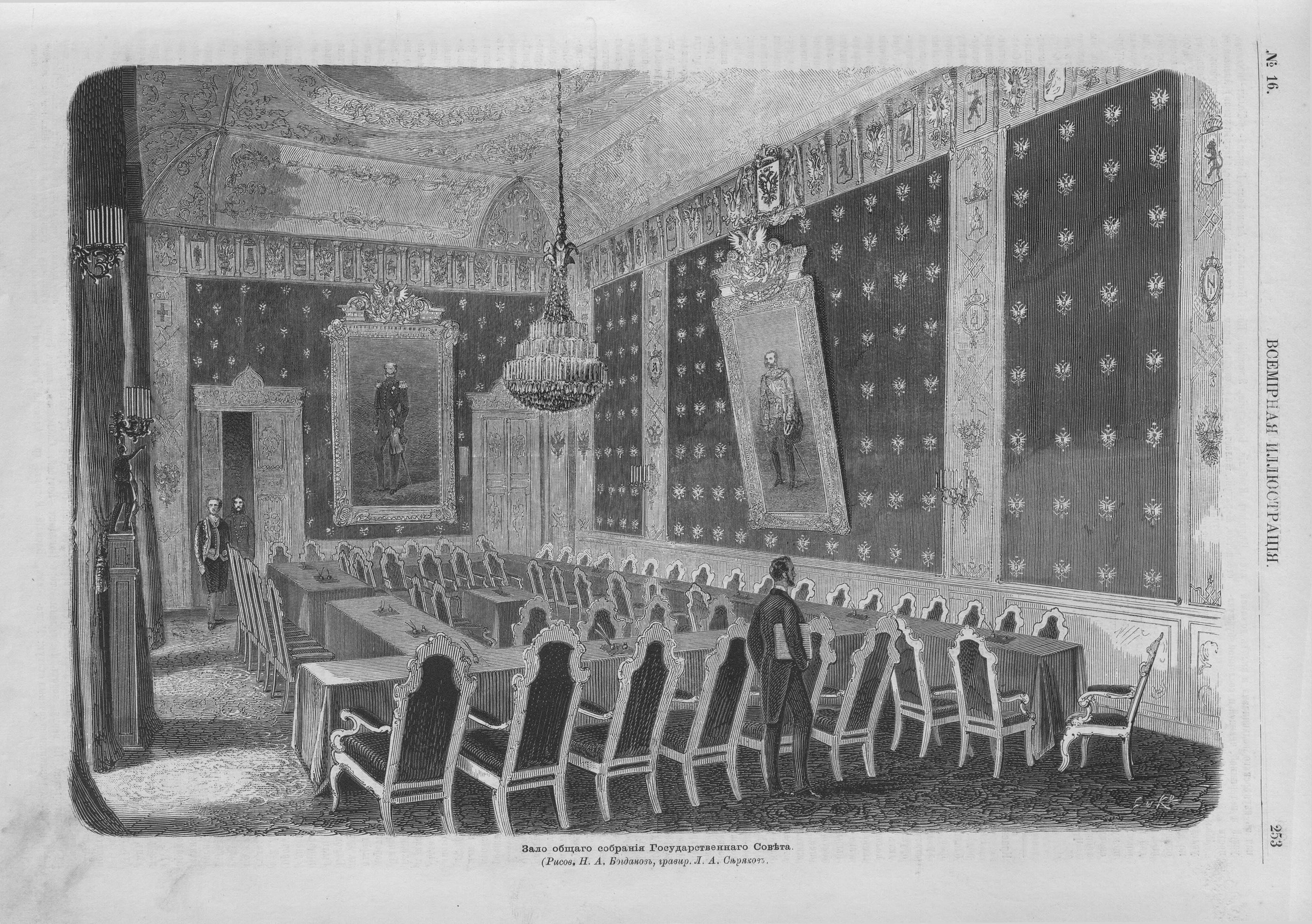Свод законов Российской империи
| Свод законов Российской империи | |
| Сводъ Законовъ Россiйской Имперiи | |
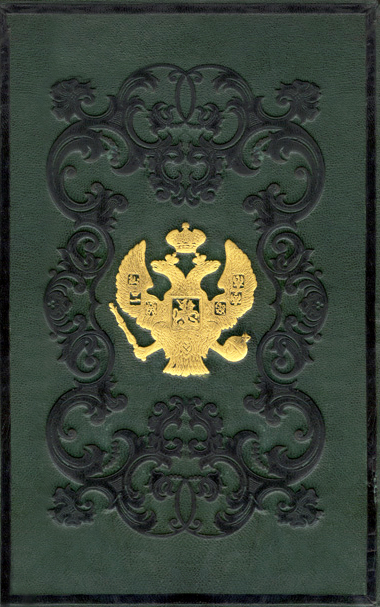 Издание 1849 года | |
| Общая информация | |
|---|---|
| Язык: | |
| Составитель: |
М. М. Сперанский и другие сотрудники Второго отделения |
| Место издания: | |
| Год издания: |
1832 (1-е издание) |
| Тираж: |
1200 экз. (1-е издание) |
| Носитель: |
15 томов (до 1892 года) |
| Состав книги: |
законодательство Российской империи |
Свод зако́нов Росси́йской импе́рии (рус. дореф. Сводъ Законовъ Россiйской Имперiи) — официальное издание расположенных в тематическом порядке действующих законодательных актов Российской империи, подготовленное Вторым отделением под руководством М. М. Сперанского в начале николаевской эпохи и переиздававшееся полностью или частично вплоть до Октябрьской революции. Состояло из пятнадцати томов, включавших в том числе основные законы, законодательство о губернских учреждениях, государственных финансах, правах состояния, акты в сфере административного права, гражданские и уголовные законы, а также указатели, вспомогательные материалы и другой справочный аппарат; кроме отдельных изданий томов Свода законов выходили также продолжения к Своду. В 1892 году в Свод был добавлен шестнадцатый том, в который были выделены законы о судопроизводстве.
Принятый в результате предпринимавшихся ещё с начала XVIII века попыток российской верховной власти по систематизации законодательства, Свод законов знаменовал собой новый этап в истории развития отечественного права, сменив множество нормативных актов, разбросанных в различных источниках и зачастую неизвестных правоприменителю, на упорядоченное собрание законов, доступное всем государственным органам и подданным империи, и став тем самым важным средством обеспечения законности. Являясь выдающимся достижением русской правовой мысли первой половины XIX века, впервые обобщил и сформулировал многие юридические понятия, способствовал становлению правовой системы России и оказал значительное влияние на развитие юриспруденции. Вместе с тем составители Свода не имели возможности вносить принципиальные изменения в инкорпорируемые в него законы, в результате чего Своду были присущи громоздкость, неполнота, архаичность и противоречивость ряда правовых норм и другие недостатки дореволюционного законодательства.
Содержание
- 1 Попытки систематизации российского законодательства в XVIII веке
- 2 Деятельность Комиссии составления законов в конце XVIII — первой четверти XIX века
- 3 Создание Свода законов Российской империи
- 4 Введение в действие Свода законов Российской империи
- 5 Общая характеристика Свода законов Российской империи
- 6 Продолжения и дальнейшие издания Свода законов Российской империи при Николае I и Александре II
- 7 Свод законов Российской империи в последней трети XIX — начале XX веков
- 8 Примечания
- 9 Литература
- 10 Ссылки
Попытки систематизации российского законодательства в XVIII веке
Петровские комиссии
К началу XVIII столетия в России уже действовал систематизированный кодекс феодального права — Соборное уложение 1649 года, вполне отвечавшее нуждам своего века. Однако петровские реформы сопровождались резкой по сравнению с XVII веком активизацией законодательной деятельности. В частности, в среднем на протяжении первой четверти XVIII века в год принималось около 160 царских указов. Столь интенсивное законотворчество способствовало усилению хаоса в российской правовой системе, что пагубно сказывалось на поддержании режима законности. В этих условиях Пётр I принял решение о создании свода Соборного уложения с законодательным материалом, изданным в 1649—1700 годах[1][2].
Указом Петра I от 18 февраля 1700 года была учреждена специальная комиссия — Палата об Уложении, на которую возлагалась обязанность составить юридический сборник из материала Соборного уложения и принятых после него законов — Новоуложенную книгу. Дьякам различных приказов предписывалось доставить в эту комиссию списки с текстами именных указов, новоуказных статей и боярских приговоров, изданных в 1649—1700 годах. В число членов Палаты об Уложении вошли бояре, окольничие, думные дворяне, стольники и дьяки — всего 71 человек. Кроме того, к ней было прикомандировано для ведения письменного делопроизводства несколько подьячих из приказов. Председателем Палаты, по всей видимости, являлся князь И. Б. Троекуров. Указ от 18 февраля 1700 года предписывал «сидеть в Своих Государевых Палатах Боярам у Уложенья, и с Уложенной книги 157 году, и с Именных указов и с новоуказных статей, которые о Их Государских и о всяких земских делех состоялись после Уложенья, сделать вновь, снесши Уложенье и новые статьи, которые состоялись сверх Уложенья». Заседания Палаты об Уложении открылись 27 февраля 1700 года. К середине мая 1700 года все необходимые для составления нового свода документы были получены, и к июлю 1701 года Палата завершила работу по составлению Новоуложенной книги. Был составлен даже проект царского манифеста о введении данной книги в действие, однако он не был принят Петром в связи со значительными недостатками Новоуложенной книги, заключавшимися в пропуске многих указов и новоуказных статей. В августе 1701 года Палата об Уложении возобновила работу и заседала до 14 ноября 1703 года. Новоуложенная книга была дополнена новыми статьями, но и этот её вариант не получил одобрения со стороны монарха[3][4].
15 июня 1714 года Пётр I издал указ, которым повелел «судьям всякие дела делать и вершить все по Уложению; а по новоуказным пунктам и сепаратным указам отнюдь не делать, разве тех дел, о которых в Уложении ни мало не помянуто: а учинены на то не в премену, но в дополнение Уложения, новоуказные пункты». Применять при решении судебных дел эти «новоуказные пункты» царь предписывал, однако, только до тех пор, пока Соборное уложение не будет исправлено. Принятые же после издания Уложения указы, которые противоречат ему, Пётр I приказал отменить. Сенату было приказано рассмотреть указы, дополняющие Уложение, «избрать приличное к истине и учинить на всякое дело один указ». Для выполнения этого царского распоряжения Сенат образовал специальную комиссию под председательством сенатора В. А. Апухтина. В течение трех лет комиссия собирала новоуказные статьи, не противоречившие Соборному уложению, и распределяла их по утверждённому Сенатом плану. 16 сентября 1717 года материалы работы сенатской комиссии были переданы в Канцелярию земских дел и Поместный приказ с поручением составить из них так называемое Сводное уложение. К 1718 году были составлены десять глав проекта, однако дальнейшая работа была остановлена: Петр пришел к идее создания нового уложения на основе иностранного законодательства[5][6].
9 мая 1718 года, ознакомившись с докладом Юстиц-коллегии об устройстве в России судебных учреждений по шведскому образцу, Пётр I наложил на него резолюцию о переводе на русский язык шведского Уложения Кристофера</span>ruen и об «учинении» свода русских законов со шведскими. Указом от 9 декабря 1719 года Петр назначил десятимесячный срок для составления кодекса, в котором русские законы должны были сочетаться с законами шведскими, эстляндскими и лифляндскими. Несмотря на жесткие сроки, только 8 августа 1720 года Сенат издал свой указ об учреждении комиссии для выполнения государева поручения. К концу царствования Петра комиссии удалось выработать лишь четыре книги, посвященных преимущественно судоустройству и судопроизводству. В 1725 году император скончался, и в 1727 году комиссия прекратила существование. Таким образом, все попытки Петра I создать новый свод российских законов оказались неудачными. В значительной степени неудачи работ петровских комиссий были предопределены их устаревшей методикой, которая не подходила для систематизации законодательства в условиях существенного возрастания объёма законодательного материала и интенсивной нормотворческой деятельности[7][8].
Комиссии 1728—1761 годов
 В течение второй четверти XVIII века российские власти продолжали попытки систематизации действующего законодательства. 14 июня 1728 года Сенат во исполнение предписания Верховного тайного совета издал указ об образовании комиссии для сочинения сводного Уложения. В её состав должны были войти по пять человек «из офицеров и из дворян добрых и знающих людей из каждой губернии, кроме Лифляндии, Эстляндии и Сибири». Делегаты должны были быть избраны местным дворянством и прибыть в Москву к 1 сентября 1728 года. Однако в назначенный день никто не приехал; лишь к концу сентября к месту заседаний комиссии явилось несколько человек. Сенат слал в губернские канцелярии повеления о немедленном исполнении указа, но в ответ получал от местного начальства лишь объяснения причин невозможности такого исполнения. 23 ноября 1728 года в Сенате был составлен список прибывших в Москву для работы в комиссии: таковых оказалось 24 человека, 16 делегатов отсутствовало. К концу декабря 1728 года в Москве удалось собрать 38 делегатов, однако к работе в законодательной комиссии они так и не были привлечены в связи с отсутствием каких-либо способностей к подобной деятельности. В. Н. Латкин, изучавший переписку, которую Сенат вел осенью 1728 года с губернскими канцеляриями, отмечал[9][10]:
В течение второй четверти XVIII века российские власти продолжали попытки систематизации действующего законодательства. 14 июня 1728 года Сенат во исполнение предписания Верховного тайного совета издал указ об образовании комиссии для сочинения сводного Уложения. В её состав должны были войти по пять человек «из офицеров и из дворян добрых и знающих людей из каждой губернии, кроме Лифляндии, Эстляндии и Сибири». Делегаты должны были быть избраны местным дворянством и прибыть в Москву к 1 сентября 1728 года. Однако в назначенный день никто не приехал; лишь к концу сентября к месту заседаний комиссии явилось несколько человек. Сенат слал в губернские канцелярии повеления о немедленном исполнении указа, но в ответ получал от местного начальства лишь объяснения причин невозможности такого исполнения. 23 ноября 1728 года в Сенате был составлен список прибывших в Москву для работы в комиссии: таковых оказалось 24 человека, 16 делегатов отсутствовало. К концу декабря 1728 года в Москве удалось собрать 38 делегатов, однако к работе в законодательной комиссии они так и не были привлечены в связи с отсутствием каких-либо способностей к подобной деятельности. В. Н. Латкин, изучавший переписку, которую Сенат вел осенью 1728 года с губернскими канцеляриями, отмечал[9][10]:
|
Столкнувшись с явной непригодностью явившихся депутатов к работе в кодификационной комиссии, правительство приняло решение отказаться от выборов. Указом от 16 мая 1729 года делегаты были отпущены домой, а губернаторам вместо организации выборов было поручено назначить представителей из способных лиц по своему усмотрению по согласованию с местным дворянством. Губернаторы выполнили поручение и назначенные ими депутаты даже прибыли в Москву, но смерть Петра II в январе 1730 года не позволила этой комиссии приступить к работе[11][12].
Вступив на престол, императрица Анна Иоанновна уже 1 июня 1730 года издала указ, которым предписала завершить работы по созданию уложения. На этот раз было решено вновь провести выборы делегатов, и не только из состава дворянства, но также духовенства и купечества. Вместо составления свода существующих законов задачей новой комиссии было объявлено сочинение нового уложения. Указом от 19 июня 1730 года Сенат предписал губернаторам прислать в Москву к 1 сентября «дворян, которые по указу прошлого 1729 года в губерниях выбраны для сочинения Уложения»; в тех же губерниях, где выборы делегатов ещё не состоялись, приказывалось провести выборы и избранных представителей также направить к указанной дате. На этот раз Сенат не стал ждать их приезда и принял решение немедленно приступить к составлению нового уложения, создав комиссию из чиновников, наиболее деятельным из которых был обер-секретарь А. С. Сверчков. Делегаты от губерний так и не приняли участия в работе этой комиссии: лишь к декабрю 1730 года в Москву явились пятеро из них и так же, как два года назад, все они были отпущены Сенатом восвояси за неимением каких-либо способностей к делу составления законов. В процессе работы члены комиссии пришли к мысли о необходимости возвращения к старой работе — составлению сводного уложения, то есть систематизации действующего законодательства, и по распоряжению Сената ряд правительственных учреждений предоставил в комиссию копии многих указов, изданных после принятия Соборного уложения. К началу 1739 года комиссия завершила подготовку проекта главы о вотчинах, который обсуждался на заседаниях Сената, и работала над проектом главы о судах. Однако смерть Анны Иоанновны в октябре 1740 года остановила дальнейшую работу над ним. С 1741 года комиссия фактически прекратила своё существование[13][14].
11 марта 1754 года граф П. И. Шувалов произнес на заседании Сената в присутствии императрицы Елизаветы Петровны речь, в которой указал на плачевность состояния русского законодательства. В ответ императрица заявила о необходимости немедленно приступить к составлению «ясных законов». Во исполнение намерения государыни Сенат учредил комиссию для сочинения Уложения, в состав которой вошли И. И. Дивов, Ф. И. Эмме, И. И. Юшков, А. И. Глебов, Ф. Г. Штрубе де Пирмонт, Н. С. Безобразов, И. И. Вихляев и др. Указом от 24 августа 1754 года Сенат утвердил «План к сочинению нового Уложения», в соответствии с которым Уложение должно было состоять из четырёх частей — о суде, о правах состояния, об имуществах, об уголовных делах. К апрелю 1755 года комиссия составила проекты судной и уголовной частей, которые обсуждались на заседаниях Сената и 25 июля были представлены Елизавете Петровне; однако одобрения с её стороны они не получили[15].
В последующие годы члены комиссии вели работу над остальными частями Уложения, но делали это настолько медленно, что императрица решила преобразовать комиссию. 29 сентября 1760 года в состав комиссии были введены члены Сената — граф Р. И. Воронцов и князь М. И. Шаховской, которым было поручено управление всей её деятельностью. 1 марта 1761 года комиссия обратилась в Сенат с доношением, в котором просила созвать для участия в составлении нового уложения представителей от дворян, офицеров, духовенства, горожан и купечества. 29 сентября 1761 года был издан сенатский указ, которым предписывалось избрать делегатов от этих сословий, определялся порядок выборов и устанавливался срок для прибытия всех депутатов в Санкт-Петербург для участия в законодательной комиссии — 1 января 1762 года. Заседания комиссии начались 4 января 1762 года, в месяц проходило от одного до трех заседаний. Основные работы по составлению проекта уложения вели постоянные члены комиссии, депутаты от губерний и провинций призывались для обсуждения уже готовых проектов. В связи с тем, что подготовка проекта затянулась, новая императрица Екатерина II сочла необходимым распустить депутатов на срок до окончания работ. Деятельность этой комиссии в лице её постоянных членов продолжалась вплоть до 1767 года, но проект уложения в целом так и не был создан. Формально она продолжала существовать вплоть до созыва новой, уже восьмой по счету законодательной комиссии, получившей наименование «Комиссии о сочинении проекта нового Уложения»[16].
Уложенная комиссия Екатерины II

 Новая комиссия была учреждена указом Екатерины II от 14 декабря 1766 года. Сопровождавший этот акт манифест о присылке в Москву депутатов Екатерина лично объявила в Сенате спустя пять дней после его подписания, а в качестве руководства для деятельности комиссии императрицей был составлен Наказ комиссии о составлении проекта нового уложения. Указанные обстоятельства свидетельствуют о большом значении, которое Екатерина придавала этому делу. Порядок выборов депутатов определялся отдельными «обрядами» — приложениями к указу от 14 декабря. В состав комиссии должны были войти не только дворяне, но также и горожане, свободные крестьяне и некочующие инородцы; кроме сословных депутатов в комиссию были включены представители государственных учреждений — Сената, Синода, коллегий и канцелярий[17].
Новая комиссия была учреждена указом Екатерины II от 14 декабря 1766 года. Сопровождавший этот акт манифест о присылке в Москву депутатов Екатерина лично объявила в Сенате спустя пять дней после его подписания, а в качестве руководства для деятельности комиссии императрицей был составлен Наказ комиссии о составлении проекта нового уложения. Указанные обстоятельства свидетельствуют о большом значении, которое Екатерина придавала этому делу. Порядок выборов депутатов определялся отдельными «обрядами» — приложениями к указу от 14 декабря. В состав комиссии должны были войти не только дворяне, но также и горожане, свободные крестьяне и некочующие инородцы; кроме сословных депутатов в комиссию были включены представители государственных учреждений — Сената, Синода, коллегий и канцелярий[17].
Всего в комиссию вошли 564 депутата, в числе которых были 28 представителей государственных учреждений, 161 дворянин, 208 горожан, 54 казака, 79 крестьян и 34 инородца. С собой депутаты привезли наказы избирателей, содержавшие изложение их «нужд» — пожеланий с мест, подлежавших рассмотрению комиссией. В составе комиссии выделялась так называемая «большая комиссия» (или «общее собрание»), в которую входили все депутаты, и девятнадцать «частных комиссий». Пятнадцать частных комиссий занимались составлением проектов по тому или иному разряду законов, а остальные выполняли вспомогательные функции (например, в обязанности «дирекционной комиссии» входило поддержание порядка в работе комиссии)[18][19].
Торжественное открытие Комиссии сочинения проекта нового уложения состоялось 30 июля 1767 года в Москве (впоследствии комиссия перебралась в Санкт-Петербург). Первые семь заседаний депутаты решали организационные вопросы: избирали маршала (председателя) комиссии — им стал А. И. Бибиков, а также членов вспомогательных частных комиссий. Ещё пятнадцать заседаний было посвящено чтению депутатских наказов. Затем депутаты приступили к обсуждению законодательных актов: сначала остановились на законах о правах дворянства, потом стали рассматривать законы о купечестве и торговле. С февраля 1768 года начали обсуждать законы о судопроизводстве, после них — законы о крестьянах и вотчинные законы. В целом работа комиссии была организована неудовлетворительно: депутаты занимались лишь чтением и обсуждением имеющихся законов и проектов, в то время как составленный императрицей Обряд управления комиссии предписывал большой комиссии не просто обсуждать проекты (которые разрабатывались частными комиссиями), но принимать решения по ним путём голосования. В определенной мере причинами этого явились недостаточное понимание руководителями комиссии Обряда управления, а также крайняя сложность введенного в ней делопроизводства[19][20].
18 декабря 1768 года Бибиков объявил общему собранию комиссии об императорском указе, в соответствии с которым по случаю войны с Турцией депутаты, принадлежавшие к военному званию, должны были отправиться к месту своей службы, а остальные распускались впредь до нового созыва. Заседания большой комиссии так и не были возобновлены, хотя в правительственных актах 1780—1790-х годов она упоминается в качестве действующего учреждения. Частные комиссии продолжали работать ещё пять лет и успели подготовить планы различных проектов, а также тексты проектов по гражданскому праву. Депутаты, входившие в состав частных комиссий, были распущены указом от 4 декабря 1774 года, но сами комиссии формально продолжали существовать в течение всего царствования Екатерины II. К началу 1780-х годов силами канцелярских сотрудников комиссий под руководством генерал-прокурора А. А. Вяземского было составлено так называемое «Описание внутреннего правления Российской империи со всеми законоположения частями» — достаточно полное изложение узаконений XVIII века, которое, однако, так и не было опубликовано, оставшись неизвестным вплоть до конца XIX века[21][22].
Деятельность Комиссии составления законов в конце XVIII — первой четверти XIX века
Комиссия составления законов при Павле I
Практически сразу после вступления на престол, 16 декабря 1796 года император Павел I издал указ, которым повелел собрать все действующие узаконения и составить из них три книги законов — уголовных, гражданских и дел казенных. Выполнение этой задачи было возложено на учрежденную ещё при Екатерине II Комиссию для сочинения проекта нового Уложения, которая в соответствии с указом от 30 декабря 1796 года была переименована в Комиссию для составления законов Российской империи. В состав комиссии вошли четверо — возглавивший её генерал-прокурор А. Б. Куракин, чиновники И. Яковлев (на него было возложено составление книги гражданских дел), А. Я. Поленов (книга уголовных дел) и Ананьевский (книга дел казенных). Для оценки книг законов, составляемых комиссией, указом от 31 мая 1797 года была образована коллегия («съезд») из трех сенаторов — Ф. М. Колокольцова, Н. В. Леонтьева и К. А. фон Гейкинга[23].
Работая над проектами, члены комиссии столкнулись с рядом трудностей — прежде всего с многочисленными законодательными пробелами, а также с различными недостатками и неясностями в имеющихся законах, которые нуждались в исправлениях и дополнениях. В таких случаях члены комиссии прибегали к содействию своего председателя — А. Б. Куракина, который докладывал Павлу I об обнаруженных недостатках и доводил до комиссии высочайшие повеления императора об их исправлении. Подобные исправления имели своим результатом внесение в проекты новых юридических норм, что вступало в известное противоречие с первоначальной задачей комиссии, установленной указом от 16 декабря 1796 года и заключавшейся в составлении свода существующих узаконений. В частности, на совещании сенаторов и членов комиссии, состоявшемся 27 ноября 1798 года, было решено при составлении проекта книги гражданских дел «заимствовать на составление всех подлежащих в сию книгу материй систематический порядок и правила из высочайше данных бывшей комиссии о сочинении проекта нового уложения в 1767 г. Большого Наказа, а в 1768 г. двух к оному дополнений и Начертания о приведении той комиссии к окончанию, и вследствие того из сделанных бывшими тогда частными комиссиями планов». Указанное решение 1798 года существенно изменило характер деятельности комиссии, которая вместо планировавшейся инкорпорации — составления свода существующих законов по сути приступила к кодификационным работам[24].
Как и предыдущие, павловская комиссия не смогла закончить свою работу. В значительной мере этому способствовала частая смена её председателей — в 1798 году вместо Куракина генерал-прокурором стал П. В. Лопухин, после которого этот пост поочередно занимали А. А. Беклешов (с 1799 года) и П. Х. Обольянинов (с 1800 года). Каждый из новых руководителей тратил немало времени, чтобы ознакомиться с положением дел в комиссии, и затем давал её членам указания, нередко противоречившие указаниям своих предшественников; кроме того, никто из них не соответствовал в полной мере трудности возложенных на комиссию задач. К моменту смерти Павла I в 1801 году комиссия успела составить проекты 17 глав о судопроизводстве, 9 глав о делах вотчинных и 13 глав законов уголовных, которые так и не были рассмотрены Сенатом[25][26].
Комиссия составления законов при Александре I
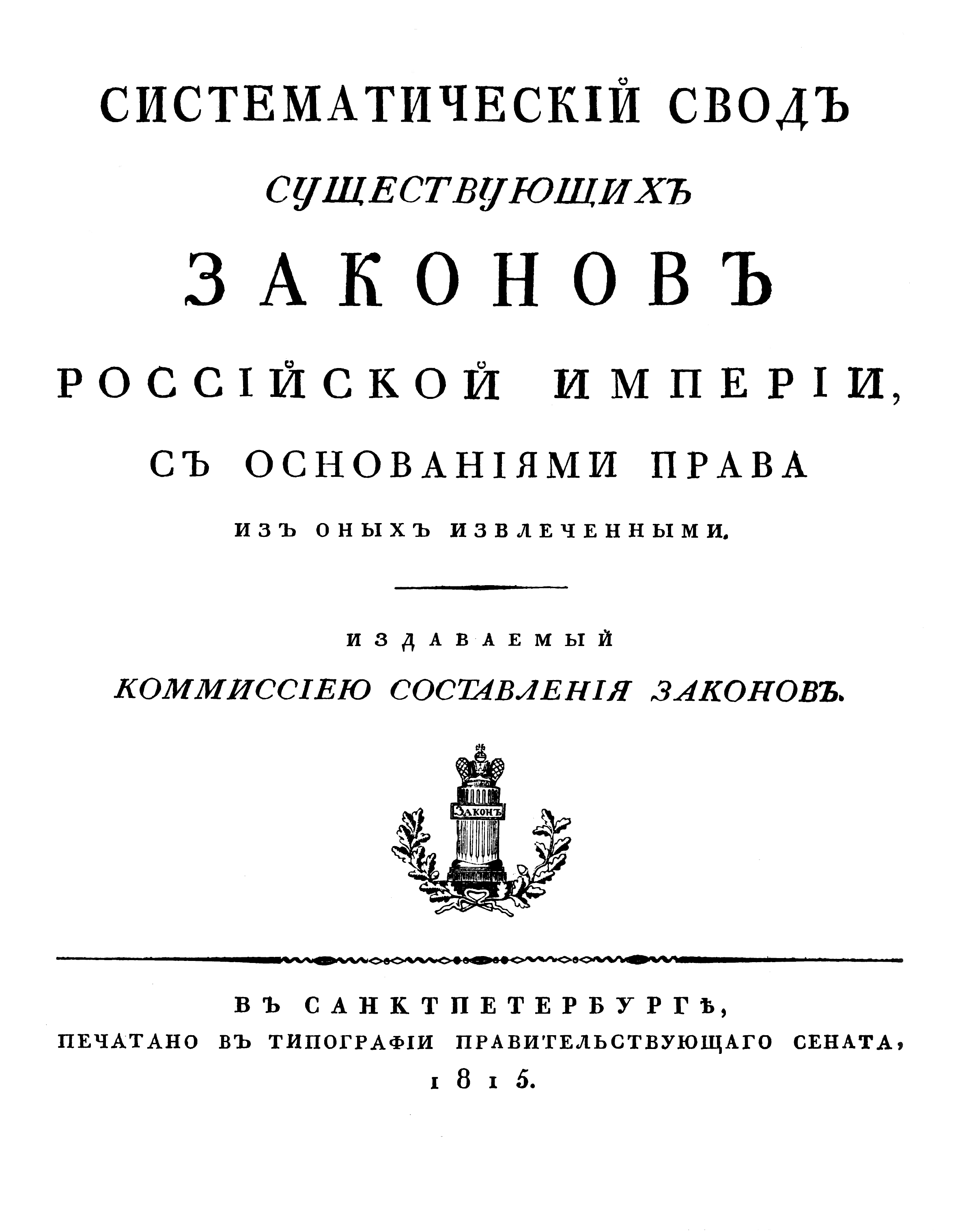
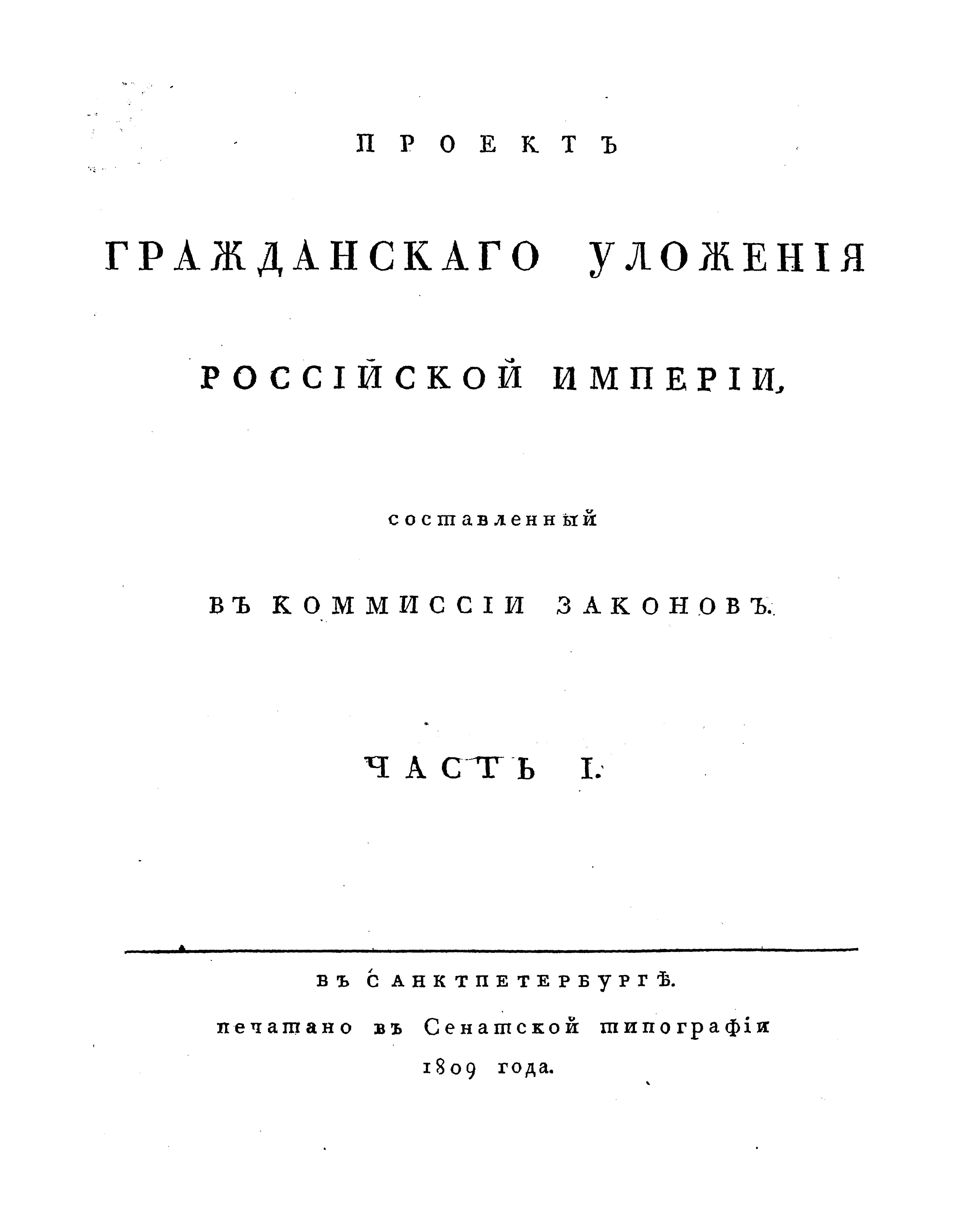 После воцарения Александра I руководство Комиссией составления законов 16 марта 1801 года было вторично возложено на А. А. Беклешова. Но уже указом от 5 июня 1801 года председателем Комиссии был назначен граф П. В. Завадовский, на имя которого был издан высочайший рескрипт. В соответствии с рескриптом задача комиссии заключалась в систематизации существующего законодательства: «…существующей ныне комиссии оставалось только привести их в употребление, дать им связь и взаимное отношение, и совокупя воедино рассеянные части законоположения, привести их в состав». Однако последующими высочайшими предписаниями задачи комиссии были значительно сужены — император повелел Завадовскому заняться порядком делопроизводства в государственных органах. В сентябре 1802 года Комиссия составления законов поступила под начальство министра юстиции Г. Р. Державина, а в октябре 1803 года — П. В. Лопухина, сменившего Державина на этом посту[27].
После воцарения Александра I руководство Комиссией составления законов 16 марта 1801 года было вторично возложено на А. А. Беклешова. Но уже указом от 5 июня 1801 года председателем Комиссии был назначен граф П. В. Завадовский, на имя которого был издан высочайший рескрипт. В соответствии с рескриптом задача комиссии заключалась в систематизации существующего законодательства: «…существующей ныне комиссии оставалось только привести их в употребление, дать им связь и взаимное отношение, и совокупя воедино рассеянные части законоположения, привести их в состав». Однако последующими высочайшими предписаниями задачи комиссии были значительно сужены — император повелел Завадовскому заняться порядком делопроизводства в государственных органах. В сентябре 1802 года Комиссия составления законов поступила под начальство министра юстиции Г. Р. Державина, а в октябре 1803 года — П. В. Лопухина, сменившего Державина на этом посту[27].
Комиссия была подчинена товарищу министра юстиции Н. Н. Новосильцеву, а основным исполнителем работ в комиссии стал её главный секретарь Г. А. Розенкампф. Последний подготовил доклад о целях деятельности комиссии и организации её работы, который был одобрен императорским указом от 28 февраля 1804 года. Основной целью комиссии было объявлено составление «общей книги законов», которая должна была состоять из шести частей: законы об императоре и высших органах государственной власти, общие начала права, гражданские законы, законы уголовные и полицейские, законы о судах и судопроизводстве, а также «частные законы», содержащие отступления от законов общих «по уважению различия веры, языка, нравов и других местных обстоятельств», и уставы о коммерции. Розенкампф полагал, что законодательная деятельность комиссии должна осуществляться в два этапа: на первом этапе предполагалось собрать воедино все российское законодательство последних двух веков, выделить действующие законы и на этой основе составить книгу законов; на втором этапе следовало внести изменения в законодательство на основе преобразования государственного строя страны. В течение нескольких лет комиссия проделала значительную работу по обнаружению и сбору действующего законодательства и приведению его в определенную систему; кроме того, она заложила определенные основы для создания юридико-технических приемов кодификации. Однако с практической точки зрения деятельность комиссии так и не принесла каких-либо значительных плодов — вместо проекта книги законов за все это время ею были составлены лишь предварительные наброски кодификационных работ, не получившие дальнейшего развития[28][29][30].
Ввиду медлительности работы комиссии Александр решил привлечь к делу систематизации законодательства своего приближенного, реформатора М. М. Сперанского. 8 августа 1808 года Сперанский был включен в состав Комиссии составления законов, а 16 декабря того же года он сменил Новосильцева на посту товарища министра юстиции. 29 декабря 1808 года комиссия представила Его Величеству доклад, в котором признавалось необходимым приступить к новой форме систематизации законодательства, заключавшейся в составлении отдельных уложений — гражданского, уголовного, коммерческого, а также устава полицейского. Новая организация работы Комиссии составления законов была одобрена императором, который рескриптом от 7 марта 1809 года в адрес П. В. Лопухина утвердил положение о составе и управлении комиссии. Уже к октябрю 1809 года комиссия подготовила проект первой части гражданского уложения, сильное влияние на который оказал недавно принятый французский Кодекс Наполеона. 1 января 1810 года комиссия была преобразована в учреждение при Государственном совете, а Сперанский был назначен директором комиссии и государственным секретарем[31].
Первая и вторая части проекта гражданского уложения (о лицах и имуществах) начали рассматриваться Государственным советом в начале 1812 года. Однако в марте того же года Сперанский впал в опалу и был отстранен от работы в комиссии, руководство которой вернулось к П. В. Лопухину и Г. А. Розенкампфу. В 1813 году комиссия внесла на рассмотрение Государственного совета первую часть проекта уголовного уложения и в 1814 году — все три части проекта гражданского уложения. При рассмотрении проекта гражданского уложения Государственный совет высказал мнение, согласно которому проект нужно рассматривать с помощью свода законов, имеющихся в распоряжении комиссии, которые следовало привести в систематический порядок и напечатать. Иными словами, было признано необходимым сделать известными и самые источники отечественного права, из которых комиссия черпала правила, изложенные в проекте. Во исполнение этого предписания комиссия составила и напечатала в 1815—1822 годах так называемый «Систематический свод существующих законов Российской империи с основаниями права, из оных извлеченными». Этот свод состоял из нескольких частей (томов), в каждой из которых сначала излагались так называемые «основания права, из законов извлеченные», то есть содержание различных законов и указов по тому или иному предмету, а затем сами законы и указы, из которых эти основания права были извлечены. Основания права были изложены в виде отдельных положений или статей, причем под каждой статьей были указаны законодательные источники, из которых эта статья была заимствована[32].
В 1821 году Сперанский снова был введен в состав Комиссии составления законов, а его главным помощником вместо ушедшего в отставку Розенкампфа стал профессор М. А. Балугьянский. С ноября 1821 года по декабрь 1822 года Государственный совет на 49 заседаниях рассмотрел все три части проекта гражданского уложения и вернул его в комиссию с рядом замечаний; однако в 1823 году в соответствии с высочайшим распоряжением на Сперанского были возложены обязанности по составлению проектов торгового устава и судопроизводства и банкротского устава, вследствие чего работа над гражданским уложением была приостановлена. В августе 1824 года Государственный совет приступил к рассмотрению проекта уголовного уложения, и к январю 1825 года рассмотрел пять первых глав. В начале 1825 года Балугьянский представил Сперанскому доклад о положении Комиссии составления законов, в котором высказывался о необходимости преобразования комиссии. Сперанский разделял это мнение, поскольку находил состав комиссии слабым и недостаточным для выполнения возложенных на неё задач. Однако осуществить это преобразование при Александре I он не успел: осенью 1825 года император уехал из Петербурга и в ноябре того же года скончался[33].
Создание Свода законов Российской империи
Планы работ по систематизации законодательства после воцарения Николая I
Новый монарх Николай I считал своей главной задачей упрочение государственного строя и наведение порядка в государственной администрации, застарелые проблемы в которой явились одной из причин восстания декабристов. Надлежащее функционирование государственного аппарата империи не могло быть обеспечено без устранения противоречивости и нестабильности действующего законодательства, из которых в значительной степени проистекали коррупция и низкий уровень законности. В связи с этим Николай незамедлительно обратил внимание на деятельность Комиссии составления законов: главноуправляющий комиссией П. В. Лопухин представил ему отчет о её деятельности, а её фактический руководитель М. М. Сперанский в начале января 1826 года подал императору две записки — «Краткое историческое обозрение Комиссии составления законов» и «Предположения к окончательному составлению законов»[34][35].
В первой записке Сперанский кратко обрисовал деятельность законодательных комиссий XVIII — начала XIX веков, а во второй изложил план работ по систематизации законодательства. По мнению Сперанского, следует возложить на комиссию обязанность в течение двух лет разработать проекты сводов законов гражданских, уголовных, полицейских и хозяйственных (под сводом Сперанский понимал соединение законов в определенном порядке), а также осуществить издание полного собрания законов в хронологическом порядке. Одновременно следовало приступить к составлению гражданского и уголовного уложений (они объединялись под наименованием «законов судебных»). Уложение есть «систематическое изложение законов по их предметам, так устроенное, чтобы 1) законы общие предшествовали частным, и предыдущие всегда приуготовляли бы точный смысл и разумение последующих; 2) чтоб все законы, по своду недостающие, дополнены были в уложении и обнимали бы сколь можно более случаев, не нисходя однако же к весьма редким и чрезвычайным подробностям». В свод должны были войти существующие законы без изменений и дополнений, но с исключением всех недействующих правил, в то время как уложение распространялось только на гражданское и уголовное законодательство и предполагало переработку нормативно-правового материала с дополнением его новыми нормами[36][37].
После ознакомления с поданными записками Николай принял решение изменить порядок систематизации. Не отказываясь принципиально от возможного составления уложений — актов, подразумевающих разработку новых правовых норм — император счел необходимым сначала собрать и привести в порядок существующие законы. Таким образом, первоочередной законодательной задачей стала разработка сводов законов. Кроме того, император решил взять дело составления сводов в своё непосредственное ведение, упразднив Комиссию составления законов. С этой целью в составе Собственной Его Императорского Величества канцелярии было создано особое подразделение, впоследствии ставшее известным как Второе отделение[38][39].
Создание Второго отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии
Второе отделение было учреждено высочайшим рескриптом от 31 января 1826 года, изданным на имя князя П. В. Лопухина. Указом Правительствующему Сенату от 4 апреля 1826 года был утвержден состав из 20 чиновников, причисляемых к отделению. Сотрудниками нового кодификационного учреждения стали К. И. Арсеньев, В. Е. Клоков, П. В. Хавский, Д. Н. Замятнин, М. К. фон Цеймерн, П. Д. Илличевский, Д. А. Эристов, К. И. Циммерман, Ф. И. Цейер и др.; позже во Втором отделении над систематизацией законодательства работали также А. П. Куницын, К. Г. Репинский, М. А. Корф, М. Л. Яковлев, Ю. А. Долгоруков, И. Х. Капгер, М. Г. Плисов. Начальником отделения был назначен старший член упраздненной Комиссии составления законов, действительный статский советник М. А. Балугьянский. Сперанский, не получив официальной должности во Втором отделении и оставаясь членом Государственного совета, тем не менее, стал фактическим руководителем кодификационных работ[40][41][42].
24 апреля 1826 года состоялось первое заседание старших чиновников Второго отделения под председательством Сперанского. На этом заседании Сперанский зачитал собравшимся написанное им Наставление Второму отделению о порядке его трудов по собранию и изданию законов. В соответствии с Наставлением предмет деятельности Второго отделения составляли две главные задачи — «составление сводов на законы земские» (то есть разработка Свода законов) и «издание всех вообще законов доселе состоявшихся, в виде полного собрания, по порядку времени» (то есть создание Полного собрания законов). Необходимость составления полного собрания законов Сперанский объяснял следующими причинами: во-первых, без предварительного собрания всех законов невозможно выделить действующие законы, во-вторых, полное собрание законов есть пособие для разъяснения смысла действующих законов, в-третьих, полное собрание законов Российской империи будет иметь большое значение для исторической науки[43][44].
Таким образом, Второму отделению предстояло проделать две важные и обширные работы: составление «исторического свода» и «свода законов действующих». Основой для создания этих сводов должна была стать подготовительная деятельность отделения по созданию Полного собрания законов Российской империи[45].
- M.M.Speranskiy by J.Reimers.jpg
М. М. Сперанский
- Balugjanskij (printing 1903).png
М. А. Балугьянский
- К. И. Арсеньев (1872).jpg
К. И. Арсеньев
- P.V. Khavskiy by Venetsianov.jpeg
П. В. Хавский
- Dmitry Zamyatnin.jpg
Д. Н. Замятнин
- Korf MA.jpg
М. А. Корф
Полное собрание законов Российской империи
Работа Второго отделения по созданию Полного собрания законов Российской империи была сопряжена со значительными трудностями, заключавшимися в большом количестве законов, хранившихся в различных архивах страны, и в отсутствии полных реестров изданных законов. Узаконения, изданные до 1711 года, хранились в архивах упраздненных приказов, Вотчинного департамента и Коллегии иностранных дел; узаконения более позднего времени — в петербургском архиве Правительствующего Сената, Московском губернском архиве старых дел, архивах Кабинета Его Величества, Департамента уделов, Военного министерства, Морского министерства и других ведомств. Подобная рассредоточенность законодательного материала чрезвычайно затрудняла работу по его сбору, что отмечалось в отчете Второго отделения[46][47]:
|
Прежде всего кодификаторы приступили к составлению реестров узаконений. За основу был взят реестр бывшей Комиссии составления законов, насчитывавший 23 433 акта. К нему были прибавлены реестры из сенатского архива (20 742 акта), московских архивов (445 актов), архивов различных министерств и ведомств (8889 актов); таким образом, число актов по всем этим реестрам достигало 53 239. После этого Второе отделение запросило копии текстов законов, в ряде случаев направляя в ведомственные архивы своих сотрудников, которые на месте переписывали текст с подлинников; всего было доставлено или просмотрено до 3596 книг, включавших тексты узаконений. После этого была проведена ревизия текстов, которая заключалась в сличении их с подлинниками и выявлении дублирующих друг друга актов (в последнем случае было принято за правило оставлять более ранний акт)[48][49].
В Полное собрание законов Российской империи было решено включать все узаконения, изданные верховной властью или от её имени, причем как действующие, так и утратившие силу. Публикации подлежали законы начиная с Соборного уложения 1649 года, отменившего предшествовавшее законодательство; более ранние правовые акты были впоследствии изданы в составе самостоятельной публикации — Актов исторических. Судебные решения, как правило, в Полное собрание не помещались; исключение было сделано для решений, в самом их изложении распространенных на все подобные случаи, ставших впоследствии примером для других судебных решений, изъясняющих точный смысл того или иного узаконения, а также решений, вынесенных по делам о государственных преступлениях. Акты в Полном собрании располагались в хронологическом порядке и с присвоением им сплошной нумерации начиная с первого тома[50][51].
Полное собрание законов не было действительно полным — ряд актов не был обнаружен составителями; некоторые из них были найдены позднее и были опубликованы в особом дополнении. Кроме того, в собрание не был включен ряд секретных узаконений, указов и манифестов, назначенных к истреблению или отобранию (на внесение подобных узаконений в Полное собрание всякий раз испрашивалось высочайшее повеление), а также узаконения частного характера (о награждениях, определении на службу, о внутреннем распорядке правительственных учреждений и т. д.) — хотя ряд актов временного характера все же попал в Полное собрание[52].
Составление Полного собрания законов Российской империи было окончено 1 марта 1830 года. Оно было выпущено двумя собраниями — Первым и Вторым; в Собрание Первое включались акты, изданные до 12 декабря 1825 года — дня издания манифеста Николая I о вступлении на престол, в Собрание Второе — акты, изданные после этой даты. Печатание Собрания Первого было начато 21 мая 1828 года и завершено 1 апреля 1830 года; оно состояло из 45 томов, включавших 30 920 узаконений (тома I—XL), хронологический указатель (том XLI), алфавитный указатель (том XLII), книгу штатов (тома XLIII и XLIV) и книгу тарифов (том XLV). Рескриптом от 5 апреля 1830 года Николай I повелел снабдить экземплярами Полного собрания департаменты Сената, а также губернские присутственные места[53][54].
Составление Свода законов


 Одновременно с подготовкой Полного собрания законов во Втором отделении велась подготовительная деятельность по составлению Свода. Указанная деятельность была разделена на две стадии: первая предполагала построение верных и точных выписок на каждую область законодательства, вторая — составление исторического изложения законов по всем главным предметам. К примеру, в процессе работы над Сводом законов гражданских все гражданское право было разделено на пять отделов — о правах состояний, о правах личных и вещественных вообще, о правах личных и вещественных в особенности, о порядке составления и совершения актов, о тяжебном судопроизводстве. Эти отделы в свою очередь подразделялись на четыре исторических периода: первый — с Соборного уложения до Петра I, второй — с Петра I до Екатерины II, третий — время царствования Екатерины II и четвёртый — от Екатерины до вступления на престол Николая I. В течение 1826—1827 годов было составление историческое обозрение гражданских и некоторых частей уголовных законов; оно было представлено на обозрение императору, который в письме от 8 июля 1827 года высоко оценил произведенную работу, наградив Сперанского алмазными знаками к ордену Александра Невского[55][56][57].
Одновременно с подготовкой Полного собрания законов во Втором отделении велась подготовительная деятельность по составлению Свода. Указанная деятельность была разделена на две стадии: первая предполагала построение верных и точных выписок на каждую область законодательства, вторая — составление исторического изложения законов по всем главным предметам. К примеру, в процессе работы над Сводом законов гражданских все гражданское право было разделено на пять отделов — о правах состояний, о правах личных и вещественных вообще, о правах личных и вещественных в особенности, о порядке составления и совершения актов, о тяжебном судопроизводстве. Эти отделы в свою очередь подразделялись на четыре исторических периода: первый — с Соборного уложения до Петра I, второй — с Петра I до Екатерины II, третий — время царствования Екатерины II и четвёртый — от Екатерины до вступления на престол Николая I. В течение 1826—1827 годов было составление историческое обозрение гражданских и некоторых частей уголовных законов; оно было представлено на обозрение императору, который в письме от 8 июля 1827 года высоко оценил произведенную работу, наградив Сперанского алмазными знаками к ордену Александра Невского[55][56][57].
По мере завершения исторических сводов (прежде всего гражданских законов) начались основные работы над систематическим Сводом законов. Опираясь на теоретические рекомендации английского философа Фрэнсиса Бэкона, изложенные в сочинении «Образец трактата о всеобщей справедливости, или об истоках права» (лат. «Exemplum Tractatus de Justitia Universali, sive de Fontibus Juris»), Сперанский сформулировал следующие правила составления Свода[58][59]:
|
В силу задачи, поставленной Николаем, Сперанский был вынужден отступить от пятого правила, которое подразумевало возможность выбора более лучшей и полной правовой нормы и по образцу которого был составлен другой правовой сборник — Дигесты. Как отмечал Сперанский, «Свод переступил бы свои границы, если бы сочинители его приняли на себя судить, который из двух противоречащих законов лучше. У нас на сие есть другое правило: из двух несходных между собою законов надлежит следовать позднейшему, не разбирая, лучше ли он, или хуже прежнего: ибо прежний считается отрешенным тем самым, что постановлен на место его другой»[60].
Составление Свода осуществлялись в виде распределения различных узаконений по предметам правового регулирования и изложения их в виде статей, из которых состоял каждый том Свода. Свод внешне выглядел как единый закон, где каждый фрагмент имел вид статьи закона со своим номером. При этом статьи представляли собой по возможности дословное изложение положений нормативных актов, из которых они извлекались. Статьи, составленные из нескольких узаконений, излагались словами основного узаконения с добавлениями из других актов; если сделать это было невозможно, то статьи излагались хотя и другими словами, но в полном соответствии со смыслом узаконений, из которых они были почерпнуты. В процессе составления Свода многие нормативные акты расчленялись и отдельные предписания помещались в различных разделах и частях Свода законов[61][62].
Немалое число законов, включенных в Свод, было подвергнуто редакторской правке, в результате которой их содержание стало отличаться от первоначального текста. Возможность подобных исправлений вытекала из «Правил, наблюдаемых при исправлении Сводов», утвержденных начальником Второго отделения 21 февраля 1831 года. Хотя Правила требовали обеспечить «верность изложения» статей Свода, наряду с этим редакторам в ряде случаев дозволялось отклоняться от содержания узаконений. Так, статья 16 Правил допускала вносить исправления в текст, «где примечены будут в нём какая-либо неясность или слова слишком старые и невразумительные». Статьей 17 предписывалось «вообще держаться слов закона со следующими ограничениями: а) древний слог перевести на слог законов последующих времен; б) если указ содержит в себе самую сущность текста, то и прописать оный с наблюдением предыдущего замечания; в) доводы к изданию закона, если бы где-либо в настоящем изложении они вкрались, отменить, разве бы без них законоположение было непонятно; г) если встретятся две статьи Свода одинаковые или повторительные, то их соединить в одну, но с строгим наблюдением, чтобы ничего существенного выпущено не было»[63].
Под каждой статьей указывались источники, то есть различные узаконения и сведения, из которых она была извлечена; эти источники («цитаты») помещались с целью придать статье достоверность и предоставить возможность проверки правильности изложения статьи. Независимо от цитат при статьях также помещались примечания, содержащие пояснения и дополнения к статьям. Приложения, включавшие различные подробности технического характера, табели, расписания, формы делопроизводства и др., помещались после соответствующих групп статей, объединяемых в «уставы», «учреждения» и т. д.[64].
Работы по составлению Свода были распределены между чиновниками Второго отделения по мере их способностей и знаний. Сперанский осуществлял непосредственное руководство работами, давал сотрудникам советы, разрешал возникающие затруднения, а также докладывал императору о ходе работ. Составленные проекты частей Свода представлялись на рассмотрение особого присутствия под председательством Сперанского. В результате его замечаний многие проекты исправлялись и переделывались по нескольку раз; по свидетельству биографа Сперанского, ни одна строка из всех 15 томов Свода не осталась без личной поверки с его стороны[65][66].
Кодификаторы стремились создать сборник действующего законодательства на основе системы разделения Свода. В отличие от подготовительных работ, носивших преимущественно технический характер, окончательная деятельность по составлению Свода характеризовалась творческим подходом к разработке системы сборника, принципов его построения, отбору законодательного материала и многих других вопросов. Работа над Сводом являлась не просто механическим воспроизведением источников, а определенным толкованием действующего права. В частности, сама необходимость написать Свод современным языком вынуждала авторов Свода отступать от устаревшего и зачастую малопонятного языка актов XVII—XVIII веков, внося в их текст существенные модификации и иногда даже самостоятельно формулируя правовые нормы на их основе. В последнем случае статьи Свода сопровождались не ссылками на конкретные законы, а пояснениями вроде «основана на соображении частных примеров», «явствует из существа таких-то узаконений», «основана на обычаях» и т. п.[67][68].
Энергия и настойчивость Сперанского в значительной мере способствовали сравнительно быстрой работе над Сводом. Уже в июле 1826 года Сперанский рассматривал первые главы Свода, а 14 января 1828 года представил Николаю I подготовленный Свод законов гражданских, с приложением пояснительной записки, в которой подробно излагал план действий по составлению Свода. Деление Свода на тома было введено позднее: в первых отчетах о работах Второго отделения говорится о сводах различных уставов. Общее число уставов доходило до 93, из которых уже в 1828 году было подготовлено 35, а остальные 58 — в течение 1829 года. Таким образом, все своды уставов были закончены к 1 января 1830 года. Одновременно начался заключительный этап кодификационных работ — ревизия Свода законов специальными ревизионными комитетами и его исправление по поступившим замечаниям[69][70].
Ревизия Свода законов
Необходимость ревизии подготовленных частей Свода законов была предусмотрена Сперанским в пояснительной записке от 14 января 1828 года, согласно которой Свод следовало вводить в действие, предварительно «удостоверясь посредством особой комиссии в его точности». Как следует из доклада Сперанского от 16 февраля 1828 года, уже в это время он обратился к управляющему министерством юстиции А. А. Долгорукову с предложением об учреждении комитета для обозрения сводов, составленных во Втором отделении. Долгоруков высказал пожелание составить такой комитет из небольшого числа лиц, включая представителей Сената и Министерства юстиции. Император одобрил предложения, изложенные в докладе Сперанского, и 23 апреля 1828 года издал рескрипт на имя Долгорукова, которым повелел «произвесть в особом Комитете общее сих Сводов обозрение, дабы тем положительнее удостовериться в точности их и полноте»[71][72].
На основании рескрипта от 23 апреля был образован первый комитет для ревизии свода гражданских законов под председательством Долгорукова, которого вскоре сменил Д. В. Дашков; в состав комитета вошли два сенатора — В. И. Болгарский и Н. А. Челищев, а также ряд сотрудников Министерства юстиции. Впоследствии этот комитет рассматривал также такие важнейшие части Свода, как законы основные и законы уголовные. По мере составления других частей Свода были образованы другие ревизионные комитеты, которые учреждались в соответствующих министерствах Российской империи под председательством высокопоставленных чиновников министерств; число таких комитетов достигало семи. Всем комитетам на основании высочайшего повеления надлежало обозреть части Свода на предмет следующих вопросов: 1) все ли законы включены в Свод и 2) не включены ли в Свод отмененные законы[72][73].
Заседания «сенаторского» комитета по ревизии гражданских и уголовных законов происходили в присутствии редактора соответствующей части Свода и начальника Второго отделения — М. А. Балугьянского. В случае возникновения у членов комитета вопросов или замечаний сотрудники Второго отделения либо представляли соответствующие пояснения и указания на законы, либо незамедлительно исправляли статьи Свода. Наиболее важные из предлагаемых изменений вносились в журналы заседаний для последующего представления на усмотрение императора; эти журналы представлялись Николаю министрами и после принятия решения пересылались Сперанскому, который передавал их во Второе отделение для осуществления исправлений[74].
Примерно в таком же порядке осуществлялась ревизия Свода в других ревизионных комитетах: в ответ на замечания представителей министерств редакторы Свода давали пояснения или вносили соответствующие исправления. Кроме того, многие из комитетов сочли нужным внести в Свод нормы из циркулярных предписаний и распоряжений министерств (в частности, на этом настаивал министр финансов Е. Ф. Канкрин, поскольку на предписаниях его ведомства была основана значительная часть таможенного дела). Из практических соображений подобные пожелания были удовлетворены, в результате чего в первом издании Свода появилось немало статей, не имевших значения закона[75][76].
Ревизия Свода продолжалась с апреля 1828 года по май 1832 года. Общее число замечаний на статьи всего Свода достигло 2 тысяч, из них Сперанский принял около 500. В начале 1832 года первая книга Свода, посвященная учреждениям, поступила в печать, и к концу того же года весь Свод был отпечатан тиражом в 1200 экземпляров и представлен в Государственный совет[77][78][79].
Введение в действие Свода законов Российской империи

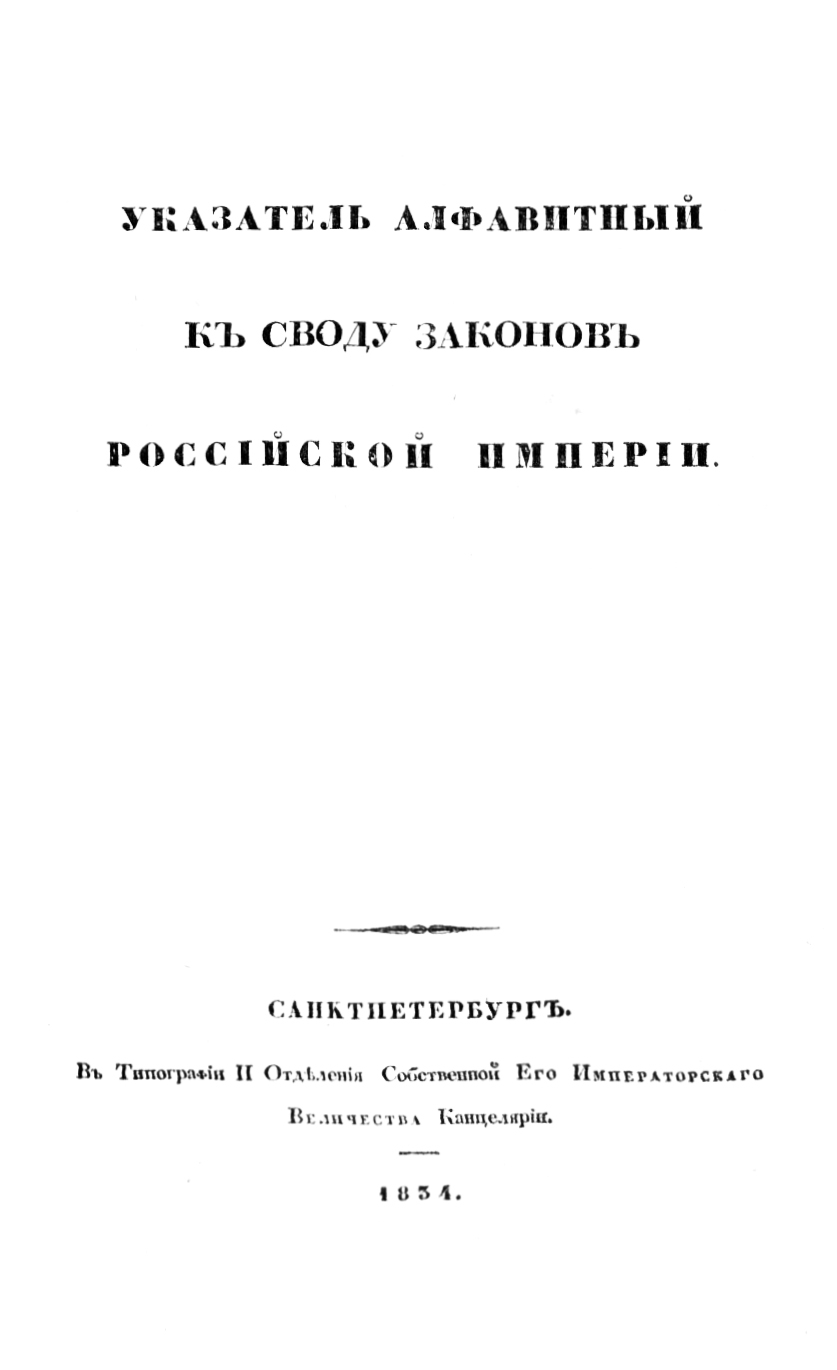 8 января 1833 года Сперанский при всеподданнейшем донесении представил на усмотрение Его Величества «Обозрение исторических сведений о Своде законов» — исторический очерк работ по систематизации законодательства Российской империи начиная с 1700 года, а также проект манифеста о введении Свода в действие. После ознакомления с этими материалами император повелел Государственному совету приступить к рассмотрению Свода законов. 15 января отпечатанные экземпляры Свода были направлены председателю Государственного совета В. П. Кочубею, всем членам Государственного совета и государственному секретарю В. Р. Марченко. 17 января Сперанский направил Кочубею текст «Обозрения исторических сведений», а также записку «О силе и действии Свода», в которой предлагал на усмотрение Государственного совета различные пути разрешения вопроса о будущей юридической силе Свода — как единственного закона, как закона, дополнительного к существующим узаконениям, как простого изложения нормативного материала без силы закона или как закона, который должен сначала действовать вместе со старыми узаконениями с последующим утверждением в качестве единственного[80][78].
8 января 1833 года Сперанский при всеподданнейшем донесении представил на усмотрение Его Величества «Обозрение исторических сведений о Своде законов» — исторический очерк работ по систематизации законодательства Российской империи начиная с 1700 года, а также проект манифеста о введении Свода в действие. После ознакомления с этими материалами император повелел Государственному совету приступить к рассмотрению Свода законов. 15 января отпечатанные экземпляры Свода были направлены председателю Государственного совета В. П. Кочубею, всем членам Государственного совета и государственному секретарю В. Р. Марченко. 17 января Сперанский направил Кочубею текст «Обозрения исторических сведений», а также записку «О силе и действии Свода», в которой предлагал на усмотрение Государственного совета различные пути разрешения вопроса о будущей юридической силе Свода — как единственного закона, как закона, дополнительного к существующим узаконениям, как простого изложения нормативного материала без силы закона или как закона, который должен сначала действовать вместе со старыми узаконениями с последующим утверждением в качестве единственного[80][78].
Николай желал как можно скорее решить вопрос с введением Свода законов в действие, в связи с чем общее собрание Государственного совета было назначено уже на 19 января, хоть это и не оставляло членам совета достаточно времени для ознакомления с обширным многотомным изданием. Император лично присутствовал на заседании Государственного совета, где произнес длившуюся более часа речь, в которой упомянул плачевное состояние российского правосудия, проистекающее из неосведомленности о законах, и коснулся работ по составлению Свода. В заседании также читалось «Обозрение исторических сведений о Своде законов» и обсуждался вопрос о силе и значении Свода. Известно, что Е. Ф. Канкрин высказал на заседании критические замечания в адрес Свода, однако лишь навлек этим неудовольствие Николая. В том же заседании 19 января император снял с себя ленту ордена Святого апостола Андрея Первозванного и надел её на Сперанского, на следующий день дополнительно издав рескрипт о награждении его этой высшей наградой Российской империи. После продолжительного обсуждения члены Государственного совета единогласно постановили[81][82]:
|
26 января Сперанский направил в адрес государственного секретаря Марченко проект манифеста об издании Свода законов. В тот же день состоялось общее собрание Государственного совета, на котором вследствие болезни В. П. Кочубея председательствовал Н. С. Мордвинов. В заседании обнаружились неожиданные разногласия в понимании формулировки «разослать Свод во все присутственные места», приведенной в журнале предыдущего заседания. 19 членов совета, составлявшие большинство, признали журнал верно составленным и не допускающим дополнительного толкования, в то время как 13 членов совета, включая самого Сперанского, толковали слова «разослать Свод» как направление Свода в целях его частичного применения совокупно с существующими законами (что означало, в частности, включение в судебные и административные решения ссылок на статьи Свода). Николай I разрешил возникшие противоречия в пользу большинства, 27 января наложив на журнал резолюцию: «Свод рассылается ныне же как положительный закон, которого исключительное действие начнется с 1 генваря 1835 года»[83][84][85].
После некоторой переработки Сперанский представил проект манифеста императору. 30 января проект манифеста, снабженный собственноручной пометкой Николая «читал и нахожу совершенно согласным с Моим желанием», был представлен в Департамент законов Государственного совета, который рассматривал его 31 января в заседании с участием министра юстиции[86].
1 февраля состоялось второе общее собрание Государственного совета в присутствии императора. Проект манифеста был рассмотрен, признан соответствующим мнению Государственного совета, изложенному в заседании 19 января, и представлен к высочайшему подписанию. В заседании император повторно подтвердил, что Свод подлежит применению в качестве действующего закона с 1835 года; до той поры он может служить присутственным местам лишь указателем на существующие узаконения, ссылки на которые помещены под статьями Свода в виде источников. В тот же день Николай I подписал манифест об издании Свода законов, пометив его, однако, датой 31 января. Согласно статье 1 манифеста Свод вступал в «законную свою силу и действие» с 1 января 1835 года[86][87].
Впоследствии, незадолго до вступления Свода в силу, Сперанский разработал подробные правила о порядке употребления Свода в делопроизводстве, которые были рассмотрены Государственным советом и высочайше одобрены в декабре 1834 года. Кроме того, дополнительно к отпечатанным томам Свода были составлены и изданы общее оглавление (1833), алфавитный (1834) и хронологический (1835) указатели к Своду. В 1833 году состоялась перепечатка Свода (обозначенная на титульном листе как «издание второе»), в котором были исправлены типографские опечатки издания 1832 года, и в 1835—1836 годах — повторная перепечатка (обозначенная как «издание третье»), в которой уже были исправлены редакционные недосмотры и неточности, а несколько статей в виде особого исключения были изложены в новой редакции[88][89].
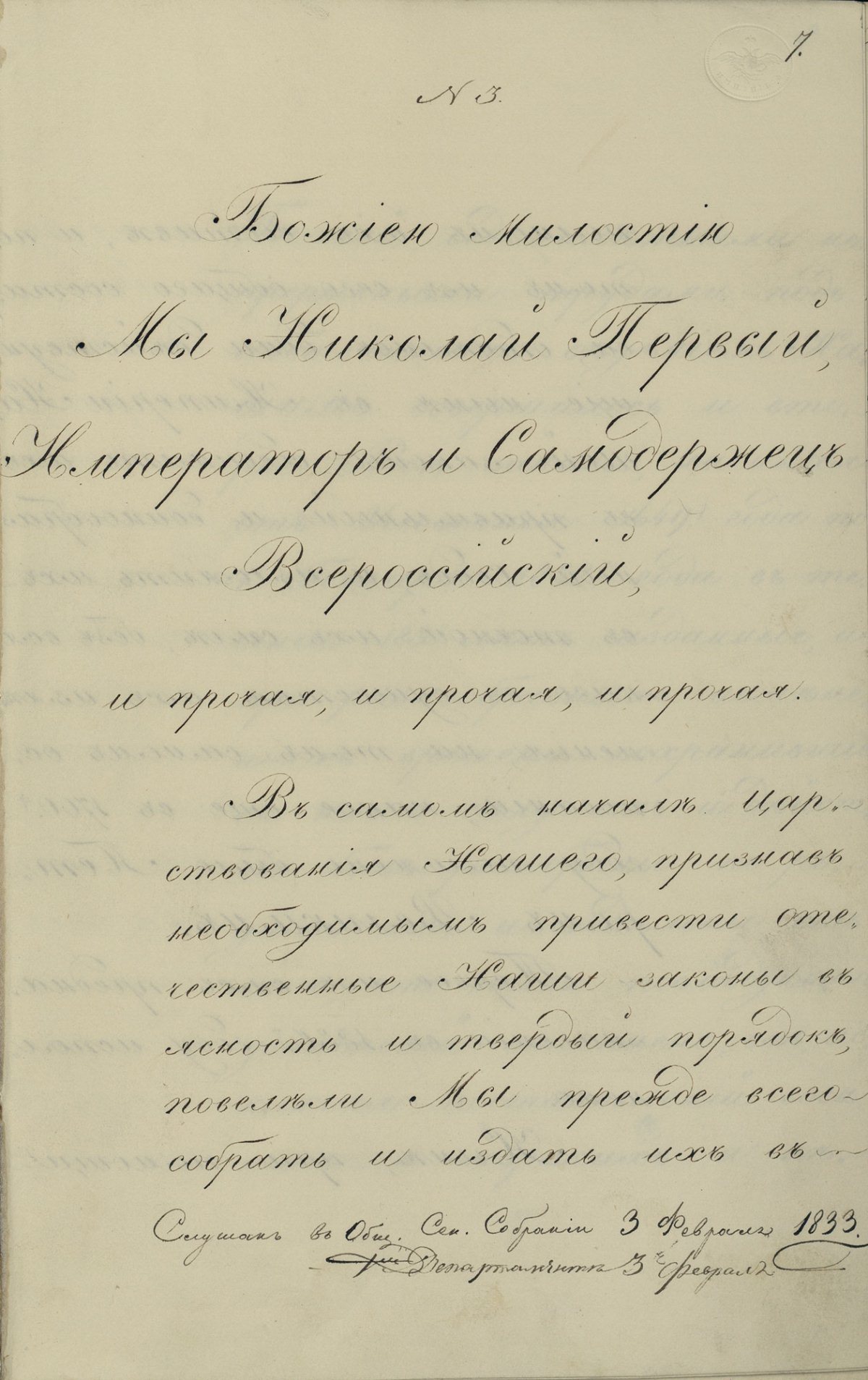
|
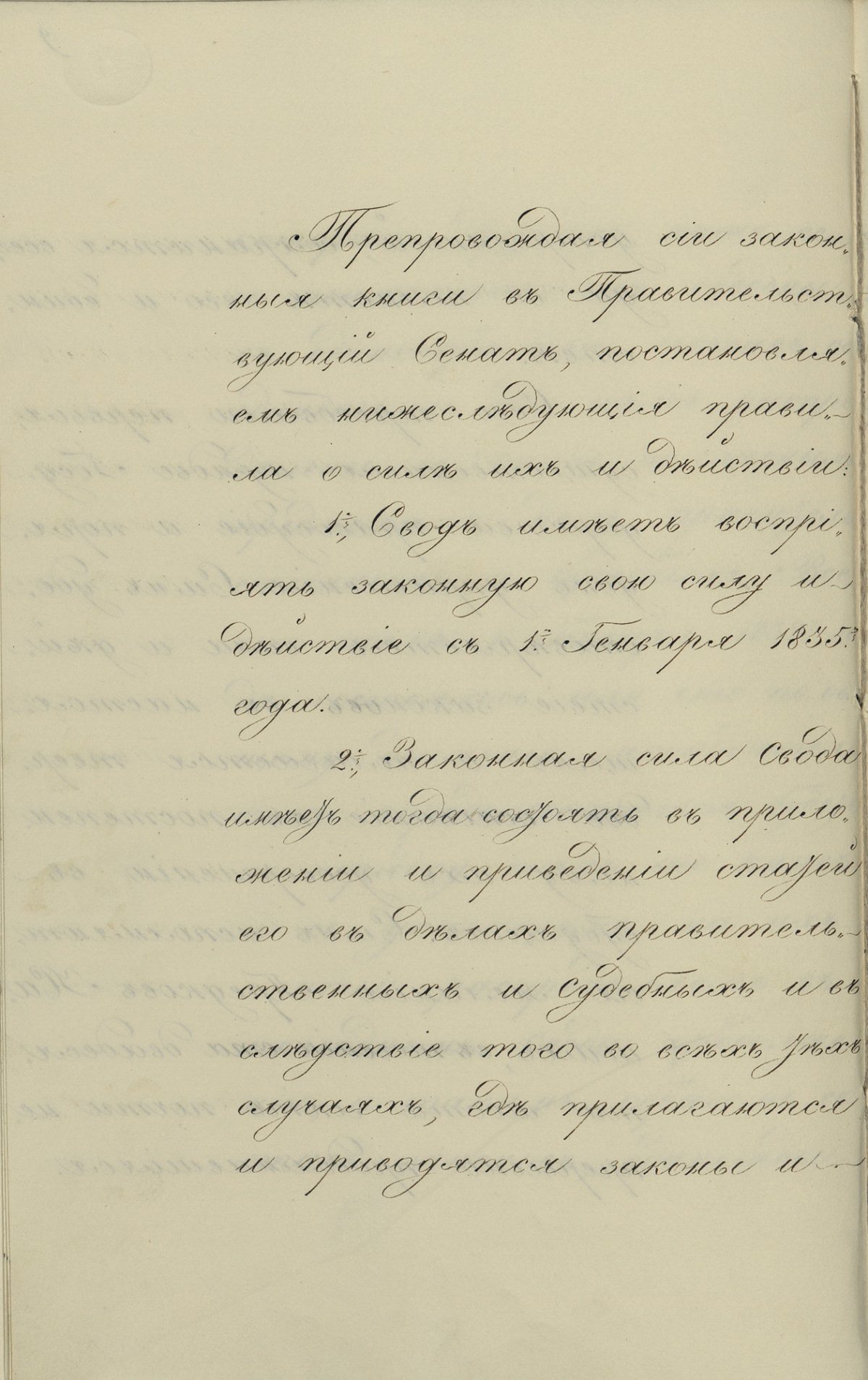
|
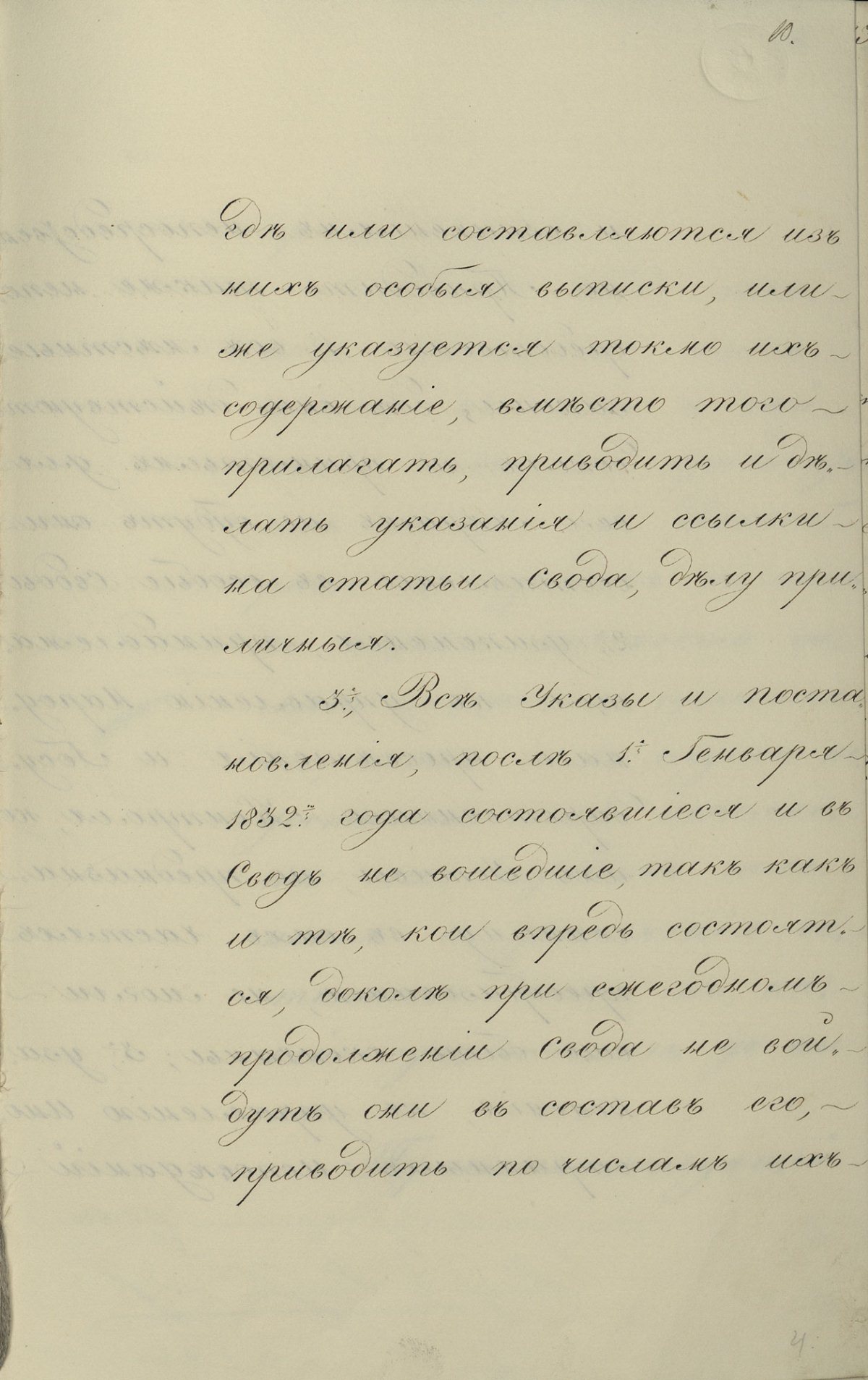
|

|

|

|
Общая характеристика Свода законов Российской империи
Система и содержание Свода законов


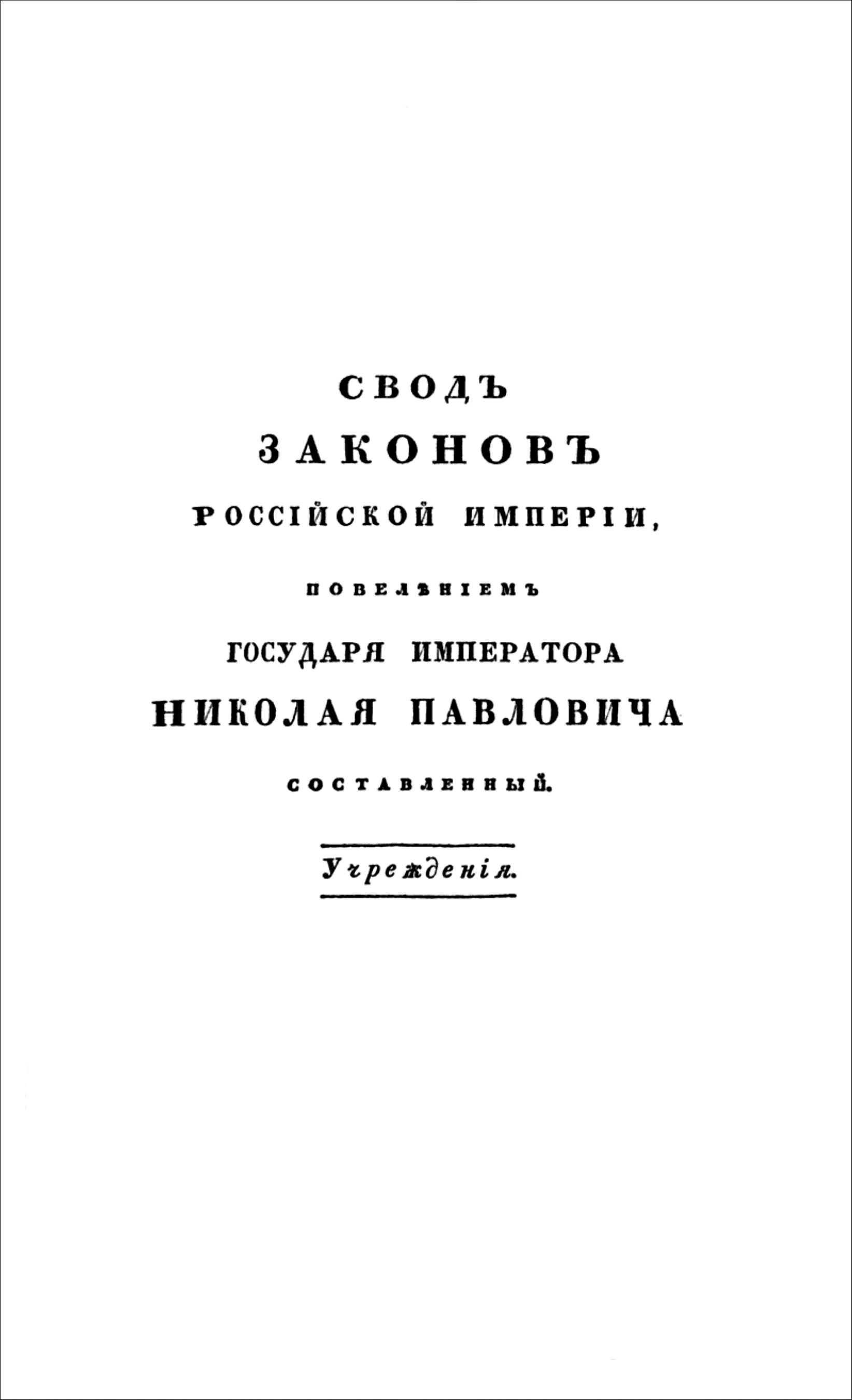 Сперанский разработал своеобразную систему построения Свода законов, имевшую значение как для практических, так и теоретических целей. Построение Свода было основано на правовой концепции Сперанского, который в соответствии с принятым в римском праве делением права на публичное и частное разделил все законодательство на государственные и гражданские законы[90].
Сперанский разработал своеобразную систему построения Свода законов, имевшую значение как для практических, так и теоретических целей. Построение Свода было основано на правовой концепции Сперанского, который в соответствии с принятым в римском праве делением права на публичное и частное разделил все законодательство на государственные и гражданские законы[90].
На основе различия в предмете правового регулирования все государственные законы подразделялись Сперанским на определительные и охранительные. Определительные законы состояли из норм, отражавших существо «государственного союза» и вытекающих из них прав. Сперанский выделил здесь несколько важных моментов: во-первых, порядок организации верховной власти; во-вторых, государственные органы, с помощью которых государственная власть осуществляет свои полномочия; в-третьих, средства и силы государственные; в-четвертых, степень участия подданных в государственной деятельности. Каждому из указанных моментов соответствовала определенная категория законов: 1) основные законы, 2) учреждения государственные и губернские, 3) законы сил государственных (уставы о рекрутской и земских повинностях, уставы казенного управления), 4) законы о состояниях. Вторая группа государственных законов состояла из законов, охраняющих «союз государственный и гражданский»: 1) предохранительные законы (уставы благочиния) и 2) уголовные законы[91].
Гражданские законы также подразделялись Сперанским на определительные и охранительные, объединяющие соответственно нормы материального и процессуального права. К первой группе относились законы, определяющие права и обязанности в области семейных отношений, общие законы об имуществах и особенные законы об имуществах. Во вторую группу входили законы о порядке взысканий по бесспорным делам, судопроизводстве и о мерах гражданских взысканий[92][93].
Разрабатывая систему Свода законов, Сперанский преследовал цель обеспечить доступность законодательства, понимая под этим не только упрощение поиска нормативного материала, но и определенную модернизацию законодательства и устранение его дефектов (упрощение стиля, языка нормативных актов, ликвидацию пробелов, противоречий, анахронизмов и т. д.). Для достижения этой цели Сперанский пошел по пути укрупнения основных подразделений систематического собрания законов, объединив весь нормативно-правовой материал в восемь крупных отделов, которые в большинстве случаев совпадали с отраслями права — государственным, административным, гражданским, уголовным и др. Вместе с тем система Свода распределяла законодательство также по отраслям управления и экономики. На основании этой системы все государственные и гражданские законы были разделены на восемь книг, в свою очередь состоявшие из 15 томов[94]:
| Книга I. Учреждения | Том I. Основные законы и учреждения государственные Том II. Учреждения губернские Том III. Уставы о службе гражданской |
| Книга II. Уставы о повинностях | Том IV. Свод уставов о повинностях рекрутской и земских |
| Книга III. Уставы казенного управления | Том V. Уставы о податях, пошлинах, питейном сборе и акцизе Том VI. Учреждения и уставы таможенные Том VII. Уставы монетный, горный и о соли Том VIII. Уставы лесной, оброчных статей, арендных и старостинских имений |
| Книга IV. Законы о состояниях | Том IX. Свод законов о состоянии людей в государстве |
| Книга V. Законы гражданские и межевые | Том X. Свод законов гражданских и межевых |
| Книга VI. Уставы государственного благоустройства | Том XI. Учреждения и уставы кредитных установлений, учреждения и уставы торговые, постановления о фабричной, заводской и ремесленной промышленности Том XII. Учреждения и уставы путей сообщения, устав строительный и устав пожарный, постановления о благоустройстве в городах и селениях |
| Книга VII. Уставы благочиния | Том XIII. Устав об обеспечении народного продовольствия, устав об общественном призрении, учреждения и уставы врачебные Том XIV. Уставы о паспортах и беглых, о предупреждении и пресечении преступлений, о содержащихся под стражей и о ссыльных |
| Книга VIII. Законы уголовные | Том XV. Свод законов уголовных |
Каждый том Свода представлял собой самостоятельное собрание правовых норм, имеющее единую для всего тома нумерацию статей. Некоторые из томов (например, тома I, V, X) состояли из нескольких частей; в этом случае у каждой части тома была своя нумерация статей. Отдельные тома включали уставы, положения, учреждения, которые, как правило, подразделялись на книги. Последние, в свою очередь, состояли из разделов, глав, отделений и статей. Под статьей (или, при особой оговорке, группой статей) Свода имелось указание на число, месяц и год издания акта, из которого взята статья или статьи, и номер этого акта в Полном собрании законов. В некоторых случаях под статьями помещались примечания; они не содержали правовых норм, но способствовали правильному пониманию смысла статей, комментировали и уточняли их источники. Свод законов состоял из 36 тысяч статей, а с приложениями — до 42 198 статей[95][96].
Свод законов не был полным собранием действующего законодательства. По практическим соображениям в издание 1832 года не вошли[97]:
- Узаконения местного характера, действовавшие в ряде национальных окраин Российской империи. Впоследствии Второе отделение подготовило или начало подготовку ряда проектов сводов местных узаконений — западных губерний, прибалтийских губерний, великого княжества Финляндского, Царства Польского, Бессарабии и др. Из них был утвержден лишь Свод местных узаконений губерний остзейских.
- Узаконения по ведомству Министерства народного просвещения и государственного контроля, а также нормативные акты в области счетоводства.
- Узаконения в области управления дел православного и иностранных исповеданий. Некоторые из узаконений по духовной части стали издаваться лишь с 1865 года в составе Полного собрания постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания.
- Узаконения по ведомству Министерства иностранных дел, удельного ведомства, управления почт, ведомства учреждений императрицы Марии и других, состоящих под покровительством высочайших особ.
- Постановления военные и морские, составившие впоследствии содержание отдельных Свода военных постановлений и Свода морских постановлений.
| |
|
|
|
|
|
Значение Свода законов
При нашем состоянии законодательства и в особенности при нашем уровне науки права и разработки законодательного материала Свод законов сослужил громадную и ничем не заменимую службу русскому государству и обществу.
 Систематизация законодательства в форме инкорпорации, проведенная в 1826—1832 годах Вторым отделением и увенчавшаяся созданием Свода законов Российской империи, знаменовала собой новый этап в развитии русского права. Впервые в истории страны правоприменитель получил свод действующих законов, имеющий достаточно четкую и продуманную теоретическую и практическую основу, снабженный указателями и вспомогательными материалами и т. п. Переход от бессистемности и противоречивости законодательства к четкой системе изложения законов стало существенным прорывом в истории развития отечественного права. Свод объединил законодательный материал, разбросанный в многочисленных и труднодоступных источниках права; благодаря этому законы, ранее известные лишь ограниченному кругу лиц и то не в полном объёме, стали доступными для изучения каждому, что оказало благотворное влияние на развитие правовой культуры. По выражению М. В. Шимановского, «только с изданием Свода народ узнал так или иначе, что такое закон, где его начало и где его конец»[99][100][101].
Систематизация законодательства в форме инкорпорации, проведенная в 1826—1832 годах Вторым отделением и увенчавшаяся созданием Свода законов Российской империи, знаменовала собой новый этап в развитии русского права. Впервые в истории страны правоприменитель получил свод действующих законов, имеющий достаточно четкую и продуманную теоретическую и практическую основу, снабженный указателями и вспомогательными материалами и т. п. Переход от бессистемности и противоречивости законодательства к четкой системе изложения законов стало существенным прорывом в истории развития отечественного права. Свод объединил законодательный материал, разбросанный в многочисленных и труднодоступных источниках права; благодаря этому законы, ранее известные лишь ограниченному кругу лиц и то не в полном объёме, стали доступными для изучения каждому, что оказало благотворное влияние на развитие правовой культуры. По выражению М. В. Шимановского, «только с изданием Свода народ узнал так или иначе, что такое закон, где его начало и где его конец»[99][100][101].
Составители Свода не остановились на одной лишь предметной инкорпорации законов: ему была придана несколько иная, более сложная систематизированная форма. Поскольку кодификаторы имели возможность делать редакционные исправления при изложении текста консолидируемых актов, Свод содержал значительно более четкие формулировки и более точные определения по сравнению с ранее действовавшими законами, что вывело правовое регулирование общественных отношений на принципиально новый уровень. По степени влияния на развитие юридической сферы российской государственной жизни составление Свода можно рассматривать как крупную политико-правовую реформу[102].
Важным следствием систематизации законодательства стало реформирование практики управления и судопроизводства. Статья 47 Основных государственных законов (том I Свода) провозгласила, что «Империя Российская управляется на твердых основаниях положительных законов, уставов и учреждений», тем самым продемонстрировав стремление верховной власти внедрить в российскую действительность начала законности. Правила употребления Свода в судопроизводстве и административных делах, утвержденные в 1834 году, обязывали государственные учреждения использовать только кодифицированное законодательство, подробно расписывая порядок цитирования норм Свода и указания ссылок на его статьи[103].
Свод законов является важным памятником юридической мысли России первой половины XIX века. В нём были впервые обобщены и систематизированы многие правовые понятия, не разработанные в предшествующем законодательстве. В Своде определены существенные стороны государственного строя России: организация и существо верховной власти, правовое положение сословий; впервые сформулированы многие юридические понятия — «закон», «высочайшее повеление», «преступление», выделены общая и особенная часть уголовного права и т. д. Свод привел в систему разрозненные, противоречивые законы, относящиеся к различным периодам истории и исходившие из разных принципов. Впервые в России был создан сборник законодательных актов, в основу которого была положена научная система разделения и расположения законов; последняя хотя и обнаружила определенные недостатки, но вместе с тем имела большое прогрессивное значение, заложив основы правовой системы Российской империи[104].
В результате издания Свода законов выявились противоречия между отдельными законами, стали очевидными многочисленные пробелы в действующем законодательстве. Пробелы Свода указывали на необходимость проведения дальнейших работ по систематизации законодательства, но уже на более высоком уровне — в форме кодификации. После издания Свода началось совершенствование отдельных отраслей права: было разработано и введено в действие Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, кодифицированы военное, морское, а впоследствии и церковное законодательство[105].
Издание Полного собрания законов и Свода законов способствовали развитию русского законоведения. Создание этих сборников показало трудность систематизации права без научного подхода к разработке системы законодательства, развития отдельных отраслей, институтов права и правовых категорий, что было признано и верховной властью. Уже в 1835 году указом Николая I в целях подготовки квалифицированных юристов для службы в государственной администрации и судах было основано Императорское училище правоведения; в соответствии с новым университетским уставом, принятым в том же году, отделения «нравственных и политических наук» университетов были преобразованы в юридические факультеты. Свод положил начало систематическому изучению русского законодательства и истории права, стали появляться фундаментальные юридические труды (П. И. Дегая, К. А. Неволина, К. Д. Кавелина, Д. И. Мейера и др.). Если раньше изучались в основном гражданские и уголовные законы, то после создания Свода сделалось возможным и необходимым исследование других отраслей права — государственного, административного, финансового[106][107].
Недостатки Свода законов
На почве Свода создалась та робкая психология, та боязнь отойти от старого, потерять берег из виду, которая приводит наши руководящие сферы к жалкому топтанию на одном месте или к лицемерному подведению заимствований под видимый образ самобытного.
 Стройность внешней формы не соответствовала внутреннему содержанию Свода, так как законодательный материал не обладал важным признаком — однородностью. Законы исходили из разных принципов, что объяснялось возникновением их в разное время. Отсюда вытекали такие недостатки Свода, как громоздкость, противоречивость нормативно-правового материала и его разбросанность по различным частям Свода. Строгая внутренняя логическая связь между разделами не могла быть достигнута в результате проведения систематизации законодательства в форме инкорпорации: взаимосвязь нормативных актов была возможна только при кодификационной обработке. Выбор инкорпоративной формы обусловил наличие в Своде неоднородного законодательства, поскольку перед чиновниками Второго отделения ставилась цель лишь привести в определенную систему действующие законы, не преобразуя и не совершенствуя их по существу. В силу этого Свод значительно отличался от большинства западноевропейских кодексов своего времени[109].
Стройность внешней формы не соответствовала внутреннему содержанию Свода, так как законодательный материал не обладал важным признаком — однородностью. Законы исходили из разных принципов, что объяснялось возникновением их в разное время. Отсюда вытекали такие недостатки Свода, как громоздкость, противоречивость нормативно-правового материала и его разбросанность по различным частям Свода. Строгая внутренняя логическая связь между разделами не могла быть достигнута в результате проведения систематизации законодательства в форме инкорпорации: взаимосвязь нормативных актов была возможна только при кодификационной обработке. Выбор инкорпоративной формы обусловил наличие в Своде неоднородного законодательства, поскольку перед чиновниками Второго отделения ставилась цель лишь привести в определенную систему действующие законы, не преобразуя и не совершенствуя их по существу. В силу этого Свод значительно отличался от большинства западноевропейских кодексов своего времени[109].
В литературе приводятся многочисленные примеры отсутствия логической последовательности в системе расположения законодательного материала. Например, гражданские законы помимо тома X встречаются во многих других томах — томах VII и VIII (законы о частной золотопромышленности и частных лесах), томе IX (права состояния), томе XI (торговые законы). Уголовные законы, собранные в томе XV, встречаются в уставах казенного управления (тома V—VIII), статьях 737, 794, 832 и других тома IX. Статьи об учреждениях помимо томов I и II имеются в уставах таможенном, горном, межевом и др. Нередко нормы материального права располагаются в Своде наряду с нормами процессуального права. Некоторые второстепенные вопросы регулируются с ненужной подробностью в то время как другие или вовсе не рассматриваются, или освещаются очень поверхностно[110][111].
Уже Сперанский указывал на такой недостаток Свода законов, как его неполнота: «Сколько объём нашего Свода обширен и полон, столько составные его части недостаточны и скудны». Неполнота Свода объясняется тем, что: 1) многие сферы общественных отношений не были урегулированы законодательством, а если и нашли своё отражение в российских законах, то не были помещены в Полное собрание законов; 2) целый ряд узаконений Полного собрания законов не вошел ни в один из томов Свода. В частности, в него не вошли церковные законы, законы о народном просвещении и государственном контроле, законы по ведомству ряда министерств и кредитных учреждений и т. д. Дореволюционные исследователи Свода отмечали существенные пробелы в разделе гражданского законодательства: отсутствие ряда норм о завещаниях, об опеке и попечительстве, о правах и обязанностях в брачно-семейных отношениях, о сервитутах, о ссуде, о доверенности и т. д. В разделе уголовных законов остались неурегулированными отношения, возникающие из полицейских и финансовых нарушений, и т. д.[112][113].
Ни теория, ни практика к моменту составления Свода не выработали четких критериев для разграничения понятий нормативного и ненормативного правового акта, вследствие чего в Свод вошло множество статей ненормативного характера, содержащих наставления, советы, пожелания или отдельные распоряжения административных органов (статьи 613 и 631 тома I, статья 257 тома III, статья 3 тома XIV и др.). К недостаткам Свода относятся также наличие ряда технических правил, по сути не являющихся правовыми нормами (например, в постановлениях о фабричной и заводской промышленности), неопределенность юридического языка, многословность отдельных статей (статья 843 тома XV, статья 305 тома X). Некоторые статьи, взятые в отрыве от общего смысла других статей, неясны, что затрудняло их применение (статья 15 тома II, статьи 794 и 816 тома XV). В Своде имеются статьи, которые могут быть объединены (статьи 234—236, 238—321 тома I) или сокращены (статьи 342—344 тома I). Ряд статей включены в Свод без ссылок на узаконения Полного собрания законов (статьи 267—268 тома I, статья 161 тома X, статьи 926 и 1210 тома XV). А. К. Бабичев на основе тщательного анализа первого и последующих изданий Свода законов сделал вывод о необходимости многочисленных (более 2,5 млн) сокращений и редакционных исправлений в Своде[114][115][116].
Многие недостатки Свода были вызваны объективными причинами — несовершенством и архаичностью действующего российского законодательства, а также инкорпоративной формой систематизации, не допускавшей внесения принципиальных изменений в упорядочиваемые правовые нормы. В то же время, по мнению ряда ученых, Свод, вобравший в себя множество устаревших законов, сыграл роковую роль в истории русского права, законсервировав дефекты отечественного законодательства и став своего рода тормозом на пути его дальнейшего развития. Подобной точки зрения придерживался Г. Ф. Шершеневич, который утверждал, что «Свод не подготовил кодификацию, а убил кодификационное творчество», и язвительно писал о «мнимой стройности», придающей Своду «обманчивый вид кодекса». Ещё резче выразился Б. И. Сыромятников, назвавший Свод «зачатым в грехе реакции» и «надгробным памятником, который успела заживо поставить себе николаевская Россия», а А. И. Каминка резонно обращал внимание на то, что «ни одна страна не решилась воспользоваться нашим опытом, нашей изобретательностью, чтобы завести и у себя совершенно такой же свод законов»[117][118][119][120].
Продолжения и дальнейшие издания Свода законов Российской империи при Николае I и Александре II
Продолжения издания 1832 года

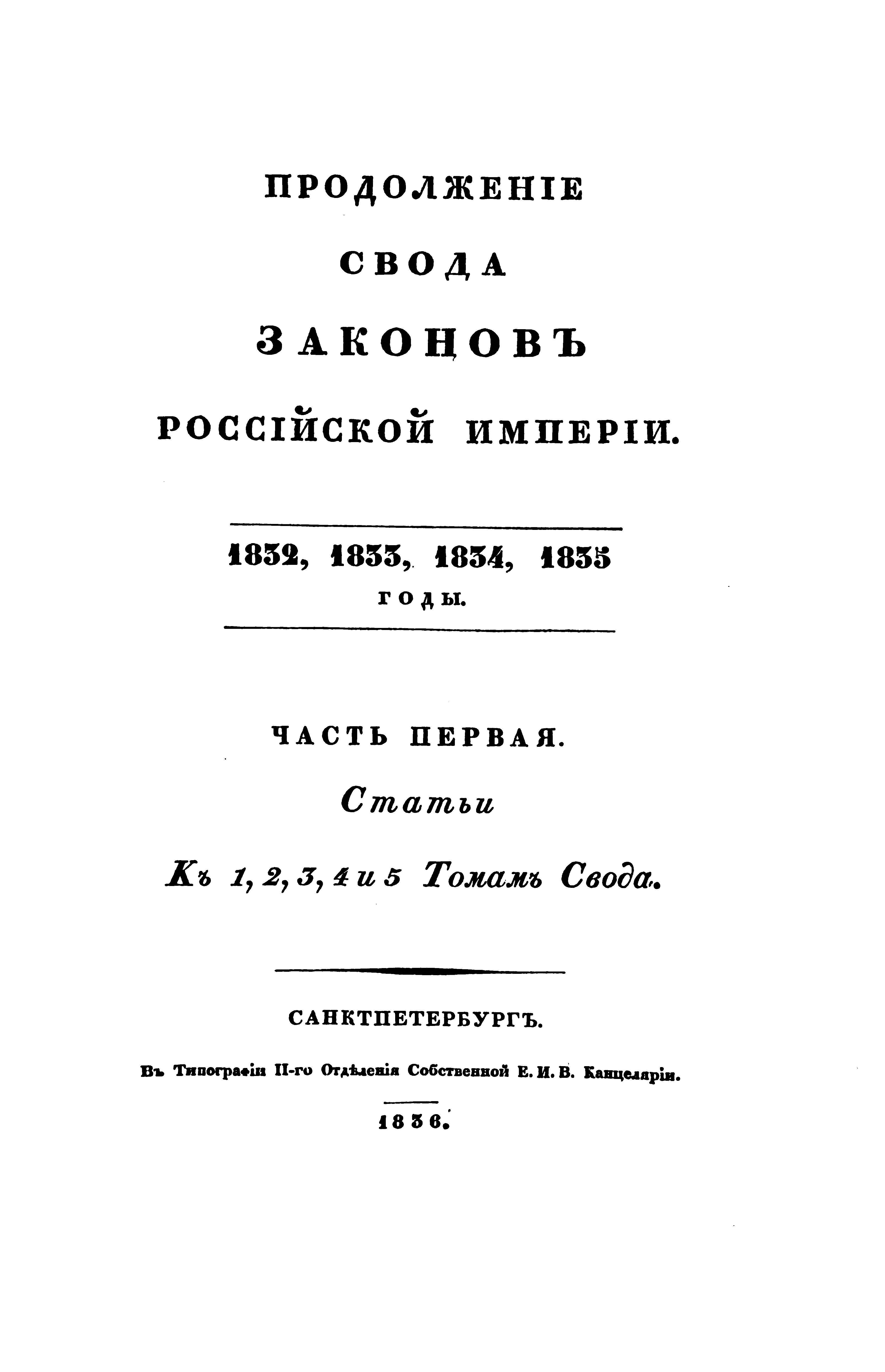 В начале 1834 года Второе отделение приступило к составлению Продолжения Свода законов, необходимость издания которого была прямо предусмотрена манифестом от 31 января 1833 года и которое должно было вступить в силу вместе со Сводом с 1 января 1835 года. Материалом для Продолжения должны были служить узаконения, вышедшие в 1832—1833 годах общим числом до 1630, а также исправления, оказавшиеся необходимыми в результате вторичной ревизии Свода. Указанная ревизия началась после утверждения Свода в 1833 году и заключалась в проверке и направлении во Второе отделение поступающих от государственных учреждений замечаний и исправлений к Своду. Общее число таких исправлений достигало 823, из которых 443 поступило от Министерства финансов, 107 — от Министерства юстиции и 216 были подготовлены самим Вторым отделением[121][122].
В начале 1834 года Второе отделение приступило к составлению Продолжения Свода законов, необходимость издания которого была прямо предусмотрена манифестом от 31 января 1833 года и которое должно было вступить в силу вместе со Сводом с 1 января 1835 года. Материалом для Продолжения должны были служить узаконения, вышедшие в 1832—1833 годах общим числом до 1630, а также исправления, оказавшиеся необходимыми в результате вторичной ревизии Свода. Указанная ревизия началась после утверждения Свода в 1833 году и заключалась в проверке и направлении во Второе отделение поступающих от государственных учреждений замечаний и исправлений к Своду. Общее число таких исправлений достигало 823, из которых 443 поступило от Министерства финансов, 107 — от Министерства юстиции и 216 были подготовлены самим Вторым отделением[121][122].
К августу 1834 года составление первого Продолжения было закончено. Оно состояло из пятнадцати частей по числу книг Свода. В начале каждой части был помещен список изменившихся статей тома, после чего следовало изложение изменившихся статей. Часто изменение статьи состояло лишь в одном слове, но тем не менее для большего удобства перепечатывалась вся изменившаяся статья. 29 августа 1834 года Сперанский представил Николаю I отпечатанное Продолжение при всеподданнейшем докладе. Доклад был высочайше одобрен, и 30 августа был издан именной указ Сенату, в соответствии с которым Продолжение было введено в силу с 1 января 1835 года «в совокупности со Сводом, дополняя и заменяя статьи Свода, где следует, статьями Продолжения, им соответствующими»[123].
20 октября 1834 года Сперанский представил в Государственный совет доклад о порядке составления продолжения Свода на будущее время. Совет рассмотрел доклад вместе с поступившими на него замечаниями министерств и представил к высочайшему утверждению ряд правил издания продолжения Свода, которые были одобрены императором 15 декабря. В частности, было постановлено следующее: 1) акты императора, поясняющие или меняющие законодательство, в целях включения их в продолжение Свода заблаговременно представлять во Второе отделение; 2) не включать в продолжение Свода акты — разъяснения министерств без утверждения государя; 3) включать в Свод распорядительные акты министерств при условии их утверждения указами Правительствующего Сената по представлению министров; 4) включать в Свод разъяснительные и распорядительные акты Правительствующего Сената при условии их соответствия действующему законодательству, а также разрешения или предупреждения каких-либо сомнений в смысле закона; 5) указывать под статьями каждого нового закона ссылки на статьи Свода, изменяемые этим законом[124].
На основании этих правил Второе отделение издало шесть Продолжений первого издания Свода: в 1834, 1835, 1836, 1837, 1838 годах и, уже после смерти Сперанского, в 1839 году. Всего было два вида Продолжений. Первые включали законы, изданные с момента публикации предшествующего продолжения, и назывались очередными; таковыми были Продолжения четвёртое (1837) и пятое (1838). Другие включали законы, изданные с момента издания самого Свода; к таким сводным Продолжениям относились второе (1835), третье (1836) и шестое (1839). Иными словами, в отличие от остальных Продолжений, включавших в себя текст предыдущих выпусков, четвёртое и пятое содержали узаконения лишь за 1836 и 1837 годы соответственно; в итоге третье, четвёртое и пятое Продолжения оказались объединены под одним заглавием и явились своего рода отдельными выпусками одного издания, имевшими сплошную нумерацию страниц от первого до последнего. Практика показала неудобство плана, принятого при составлении четвёртого и пятого Продолжений, поскольку для поиска узаконений приходилось обращаться поочередно к пятому, четвёртому и третьему Продолжениям и даже к самому Своду, причем отмененные статьи иногда по ошибке принимались за действующие. Шестое Продолжение объединило сохранившие силу статьи первых пяти Продолжений с присоединением к ним законов 1838 и частично 1839 годов и сопровождалось особым императорским указом от 29 декабря 1839 года[125][126][127].
Издание 1842 года

 В декабре 1839 года главноуправляющим Вторым отделением стал Д. Н. Блудов — бывший министр внутренних дел, впоследствии граф — который уже в начале 1840 года поставил перед Николаем I вопрос о дальнейшем издании Свода. В частности, он предложил сохранить план Свода образца 1832 года, включить в Свод все статьи последнего Продолжения за 1832—1838 годы, исключить встречающиеся в Своде повторения, а также отойти от принципа единой нумерации статей в томах, установив собственную нумерацию для каждого устава и положения. Одновременно Блудов коснулся вопроса о дальнейшей судьбе систематизации законодательства — продолжить ли её в виде Свода законов или приступить к разработке уложений, то есть к следующему этапу кодификации, предусмотренному Сперанским. Император, утвердив представление Блудова 11 января 1840 года, начертал резолюцию: «необходимо издать по-прежнему»[128].
В декабре 1839 года главноуправляющим Вторым отделением стал Д. Н. Блудов — бывший министр внутренних дел, впоследствии граф — который уже в начале 1840 года поставил перед Николаем I вопрос о дальнейшем издании Свода. В частности, он предложил сохранить план Свода образца 1832 года, включить в Свод все статьи последнего Продолжения за 1832—1838 годы, исключить встречающиеся в Своде повторения, а также отойти от принципа единой нумерации статей в томах, установив собственную нумерацию для каждого устава и положения. Одновременно Блудов коснулся вопроса о дальнейшей судьбе систематизации законодательства — продолжить ли её в виде Свода законов или приступить к разработке уложений, то есть к следующему этапу кодификации, предусмотренному Сперанским. Император, утвердив представление Блудова 11 января 1840 года, начертал резолюцию: «необходимо издать по-прежнему»[128].
25 января 1840 года Блудов представил монарху развернутый доклад о порядке подготовки второго издания Свода, в которым были уточнены и дополнены ранее высказанные предложения. Цель очередного издания Блудов видел не просто в соединении Продолжений Свода с первым его текстом, но и в том, чтобы по возможности усовершенствовать сам Свод — исправить вкравшиеся ошибки, пробелы и противоречия, исключить повторения и сделать Свод более удобным в употреблении. Среди прочего было предложено включить в основной текст Свода отдельными разделами законы, в издании 1832 года помещенные в приложениях в конце томов (например, уставы о рекрутстве евреев и украинских казаков). Приложения к уставам должны помещаться непосредственно за текстом этих уставов, а не в конце томов, как в первом издании. Поскольку к Своду издан алфавитный указатель, следует исключить многочисленные статьи одинакового содержания, которые повторялись в различных томах и уставах с целью большей полноты изложения; также следует объединить в одном месте отдельные правила и изъятия из этих правил, которые зачастую изложены в разных томах. Наконец, следует присвоить собственную нумерацию помещаемым в Свод законам, чтобы облегчить ссылки на них, а также чтобы сделать издание более доступным: до сих пор частные лица были вынуждены покупать тома целиком, в то время как в случае особой нумерации уставов и помещения приложений за их текстом они могли бы приобретать отдельные законы, входящие в состав Свода[129][130].
Новый глава Второго отделения отрицательно отнесся к бытовавшей при Сперанском относительной свободе кодификаторов в редактировании текста узаконений. Отныне редакторам запрещалось вносить в формулировки статей Свода изменения кроме тех, которые прямо предусмотрены Продолжениями, либо разрешены, либо будут впоследствии разрешены высочайше утвержденными мнениями Государственного совета или особыми высочайшими повелениями. Теперь при внесении в Свод новых положений следовало держаться по возможности слов и слога подлинных актов, выписывая закон целыми статьями или пунктами точно так же, как в подлиннике. Если в законе обнаруживались повторения или неясные выражения, то для их исправления следовало испрашивать высочайшее соизволение. В процессе подготовки нового издания Свода Блудов неоднократно вносил возникшие предложения, затруднения и сомнения императору и в Государственный совет, которые выносили соответствующие решения. Подобный способ исправления законов Свода существенно отличался от ревизии 1828—1832 годов, когда поправки, не встречавшие возражений в ревизионных комитетах, вносились в Свод по сути собственной властью Второго отделения, с представлением на высочайшее усмотрение лишь наиболее важных или спорных вопросов[131][132].
Второе издание Свода, получившее название издания 1842 года, включало порядка 52 328 статей, а с приложениями — до 59 400 статей. Деление на 15 томов было сохранено, но во многих томах и входящих в них уставах было сделано немало дополнений и исправлений. В частности, как и предлагал Блудов, была введена специальная нумерация для уставов и положений внутри томов. В Свод были включены новые законы, в том числе общий наказ гражданским губернаторам (1837), устав о табачном акцизе (1838), акты, связанные с начавшейся в 1839 году денежной реформой; в ряде томов была изменена последовательность уставов; том IX был переименован из Свода законов о состоянии людей в государстве в Свод законов о состояниях и т. д. В том X были включены некоторые местные узаконения, действовавшие в Черниговской и Полтавской губерниях. В 1842 году был издан сравнительный указатель статей Свода законов изданий 1832 и 1842 годов[133][134].
4 марта 1843 года император издал именной указ, согласно которому новое издание Свода подлежало применению с 1 января 1844 года. Этот указ не содержал ни положения о том, что новое издание «имеет восприять законную свою силу и действие», как это было предусмотрено в манифесте 1833 года, ни правил о сравнительной силе Свода и включенных в него законов. Поскольку манифест 1833 года относился лишь к первому Своду и не предусматривал возможности его переиздания, подобное умолчание в указе 1843 года стало одной из причин развернувшейся впоследствии дискуссии о юридической силе различных изданий Свода законов. Ряд правоведов придерживались точки зрения, что в связи с отсутствием соответствующего постановления верховной власти второе и последующие издания Свода не имели самостоятельной силы, которая сохранялась лишь за оригинальными узаконениями[135][136][137].
Вскоре после издания Свода граф Блудов поднял вопрос о составлении продолжений к нему. В 1843 году было подготовлено первое Продолжение Свода, включавшее узаконения за 1842 год; оно было введено в действие императорским указом от 10 августа 1843 года. В 1843—1855 годах было издано девятнадцать Продолжений Свода 1942 года, большинство из которых включали узаконения за шестимесячный период. Особенностью этих Продолжений было то, что все они были очередными, а не сводными, то есть каждое из Продолжений не включало в себя материал предыдущих, что довольно сильно затрудняло их использование[138][139][140].
В течение 1843—1844 годов Второе отделение подготовило также подробный алфавитный указатель к Своду законов 1842 года. За основу был взят алфавитный указатель 1834 года, который был дополнен новыми терминами, появившимися в законодательстве последних лет (например, «палата государственных имуществ», «обязанные крестьяне» и др.). Кроме того, в указатель были добавлены термины, относящиеся к прежнему законодательству, но отсутствовавшие в указателе 1832 года. Новый алфавитный указатель вместе с четвёртым Продолжением Свода по высочайшему повелению был введен в действие сенатским указом от 19 февраля 1845 года[141].
Издание 1857 года
1 ноября 1851 года Д. Н. Блудов представил Николаю I соображения о третьем издании Свода законов. В частности, главноуправляющий Вторым отделением, ссылаясь на значительный объём законодательства, подлежавший включению в новое издание, предложил увеличить число томов с 15 до 20, выделив в отдельные тома законодательство об особых губернских учреждениях (Сибирь, Кавказская область, земли казачьих войск и др.), межевые законы и т. д. Предложения Блудова были удостоены высочайшего утверждения, на основании которого 1 декабря 1851 года было утверждено наставление чиновникам Второго отделения по подготовке Свода. Спустя три года, 16 декабря 1854 года Блудов подал новый всеподданнейший доклад, в котором отказался от идеи увеличить число томов, объясняя это уже более чем двадцатилетней привычкой должностных и частных лиц приводить ссылки на номера томов Свода без уточнения конкретного устава или положения. В итоге было решено, сохранив деление Свода на 15 томов, разбить некоторые тома на части[142].
19 апреля 1856 года Блудов доложил уже новому монарху Александру II о том, что новое издание Свода готово к поступлению в печать. Тем же докладом было предложено: 1) включить в Свод узаконения за 1855 год и начало 1856 года, 2) перенумеровать все статьи с точным указанием на статьи, являющиеся объяснениями первых; 3) составить хронологические реестры всех узаконений, послуживших источниками статей; 4) составить сравнительный указатель статей Свода законов издания 1842 года и нового издания[143].
В соответствии с императорским указом от 12 мая 1858 года третье издание Свода законов, содержавшее до 90 тысяч статей и получившее название издания 1857 года, стало применяться с 1 января 1860 года. Одна из особенностей нового Свода заключалась в том, что в него был помещен ряд уставов и учреждений, отсутствовавших в предыдущих изданиях, в том числе учреждения Министерства императорского двора, Кабинета Его Величества, департамента уделов, Министерства иностранных дел, учреждения и уставы управления духовных дел иностранных исповеданий, уставы о телеграфах и почте; Второе отделение предлагало включить в Свод и остальные помимо уставов управления узаконения по духовной части, однако Синод воспротивился этому. Другой особенностью было издание томов II, VIII, X, XI и XII отдельными частями (полутомами), в результате чего размер издания увеличился до 21 книги. В Свод были включены новейшие кодификационные акты — Уложение о наказаниях (1845) и свод уставов счетных (1848). Алфавитный указатель к Своду был утвержден сенатским указом от 31 января 1861 года[144][145][146][136][147].
20 апреля 1858 года граф Блудов представил Его Величеству доклад о необходимости подготовки продолжений к Своду, поскольку печатание третьего издания заняло более полутора лет, и первые его тома уже не содержали узаконений, изданных в конце 1856 — начале 1858 годов. Первое Продолжение Свода 1857 года вышло в 1858 году. В издании третьего и четвёртого Продолжений были допущены определенные нововведения: именным указом от 11 марта 1859 года в целях более оперативного распространения официальных сведений об изменении и отмене статей Свода было постановлено, чтобы очередное Продолжение издавалось каждые три месяца, с объединением в конце года четырёх выпусков в полное Продолжение Свода за год; однако начиная с пятого Продолжения Второе отделение отошло от этой практики, и уже очередное Продолжение 1868 года вышло спустя целых четыре года после предыдущего. Помимо очередных при Александре II были опубликованы Сводные Продолжения — в 1863 году (законы с 1857 года по 31 марта 1863 года) и в 1876 году (законы с 1857 года по 1 января 1876 года)[148][149][150][151].
Издание 1857 года стало последним полным единовременным переизданием Свода законов: после 1857 года публиковались только продолжения и неполные издания — отдельных томов, а также отдельных уставов и учреждений, входивших в их состав. Свод постепенно перестал быть исключительным источником публикации нормативных актов: с 1 января 1863 года стало выходить периодическое Собрание узаконений и распоряжений правительства, а с конца XIX века начали появляться полные неофициальные издания Свода[152][153][154].
Неполное издание 1876 года

 Наиболее крупным из неполных изданий Свода, вышедших при Александре II, стало издание 1876 года, подготовленное под руководством последнего главноуправляющего Вторым отделением С. Н. Урусова и обнародованное указом Сената от 14 февраля 1878 года. В него вошли тома I (часть 2), II (части 1 и 2), III—V, VIII (часть 1), IX, X (часть 2), XII (часть 1), XIV и XV (часть 2), то есть более трети всего Свода[155][156].
Наиболее крупным из неполных изданий Свода, вышедших при Александре II, стало издание 1876 года, подготовленное под руководством последнего главноуправляющего Вторым отделением С. Н. Урусова и обнародованное указом Сената от 14 февраля 1878 года. В него вошли тома I (часть 2), II (части 1 и 2), III—V, VIII (часть 1), IX, X (часть 2), XII (часть 1), XIV и XV (часть 2), то есть более трети всего Свода[155][156].
Издание 1876 года включило большую часть законодательства, изданного в ходе Великих реформ. В частности, Земское положение 1864 года, Городовое положение 1870 года и Общее учреждение общественного управления сельских обывателей были включены в часть 1 тома II под заглавием «Учреждения Общественные»; в эту же часть было включено Учреждение судебных установлений от 20 ноября 1864 года. Из тома III был исключен и перенесен в состав законов о состояниях (том IX) устав о службе по выборам, регулировавший в том числе дворянские выборы. В томе IV устав о рекрутской повинности был заменен уставом о воинской повинности 1874 года. Входивший в состав части 1 тома VIII устав лесной был значительно сокращен посредством исключения из него множества правил, изданных ещё Петром I и утративших своё значение[157][158].
При издании тома IX, посвященного законам о состояниях, акты о крестьянской реформе с целью избежания их расчленения и размещения по различным разделам тома IX были выделены без изменения нумерации статей в особое приложение к тому — «Положения о сельском состоянии». Сюда были включены различные положения о крестьянах, изданные начиная с 19 февраля 1861 года, в том числе Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, Положение о выкупе крестьянами земельных угодий, Положение о губернских и уездных учреждениях по крестьянским делам, Положение о бывших государственных крестьянах. В нарушение общих правил издания Свода в состав этого приложения вошло много статей, утративших своё значение (они помещались с целью сохранения нумерации статей и связи между ними), и много статей, дублирующих друг друга (они помещались с целью сохранения полного состава положений, которые издавались в разное время)[159].
Помещение положений о крестьянах в особое приложение к тому IX делало излишним включение в том IX правил об устройстве сельских обществ и волостей в составе общего губернского учреждения. Наибольшему изменения подверглись раздел IV тома IX о сельских обывателях и раздел V об инородцах. Кроме того, Городовое положение 1870 года, отменив сословное начало в системе городского общественного управления, вызвало изменения в статьях раздела III о городских обывателях[160].
Судебные уставы от 20 ноября 1864 года, положившие начало новым судебным учреждениям и новому порядку судопроизводства, значительно повлияли на часть 2 тома X. В издании 1876 года в неё были включены две книги — новый Устав гражданского судопроизводства и законы о судопроизводстве и взысканиях гражданских; первая книга являлась дословным повторением соответствующих статей судебных уставов 1864 года, вторая книга представляла собой по сути прежнюю часть 2 тома X издания 1857 года с текущими изменениями. Изданный в 1864 году Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, а также пересмотренное в 1866 году Уложение о наказаниях уголовных и исправительных вызвали отмену и изменение значительного числа статей устава о предупреждении и пресечении преступлений (том XIV)[161].
Вследствие высочайшего повеления от 28 апреля 1877 года первая книга тома XV стала именоваться частью первой, а вторая книга тома XV — частью второй. В последнюю были включены Устав уголовного судопроизводства и законы о судопроизводстве по делам о преступлениях и проступках[162].
Свод законов Российской империи в последней трети XIX — начале XX веков
Образование Кодификационного отдела при Государственном совете. Издания Свода 1885—1893 годов

Новый монарх Александр III, вступивший на престол в 1881 году, принял решение передать дело систематизации законодательства, более полувека сосредоточенное в канцелярии Его Величества, в Государственный совет. Формально это преобразование объяснялось необходимостью сближения работ по кодификации с законодательной деятельностью Государственного совета, но наряду с этой причиной оно явилось частью реорганизации Собственной Его Императорского Величества канцелярии, начатой ещё в 1880 году с упразднением Третьего отделения. Указом от 23 января 1882 года Второе отделение было преобразовано в Кодификационный отдел при Государственном совете. Главноуправляющим новым кодификационным учреждением стал Е. П. Старицкий, впоследствии возглавивший также редакционную комиссию по составлению проекта Гражданского уложения, учрежденную в соответствии с высочайшим повелением от 12 и 26 мая 1882 года[163][164][165].
17 апреля 1883 года пост главноуправляющего Кодификационным отделом занял Э. В. Фриш, который незамедлительно внес в Государственный совет проект правил переиздания Свода законов, удостоенный высочайшего утверждения 5 ноября 1885 года. Правилами впервые со времен Сперанского было признано необходимым включить в структуру Свода новый том XVI, в который подлежали включению законы о судопроизводстве (статья 1). Были существенно ограничены полномочия кодификаторов — на них возлагалась задача лишь точного воспроизведения текста законов; менять оригинальную нумерацию статей актов, помещаемых в Свод, более не дозволялось (статья 2); в случае обнаружения пробелов в законодательном регулировании главноуправляющий Кодификационным отделом был обязан обратиться в Государственный совет с представлением о разъяснении или дополнении статей Свода (статья 11). Помимо законов включению в Свод подлежали акты монарха, изданные «в порядке верховного управления», и акты толкования (статья 7); включение таких актов в Свод не было обязательным и зависело от усмотрения главноуправляющего, что впоследствии подвергалось критике, поскольку отныне включение в Свод актов, чья юридическая сила уступала лишь законам за собственноручным подписанием монарха, зависело от чиновничьего распоряжения. Некоторые предписания имелись относительно актов, которые должны были исключаться из Свода в процессе кодификационной работы (статья 4); сюда относились акты, прямо не отмененные, но утратившие силу «по содержанию позднейших узаконений», акты по военным делам, не принадлежащие к общему законодательству, а также повторяющиеся нормы, если они не имели практического значения или не были законодательно утверждены[166][167][168].
В 1885—1893 годах Кодификационный отдел переиздал целый ряд томов Свода, в частности, в 1885 году — часть 1 тома XV, в 1890 году — том XIV, в 1892 году — тома I, II, VI, XIII и новый том XVI, в 1893 году — тома V, VII, часть 1 тома VIII, часть 2 тома X, часть 2 тома XI, а также отдельные уставы и положения, входившие в состав томов. В Свод были включены реформированное Уложение о наказаниях, таможенный устав 1892 года, акты о денежной системе 1885 года, новая редакция устава общественного призрения и другие новейшие узаконения. В том I впервые были включены учреждения о Военном и Морском министерствах[169][170].
Наиболее заметной кодификационной работой стал том XVI в двух частях, в которых были сосредоточены все действовавшие в Российской империи правила о судоустройстве и судопроизводстве, в том числе судебные уставы Александра II, Положение о нотариальной части, а также процессуальные законы, действовавшие только в некоторых губерниях и замененные судебными уставами 1864 года лишь к началу XX века. В результате включения в том XVI законов, ранее составлявших содержание части 2 тома X (гражданское судопроизводство) и части 2 тома XV (уголовное судопроизводство), была изменена структура других томов: часть 3 тома X (межевые законы) стала именоваться частью 2, том XV перестал делиться на части[171][172].
Образование Отделения Свода законов Государственной канцелярии
Указом от 18 сентября 1893 года Александр III, ссылаясь на осуществленное переиздание большей части Свода законов и на необходимость «полного объединения кодификационной и законодательной частей в ведомстве Государственного Совета», упразднил должность главноуправляющего Кодификационным отделом, передав последний в состав Государственной канцелярии, которую незадолго до этого возглавил Н. В. Муравьёв. 27 декабря 1893 года Государственный совет постановил упразднить Кодификационный отдел с 1 января 1894 года, взамен образовав Отделение Свода законов в составе Государственной Канцелярии. Помимо издания Свода на Отделение Свода законов было возложено делопроизводство по вопросам, возникавшим при подготовке новых изданий томов Свода и вносимых государственным секретарем на рассмотрение Государственного совета, а также проверка и составление справок по поступившим на рассмотрение Государственного совета законодательным предложениям[173][164].
Новая реорганизация вызвала неоднозначное отношение у современников. П. М. Майков, автор крупного труда по истории Второго отделения, опубликованного в 1906 году, упоминал в своей работе слухи, согласно которым решение о подчинении кодификационного учреждения Государственной канцелярии было принято в результате интриг государственного секретаря Н. В. Муравьёва, поскольку это увеличивало влияние и значение возглавляемого им ведомства, а также дало ему возможность распоряжаться комфортабельным зданием Кодификационного отдела, в котором он впоследствии и обосновался. Одновременно реорганизация отрицательно сказалась на статусе кодификационного учреждения. Если главноуправляющий Кодификационным отделом, являвшийся также членом Департамента законов Государственного совета, имел право участвовать в законодательных делах Государственного совета и в заседаниях Комитета министров с правом голоса, а также мог подавать всеподданнейшие доклады императору, что в целом соответствовало правам министра, то управляющий Отделением Свода законов был лишь подчиненным государственного секретаря, и его замечания и соображения могли быть представлены в Государственный совет только по усмотрению и через посредство государственного секретаря. Составители исторического очерка об устройстве кодификационной части, опубликованного в 1917 году, сетовали, что присоединение Кодификационного отдела к Государственной канцелярии «принизило дело кодификации как бы до уровня работ, производимых в условиях дел канцелярского свойства»[174][164][175].
В то же время понижение ранга кодификационного учреждения неизбежно следовало из общей логики развития государственного аппарата Российской империи: если раньше в силу необходимости скорейшего проведения систематизации законодательства ею занимались по сути чрезвычайные учреждения в ведении императора, то теперь кодификация как вполне отлаженный механизм стала профессиональной бюрократической практикой, не предполагавшей непосредственного участия монарха или Государственного совета. Передача Кодификационного отдела в состав Государственной канцелярии не вызвала существенных кадровых изменений; более того, штаты Отделения Свода законов были увеличены по сравнению с Кодификационным отделом. К работе в Отделении привлекались крупные правоведы — Н. А. Неклюдов, К. И. Малышев, Н. Д. Сергеевский (управляющий Отделением Свода законов в 1896—1904 годах), Н. М. Коркунов, А. Л. Боровиковский, А. Э. Нольде и др.[176].
Деятельность Отделения Свода законов. Сводное Продолжение 1906 года
Переходные законы должны были бы составить мост, по которому Россию хотели вести из старого здания в новое, широкое здание государственности. Это намерение оставлено, и мост разрушен. Но от моста остались обломки, которые беспорядочной кучей своей резали глаза. И вот господа кодификаторы подошли тихо и бесшумно, подобрали эти обломки и разместили их по кладовым и глубоким тайникам свода законов, где они еле-еле заметны. Благодаря этому стало опять тихо, чинно и благополучно в такой же мере, как это было до 1904 г.
В 1896 году Отделение Свода законов переиздало том III и часть 1 тома XI Свода. В 1899 году была завершена работа над новой редакцией устава о земских повинностях (том IV), не переиздававшегося с 1857 года. В начале 1900 года Отделение закончило начатую ещё Кодификационным отделом новую редакцию законов о состояниях (том IX), в 1901 году были переизданы законы гражданские (часть 1 тома X). В Свод были включены новые законодательные акты — закрепивший основы денежной реформы С. Ю. Витте монетный устав 1899 года, Учреждение Государственного совета 1901 года, вексельный устав 1902 года. В 1902 году было переиздано особое приложение к тому IX («Положения о сельском состоянии»), в 1903 году — торговый устав и устав торгового судопроизводства и др. В 1895 и 1902 годах Отделение Свода законов подготовило Сводные Продолжения[178][179][180].
Одной из наиболее примечательных кодификационных работ Отделения Свода законов явилось Сводное Продолжение 1906 года из пяти частей, утвержденное высочайшим повелением от 17 марта 1907 года и ставшее наиболее объемным из всех когда-либо издававшихся Продолжений (свыше 4 тысяч страниц). В него были включены изменения российского законодательства, вызванные начавшейся конституционной реформой — изданием Основных государственных законов 1906 года, учреждением Государственной думы и Совета министров и др. Новое Сводное Продолжение должно было, с одной стороны, подвести итог развитию прежнего законодательства, изданного без участия Государственной думы, с другой — включить в систему Свода правовые акты о новых политических и общественных институтах. Данная задача осложнялась тем, что последние являлись документами противоположного свойства: либеральные законы о печати, свободе собраний и союзов дополнялись карательными мерами, пресекающими революционные выступления[181][182].
Для кодификации законов 1905—1906 годов Отделение избрало форму примечаний: новое регулирование того или иного вопроса приводилось в примечании к соответствующей статье или статьям Свода. Приложения и примечания использовались начиная с первого издания Свода, но раньше они содержали лишь пояснения или вспомогательные материалы. На этот раз кодификаторы отказались от обычного пути согласования прежних правил с новыми, вместо этого приводя последние целиком. Так, например, Временные правила об университетской автономии от 27 августа 1905 года были помещены в примечание к статье 399 устава о высших учебных заведениях 1884 года (том XI Свода)[183].
Кроме того, в старом законодательстве часто не была предусмотрена сама возможность новых либеральных законов. В силу этого неизвестные прежнему отечественному праву свободы были кодифицированы в достаточно неожиданных местах. В частности, Временные правила о собраниях от 4 марта 1906 года были помещены в приложение к статье 115 устава о предупреждении и пресечении преступлений (том XIV); данная статья заканчивала главу «О запрещенных сходбищах и набатных тревогах», которая из всех глав устава оказалась тематически наиболее близкой институту свободы собраний. Временные правила об обществах и союзах были помещены частично в приложение 1 к статье 118 устава о предупреждении и пресечении преступлений (она являлась заключительной в главе «О незаконных и тайных обществах»), а в части, касавшейся профессиональных обществ рабочих и предпринимателей, — в приложение к статье 11 устава о промышленности (том XI)[184].
В спорных вопросах кодификаторы занимали традиционно консервативную позицию, основанную на том, что прежнее законодательство продолжает действовать, если новыми актами прямо не постановлено иное. В частности, спорный вопрос о том, отменена ли цензура сочинений духовного характера Святейшим Синодом в связи с отменой светской и церковной цензуры для периодических изданий, в Продолжении был разрешен в пользу сохранения цензурных обязанностей за духовно-цензурными комитетами. В совокупности с техникой включения законов о либеральных правах и свободах в примечания к статьям Свода вместо основного текста подобный подход подвергся критике юристов либерального лагеря, например, И. В. Гессена, который увидел в Продолжении 1906 года противодействие установлению норм нового порядка[185][186].
Кодификационные учреждения и Свод законов после 1906 года

 В 1908, 1909 и 1910 годах вышли очередные Продолжения Свода (в составе Продолжения 1909 года были опубликованы введенные в действие статьи Уголовного уложения 1903 года). В 1914 году были переизданы Свод законов гражданских (часть 1 тома X) и судебные уставы (часть 1 тома XVI), в 1915 году — Учреждение Правительствующего Сената (часть 2 тома I), Земское положение (том II), устав о воинской повинности (том IV), устав об общественном призрении (том XIII), в 1916 году — положение о казенных подрядах и поставках (часть 1 тома X), устав благочиния и безопасности, заменивший прежний устав о предупреждении и пресечении преступлений (том XIV) и др. В 1912 году вышло новое Сводное Продолжение. В 1916 году Отделение Свода законов успело подготовить последний опубликованный том Полного собрания законов Российской империи, включивший узаконения за 1913 год[187][188][189].
В 1908, 1909 и 1910 годах вышли очередные Продолжения Свода (в составе Продолжения 1909 года были опубликованы введенные в действие статьи Уголовного уложения 1903 года). В 1914 году были переизданы Свод законов гражданских (часть 1 тома X) и судебные уставы (часть 1 тома XVI), в 1915 году — Учреждение Правительствующего Сената (часть 2 тома I), Земское положение (том II), устав о воинской повинности (том IV), устав об общественном призрении (том XIII), в 1916 году — положение о казенных подрядах и поставках (часть 1 тома X), устав благочиния и безопасности, заменивший прежний устав о предупреждении и пресечении преступлений (том XIV) и др. В 1912 году вышло новое Сводное Продолжение. В 1916 году Отделение Свода законов успело подготовить последний опубликованный том Полного собрания законов Российской империи, включивший узаконения за 1913 год[187][188][189].
После падения самодержавия в феврале 1917 года функции Государственной канцелярии были значительно сужены, поскольку законодательная деятельность Государственного совета, которую обеспечивала канцелярия, была прекращена. Однако Временное правительство признало необходимым продолжение деятельности Отделения Свода законов, входившего в состав Государственной канцелярии. На этом настаивали и сами редакторы Свода, обращавшие внимание на то, что в условиях коренной ломки общественных отношений систематизация законодательства является необходимой более, чем когда бы то ни было. Уже в марте 1917 года начались совещания сотрудников Отделения по вопросу о согласовании отдельных постановлений новой власти со статьями Свода законов, готовился к печати первый выпуск сборника указов и постановлений Временного правительства. Летом 1917 года Отделение издало книгу четвертую части 2 тома I Свода — Учреждение Правительствующего Сената; на титульном листе содержалось указание просто на «Свод законов», без упоминания Российской империи[190][191][164].
По поручению канцелярии Временного правительства был составлено предложение о передаче Отделения Свода законов в состав Правительствующего Сената. Авторы предложения указывали на непосредственную связь кодификации с основными функциями Сената — толкованием, обнародованием и контролем исполнения законов. Постановлением Временного правительства от 19 сентября 1917 года Отделение Свода законов Государственной канцелярии было преобразовано в Кодификационный отдел при Правительствующем Сенате. К предметам ведения нового учреждения были отнесены разработка и издание Свода законов, Продолжений Свода законов, Полного собрания законов, а также предварительная разработка законодательных предположений, возникающих при подготовке новых изданий или Продолжений Свода, которые нельзя разрешить в кодификационном порядке. 16 октября на должность управляющего Кодификационным отделом был назначен М. И. Неклюдов. На совещаниях редакторов Свода был утвержден план работ по переизданию отдельных частей Свода и составлению Продолжений 1916 и 1917 годов[192][193].
Однако Кодификационный отдел так и не смог приступить к практической реализации своих задач и планов. В результате Октябрьской революции Временное правительство было свергнуто и его сменил Совет народных комиссаров, декретом от 14 декабря 1917 года передавший Кодификационный отдел Сената в ведение Наркомата юстиции. В составе последнего был образован Отдел законодательных предположений и кодификации, сотрудники которого стали работать уже над законами советской власти[194][195].
Свод законов продолжил своё действие в течение первого года существования социалистического строя: новое правительство было вынуждено санкционировать применение норм старого права, поскольку не все отношения были урегулированы актами советских органов. В соответствии с Декретом о суде № 1, принятым Совнаркомом 22 ноября 1917 года, местные суды должны были руководствоваться в своих решениях дореволюционными законами лишь постольку, поскольку «таковые не отменены революцией и не противоречат революционной совести и революционному правосознанию» (статья 5). Декретом о суде № 2 от 15 февраля 1918 года было установлено, что судопроизводство осуществляется по правилам судебных уставов 1864 года постольку, поскольку таковые не отменены декретами ВЦИК и СНК и «не противоречат правосознанию трудящихся классов» (статья 8); в статье 36 Декрета дополнительно устанавливалось, что суд руководствуется гражданскими и уголовными законами, прямо не отмененными декретами советской власти и не противоречащими «социалистическому правосознанию». Помимо судов отдельные части Свода законов применялись в качестве действующего источника права и другими государственными учреждениями. В частности, постановлением СНК о восьмичасовом рабочем дне были внесены изменения в устав о промышленности (часть 2 тома XI Свода), а постановлением Наркомата почт и телеграфов от 23 августа 1918 года была изложена в новой редакции одна из статей устава почтового (том XII)[196][197]
Лишь 30 ноября 1918 года ВЦИК принял Положение о народном суде РСФСР, примечание к статье 22 которого отныне запрещало ссылаться в приговорах и решениях на «законы свергнутых правительств». С этого момента Свод законов перестал действовать на территории Советской России. До окончания Гражданской войны Свод применялся на территориях, контролируемых белогвардейскими правительствами (так, например, Особая следственная комиссия по расследованию злодеяний большевиков, работавшая на белом Юге, в своей деятельности руководствовалась Уставом уголовного судопроизводства, входившим в состав тома XVI)[196][198].
Напишите отзыв о статье "Свод законов Российской империи"
Примечания
- ↑ Томсинов, 2006, с. IX—X.
- ↑ Латкин, 1909, с. 40.
- ↑ Томсинов, 2006, с. X—XII.
- ↑ Латкин, 1909, с. 40—42.
- ↑ Томсинов, 2006, с. XII—XIII.
- ↑ Латкин, 1909, с. 42—43.
- ↑ Томсинов, 2006, с. XIII—XV.
- ↑ Латкин, 1909, с. 43—46.
- ↑ Томсинов, 2006, с. XV—XVI.
- ↑ Латкин, 1909, с. 49.
- ↑ Томсинов, 2006, с. XVI—XVII.
- ↑ Латкин, 1909, с. 49—50.
- ↑ Томсинов, 2006, с. XVII—XXIII.
- ↑ Латкин, 1909, с. 50.
- ↑ Томсинов, 2006, с. XXIV—XXV.
- ↑ Томсинов, 2006, с. XXV—XXVIII.
- ↑ Томсинов, 2006, с. XXVIII—XXIX.
- ↑ Латкин, 1909, с. 66.
- ↑ 1 2 Томсинов, 2006, с. XXIX.
- ↑ Латкин, 1909, с. 75—81.
- ↑ Латкин, 1909, с. 82—83.
- ↑ Лаппо-Данилевский А. С. Собрание и Свод законов Российской империи, составленные в царствование императрицы Екатерины II. — СПб., 1897. — С. 94—109.
- ↑ Майков, 1906, с. 7—10.
- ↑ Латкин, 1909, с. 95—97.
- ↑ Майков, 1906, с. 13—17.
- ↑ Сперанский, 1889, с. 10.
- ↑ Майков, 1906, с. 17—25.
- ↑ Майков, 1906, с. 30—32.
- ↑ Труды Комиссии составления законов. — 2-е изд. — СПб., 1822. — Т. I. — С. 49—74.
- ↑ Сидорчук, 1983, с. 33—36.
- ↑ Майков, 1906, с. 50—56.
- ↑ Майков, 1906, с. 59—79.
- ↑ Майков, 1906, с. 99—113.
- ↑ Томсинов, 2011, с. 237.
- ↑ Сидорчук, 1983, с. 75—77.
- ↑ Майков, 2006, с. 3.
- ↑ Сидорчук, 1983, с. 88—90.
- ↑ Нефедьев, 1889, с. 6—7.
- ↑ Майков, 1906, с. 140.
- ↑ Майков, 1906, с. 140—142.
- ↑ Сидорчук, 1983, с. 82.
- ↑ Томсинов, 2011, с. 243.
- ↑ Томсинов, 2011, с. 244—246.
- ↑ Майков, 1906, с. 149—150.
- ↑ Сидорчук, 1983, с. 100.
- ↑ Сперанский, 1889, с. 38—39.
- ↑ Сидорчук, 1983, с. 100—101.
- ↑ Сперанский, 1889, с. 40—41.
- ↑ Сидорчук, 1983, с. 105.
- ↑ Томсинов, 2011, с. 246.
- ↑ Майков, 2006, с. 9.
- ↑ Майков, 2006, с. 6—8.
- ↑ Томсинов, 2011, с. 248—253.
- ↑ Майков, 2006, с. 6.
- ↑ Сидорчук, 1983, с. 106.
- ↑ Майков, 2006, с. 36.
- ↑ Майков, 1906, с. 168.
- ↑ Сперанский, 1889, с. 29—30.
- ↑ Томсинов, 2011, с. 258—259.
- ↑ Сперанский, 1889, с. 30.
- ↑ Майков, 2006, с. 40.
- ↑ Сидорчук, 1983, с. 120.
- ↑ Блосфельдт, 2006, с. 9—10.
- ↑ Майков, 2006, с. 40—41.
- ↑ Майков, 2006, с. 41—42.
- ↑ Корф М. А. Жизнь графа Сперанского. — СПб., 1861. — Т. 2. — С. 310—320.
- ↑ Сидорчук, 1983, с. 108.
- ↑ Блосфельдт, 2006, с. 15—17.
- ↑ Бычков А. Ф. К L-ти летию II-го Отделения // Русская Старина. — 1876. — Т. XV. — С. 432.
- ↑ Майков, 1906, с. 172—175.
- ↑ Блосфельдт, 2006, с. 13.
- ↑ 1 2 Майков, 1906, с. 181—183.
- ↑ Блосфельдт, 2006, с. 15—19.
- ↑ Блосфельдт, 2006, с. 19.
- ↑ Майков, 2006, с. 44—45.
- ↑ Блосфельдт, 2006, с. 19—21.
- ↑ Майков, 2006, с. 45.
- ↑ 1 2 Майков, 1906, с. 185.
- ↑ Кодан, 2004, с. 271.
- ↑ Блосфельдт, 2006, с. 31—39.
- ↑ Майков, 2006, с. 46—48.
- ↑ Блосфельдт, 2006, с. 47—48.
- ↑ Блосфельдт, 2006, с. 33.
- ↑ Законы гражданские: Практический и теоретический комментарий. Выпуск I / Под ред. А. Э. Вормса и В. Б. Ельяшевича. — М., 1913. — С. 7.
- ↑ Майков, 1906, с. 190—191.
- ↑ 1 2 Блосфельдт, 2006, с. 34.
- ↑ Майков, 1906, с. 191—192.
- ↑ Майков, 2006, с. 45—50.
- ↑ Блосфельдт, 2006, с. 118—119.
- ↑ Сидорчук, 1983, с. 126.
- ↑ Латкин, 1909, с. 112—113.
- ↑ Латкин, 1909, с. 113.
- ↑ Филиппов, 1907, с. 552.
- ↑ Сидорчук, 1983, с. 123—126.
- ↑ Сидорчук, 1983, с. 124.
- ↑ Сперанский, 1889, с. 46.
- ↑ Майков, 2006, с. 60—93.
- ↑ Лазаревский, 1913, с. 620.
- ↑ Сидорчук, 1983, с. 170—171.
- ↑ Кодан, 2004, с. 272.
- ↑ Шимановский, 1889, с. 59.
- ↑ Ружицкая, 2011, с. 323—324.
- ↑ Борисова, 2005, с. 82—83.
- ↑ Сидорчук, 1983, с. 171.
- ↑ Сидорчук, 1983, с. 171—172.
- ↑ Сидорчук, 1983, с. 172—175.
- ↑ Борисова, 2005, с. 81—82.
- ↑ Шершеневич, 1911, с. 438.
- ↑ Сидорчук, 1983, с. 162—176.
- ↑ Сидорчук, 1983, с. 166—167.
- ↑ Майков, 2006, с. 56—57.
- ↑ Сидорчук, 1983, с. 163—165.
- ↑ Змирлов К. П. О недостатках наших гражданских законов // Журнал гражданского и уголовного права. — 1882 (кн. 8, 9); 1883 (кн. 1—3, 5—10); 1884 (кн. 1, 5, 6); 1885 (кн. 3, 4, 6, 7, 8, 10); 1886 (кн. 2, 5, 8); 1887 (кн. 9).
- ↑ Сидорчук, 1983, с. 167—168.
- ↑ Градовский, 1874, с. 9.
- ↑ Бабичев, 1865, с. 222.
- ↑ Сидорчук, 1983, с. 162—177.
- ↑ Шершеневич, 1911, с. 434—438.
- ↑ Сыромятников, 1913, с. 96.
- ↑ Каминка А. И. Новые издания Свода законов. — Право. Еженедельная юридическая газета. — 1908. — № 1—52. — Стб. 547—548.</span>
- ↑ Блосфельдт, 2006, с. 110.
- ↑ Майков, 1906, с. 192—195.
- ↑ Майков, 1906, с. 193—197.
- ↑ Майков, 1906, с. 197—201.
- ↑ Майков, 1906, с. 197—202.
- ↑ Майков, 2006, с. 124.
- ↑ Блосфельдт, 2006, с. 166—187.
- ↑ Майков, 2006, с. 95.
- ↑ Майков, 2006, с. 95—97.
- ↑ Блосфельдт, 2006, с. 200.
- ↑ Майков, 2006, с. 97—98.
- ↑ Блосфельдт, 2006, с. 200—203.
- ↑ Майков, 2006, с. 104—110.
- ↑ Корево, 1900, с. 8—10.
- ↑ Блосфельдт, 2006, с. 193—195.
- ↑ 1 2 Законы гражданские: Практический и теоретический комментарий. Выпуск I / Под ред. А. Э. Вормса и В. Б. Ельяшевича. — М., 1913. — С. 5.
- ↑ Томсинов В. А. Проблема юридического значения Свода законов в русской юриспруденции // Блосфельдт Г. Э. «Законная сила» Свода законов в свете архивных данных. — М., 2006. — С. XXIII. — (Русское юридическое наследие).
- ↑ Майков, 2006, с. 111—127.
- ↑ Блосфельдт, 2006, с. 197.
- ↑ Корево, 1900, с. 10—11.
- ↑ Майков, 2006, с. 110.
- ↑ Майков, 2006, с. 117—119.
- ↑ Майков, 2006, с. 120.
- ↑ Майков, 2006, с. 113—120.
- ↑ Майков, 1906, с. 381.
- ↑ Блосфельдт, 2006, с. 217.
- ↑ Корево, 1900, с. 17.
- ↑ Майков, 2006, с. 128.
- ↑ Корево, 1900, с. 18.
- ↑ Корево, 1907, с. 65—66.
- ↑ Загоскин, 1891, с. 163.
- ↑ Корево, 1900, с. 19.
- ↑ Блосфельдт, 2006, с. 220.
- ↑ Свод законов Российской империи // Советская историческая энциклопедия : в 16 т. / под ред. Е. М. Жукова. — М. : Советская энциклопедия, 1969. — Т. 12 : Репарации — Славяне. — Стб. 609.</span>
- ↑ Загоскин, 1891, с. 162.
- ↑ Блосфельдт, 2006, с. 237.
- ↑ Майков, 2006, с. 140—151.
- ↑ Корево, 1900, с. 31—32.
- ↑ Майков, 2006, с. 153—154.
- ↑ Майков, 2006, с. 154—155.
- ↑ Майков, 2006, с. 158—176.
- ↑ Корево, 1900, с. 32—33.
- ↑ Майков, 1906, с. 582—593.
- ↑ 1 2 3 4 Раскин Д. И. [www.rusnauka.com/32_PRNT_2013/Pravo/1_148512.doc.htm Кодификация российского законодательства в системе высших государственных учреждений Российской империи (1882—1917 гг.)]. Education and Science.
- ↑ Уложение гражданское // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- ↑ Майков, 1906, с. 604—607.
- ↑ Юртаева, 1998, с. 144—145.
- ↑ Жолобова, 2003, с. 156—157.
- ↑ Корево, 1900, с. 39—47.
- ↑ Майков, 2006, с. 149—172.
- ↑ Майков, 2006, с. 179—181.
- ↑ Корево, 1900, с. 46.
- ↑ Майков, 1906, с. 610—611.
- ↑ Майков, 1906, с. 611—615.
- ↑ Борисова, 2005, с. 102.
- ↑ Борисова, 2005, с. 103—110.
- ↑ Гессен, 1910, с. 495.
- ↑ Корево, 1900, с. 49—50.
- ↑ Майков, 2006, с. 188.
- ↑ Корево, 1907, с. 8—71.
- ↑ Борисова, 2005, с. 125—126.
- ↑ Блосфельдт, 1907, с. 177.
- ↑ Борисова, 2005, с. 126—128.
- ↑ Борисова, 2005, с. 128—130.
- ↑ Борисова, 2005, с. 132—133.
- ↑ Блосфельдт, 1907, с. 182.
- ↑ Корево, 1912, с. 2—8.
- ↑ Корево, 1917, с. 6—12.
- ↑ Борисова, 2005, с. 131.
- ↑ Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801—1917 гг. — СПб., 1998. — Т. 1. — С. 29.
- ↑ Борисова, 2005, с. 193—196.
- ↑ Борисова, 2005, с. 196—200.
- ↑ Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801—1917 гг. — СПб., 1998. — Т. 1. — С. 29—124.
- ↑ Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801—1917 гг. — СПб., 1998. — Т. 1. — С. 124.
- ↑ [istmat.info/node/28122 Об отмене прежнего деления Комиссариата Юстиции на департаменты и об установлении нового деления] // Газета Временного Рабочего и Крестьянского Правительства. — 1917. — № 33.
- ↑ 1 2 Новицкая Т. Е. Использование дооктябрьских норм права в первый год Советской власти // Правоведение. — 1983. — № 3. — С. 48—54.
- ↑ [istmat.info/node/31040 Постановление Народного комиссариата почт и телеграфов от 23 августа 1918 года] // Известия ВЦИК. — 1918. — № 181.
- ↑ Красный террор в годы Гражданской войны / Под ред. Ю. Г. Фельштинского и Г. И. Чернявского. — М., 2004. — С. 18.
</ol>
Литература
- Бабичев А. К. О редакционном исправлении Свода законов // Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских. — 1865. — Т. 4. — С. 222—241.
- Блосфельдт Г. Э. «Законная сила» Свода законов в свете архивных данных. — М., 2006. — (Русское юридическое наследие).
- Борисова Т. Ю. Свод законов Российской империи в 1905—1917 гг.: идейно-политическая борьба вокруг кодификации. Дис. … канд. ист. наук. — СПб., 2005.
- Г. Б. (Блосфельдт Г. Э.) Продолжение Свода законов Российской империи 1906 года // Журнал Министерства юстиции. — 1907. — № 4. — С. 174—185.
- Гессен И. В. Обновленный строй и кодификация // Труды Юридического общества при Императорском Санкт-Петербургском университете. — СПб., 1910. — Т. I. — С. 480—495.
- Градовский А. Д. Закон и административное распоряжение по русскому праву. — СПб., 1874.
- Жолобова Г. А. Своду законов Российской империи — 170 лет (к вопросу о юридической силе и значении) // Журнал российского права. — 2003. — № 6. — С. 149—157.
- Кодан С. В. Юридическая политика российского государства. 1800—1850-е гг. Дис. … докт. юрид. наук. — Екатеринбург, 2004.
- Коркунов Н. М. Значение Свода законов // Журнал Министерства народного просвещения. — 1894. — № 9. — С. 95—117.
- Лазаревский Н. И. Русское государственное право. — 3-е изд. — СПб., 1913. — Т. I.
- Латкин В. Н. Лекции по внешней истории русского права. — СПб., 1890.
- Латкин В. Н. Учебник истории русского права периода империи (XVIII и XIX ст.). — 2-е изд. — СПб., 1909.
- Майков П. М. Второе отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии. — СПб., 1906.
- Майков П. М. О Своде законов Российской империи. — М., 2006. — (Русское юридическое наследие).
- Наука истории русского права / Сост. Н. П. Загоскин. — Казань, 1891.
- Нефедьев Е. А. Причины и цель издания Полного собрания и Свода законов с точки зрения Сперанского. — Казань, 1889.
- Об изданиях законов Российской империи. 1830—1899 / Сост. Н. Корево. — СПб., 1900.
- Об изданиях законов Российской империи. 1830—1906 / Сост. Н. Корево. — СПб., 1907.
- Об изданиях законов Российской империи. 1830—1911 / Сост. Н. Корево. — СПб., 1912.
- Об изданиях законов Российской империи. 1830—1917 / Сост. Н. Корево. — Пг., 1917.
- Пахарнаев А. И. Обзор действующего Свода законов Российской империи. — СПб., 1909.
- Ружицкая И. В. Законодательная деятельность в царствование императора Николая I. Дис. … докт. ист. наук. — М., 2011.
- Самоквасов Д. Я. Курс истории русского права. — 3-е изд. — М., 1908.
- Сидорчук М. В. Систематизация законодательства России в 1826—1832 гг. Дис. … канд. юрид. наук. — Л., 1983.
- Сперанский М. М. Обозрение исторических сведений о Своде законов. — Одесса, 1889.
- Сыромятников Б. И. Законодательство императора Николая I // Три века: Россия от смуты до нашего времени. Исторический сборник. — М., 1913. — Т. VI. — С. 65—96.
- Томсинов В. А. Предисловие // Майков П. М. О Своде законов Российской империи. — М., 2006. — С. VII—XXXI. — (Русское юридическое наследие).
- Томсинов В. А. Юридическое образование и юриспруденция в России в первой четверти XIX века. — М., 2011.
- Филиппов А. Н. Учебник истории русского права. — Юрьев, 1907.
- Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. Выпуск второй. — М., 1911.
- Шимановский М. В. О значении Свода законов Российской империи для науки и жизни. — Одесса, 1889.
- Юртаева Е. А. Исторический опыт создания Свода законов Российской империи // Журнал российского права. — 1998. — № 1. — С. 140—149.
Ссылки
- [www.runivers.ru/lib/book7372/ Свод законов Российской империи]. Руниверс. — Официальное издание 1857 года.
- [civil.consultant.ru/code/ Свод законов Российской империи]. КонсультантПлюс. — Неофициальное издание 1912 года под редакцией И. Д. Мордухай-Болтовского.
- [pravo.gov.ru/ips/svod Свод законов Российской империи]. Pravo.gov.ru. — Текст неофициального издания 1912 года под редакцией И. Д. Мордухай-Болтовского.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эта статья входит в число избранных статей русскоязычного раздела Википедии. |
| Это статья 2015 года русскоязычного раздела Википедии. |
Отрывок, характеризующий Свод законов Российской империи
– Получили, ваше величество.Наполеон кивнул головой и отошел от него.
В половине шестого Наполеон верхом ехал к деревне Шевардину.
Начинало светать, небо расчистило, только одна туча лежала на востоке. Покинутые костры догорали в слабом свете утра.
Вправо раздался густой одинокий пушечный выстрел, пронесся и замер среди общей тишины. Прошло несколько минут. Раздался второй, третий выстрел, заколебался воздух; четвертый, пятый раздались близко и торжественно где то справа.
Еще не отзвучали первые выстрелы, как раздались еще другие, еще и еще, сливаясь и перебивая один другой.
Наполеон подъехал со свитой к Шевардинскому редуту и слез с лошади. Игра началась.
Вернувшись от князя Андрея в Горки, Пьер, приказав берейтору приготовить лошадей и рано утром разбудить его, тотчас же заснул за перегородкой, в уголке, который Борис уступил ему.
Когда Пьер совсем очнулся на другое утро, в избе уже никого не было. Стекла дребезжали в маленьких окнах. Берейтор стоял, расталкивая его.
– Ваше сиятельство, ваше сиятельство, ваше сиятельство… – упорно, не глядя на Пьера и, видимо, потеряв надежду разбудить его, раскачивая его за плечо, приговаривал берейтор.
– Что? Началось? Пора? – заговорил Пьер, проснувшись.
– Изволите слышать пальбу, – сказал берейтор, отставной солдат, – уже все господа повышли, сами светлейшие давно проехали.
Пьер поспешно оделся и выбежал на крыльцо. На дворе было ясно, свежо, росисто и весело. Солнце, только что вырвавшись из за тучи, заслонявшей его, брызнуло до половины переломленными тучей лучами через крыши противоположной улицы, на покрытую росой пыль дороги, на стены домов, на окна забора и на лошадей Пьера, стоявших у избы. Гул пушек яснее слышался на дворе. По улице прорысил адъютант с казаком.
– Пора, граф, пора! – прокричал адъютант.
Приказав вести за собой лошадь, Пьер пошел по улице к кургану, с которого он вчера смотрел на поле сражения. На кургане этом была толпа военных, и слышался французский говор штабных, и виднелась седая голова Кутузова с его белой с красным околышем фуражкой и седым затылком, утонувшим в плечи. Кутузов смотрел в трубу вперед по большой дороге.
Войдя по ступенькам входа на курган, Пьер взглянул впереди себя и замер от восхищенья перед красотою зрелища. Это была та же панорама, которою он любовался вчера с этого кургана; но теперь вся эта местность была покрыта войсками и дымами выстрелов, и косые лучи яркого солнца, поднимавшегося сзади, левее Пьера, кидали на нее в чистом утреннем воздухе пронизывающий с золотым и розовым оттенком свет и темные, длинные тени. Дальние леса, заканчивающие панораму, точно высеченные из какого то драгоценного желто зеленого камня, виднелись своей изогнутой чертой вершин на горизонте, и между ними за Валуевым прорезывалась большая Смоленская дорога, вся покрытая войсками. Ближе блестели золотые поля и перелески. Везде – спереди, справа и слева – виднелись войска. Все это было оживленно, величественно и неожиданно; но то, что более всего поразило Пьера, – это был вид самого поля сражения, Бородина и лощины над Колочею по обеим сторонам ее.
Над Колочею, в Бородине и по обеим сторонам его, особенно влево, там, где в болотистых берегах Во йна впадает в Колочу, стоял тот туман, который тает, расплывается и просвечивает при выходе яркого солнца и волшебно окрашивает и очерчивает все виднеющееся сквозь него. К этому туману присоединялся дым выстрелов, и по этому туману и дыму везде блестели молнии утреннего света – то по воде, то по росе, то по штыкам войск, толпившихся по берегам и в Бородине. Сквозь туман этот виднелась белая церковь, кое где крыши изб Бородина, кое где сплошные массы солдат, кое где зеленые ящики, пушки. И все это двигалось или казалось движущимся, потому что туман и дым тянулись по всему этому пространству. Как в этой местности низов около Бородина, покрытых туманом, так и вне его, выше и особенно левее по всей линии, по лесам, по полям, в низах, на вершинах возвышений, зарождались беспрестанно сами собой, из ничего, пушечные, то одинокие, то гуртовые, то редкие, то частые клубы дымов, которые, распухая, разрастаясь, клубясь, сливаясь, виднелись по всему этому пространству.
Эти дымы выстрелов и, странно сказать, звуки их производили главную красоту зрелища.
Пуфф! – вдруг виднелся круглый, плотный, играющий лиловым, серым и молочно белым цветами дым, и бумм! – раздавался через секунду звук этого дыма.
«Пуф пуф» – поднимались два дыма, толкаясь и сливаясь; и «бум бум» – подтверждали звуки то, что видел глаз.
Пьер оглядывался на первый дым, который он оставил округлым плотным мячиком, и уже на месте его были шары дыма, тянущегося в сторону, и пуф… (с остановкой) пуф пуф – зарождались еще три, еще четыре, и на каждый, с теми же расстановками, бум… бум бум бум – отвечали красивые, твердые, верные звуки. Казалось то, что дымы эти бежали, то, что они стояли, и мимо них бежали леса, поля и блестящие штыки. С левой стороны, по полям и кустам, беспрестанно зарождались эти большие дымы с своими торжественными отголосками, и ближе еще, по низам и лесам, вспыхивали маленькие, не успевавшие округляться дымки ружей и точно так же давали свои маленькие отголоски. Трах та та тах – трещали ружья хотя и часто, но неправильно и бедно в сравнении с орудийными выстрелами.
Пьеру захотелось быть там, где были эти дымы, эти блестящие штыки и пушки, это движение, эти звуки. Он оглянулся на Кутузова и на его свиту, чтобы сверить свое впечатление с другими. Все точно так же, как и он, и, как ему казалось, с тем же чувством смотрели вперед, на поле сражения. На всех лицах светилась теперь та скрытая теплота (chaleur latente) чувства, которое Пьер замечал вчера и которое он понял совершенно после своего разговора с князем Андреем.
– Поезжай, голубчик, поезжай, Христос с тобой, – говорил Кутузов, не спуская глаз с поля сражения, генералу, стоявшему подле него.
Выслушав приказание, генерал этот прошел мимо Пьера, к сходу с кургана.
– К переправе! – холодно и строго сказал генерал в ответ на вопрос одного из штабных, куда он едет. «И я, и я», – подумал Пьер и пошел по направлению за генералом.
Генерал садился на лошадь, которую подал ему казак. Пьер подошел к своему берейтору, державшему лошадей. Спросив, которая посмирнее, Пьер взлез на лошадь, схватился за гриву, прижал каблуки вывернутых ног к животу лошади и, чувствуя, что очки его спадают и что он не в силах отвести рук от гривы и поводьев, поскакал за генералом, возбуждая улыбки штабных, с кургана смотревших на него.
Генерал, за которым скакал Пьер, спустившись под гору, круто повернул влево, и Пьер, потеряв его из вида, вскакал в ряды пехотных солдат, шедших впереди его. Он пытался выехать из них то вправо, то влево; но везде были солдаты, с одинаково озабоченными лицами, занятыми каким то невидным, но, очевидно, важным делом. Все с одинаково недовольно вопросительным взглядом смотрели на этого толстого человека в белой шляпе, неизвестно для чего топчущего их своею лошадью.
– Чего ездит посерёд батальона! – крикнул на него один. Другой толконул прикладом его лошадь, и Пьер, прижавшись к луке и едва удерживая шарахнувшуюся лошадь, выскакал вперед солдат, где было просторнее.
Впереди его был мост, а у моста, стреляя, стояли другие солдаты. Пьер подъехал к ним. Сам того не зная, Пьер заехал к мосту через Колочу, который был между Горками и Бородиным и который в первом действии сражения (заняв Бородино) атаковали французы. Пьер видел, что впереди его был мост и что с обеих сторон моста и на лугу, в тех рядах лежащего сена, которые он заметил вчера, в дыму что то делали солдаты; но, несмотря на неумолкающую стрельбу, происходившую в этом месте, он никак не думал, что тут то и было поле сражения. Он не слыхал звуков пуль, визжавших со всех сторон, и снарядов, перелетавших через него, не видал неприятеля, бывшего на той стороне реки, и долго не видал убитых и раненых, хотя многие падали недалеко от него. С улыбкой, не сходившей с его лица, он оглядывался вокруг себя.
– Что ездит этот перед линией? – опять крикнул на него кто то.
– Влево, вправо возьми, – кричали ему. Пьер взял вправо и неожиданно съехался с знакомым ему адъютантом генерала Раевского. Адъютант этот сердито взглянул на Пьера, очевидно, сбираясь тоже крикнуть на него, но, узнав его, кивнул ему головой.
– Вы как тут? – проговорил он и поскакал дальше.
Пьер, чувствуя себя не на своем месте и без дела, боясь опять помешать кому нибудь, поскакал за адъютантом.
– Это здесь, что же? Можно мне с вами? – спрашивал он.
– Сейчас, сейчас, – отвечал адъютант и, подскакав к толстому полковнику, стоявшему на лугу, что то передал ему и тогда уже обратился к Пьеру.
– Вы зачем сюда попали, граф? – сказал он ему с улыбкой. – Все любопытствуете?
– Да, да, – сказал Пьер. Но адъютант, повернув лошадь, ехал дальше.
– Здесь то слава богу, – сказал адъютант, – но на левом фланге у Багратиона ужасная жарня идет.
– Неужели? – спросил Пьер. – Это где же?
– Да вот поедемте со мной на курган, от нас видно. А у нас на батарее еще сносно, – сказал адъютант. – Что ж, едете?
– Да, я с вами, – сказал Пьер, глядя вокруг себя и отыскивая глазами своего берейтора. Тут только в первый раз Пьер увидал раненых, бредущих пешком и несомых на носилках. На том самом лужке с пахучими рядами сена, по которому он проезжал вчера, поперек рядов, неловко подвернув голову, неподвижно лежал один солдат с свалившимся кивером. – А этого отчего не подняли? – начал было Пьер; но, увидав строгое лицо адъютанта, оглянувшегося в ту же сторону, он замолчал.
Пьер не нашел своего берейтора и вместе с адъютантом низом поехал по лощине к кургану Раевского. Лошадь Пьера отставала от адъютанта и равномерно встряхивала его.
– Вы, видно, не привыкли верхом ездить, граф? – спросил адъютант.
– Нет, ничего, но что то она прыгает очень, – с недоуменьем сказал Пьер.
– Ээ!.. да она ранена, – сказал адъютант, – правая передняя, выше колена. Пуля, должно быть. Поздравляю, граф, – сказал он, – le bapteme de feu [крещение огнем].
Проехав в дыму по шестому корпусу, позади артиллерии, которая, выдвинутая вперед, стреляла, оглушая своими выстрелами, они приехали к небольшому лесу. В лесу было прохладно, тихо и пахло осенью. Пьер и адъютант слезли с лошадей и пешком вошли на гору.
– Здесь генерал? – спросил адъютант, подходя к кургану.
– Сейчас были, поехали сюда, – указывая вправо, отвечали ему.
Адъютант оглянулся на Пьера, как бы не зная, что ему теперь с ним делать.
– Не беспокойтесь, – сказал Пьер. – Я пойду на курган, можно?
– Да пойдите, оттуда все видно и не так опасно. А я заеду за вами.
Пьер пошел на батарею, и адъютант поехал дальше. Больше они не видались, и уже гораздо после Пьер узнал, что этому адъютанту в этот день оторвало руку.
Курган, на который вошел Пьер, был то знаменитое (потом известное у русских под именем курганной батареи, или батареи Раевского, а у французов под именем la grande redoute, la fatale redoute, la redoute du centre [большого редута, рокового редута, центрального редута] место, вокруг которого положены десятки тысяч людей и которое французы считали важнейшим пунктом позиции.
Редут этот состоял из кургана, на котором с трех сторон были выкопаны канавы. В окопанном канавами место стояли десять стрелявших пушек, высунутых в отверстие валов.
В линию с курганом стояли с обеих сторон пушки, тоже беспрестанно стрелявшие. Немного позади пушек стояли пехотные войска. Входя на этот курган, Пьер никак не думал, что это окопанное небольшими канавами место, на котором стояло и стреляло несколько пушек, было самое важное место в сражении.
Пьеру, напротив, казалось, что это место (именно потому, что он находился на нем) было одно из самых незначительных мест сражения.
Войдя на курган, Пьер сел в конце канавы, окружающей батарею, и с бессознательно радостной улыбкой смотрел на то, что делалось вокруг него. Изредка Пьер все с той же улыбкой вставал и, стараясь не помешать солдатам, заряжавшим и накатывавшим орудия, беспрестанно пробегавшим мимо него с сумками и зарядами, прохаживался по батарее. Пушки с этой батареи беспрестанно одна за другой стреляли, оглушая своими звуками и застилая всю окрестность пороховым дымом.
В противность той жуткости, которая чувствовалась между пехотными солдатами прикрытия, здесь, на батарее, где небольшое количество людей, занятых делом, бело ограничено, отделено от других канавой, – здесь чувствовалось одинаковое и общее всем, как бы семейное оживление.
Появление невоенной фигуры Пьера в белой шляпе сначала неприятно поразило этих людей. Солдаты, проходя мимо его, удивленно и даже испуганно косились на его фигуру. Старший артиллерийский офицер, высокий, с длинными ногами, рябой человек, как будто для того, чтобы посмотреть на действие крайнего орудия, подошел к Пьеру и любопытно посмотрел на него.
Молоденький круглолицый офицерик, еще совершенный ребенок, очевидно, только что выпущенный из корпуса, распоряжаясь весьма старательно порученными ему двумя пушками, строго обратился к Пьеру.
– Господин, позвольте вас попросить с дороги, – сказал он ему, – здесь нельзя.
Солдаты неодобрительно покачивали головами, глядя на Пьера. Но когда все убедились, что этот человек в белой шляпе не только не делал ничего дурного, но или смирно сидел на откосе вала, или с робкой улыбкой, учтиво сторонясь перед солдатами, прохаживался по батарее под выстрелами так же спокойно, как по бульвару, тогда понемногу чувство недоброжелательного недоуменья к нему стало переходить в ласковое и шутливое участие, подобное тому, которое солдаты имеют к своим животным: собакам, петухам, козлам и вообще животным, живущим при воинских командах. Солдаты эти сейчас же мысленно приняли Пьера в свою семью, присвоили себе и дали ему прозвище. «Наш барин» прозвали его и про него ласково смеялись между собой.
Одно ядро взрыло землю в двух шагах от Пьера. Он, обчищая взбрызнутую ядром землю с платья, с улыбкой оглянулся вокруг себя.
– И как это вы не боитесь, барин, право! – обратился к Пьеру краснорожий широкий солдат, оскаливая крепкие белые зубы.
– А ты разве боишься? – спросил Пьер.
– А то как же? – отвечал солдат. – Ведь она не помилует. Она шмякнет, так кишки вон. Нельзя не бояться, – сказал он, смеясь.
Несколько солдат с веселыми и ласковыми лицами остановились подле Пьера. Они как будто не ожидали того, чтобы он говорил, как все, и это открытие обрадовало их.
– Наше дело солдатское. А вот барин, так удивительно. Вот так барин!
– По местам! – крикнул молоденький офицер на собравшихся вокруг Пьера солдат. Молоденький офицер этот, видимо, исполнял свою должность в первый или во второй раз и потому с особенной отчетливостью и форменностью обращался и с солдатами и с начальником.
Перекатная пальба пушек и ружей усиливалась по всему полю, в особенности влево, там, где были флеши Багратиона, но из за дыма выстрелов с того места, где был Пьер, нельзя было почти ничего видеть. Притом, наблюдения за тем, как бы семейным (отделенным от всех других) кружком людей, находившихся на батарее, поглощали все внимание Пьера. Первое его бессознательно радостное возбуждение, произведенное видом и звуками поля сражения, заменилось теперь, в особенности после вида этого одиноко лежащего солдата на лугу, другим чувством. Сидя теперь на откосе канавы, он наблюдал окружавшие его лица.
К десяти часам уже человек двадцать унесли с батареи; два орудия были разбиты, чаще и чаще на батарею попадали снаряды и залетали, жужжа и свистя, дальние пули. Но люди, бывшие на батарее, как будто не замечали этого; со всех сторон слышался веселый говор и шутки.
– Чиненка! – кричал солдат на приближающуюся, летевшую со свистом гранату. – Не сюда! К пехотным! – с хохотом прибавлял другой, заметив, что граната перелетела и попала в ряды прикрытия.
– Что, знакомая? – смеялся другой солдат на присевшего мужика под пролетевшим ядром.
Несколько солдат собрались у вала, разглядывая то, что делалось впереди.
– И цепь сняли, видишь, назад прошли, – говорили они, указывая через вал.
– Свое дело гляди, – крикнул на них старый унтер офицер. – Назад прошли, значит, назади дело есть. – И унтер офицер, взяв за плечо одного из солдат, толкнул его коленкой. Послышался хохот.
– К пятому орудию накатывай! – кричали с одной стороны.
– Разом, дружнее, по бурлацки, – слышались веселые крики переменявших пушку.
– Ай, нашему барину чуть шляпку не сбила, – показывая зубы, смеялся на Пьера краснорожий шутник. – Эх, нескладная, – укоризненно прибавил он на ядро, попавшее в колесо и ногу человека.
– Ну вы, лисицы! – смеялся другой на изгибающихся ополченцев, входивших на батарею за раненым.
– Аль не вкусна каша? Ах, вороны, заколянились! – кричали на ополченцев, замявшихся перед солдатом с оторванной ногой.
– Тое кое, малый, – передразнивали мужиков. – Страсть не любят.
Пьер замечал, как после каждого попавшего ядра, после каждой потери все более и более разгоралось общее оживление.
Как из придвигающейся грозовой тучи, чаще и чаще, светлее и светлее вспыхивали на лицах всех этих людей (как бы в отпор совершающегося) молнии скрытого, разгорающегося огня.
Пьер не смотрел вперед на поле сражения и не интересовался знать о том, что там делалось: он весь был поглощен в созерцание этого, все более и более разгорающегося огня, который точно так же (он чувствовал) разгорался и в его душе.
В десять часов пехотные солдаты, бывшие впереди батареи в кустах и по речке Каменке, отступили. С батареи видно было, как они пробегали назад мимо нее, неся на ружьях раненых. Какой то генерал со свитой вошел на курган и, поговорив с полковником, сердито посмотрев на Пьера, сошел опять вниз, приказав прикрытию пехоты, стоявшему позади батареи, лечь, чтобы менее подвергаться выстрелам. Вслед за этим в рядах пехоты, правее батареи, послышался барабан, командные крики, и с батареи видно было, как ряды пехоты двинулись вперед.
Пьер смотрел через вал. Одно лицо особенно бросилось ему в глаза. Это был офицер, который с бледным молодым лицом шел задом, неся опущенную шпагу, и беспокойно оглядывался.
Ряды пехотных солдат скрылись в дыму, послышался их протяжный крик и частая стрельба ружей. Через несколько минут толпы раненых и носилок прошли оттуда. На батарею еще чаще стали попадать снаряды. Несколько человек лежали неубранные. Около пушек хлопотливее и оживленнее двигались солдаты. Никто уже не обращал внимания на Пьера. Раза два на него сердито крикнули за то, что он был на дороге. Старший офицер, с нахмуренным лицом, большими, быстрыми шагами переходил от одного орудия к другому. Молоденький офицерик, еще больше разрумянившись, еще старательнее командовал солдатами. Солдаты подавали заряды, поворачивались, заряжали и делали свое дело с напряженным щегольством. Они на ходу подпрыгивали, как на пружинах.
Грозовая туча надвинулась, и ярко во всех лицах горел тот огонь, за разгоранием которого следил Пьер. Он стоял подле старшего офицера. Молоденький офицерик подбежал, с рукой к киверу, к старшему.
– Имею честь доложить, господин полковник, зарядов имеется только восемь, прикажете ли продолжать огонь? – спросил он.
– Картечь! – не отвечая, крикнул старший офицер, смотревший через вал.
Вдруг что то случилось; офицерик ахнул и, свернувшись, сел на землю, как на лету подстреленная птица. Все сделалось странно, неясно и пасмурно в глазах Пьера.
Одно за другим свистели ядра и бились в бруствер, в солдат, в пушки. Пьер, прежде не слыхавший этих звуков, теперь только слышал одни эти звуки. Сбоку батареи, справа, с криком «ура» бежали солдаты не вперед, а назад, как показалось Пьеру.
Ядро ударило в самый край вала, перед которым стоял Пьер, ссыпало землю, и в глазах его мелькнул черный мячик, и в то же мгновенье шлепнуло во что то. Ополченцы, вошедшие было на батарею, побежали назад.
– Все картечью! – кричал офицер.
Унтер офицер подбежал к старшему офицеру и испуганным шепотом (как за обедом докладывает дворецкий хозяину, что нет больше требуемого вина) сказал, что зарядов больше не было.
– Разбойники, что делают! – закричал офицер, оборачиваясь к Пьеру. Лицо старшего офицера было красно и потно, нахмуренные глаза блестели. – Беги к резервам, приводи ящики! – крикнул он, сердито обходя взглядом Пьера и обращаясь к своему солдату.
– Я пойду, – сказал Пьер. Офицер, не отвечая ему, большими шагами пошел в другую сторону.
– Не стрелять… Выжидай! – кричал он.
Солдат, которому приказано было идти за зарядами, столкнулся с Пьером.
– Эх, барин, не место тебе тут, – сказал он и побежал вниз. Пьер побежал за солдатом, обходя то место, на котором сидел молоденький офицерик.
Одно, другое, третье ядро пролетало над ним, ударялось впереди, с боков, сзади. Пьер сбежал вниз. «Куда я?» – вдруг вспомнил он, уже подбегая к зеленым ящикам. Он остановился в нерешительности, идти ему назад или вперед. Вдруг страшный толчок откинул его назад, на землю. В то же мгновенье блеск большого огня осветил его, и в то же мгновенье раздался оглушающий, зазвеневший в ушах гром, треск и свист.
Пьер, очнувшись, сидел на заду, опираясь руками о землю; ящика, около которого он был, не было; только валялись зеленые обожженные доски и тряпки на выжженной траве, и лошадь, трепля обломками оглобель, проскакала от него, а другая, так же как и сам Пьер, лежала на земле и пронзительно, протяжно визжала.
Пьер, не помня себя от страха, вскочил и побежал назад на батарею, как на единственное убежище от всех ужасов, окружавших его.
В то время как Пьер входил в окоп, он заметил, что на батарее выстрелов не слышно было, но какие то люди что то делали там. Пьер не успел понять того, какие это были люди. Он увидел старшего полковника, задом к нему лежащего на валу, как будто рассматривающего что то внизу, и видел одного, замеченного им, солдата, который, прорываясь вперед от людей, державших его за руку, кричал: «Братцы!» – и видел еще что то странное.
Но он не успел еще сообразить того, что полковник был убит, что кричавший «братцы!» был пленный, что в глазах его был заколон штыком в спину другой солдат. Едва он вбежал в окоп, как худощавый, желтый, с потным лицом человек в синем мундире, со шпагой в руке, набежал на него, крича что то. Пьер, инстинктивно обороняясь от толчка, так как они, не видав, разбежались друг против друга, выставил руки и схватил этого человека (это был французский офицер) одной рукой за плечо, другой за гордо. Офицер, выпустив шпагу, схватил Пьера за шиворот.
Несколько секунд они оба испуганными глазами смотрели на чуждые друг другу лица, и оба были в недоумении о том, что они сделали и что им делать. «Я ли взят в плен или он взят в плен мною? – думал каждый из них. Но, очевидно, французский офицер более склонялся к мысли, что в плен взят он, потому что сильная рука Пьера, движимая невольным страхом, все крепче и крепче сжимала его горло. Француз что то хотел сказать, как вдруг над самой головой их низко и страшно просвистело ядро, и Пьеру показалось, что голова французского офицера оторвана: так быстро он согнул ее.
Пьер тоже нагнул голову и отпустил руки. Не думая более о том, кто кого взял в плен, француз побежал назад на батарею, а Пьер под гору, спотыкаясь на убитых и раненых, которые, казалось ему, ловят его за ноги. Но не успел он сойти вниз, как навстречу ему показались плотные толпы бегущих русских солдат, которые, падая, спотыкаясь и крича, весело и бурно бежали на батарею. (Это была та атака, которую себе приписывал Ермолов, говоря, что только его храбрости и счастью возможно было сделать этот подвиг, и та атака, в которой он будто бы кидал на курган Георгиевские кресты, бывшие у него в кармане.)
Французы, занявшие батарею, побежали. Наши войска с криками «ура» так далеко за батарею прогнали французов, что трудно было остановить их.
С батареи свезли пленных, в том числе раненого французского генерала, которого окружили офицеры. Толпы раненых, знакомых и незнакомых Пьеру, русских и французов, с изуродованными страданием лицами, шли, ползли и на носилках неслись с батареи. Пьер вошел на курган, где он провел более часа времени, и из того семейного кружка, который принял его к себе, он не нашел никого. Много было тут мертвых, незнакомых ему. Но некоторых он узнал. Молоденький офицерик сидел, все так же свернувшись, у края вала, в луже крови. Краснорожий солдат еще дергался, но его не убирали.
Пьер побежал вниз.
«Нет, теперь они оставят это, теперь они ужаснутся того, что они сделали!» – думал Пьер, бесцельно направляясь за толпами носилок, двигавшихся с поля сражения.
Но солнце, застилаемое дымом, стояло еще высоко, и впереди, и в особенности налево у Семеновского, кипело что то в дыму, и гул выстрелов, стрельба и канонада не только не ослабевали, но усиливались до отчаянности, как человек, который, надрываясь, кричит из последних сил.
Главное действие Бородинского сражения произошло на пространстве тысячи сажен между Бородиным и флешами Багратиона. (Вне этого пространства с одной стороны была сделана русскими в половине дня демонстрация кавалерией Уварова, с другой стороны, за Утицей, было столкновение Понятовского с Тучковым; но это были два отдельные и слабые действия в сравнении с тем, что происходило в середине поля сражения.) На поле между Бородиным и флешами, у леса, на открытом и видном с обеих сторон протяжении, произошло главное действие сражения, самым простым, бесхитростным образом.
Сражение началось канонадой с обеих сторон из нескольких сотен орудий.
Потом, когда дым застлал все поле, в этом дыму двинулись (со стороны французов) справа две дивизии, Дессе и Компана, на флеши, и слева полки вице короля на Бородино.
От Шевардинского редута, на котором стоял Наполеон, флеши находились на расстоянии версты, а Бородино более чем в двух верстах расстояния по прямой линии, и поэтому Наполеон не мог видеть того, что происходило там, тем более что дым, сливаясь с туманом, скрывал всю местность. Солдаты дивизии Дессе, направленные на флеши, были видны только до тех пор, пока они не спустились под овраг, отделявший их от флеш. Как скоро они спустились в овраг, дым выстрелов орудийных и ружейных на флешах стал так густ, что застлал весь подъем той стороны оврага. Сквозь дым мелькало там что то черное – вероятно, люди, и иногда блеск штыков. Но двигались ли они или стояли, были ли это французы или русские, нельзя было видеть с Шевардинского редута.
Солнце взошло светло и било косыми лучами прямо в лицо Наполеона, смотревшего из под руки на флеши. Дым стлался перед флешами, и то казалось, что дым двигался, то казалось, что войска двигались. Слышны были иногда из за выстрелов крики людей, но нельзя было знать, что они там делали.
Наполеон, стоя на кургане, смотрел в трубу, и в маленький круг трубы он видел дым и людей, иногда своих, иногда русских; но где было то, что он видел, он не знал, когда смотрел опять простым глазом.
Он сошел с кургана и стал взад и вперед ходить перед ним.
Изредка он останавливался, прислушивался к выстрелам и вглядывался в поле сражения.
Не только с того места внизу, где он стоял, не только с кургана, на котором стояли теперь некоторые его генералы, но и с самых флешей, на которых находились теперь вместе и попеременно то русские, то французские, мертвые, раненые и живые, испуганные или обезумевшие солдаты, нельзя было понять того, что делалось на этом месте. В продолжение нескольких часов на этом месте, среди неумолкаемой стрельбы, ружейной и пушечной, то появлялись одни русские, то одни французские, то пехотные, то кавалерийские солдаты; появлялись, падали, стреляли, сталкивались, не зная, что делать друг с другом, кричали и бежали назад.
С поля сражения беспрестанно прискакивали к Наполеону его посланные адъютанты и ординарцы его маршалов с докладами о ходе дела; но все эти доклады были ложны: и потому, что в жару сражения невозможно сказать, что происходит в данную минуту, и потому, что многие адъютапты не доезжали до настоящего места сражения, а передавали то, что они слышали от других; и еще потому, что пока проезжал адъютант те две три версты, которые отделяли его от Наполеона, обстоятельства изменялись и известие, которое он вез, уже становилось неверно. Так от вице короля прискакал адъютант с известием, что Бородино занято и мост на Колоче в руках французов. Адъютант спрашивал у Наполеона, прикажет ли он пореходить войскам? Наполеон приказал выстроиться на той стороне и ждать; но не только в то время как Наполеон отдавал это приказание, но даже когда адъютант только что отъехал от Бородина, мост уже был отбит и сожжен русскими, в той самой схватке, в которой участвовал Пьер в самом начале сраженья.
Прискакавший с флеш с бледным испуганным лицом адъютант донес Наполеону, что атака отбита и что Компан ранен и Даву убит, а между тем флеши были заняты другой частью войск, в то время как адъютанту говорили, что французы были отбиты, и Даву был жив и только слегка контужен. Соображаясь с таковыми необходимо ложными донесениями, Наполеон делал свои распоряжения, которые или уже были исполнены прежде, чем он делал их, или же не могли быть и не были исполняемы.
Маршалы и генералы, находившиеся в более близком расстоянии от поля сражения, но так же, как и Наполеон, не участвовавшие в самом сражении и только изредка заезжавшие под огонь пуль, не спрашиваясь Наполеона, делали свои распоряжения и отдавали свои приказания о том, куда и откуда стрелять, и куда скакать конным, и куда бежать пешим солдатам. Но даже и их распоряжения, точно так же как распоряжения Наполеона, точно так же в самой малой степени и редко приводились в исполнение. Большей частью выходило противное тому, что они приказывали. Солдаты, которым велено было идти вперед, подпав под картечный выстрел, бежали назад; солдаты, которым велено было стоять на месте, вдруг, видя против себя неожиданно показавшихся русских, иногда бежали назад, иногда бросались вперед, и конница скакала без приказания догонять бегущих русских. Так, два полка кавалерии поскакали через Семеновский овраг и только что въехали на гору, повернулись и во весь дух поскакали назад. Так же двигались и пехотные солдаты, иногда забегая совсем не туда, куда им велено было. Все распоряжение о том, куда и когда подвинуть пушки, когда послать пеших солдат – стрелять, когда конных – топтать русских пеших, – все эти распоряжения делали сами ближайшие начальники частей, бывшие в рядах, не спрашиваясь даже Нея, Даву и Мюрата, не только Наполеона. Они не боялись взыскания за неисполнение приказания или за самовольное распоряжение, потому что в сражении дело касается самого дорогого для человека – собственной жизни, и иногда кажется, что спасение заключается в бегстве назад, иногда в бегстве вперед, и сообразно с настроением минуты поступали эти люди, находившиеся в самом пылу сражения. В сущности же, все эти движения вперед и назад не облегчали и не изменяли положения войск. Все их набегания и наскакивания друг на друга почти не производили им вреда, а вред, смерть и увечья наносили ядра и пули, летавшие везде по тому пространству, по которому метались эти люди. Как только эти люди выходили из того пространства, по которому летали ядра и пули, так их тотчас же стоявшие сзади начальники формировали, подчиняли дисциплине и под влиянием этой дисциплины вводили опять в область огня, в которой они опять (под влиянием страха смерти) теряли дисциплину и метались по случайному настроению толпы.
Генералы Наполеона – Даву, Ней и Мюрат, находившиеся в близости этой области огня и даже иногда заезжавшие в нее, несколько раз вводили в эту область огня стройные и огромные массы войск. Но противно тому, что неизменно совершалось во всех прежних сражениях, вместо ожидаемого известия о бегстве неприятеля, стройные массы войск возвращались оттуда расстроенными, испуганными толпами. Они вновь устроивали их, но людей все становилось меньше. В половине дня Мюрат послал к Наполеону своего адъютанта с требованием подкрепления.
Наполеон сидел под курганом и пил пунш, когда к нему прискакал адъютант Мюрата с уверениями, что русские будут разбиты, ежели его величество даст еще дивизию.
– Подкрепления? – сказал Наполеон с строгим удивлением, как бы не понимая его слов и глядя на красивого мальчика адъютанта с длинными завитыми черными волосами (так же, как носил волоса Мюрат). «Подкрепления! – подумал Наполеон. – Какого они просят подкрепления, когда у них в руках половина армии, направленной на слабое, неукрепленное крыло русских!»
– Dites au roi de Naples, – строго сказал Наполеон, – qu'il n'est pas midi et que je ne vois pas encore clair sur mon echiquier. Allez… [Скажите неаполитанскому королю, что теперь еще не полдень и что я еще не ясно вижу на своей шахматной доске. Ступайте…]
Красивый мальчик адъютанта с длинными волосами, не отпуская руки от шляпы, тяжело вздохнув, поскакал опять туда, где убивали людей.
Наполеон встал и, подозвав Коленкура и Бертье, стал разговаривать с ними о делах, не касающихся сражения.
В середине разговора, который начинал занимать Наполеона, глаза Бертье обратились на генерала с свитой, который на потной лошади скакал к кургану. Это был Бельяр. Он, слезши с лошади, быстрыми шагами подошел к императору и смело, громким голосом стал доказывать необходимость подкреплений. Он клялся честью, что русские погибли, ежели император даст еще дивизию.
Наполеон вздернул плечами и, ничего не ответив, продолжал свою прогулку. Бельяр громко и оживленно стал говорить с генералами свиты, окружившими его.
– Вы очень пылки, Бельяр, – сказал Наполеон, опять подходя к подъехавшему генералу. – Легко ошибиться в пылу огня. Поезжайте и посмотрите, и тогда приезжайте ко мне.
Не успел еще Бельяр скрыться из вида, как с другой стороны прискакал новый посланный с поля сражения.
– Eh bien, qu'est ce qu'il y a? [Ну, что еще?] – сказал Наполеон тоном человека, раздраженного беспрестанными помехами.
– Sire, le prince… [Государь, герцог…] – начал адъютант.
– Просит подкрепления? – с гневным жестом проговорил Наполеон. Адъютант утвердительно наклонил голову и стал докладывать; но император отвернулся от него, сделав два шага, остановился, вернулся назад и подозвал Бертье. – Надо дать резервы, – сказал он, слегка разводя руками. – Кого послать туда, как вы думаете? – обратился он к Бертье, к этому oison que j'ai fait aigle [гусенку, которого я сделал орлом], как он впоследствии называл его.
– Государь, послать дивизию Клапареда? – сказал Бертье, помнивший наизусть все дивизии, полки и батальоны.
Наполеон утвердительно кивнул головой.
Адъютант поскакал к дивизии Клапареда. И чрез несколько минут молодая гвардия, стоявшая позади кургана, тронулась с своего места. Наполеон молча смотрел по этому направлению.
– Нет, – обратился он вдруг к Бертье, – я не могу послать Клапареда. Пошлите дивизию Фриана, – сказал он.
Хотя не было никакого преимущества в том, чтобы вместо Клапареда посылать дивизию Фриана, и даже было очевидное неудобство и замедление в том, чтобы остановить теперь Клапареда и посылать Фриана, но приказание было с точностью исполнено. Наполеон не видел того, что он в отношении своих войск играл роль доктора, который мешает своими лекарствами, – роль, которую он так верно понимал и осуждал.
Дивизия Фриана, так же как и другие, скрылась в дыму поля сражения. С разных сторон продолжали прискакивать адъютанты, и все, как бы сговорившись, говорили одно и то же. Все просили подкреплений, все говорили, что русские держатся на своих местах и производят un feu d'enfer [адский огонь], от которого тает французское войско.
Наполеон сидел в задумчивости на складном стуле.
Проголодавшийся с утра m r de Beausset, любивший путешествовать, подошел к императору и осмелился почтительно предложить его величеству позавтракать.
– Я надеюсь, что теперь уже я могу поздравить ваше величество с победой, – сказал он.
Наполеон молча отрицательно покачал головой. Полагая, что отрицание относится к победе, а не к завтраку, m r de Beausset позволил себе игриво почтительно заметить, что нет в мире причин, которые могли бы помешать завтракать, когда можно это сделать.
– Allez vous… [Убирайтесь к…] – вдруг мрачно сказал Наполеон и отвернулся. Блаженная улыбка сожаления, раскаяния и восторга просияла на лице господина Боссе, и он плывущим шагом отошел к другим генералам.
Наполеон испытывал тяжелое чувство, подобное тому, которое испытывает всегда счастливый игрок, безумно кидавший свои деньги, всегда выигрывавший и вдруг, именно тогда, когда он рассчитал все случайности игры, чувствующий, что чем более обдуман его ход, тем вернее он проигрывает.
Войска были те же, генералы те же, те же были приготовления, та же диспозиция, та же proclamation courte et energique [прокламация короткая и энергическая], он сам был тот же, он это знал, он знал, что он был даже гораздо опытнее и искуснее теперь, чем он был прежде, даже враг был тот же, как под Аустерлицем и Фридландом; но страшный размах руки падал волшебно бессильно.
Все те прежние приемы, бывало, неизменно увенчиваемые успехом: и сосредоточение батарей на один пункт, и атака резервов для прорвания линии, и атака кавалерии des hommes de fer [железных людей], – все эти приемы уже были употреблены, и не только не было победы, но со всех сторон приходили одни и те же известия об убитых и раненых генералах, о необходимости подкреплений, о невозможности сбить русских и о расстройстве войск.
Прежде после двух трех распоряжений, двух трех фраз скакали с поздравлениями и веселыми лицами маршалы и адъютанты, объявляя трофеями корпуса пленных, des faisceaux de drapeaux et d'aigles ennemis, [пуки неприятельских орлов и знамен,] и пушки, и обозы, и Мюрат просил только позволения пускать кавалерию для забрания обозов. Так было под Лоди, Маренго, Арколем, Иеной, Аустерлицем, Ваграмом и так далее, и так далее. Теперь же что то странное происходило с его войсками.
Несмотря на известие о взятии флешей, Наполеон видел, что это было не то, совсем не то, что было во всех его прежних сражениях. Он видел, что то же чувство, которое испытывал он, испытывали и все его окружающие люди, опытные в деле сражений. Все лица были печальны, все глаза избегали друг друга. Только один Боссе не мог понимать значения того, что совершалось. Наполеон же после своего долгого опыта войны знал хорошо, что значило в продолжение восьми часов, после всех употрсбленных усилий, невыигранное атакующим сражение. Он знал, что это было почти проигранное сражение и что малейшая случайность могла теперь – на той натянутой точке колебания, на которой стояло сражение, – погубить его и его войска.
Когда он перебирал в воображении всю эту странную русскую кампанию, в которой не было выиграно ни одного сраженья, в которой в два месяца не взято ни знамен, ни пушек, ни корпусов войск, когда глядел на скрытно печальные лица окружающих и слушал донесения о том, что русские всё стоят, – страшное чувство, подобное чувству, испытываемому в сновидениях, охватывало его, и ему приходили в голову все несчастные случайности, могущие погубить его. Русские могли напасть на его левое крыло, могли разорвать его середину, шальное ядро могло убить его самого. Все это было возможно. В прежних сражениях своих он обдумывал только случайности успеха, теперь же бесчисленное количество несчастных случайностей представлялось ему, и он ожидал их всех. Да, это было как во сне, когда человеку представляется наступающий на него злодей, и человек во сне размахнулся и ударил своего злодея с тем страшным усилием, которое, он знает, должно уничтожить его, и чувствует, что рука его, бессильная и мягкая, падает, как тряпка, и ужас неотразимой погибели обхватывает беспомощного человека.
Известие о том, что русские атакуют левый фланг французской армии, возбудило в Наполеоне этот ужас. Он молча сидел под курганом на складном стуле, опустив голову и положив локти на колена. Бертье подошел к нему и предложил проехаться по линии, чтобы убедиться, в каком положении находилось дело.
– Что? Что вы говорите? – сказал Наполеон. – Да, велите подать мне лошадь.
Он сел верхом и поехал к Семеновскому.
В медленно расходившемся пороховом дыме по всему тому пространству, по которому ехал Наполеон, – в лужах крови лежали лошади и люди, поодиночке и кучами. Подобного ужаса, такого количества убитых на таком малом пространстве никогда не видал еще и Наполеон, и никто из его генералов. Гул орудий, не перестававший десять часов сряду и измучивший ухо, придавал особенную значительность зрелищу (как музыка при живых картинах). Наполеон выехал на высоту Семеновского и сквозь дым увидал ряды людей в мундирах цветов, непривычных для его глаз. Это были русские.
Русские плотными рядами стояли позади Семеновского и кургана, и их орудия не переставая гудели и дымили по их линии. Сражения уже не было. Было продолжавшееся убийство, которое ни к чему не могло повести ни русских, ни французов. Наполеон остановил лошадь и впал опять в ту задумчивость, из которой вывел его Бертье; он не мог остановить того дела, которое делалось перед ним и вокруг него и которое считалось руководимым им и зависящим от него, и дело это ему в первый раз, вследствие неуспеха, представлялось ненужным и ужасным.
Один из генералов, подъехавших к Наполеону, позволил себе предложить ему ввести в дело старую гвардию. Ней и Бертье, стоявшие подле Наполеона, переглянулись между собой и презрительно улыбнулись на бессмысленное предложение этого генерала.
Наполеон опустил голову и долго молчал.
– A huit cent lieux de France je ne ferai pas demolir ma garde, [За три тысячи двести верст от Франции я не могу дать разгромить свою гвардию.] – сказал он и, повернув лошадь, поехал назад, к Шевардину.
Кутузов сидел, понурив седую голову и опустившись тяжелым телом, на покрытой ковром лавке, на том самом месте, на котором утром его видел Пьер. Он не делал никаких распоряжении, а только соглашался или не соглашался на то, что предлагали ему.
«Да, да, сделайте это, – отвечал он на различные предложения. – Да, да, съезди, голубчик, посмотри, – обращался он то к тому, то к другому из приближенных; или: – Нет, не надо, лучше подождем», – говорил он. Он выслушивал привозимые ему донесения, отдавал приказания, когда это требовалось подчиненным; но, выслушивая донесения, он, казалось, не интересовался смыслом слов того, что ему говорили, а что то другое в выражении лиц, в тоне речи доносивших интересовало его. Долголетним военным опытом он знал и старческим умом понимал, что руководить сотнями тысяч человек, борющихся с смертью, нельзя одному человеку, и знал, что решают участь сраженья не распоряжения главнокомандующего, не место, на котором стоят войска, не количество пушек и убитых людей, а та неуловимая сила, называемая духом войска, и он следил за этой силой и руководил ею, насколько это было в его власти.
Общее выражение лица Кутузова было сосредоточенное, спокойное внимание и напряжение, едва превозмогавшее усталость слабого и старого тела.
В одиннадцать часов утра ему привезли известие о том, что занятые французами флеши были опять отбиты, но что князь Багратион ранен. Кутузов ахнул и покачал головой.
– Поезжай к князю Петру Ивановичу и подробно узнай, что и как, – сказал он одному из адъютантов и вслед за тем обратился к принцу Виртембергскому, стоявшему позади него:
– Не угодно ли будет вашему высочеству принять командование первой армией.
Вскоре после отъезда принца, так скоро, что он еще не мог доехать до Семеновского, адъютант принца вернулся от него и доложил светлейшему, что принц просит войск.
Кутузов поморщился и послал Дохтурову приказание принять командование первой армией, а принца, без которого, как он сказал, он не может обойтись в эти важные минуты, просил вернуться к себе. Когда привезено было известие о взятии в плен Мюрата и штабные поздравляли Кутузова, он улыбнулся.
– Подождите, господа, – сказал он. – Сражение выиграно, и в пленении Мюрата нет ничего необыкновенного. Но лучше подождать радоваться. – Однако он послал адъютанта проехать по войскам с этим известием.
Когда с левого фланга прискакал Щербинин с донесением о занятии французами флешей и Семеновского, Кутузов, по звукам поля сражения и по лицу Щербинина угадав, что известия были нехорошие, встал, как бы разминая ноги, и, взяв под руку Щербинина, отвел его в сторону.
– Съезди, голубчик, – сказал он Ермолову, – посмотри, нельзя ли что сделать.
Кутузов был в Горках, в центре позиции русского войска. Направленная Наполеоном атака на наш левый фланг была несколько раз отбиваема. В центре французы не подвинулись далее Бородина. С левого фланга кавалерия Уварова заставила бежать французов.
В третьем часу атаки французов прекратились. На всех лицах, приезжавших с поля сражения, и на тех, которые стояли вокруг него, Кутузов читал выражение напряженности, дошедшей до высшей степени. Кутузов был доволен успехом дня сверх ожидания. Но физические силы оставляли старика. Несколько раз голова его низко опускалась, как бы падая, и он задремывал. Ему подали обедать.
Флигель адъютант Вольцоген, тот самый, который, проезжая мимо князя Андрея, говорил, что войну надо im Raum verlegon [перенести в пространство (нем.) ], и которого так ненавидел Багратион, во время обеда подъехал к Кутузову. Вольцоген приехал от Барклая с донесением о ходе дел на левом фланге. Благоразумный Барклай де Толли, видя толпы отбегающих раненых и расстроенные зады армии, взвесив все обстоятельства дела, решил, что сражение было проиграно, и с этим известием прислал к главнокомандующему своего любимца.
Кутузов с трудом жевал жареную курицу и сузившимися, повеселевшими глазами взглянул на Вольцогена.
Вольцоген, небрежно разминая ноги, с полупрезрительной улыбкой на губах, подошел к Кутузову, слегка дотронувшись до козырька рукою.
Вольцоген обращался с светлейшим с некоторой аффектированной небрежностью, имеющей целью показать, что он, как высокообразованный военный, предоставляет русским делать кумира из этого старого, бесполезного человека, а сам знает, с кем он имеет дело. «Der alte Herr (как называли Кутузова в своем кругу немцы) macht sich ganz bequem, [Старый господин покойно устроился (нем.) ] – подумал Вольцоген и, строго взглянув на тарелки, стоявшие перед Кутузовым, начал докладывать старому господину положение дел на левом фланге так, как приказал ему Барклай и как он сам его видел и понял.
– Все пункты нашей позиции в руках неприятеля и отбить нечем, потому что войск нет; они бегут, и нет возможности остановить их, – докладывал он.
Кутузов, остановившись жевать, удивленно, как будто не понимая того, что ему говорили, уставился на Вольцогена. Вольцоген, заметив волнение des alten Herrn, [старого господина (нем.) ] с улыбкой сказал:
– Я не считал себя вправе скрыть от вашей светлости того, что я видел… Войска в полном расстройстве…
– Вы видели? Вы видели?.. – нахмурившись, закричал Кутузов, быстро вставая и наступая на Вольцогена. – Как вы… как вы смеете!.. – делая угрожающие жесты трясущимися руками и захлебываясь, закричал он. – Как смоете вы, милостивый государь, говорить это мне. Вы ничего не знаете. Передайте от меня генералу Барклаю, что его сведения неверны и что настоящий ход сражения известен мне, главнокомандующему, лучше, чем ему.
Вольцоген хотел возразить что то, но Кутузов перебил его.
– Неприятель отбит на левом и поражен на правом фланге. Ежели вы плохо видели, милостивый государь, то не позволяйте себе говорить того, чего вы не знаете. Извольте ехать к генералу Барклаю и передать ему назавтра мое непременное намерение атаковать неприятеля, – строго сказал Кутузов. Все молчали, и слышно было одно тяжелое дыхание запыхавшегося старого генерала. – Отбиты везде, за что я благодарю бога и наше храброе войско. Неприятель побежден, и завтра погоним его из священной земли русской, – сказал Кутузов, крестясь; и вдруг всхлипнул от наступивших слез. Вольцоген, пожав плечами и скривив губы, молча отошел к стороне, удивляясь uber diese Eingenommenheit des alten Herrn. [на это самодурство старого господина. (нем.) ]
– Да, вот он, мой герой, – сказал Кутузов к полному красивому черноволосому генералу, который в это время входил на курган. Это был Раевский, проведший весь день на главном пункте Бородинского поля.
Раевский доносил, что войска твердо стоят на своих местах и что французы не смеют атаковать более. Выслушав его, Кутузов по французски сказал:
– Vous ne pensez donc pas comme lesautres que nous sommes obliges de nous retirer? [Вы, стало быть, не думаете, как другие, что мы должны отступить?]
– Au contraire, votre altesse, dans les affaires indecises c'est loujours le plus opiniatre qui reste victorieux, – отвечал Раевский, – et mon opinion… [Напротив, ваша светлость, в нерешительных делах остается победителем тот, кто упрямее, и мое мнение…]
– Кайсаров! – крикнул Кутузов своего адъютанта. – Садись пиши приказ на завтрашний день. А ты, – обратился он к другому, – поезжай по линии и объяви, что завтра мы атакуем.
Пока шел разговор с Раевским и диктовался приказ, Вольцоген вернулся от Барклая и доложил, что генерал Барклай де Толли желал бы иметь письменное подтверждение того приказа, который отдавал фельдмаршал.
Кутузов, не глядя на Вольцогена, приказал написать этот приказ, который, весьма основательно, для избежания личной ответственности, желал иметь бывший главнокомандующий.
И по неопределимой, таинственной связи, поддерживающей во всей армии одно и то же настроение, называемое духом армии и составляющее главный нерв войны, слова Кутузова, его приказ к сражению на завтрашний день, передались одновременно во все концы войска.
Далеко не самые слова, не самый приказ передавались в последней цепи этой связи. Даже ничего не было похожего в тех рассказах, которые передавали друг другу на разных концах армии, на то, что сказал Кутузов; но смысл его слов сообщился повсюду, потому что то, что сказал Кутузов, вытекало не из хитрых соображений, а из чувства, которое лежало в душе главнокомандующего, так же как и в душе каждого русского человека.
И узнав то, что назавтра мы атакуем неприятеля, из высших сфер армии услыхав подтверждение того, чему они хотели верить, измученные, колеблющиеся люди утешались и ободрялись.
Полк князя Андрея был в резервах, которые до второго часа стояли позади Семеновского в бездействии, под сильным огнем артиллерии. Во втором часу полк, потерявший уже более двухсот человек, был двинут вперед на стоптанное овсяное поле, на тот промежуток между Семеновским и курганной батареей, на котором в этот день были побиты тысячи людей и на который во втором часу дня был направлен усиленно сосредоточенный огонь из нескольких сот неприятельских орудий.
Не сходя с этого места и не выпустив ни одного заряда, полк потерял здесь еще третью часть своих людей. Спереди и в особенности с правой стороны, в нерасходившемся дыму, бубухали пушки и из таинственной области дыма, застилавшей всю местность впереди, не переставая, с шипящим быстрым свистом, вылетали ядра и медлительно свистевшие гранаты. Иногда, как бы давая отдых, проходило четверть часа, во время которых все ядра и гранаты перелетали, но иногда в продолжение минуты несколько человек вырывало из полка, и беспрестанно оттаскивали убитых и уносили раненых.
С каждым новым ударом все меньше и меньше случайностей жизни оставалось для тех, которые еще не были убиты. Полк стоял в батальонных колоннах на расстоянии трехсот шагов, но, несмотря на то, все люди полка находились под влиянием одного и того же настроения. Все люди полка одинаково были молчаливы и мрачны. Редко слышался между рядами говор, но говор этот замолкал всякий раз, как слышался попавший удар и крик: «Носилки!» Большую часть времени люди полка по приказанию начальства сидели на земле. Кто, сняв кивер, старательно распускал и опять собирал сборки; кто сухой глиной, распорошив ее в ладонях, начищал штык; кто разминал ремень и перетягивал пряжку перевязи; кто старательно расправлял и перегибал по новому подвертки и переобувался. Некоторые строили домики из калмыжек пашни или плели плетеночки из соломы жнивья. Все казались вполне погружены в эти занятия. Когда ранило и убивало людей, когда тянулись носилки, когда наши возвращались назад, когда виднелись сквозь дым большие массы неприятелей, никто не обращал никакого внимания на эти обстоятельства. Когда же вперед проезжала артиллерия, кавалерия, виднелись движения нашей пехоты, одобрительные замечания слышались со всех сторон. Но самое большое внимание заслуживали события совершенно посторонние, не имевшие никакого отношения к сражению. Как будто внимание этих нравственно измученных людей отдыхало на этих обычных, житейских событиях. Батарея артиллерии прошла пред фронтом полка. В одном из артиллерийских ящиков пристяжная заступила постромку. «Эй, пристяжную то!.. Выправь! Упадет… Эх, не видят!.. – по всему полку одинаково кричали из рядов. В другой раз общее внимание обратила небольшая коричневая собачонка с твердо поднятым хвостом, которая, бог знает откуда взявшись, озабоченной рысцой выбежала перед ряды и вдруг от близко ударившего ядра взвизгнула и, поджав хвост, бросилась в сторону. По всему полку раздалось гоготанье и взвизги. Но развлечения такого рода продолжались минуты, а люди уже более восьми часов стояли без еды и без дела под непроходящим ужасом смерти, и бледные и нахмуренные лица все более бледнели и хмурились.
Князь Андрей, точно так же как и все люди полка, нахмуренный и бледный, ходил взад и вперед по лугу подле овсяного поля от одной межи до другой, заложив назад руки и опустив голову. Делать и приказывать ему нечего было. Все делалось само собою. Убитых оттаскивали за фронт, раненых относили, ряды смыкались. Ежели отбегали солдаты, то они тотчас же поспешно возвращались. Сначала князь Андрей, считая своею обязанностью возбуждать мужество солдат и показывать им пример, прохаживался по рядам; но потом он убедился, что ему нечему и нечем учить их. Все силы его души, точно так же как и каждого солдата, были бессознательно направлены на то, чтобы удержаться только от созерцания ужаса того положения, в котором они были. Он ходил по лугу, волоча ноги, шаршавя траву и наблюдая пыль, которая покрывала его сапоги; то он шагал большими шагами, стараясь попадать в следы, оставленные косцами по лугу, то он, считая свои шаги, делал расчеты, сколько раз он должен пройти от межи до межи, чтобы сделать версту, то ошмурыгывал цветки полыни, растущие на меже, и растирал эти цветки в ладонях и принюхивался к душисто горькому, крепкому запаху. Изо всей вчерашней работы мысли не оставалось ничего. Он ни о чем не думал. Он прислушивался усталым слухом все к тем же звукам, различая свистенье полетов от гула выстрелов, посматривал на приглядевшиеся лица людей 1 го батальона и ждал. «Вот она… эта опять к нам! – думал он, прислушиваясь к приближавшемуся свисту чего то из закрытой области дыма. – Одна, другая! Еще! Попало… Он остановился и поглядел на ряды. „Нет, перенесло. А вот это попало“. И он опять принимался ходить, стараясь делать большие шаги, чтобы в шестнадцать шагов дойти до межи.
Свист и удар! В пяти шагах от него взрыло сухую землю и скрылось ядро. Невольный холод пробежал по его спине. Он опять поглядел на ряды. Вероятно, вырвало многих; большая толпа собралась у 2 го батальона.
– Господин адъютант, – прокричал он, – прикажите, чтобы не толпились. – Адъютант, исполнив приказание, подходил к князю Андрею. С другой стороны подъехал верхом командир батальона.
– Берегись! – послышался испуганный крик солдата, и, как свистящая на быстром полете, приседающая на землю птичка, в двух шагах от князя Андрея, подле лошади батальонного командира, негромко шлепнулась граната. Лошадь первая, не спрашивая того, хорошо или дурно было высказывать страх, фыркнула, взвилась, чуть не сронив майора, и отскакала в сторону. Ужас лошади сообщился людям.
– Ложись! – крикнул голос адъютанта, прилегшего к земле. Князь Андрей стоял в нерешительности. Граната, как волчок, дымясь, вертелась между ним и лежащим адъютантом, на краю пашни и луга, подле куста полыни.
«Неужели это смерть? – думал князь Андрей, совершенно новым, завистливым взглядом глядя на траву, на полынь и на струйку дыма, вьющуюся от вертящегося черного мячика. – Я не могу, я не хочу умереть, я люблю жизнь, люблю эту траву, землю, воздух… – Он думал это и вместе с тем помнил о том, что на него смотрят.
– Стыдно, господин офицер! – сказал он адъютанту. – Какой… – он не договорил. В одно и то же время послышался взрыв, свист осколков как бы разбитой рамы, душный запах пороха – и князь Андрей рванулся в сторону и, подняв кверху руку, упал на грудь.
Несколько офицеров подбежало к нему. С правой стороны живота расходилось по траве большое пятно крови.
Вызванные ополченцы с носилками остановились позади офицеров. Князь Андрей лежал на груди, опустившись лицом до травы, и, тяжело, всхрапывая, дышал.
– Ну что стали, подходи!
Мужики подошли и взяли его за плечи и ноги, но он жалобно застонал, и мужики, переглянувшись, опять отпустили его.
– Берись, клади, всё одно! – крикнул чей то голос. Его другой раз взяли за плечи и положили на носилки.
– Ах боже мой! Боже мой! Что ж это?.. Живот! Это конец! Ах боже мой! – слышались голоса между офицерами. – На волосок мимо уха прожужжала, – говорил адъютант. Мужики, приладивши носилки на плечах, поспешно тронулись по протоптанной ими дорожке к перевязочному пункту.
– В ногу идите… Э!.. мужичье! – крикнул офицер, за плечи останавливая неровно шедших и трясущих носилки мужиков.
– Подлаживай, что ль, Хведор, а Хведор, – говорил передний мужик.
– Вот так, важно, – радостно сказал задний, попав в ногу.
– Ваше сиятельство? А? Князь? – дрожащим голосом сказал подбежавший Тимохин, заглядывая в носилки.
Князь Андрей открыл глаза и посмотрел из за носилок, в которые глубоко ушла его голова, на того, кто говорил, и опять опустил веки.
Ополченцы принесли князя Андрея к лесу, где стояли фуры и где был перевязочный пункт. Перевязочный пункт состоял из трех раскинутых, с завороченными полами, палаток на краю березника. В березнике стояла фуры и лошади. Лошади в хребтугах ели овес, и воробьи слетали к ним и подбирали просыпанные зерна. Воронья, чуя кровь, нетерпеливо каркая, перелетали на березах. Вокруг палаток, больше чем на две десятины места, лежали, сидели, стояли окровавленные люди в различных одеждах. Вокруг раненых, с унылыми и внимательными лицами, стояли толпы солдат носильщиков, которых тщетно отгоняли от этого места распоряжавшиеся порядком офицеры. Не слушая офицеров, солдаты стояли, опираясь на носилки, и пристально, как будто пытаясь понять трудное значение зрелища, смотрели на то, что делалось перед ними. Из палаток слышались то громкие, злые вопли, то жалобные стенания. Изредка выбегали оттуда фельдшера за водой и указывали на тех, который надо было вносить. Раненые, ожидая у палатки своей очереди, хрипели, стонали, плакали, кричали, ругались, просили водки. Некоторые бредили. Князя Андрея, как полкового командира, шагая через неперевязанных раненых, пронесли ближе к одной из палаток и остановились, ожидая приказания. Князь Андрей открыл глаза и долго не мог понять того, что делалось вокруг него. Луг, полынь, пашня, черный крутящийся мячик и его страстный порыв любви к жизни вспомнились ему. В двух шагах от него, громко говоря и обращая на себя общее внимание, стоял, опершись на сук и с обвязанной головой, высокий, красивый, черноволосый унтер офицер. Он был ранен в голову и ногу пулями. Вокруг него, жадно слушая его речь, собралась толпа раненых и носильщиков.
– Мы его оттеда как долбанули, так все побросал, самого короля забрали! – блестя черными разгоряченными глазами и оглядываясь вокруг себя, кричал солдат. – Подойди только в тот самый раз лезервы, его б, братец ты мой, звания не осталось, потому верно тебе говорю…
Князь Андрей, так же как и все окружавшие рассказчика, блестящим взглядом смотрел на него и испытывал утешительное чувство. «Но разве не все равно теперь, – подумал он. – А что будет там и что такое было здесь? Отчего мне так жалко было расставаться с жизнью? Что то было в этой жизни, чего я не понимал и не понимаю».
Один из докторов, в окровавленном фартуке и с окровавленными небольшими руками, в одной из которых он между мизинцем и большим пальцем (чтобы не запачкать ее) держал сигару, вышел из палатки. Доктор этот поднял голову и стал смотреть по сторонам, но выше раненых. Он, очевидно, хотел отдохнуть немного. Поводив несколько времени головой вправо и влево, он вздохнул и опустил глаза.
– Ну, сейчас, – сказал он на слова фельдшера, указывавшего ему на князя Андрея, и велел нести его в палатку.
В толпе ожидавших раненых поднялся ропот.
– Видно, и на том свете господам одним жить, – проговорил один.
Князя Андрея внесли и положили на только что очистившийся стол, с которого фельдшер споласкивал что то. Князь Андрей не мог разобрать в отдельности того, что было в палатке. Жалобные стоны с разных сторон, мучительная боль бедра, живота и спины развлекали его. Все, что он видел вокруг себя, слилось для него в одно общее впечатление обнаженного, окровавленного человеческого тела, которое, казалось, наполняло всю низкую палатку, как несколько недель тому назад в этот жаркий, августовский день это же тело наполняло грязный пруд по Смоленской дороге. Да, это было то самое тело, та самая chair a canon [мясо для пушек], вид которой еще тогда, как бы предсказывая теперешнее, возбудил в нем ужас.
В палатке было три стола. Два были заняты, на третий положили князя Андрея. Несколько времени его оставили одного, и он невольно увидал то, что делалось на других двух столах. На ближнем столе сидел татарин, вероятно, казак – по мундиру, брошенному подле. Четверо солдат держали его. Доктор в очках что то резал в его коричневой, мускулистой спине.
– Ух, ух, ух!.. – как будто хрюкал татарин, и вдруг, подняв кверху свое скуластое черное курносое лицо, оскалив белые зубы, начинал рваться, дергаться и визжат ь пронзительно звенящим, протяжным визгом. На другом столе, около которого толпилось много народа, на спине лежал большой, полный человек с закинутой назад головой (вьющиеся волоса, их цвет и форма головы показались странно знакомы князю Андрею). Несколько человек фельдшеров навалились на грудь этому человеку и держали его. Белая большая полная нога быстро и часто, не переставая, дергалась лихорадочными трепетаниями. Человек этот судорожно рыдал и захлебывался. Два доктора молча – один был бледен и дрожал – что то делали над другой, красной ногой этого человека. Управившись с татарином, на которого накинули шинель, доктор в очках, обтирая руки, подошел к князю Андрею. Он взглянул в лицо князя Андрея и поспешно отвернулся.
– Раздеть! Что стоите? – крикнул он сердито на фельдшеров.
Самое первое далекое детство вспомнилось князю Андрею, когда фельдшер торопившимися засученными руками расстегивал ему пуговицы и снимал с него платье. Доктор низко нагнулся над раной, ощупал ее и тяжело вздохнул. Потом он сделал знак кому то. И мучительная боль внутри живота заставила князя Андрея потерять сознание. Когда он очнулся, разбитые кости бедра были вынуты, клоки мяса отрезаны, и рана перевязана. Ему прыскали в лицо водою. Как только князь Андрей открыл глаза, доктор нагнулся над ним, молча поцеловал его в губы и поспешно отошел.
После перенесенного страдания князь Андрей чувствовал блаженство, давно не испытанное им. Все лучшие, счастливейшие минуты в его жизни, в особенности самое дальнее детство, когда его раздевали и клали в кроватку, когда няня, убаюкивая, пела над ним, когда, зарывшись головой в подушки, он чувствовал себя счастливым одним сознанием жизни, – представлялись его воображению даже не как прошедшее, а как действительность.
Около того раненого, очертания головы которого казались знакомыми князю Андрею, суетились доктора; его поднимали и успокоивали.
– Покажите мне… Ооооо! о! ооооо! – слышался его прерываемый рыданиями, испуганный и покорившийся страданию стон. Слушая эти стоны, князь Андрей хотел плакать. Оттого ли, что он без славы умирал, оттого ли, что жалко ему было расставаться с жизнью, от этих ли невозвратимых детских воспоминаний, оттого ли, что он страдал, что другие страдали и так жалостно перед ним стонал этот человек, но ему хотелось плакать детскими, добрыми, почти радостными слезами.
Раненому показали в сапоге с запекшейся кровью отрезанную ногу.
– О! Ооооо! – зарыдал он, как женщина. Доктор, стоявший перед раненым, загораживая его лицо, отошел.
– Боже мой! Что это? Зачем он здесь? – сказал себе князь Андрей.
В несчастном, рыдающем, обессилевшем человеке, которому только что отняли ногу, он узнал Анатоля Курагина. Анатоля держали на руках и предлагали ему воду в стакане, края которого он не мог поймать дрожащими, распухшими губами. Анатоль тяжело всхлипывал. «Да, это он; да, этот человек чем то близко и тяжело связан со мною, – думал князь Андрей, не понимая еще ясно того, что было перед ним. – В чем состоит связь этого человека с моим детством, с моею жизнью? – спрашивал он себя, не находя ответа. И вдруг новое, неожиданное воспоминание из мира детского, чистого и любовного, представилось князю Андрею. Он вспомнил Наташу такою, какою он видел ее в первый раз на бале 1810 года, с тонкой шеей и тонкими рукамис готовым на восторг, испуганным, счастливым лицом, и любовь и нежность к ней, еще живее и сильнее, чем когда либо, проснулись в его душе. Он вспомнил теперь ту связь, которая существовала между им и этим человеком, сквозь слезы, наполнявшие распухшие глаза, мутно смотревшим на него. Князь Андрей вспомнил все, и восторженная жалость и любовь к этому человеку наполнили его счастливое сердце.
Князь Андрей не мог удерживаться более и заплакал нежными, любовными слезами над людьми, над собой и над их и своими заблуждениями.
«Сострадание, любовь к братьям, к любящим, любовь к ненавидящим нас, любовь к врагам – да, та любовь, которую проповедовал бог на земле, которой меня учила княжна Марья и которой я не понимал; вот отчего мне жалко было жизни, вот оно то, что еще оставалось мне, ежели бы я был жив. Но теперь уже поздно. Я знаю это!»
Страшный вид поля сражения, покрытого трупами и ранеными, в соединении с тяжестью головы и с известиями об убитых и раненых двадцати знакомых генералах и с сознанием бессильности своей прежде сильной руки произвели неожиданное впечатление на Наполеона, который обыкновенно любил рассматривать убитых и раненых, испытывая тем свою душевную силу (как он думал). В этот день ужасный вид поля сражения победил ту душевную силу, в которой он полагал свою заслугу и величие. Он поспешно уехал с поля сражения и возвратился к Шевардинскому кургану. Желтый, опухлый, тяжелый, с мутными глазами, красным носом и охриплым голосом, он сидел на складном стуле, невольно прислушиваясь к звукам пальбы и не поднимая глаз. Он с болезненной тоской ожидал конца того дела, которого он считал себя причиной, но которого он не мог остановить. Личное человеческое чувство на короткое мгновение взяло верх над тем искусственным призраком жизни, которому он служил так долго. Он на себя переносил те страдания и ту смерть, которые он видел на поле сражения. Тяжесть головы и груди напоминала ему о возможности и для себя страданий и смерти. Он в эту минуту не хотел для себя ни Москвы, ни победы, ни славы. (Какой нужно было ему еще славы?) Одно, чего он желал теперь, – отдыха, спокойствия и свободы. Но когда он был на Семеновской высоте, начальник артиллерии предложил ему выставить несколько батарей на эти высоты, для того чтобы усилить огонь по столпившимся перед Князьковым русским войскам. Наполеон согласился и приказал привезти ему известие о том, какое действие произведут эти батареи.
Адъютант приехал сказать, что по приказанию императора двести орудий направлены на русских, но что русские все так же стоят.
– Наш огонь рядами вырывает их, а они стоят, – сказал адъютант.
– Ils en veulent encore!.. [Им еще хочется!..] – сказал Наполеон охриплым голосом.
– Sire? [Государь?] – повторил не расслушавший адъютант.
– Ils en veulent encore, – нахмурившись, прохрипел Наполеон осиплым голосом, – donnez leur en. [Еще хочется, ну и задайте им.]
И без его приказания делалось то, чего он хотел, и он распорядился только потому, что думал, что от него ждали приказания. И он опять перенесся в свой прежний искусственный мир призраков какого то величия, и опять (как та лошадь, ходящая на покатом колесе привода, воображает себе, что она что то делает для себя) он покорно стал исполнять ту жестокую, печальную и тяжелую, нечеловеческую роль, которая ему была предназначена.
И не на один только этот час и день были помрачены ум и совесть этого человека, тяжеле всех других участников этого дела носившего на себе всю тяжесть совершавшегося; но и никогда, до конца жизни, не мог понимать он ни добра, ни красоты, ни истины, ни значения своих поступков, которые были слишком противоположны добру и правде, слишком далеки от всего человеческого, для того чтобы он мог понимать их значение. Он не мог отречься от своих поступков, восхваляемых половиной света, и потому должен был отречься от правды и добра и всего человеческого.
Не в один только этот день, объезжая поле сражения, уложенное мертвыми и изувеченными людьми (как он думал, по его воле), он, глядя на этих людей, считал, сколько приходится русских на одного француза, и, обманывая себя, находил причины радоваться, что на одного француза приходилось пять русских. Не в один только этот день он писал в письме в Париж, что le champ de bataille a ete superbe [поле сражения было великолепно], потому что на нем было пятьдесят тысяч трупов; но и на острове Св. Елены, в тиши уединения, где он говорил, что он намерен был посвятить свои досуги изложению великих дел, которые он сделал, он писал:
«La guerre de Russie eut du etre la plus populaire des temps modernes: c'etait celle du bon sens et des vrais interets, celle du repos et de la securite de tous; elle etait purement pacifique et conservatrice.
C'etait pour la grande cause, la fin des hasards elle commencement de la securite. Un nouvel horizon, de nouveaux travaux allaient se derouler, tout plein du bien etre et de la prosperite de tous. Le systeme europeen se trouvait fonde; il n'etait plus question que de l'organiser.
Satisfait sur ces grands points et tranquille partout, j'aurais eu aussi mon congres et ma sainte alliance. Ce sont des idees qu'on m'a volees. Dans cette reunion de grands souverains, nous eussions traites de nos interets en famille et compte de clerc a maitre avec les peuples.
L'Europe n'eut bientot fait de la sorte veritablement qu'un meme peuple, et chacun, en voyageant partout, se fut trouve toujours dans la patrie commune. Il eut demande toutes les rivieres navigables pour tous, la communaute des mers, et que les grandes armees permanentes fussent reduites desormais a la seule garde des souverains.
De retour en France, au sein de la patrie, grande, forte, magnifique, tranquille, glorieuse, j'eusse proclame ses limites immuables; toute guerre future, purement defensive; tout agrandissement nouveau antinational. J'eusse associe mon fils a l'Empire; ma dictature eut fini, et son regne constitutionnel eut commence…
Paris eut ete la capitale du monde, et les Francais l'envie des nations!..
Mes loisirs ensuite et mes vieux jours eussent ete consacres, en compagnie de l'imperatrice et durant l'apprentissage royal de mon fils, a visiter lentement et en vrai couple campagnard, avec nos propres chevaux, tous les recoins de l'Empire, recevant les plaintes, redressant les torts, semant de toutes parts et partout les monuments et les bienfaits.
Русская война должна бы была быть самая популярная в новейшие времена: это была война здравого смысла и настоящих выгод, война спокойствия и безопасности всех; она была чисто миролюбивая и консервативная.
Это было для великой цели, для конца случайностей и для начала спокойствия. Новый горизонт, новые труды открывались бы, полные благосостояния и благоденствия всех. Система европейская была бы основана, вопрос заключался бы уже только в ее учреждении.
Удовлетворенный в этих великих вопросах и везде спокойный, я бы тоже имел свой конгресс и свой священный союз. Это мысли, которые у меня украли. В этом собрании великих государей мы обсуживали бы наши интересы семейно и считались бы с народами, как писец с хозяином.
Европа действительно скоро составила бы таким образом один и тот же народ, и всякий, путешествуя где бы то ни было, находился бы всегда в общей родине.
Я бы выговорил, чтобы все реки были судоходны для всех, чтобы море было общее, чтобы постоянные, большие армии были уменьшены единственно до гвардии государей и т.д.
Возвратясь во Францию, на родину, великую, сильную, великолепную, спокойную, славную, я провозгласил бы границы ее неизменными; всякую будущую войну защитительной; всякое новое распространение – антинациональным; я присоединил бы своего сына к правлению империей; мое диктаторство кончилось бы, в началось бы его конституционное правление…
Париж был бы столицей мира и французы предметом зависти всех наций!..
Потом мои досуги и последние дни были бы посвящены, с помощью императрицы и во время царственного воспитывания моего сына, на то, чтобы мало помалу посещать, как настоящая деревенская чета, на собственных лошадях, все уголки государства, принимая жалобы, устраняя несправедливости, рассевая во все стороны и везде здания и благодеяния.]
Он, предназначенный провидением на печальную, несвободную роль палача народов, уверял себя, что цель его поступков была благо народов и что он мог руководить судьбами миллионов и путем власти делать благодеяния!
«Des 400000 hommes qui passerent la Vistule, – писал он дальше о русской войне, – la moitie etait Autrichiens, Prussiens, Saxons, Polonais, Bavarois, Wurtembergeois, Mecklembourgeois, Espagnols, Italiens, Napolitains. L'armee imperiale, proprement dite, etait pour un tiers composee de Hollandais, Belges, habitants des bords du Rhin, Piemontais, Suisses, Genevois, Toscans, Romains, habitants de la 32 e division militaire, Breme, Hambourg, etc.; elle comptait a peine 140000 hommes parlant francais. L'expedition do Russie couta moins de 50000 hommes a la France actuelle; l'armee russe dans la retraite de Wilna a Moscou, dans les differentes batailles, a perdu quatre fois plus que l'armee francaise; l'incendie de Moscou a coute la vie a 100000 Russes, morts de froid et de misere dans les bois; enfin dans sa marche de Moscou a l'Oder, l'armee russe fut aussi atteinte par, l'intemperie de la saison; elle ne comptait a son arrivee a Wilna que 50000 hommes, et a Kalisch moins de 18000».
[Из 400000 человек, которые перешли Вислу, половина была австрийцы, пруссаки, саксонцы, поляки, баварцы, виртембергцы, мекленбургцы, испанцы, итальянцы и неаполитанцы. Императорская армия, собственно сказать, была на треть составлена из голландцев, бельгийцев, жителей берегов Рейна, пьемонтцев, швейцарцев, женевцев, тосканцев, римлян, жителей 32 й военной дивизии, Бремена, Гамбурга и т.д.; в ней едва ли было 140000 человек, говорящих по французски. Русская экспедиция стоила собственно Франции менее 50000 человек; русская армия в отступлении из Вильны в Москву в различных сражениях потеряла в четыре раза более, чем французская армия; пожар Москвы стоил жизни 100000 русских, умерших от холода и нищеты в лесах; наконец во время своего перехода от Москвы к Одеру русская армия тоже пострадала от суровости времени года; по приходе в Вильну она состояла только из 50000 людей, а в Калише менее 18000.]
Он воображал себе, что по его воле произошла война с Россией, и ужас совершившегося не поражал его душу. Он смело принимал на себя всю ответственность события, и его помраченный ум видел оправдание в том, что в числе сотен тысяч погибших людей было меньше французов, чем гессенцев и баварцев.
Несколько десятков тысяч человек лежало мертвыми в разных положениях и мундирах на полях и лугах, принадлежавших господам Давыдовым и казенным крестьянам, на тех полях и лугах, на которых сотни лет одновременно сбирали урожаи и пасли скот крестьяне деревень Бородина, Горок, Шевардина и Семеновского. На перевязочных пунктах на десятину места трава и земля были пропитаны кровью. Толпы раненых и нераненых разных команд людей, с испуганными лицами, с одной стороны брели назад к Можайску, с другой стороны – назад к Валуеву. Другие толпы, измученные и голодные, ведомые начальниками, шли вперед. Третьи стояли на местах и продолжали стрелять.
Над всем полем, прежде столь весело красивым, с его блестками штыков и дымами в утреннем солнце, стояла теперь мгла сырости и дыма и пахло странной кислотой селитры и крови. Собрались тучки, и стал накрапывать дождик на убитых, на раненых, на испуганных, и на изнуренных, и на сомневающихся людей. Как будто он говорил: «Довольно, довольно, люди. Перестаньте… Опомнитесь. Что вы делаете?»
Измученным, без пищи и без отдыха, людям той и другой стороны начинало одинаково приходить сомнение о том, следует ли им еще истреблять друг друга, и на всех лицах было заметно колебанье, и в каждой душе одинаково поднимался вопрос: «Зачем, для кого мне убивать и быть убитому? Убивайте, кого хотите, делайте, что хотите, а я не хочу больше!» Мысль эта к вечеру одинаково созрела в душе каждого. Всякую минуту могли все эти люди ужаснуться того, что они делали, бросить всо и побежать куда попало.
Но хотя уже к концу сражения люди чувствовали весь ужас своего поступка, хотя они и рады бы были перестать, какая то непонятная, таинственная сила еще продолжала руководить ими, и, запотелые, в порохе и крови, оставшиеся по одному на три, артиллеристы, хотя и спотыкаясь и задыхаясь от усталости, приносили заряды, заряжали, наводили, прикладывали фитили; и ядра так же быстро и жестоко перелетали с обеих сторон и расплюскивали человеческое тело, и продолжало совершаться то страшное дело, которое совершается не по воле людей, а по воле того, кто руководит людьми и мирами.
Тот, кто посмотрел бы на расстроенные зады русской армии, сказал бы, что французам стоит сделать еще одно маленькое усилие, и русская армия исчезнет; и тот, кто посмотрел бы на зады французов, сказал бы, что русским стоит сделать еще одно маленькое усилие, и французы погибнут. Но ни французы, ни русские не делали этого усилия, и пламя сражения медленно догорало.
Русские не делали этого усилия, потому что не они атаковали французов. В начале сражения они только стояли по дороге в Москву, загораживая ее, и точно так же они продолжали стоять при конце сражения, как они стояли при начале его. Но ежели бы даже цель русских состояла бы в том, чтобы сбить французов, они не могли сделать это последнее усилие, потому что все войска русских были разбиты, не было ни одной части войск, не пострадавшей в сражении, и русские, оставаясь на своих местах, потеряли половину своего войска.
Французам, с воспоминанием всех прежних пятнадцатилетних побед, с уверенностью в непобедимости Наполеона, с сознанием того, что они завладели частью поля сраженья, что они потеряли только одну четверть людей и что у них еще есть двадцатитысячная нетронутая гвардия, легко было сделать это усилие. Французам, атаковавшим русскую армию с целью сбить ее с позиции, должно было сделать это усилие, потому что до тех пор, пока русские, точно так же как и до сражения, загораживали дорогу в Москву, цель французов не была достигнута и все их усилия и потери пропали даром. Но французы не сделали этого усилия. Некоторые историки говорят, что Наполеону стоило дать свою нетронутую старую гвардию для того, чтобы сражение было выиграно. Говорить о том, что бы было, если бы Наполеон дал свою гвардию, все равно что говорить о том, что бы было, если б осенью сделалась весна. Этого не могло быть. Не Наполеон не дал своей гвардии, потому что он не захотел этого, но этого нельзя было сделать. Все генералы, офицеры, солдаты французской армии знали, что этого нельзя было сделать, потому что упадший дух войска не позволял этого.
Не один Наполеон испытывал то похожее на сновиденье чувство, что страшный размах руки падает бессильно, но все генералы, все участвовавшие и не участвовавшие солдаты французской армии, после всех опытов прежних сражений (где после вдесятеро меньших усилий неприятель бежал), испытывали одинаковое чувство ужаса перед тем врагом, который, потеряв половину войска, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения. Нравственная сила французской, атакующей армии была истощена. Не та победа, которая определяется подхваченными кусками материи на палках, называемых знаменами, и тем пространством, на котором стояли и стоят войска, – а победа нравственная, та, которая убеждает противника в нравственном превосходстве своего врага и в своем бессилии, была одержана русскими под Бородиным. Французское нашествие, как разъяренный зверь, получивший в своем разбеге смертельную рану, чувствовало свою погибель; но оно не могло остановиться, так же как и не могло не отклониться вдвое слабейшее русское войско. После данного толчка французское войско еще могло докатиться до Москвы; но там, без новых усилий со стороны русского войска, оно должно было погибнуть, истекая кровью от смертельной, нанесенной при Бородине, раны. Прямым следствием Бородинского сражения было беспричинное бегство Наполеона из Москвы, возвращение по старой Смоленской дороге, погибель пятисоттысячного нашествия и погибель наполеоновской Франции, на которую в первый раз под Бородиным была наложена рука сильнейшего духом противника.
Для человеческого ума непонятна абсолютная непрерывность движения. Человеку становятся понятны законы какого бы то ни было движения только тогда, когда он рассматривает произвольно взятые единицы этого движения. Но вместе с тем из этого то произвольного деления непрерывного движения на прерывные единицы проистекает большая часть человеческих заблуждений.
Известен так называемый софизм древних, состоящий в том, что Ахиллес никогда не догонит впереди идущую черепаху, несмотря на то, что Ахиллес идет в десять раз скорее черепахи: как только Ахиллес пройдет пространство, отделяющее его от черепахи, черепаха пройдет впереди его одну десятую этого пространства; Ахиллес пройдет эту десятую, черепаха пройдет одну сотую и т. д. до бесконечности. Задача эта представлялась древним неразрешимою. Бессмысленность решения (что Ахиллес никогда не догонит черепаху) вытекала из того только, что произвольно были допущены прерывные единицы движения, тогда как движение и Ахиллеса и черепахи совершалось непрерывно.
Принимая все более и более мелкие единицы движения, мы только приближаемся к решению вопроса, но никогда не достигаем его. Только допустив бесконечно малую величину и восходящую от нее прогрессию до одной десятой и взяв сумму этой геометрической прогрессии, мы достигаем решения вопроса. Новая отрасль математики, достигнув искусства обращаться с бесконечно малыми величинами, и в других более сложных вопросах движения дает теперь ответы на вопросы, казавшиеся неразрешимыми.
Эта новая, неизвестная древним, отрасль математики, при рассмотрении вопросов движения, допуская бесконечно малые величины, то есть такие, при которых восстановляется главное условие движения (абсолютная непрерывность), тем самым исправляет ту неизбежную ошибку, которую ум человеческий не может не делать, рассматривая вместо непрерывного движения отдельные единицы движения.
В отыскании законов исторического движения происходит совершенно то же.
Движение человечества, вытекая из бесчисленного количества людских произволов, совершается непрерывно.
Постижение законов этого движения есть цель истории. Но для того, чтобы постигнуть законы непрерывного движения суммы всех произволов людей, ум человеческий допускает произвольные, прерывные единицы. Первый прием истории состоит в том, чтобы, взяв произвольный ряд непрерывных событий, рассматривать его отдельно от других, тогда как нет и не может быть начала никакого события, а всегда одно событие непрерывно вытекает из другого. Второй прием состоит в том, чтобы рассматривать действие одного человека, царя, полководца, как сумму произволов людей, тогда как сумма произволов людских никогда не выражается в деятельности одного исторического лица.
Историческая наука в движении своем постоянно принимает все меньшие и меньшие единицы для рассмотрения и этим путем стремится приблизиться к истине. Но как ни мелки единицы, которые принимает история, мы чувствуем, что допущение единицы, отделенной от другой, допущение начала какого нибудь явления и допущение того, что произволы всех людей выражаются в действиях одного исторического лица, ложны сами в себе.
Всякий вывод истории, без малейшего усилия со стороны критики, распадается, как прах, ничего не оставляя за собой, только вследствие того, что критика избирает за предмет наблюдения большую или меньшую прерывную единицу; на что она всегда имеет право, так как взятая историческая единица всегда произвольна.
Только допустив бесконечно малую единицу для наблюдения – дифференциал истории, то есть однородные влечения людей, и достигнув искусства интегрировать (брать суммы этих бесконечно малых), мы можем надеяться на постигновение законов истории.
Первые пятнадцать лет XIX столетия в Европе представляют необыкновенное движение миллионов людей. Люди оставляют свои обычные занятия, стремятся с одной стороны Европы в другую, грабят, убивают один другого, торжествуют и отчаиваются, и весь ход жизни на несколько лет изменяется и представляет усиленное движение, которое сначала идет возрастая, потом ослабевая. Какая причина этого движения или по каким законам происходило оно? – спрашивает ум человеческий.
Историки, отвечая на этот вопрос, излагают нам деяния и речи нескольких десятков людей в одном из зданий города Парижа, называя эти деяния и речи словом революция; потом дают подробную биографию Наполеона и некоторых сочувственных и враждебных ему лиц, рассказывают о влиянии одних из этих лиц на другие и говорят: вот отчего произошло это движение, и вот законы его.
Но ум человеческий не только отказывается верить в это объяснение, но прямо говорит, что прием объяснения не верен, потому что при этом объяснении слабейшее явление принимается за причину сильнейшего. Сумма людских произволов сделала и революцию и Наполеона, и только сумма этих произволов терпела их и уничтожила.
«Но всякий раз, когда были завоевания, были завоеватели; всякий раз, когда делались перевороты в государстве, были великие люди», – говорит история. Действительно, всякий раз, когда являлись завоеватели, были и войны, отвечает ум человеческий, но это не доказывает, чтобы завоеватели были причинами войн и чтобы возможно было найти законы войны в личной деятельности одного человека. Всякий раз, когда я, глядя на свои часы, вижу, что стрелка подошла к десяти, я слышу, что в соседней церкви начинается благовест, но из того, что всякий раз, что стрелка приходит на десять часов тогда, как начинается благовест, я не имею права заключить, что положение стрелки есть причина движения колоколов.
Всякий раз, как я вижу движение паровоза, я слышу звук свиста, вижу открытие клапана и движение колес; но из этого я не имею права заключить, что свист и движение колес суть причины движения паровоза.
Крестьяне говорят, что поздней весной дует холодный ветер, потому что почка дуба развертывается, и действительно, всякую весну дует холодный ветер, когда развертывается дуб. Но хотя причина дующего при развертыванье дуба холодного ветра мне неизвестна, я не могу согласиться с крестьянами в том, что причина холодного ветра есть раэвертыванье почки дуба, потому только, что сила ветра находится вне влияний почки. Я вижу только совпадение тех условий, которые бывают во всяком жизненном явлении, и вижу, что, сколько бы и как бы подробно я ни наблюдал стрелку часов, клапан и колеса паровоза и почку дуба, я не узнаю причину благовеста, движения паровоза и весеннего ветра. Для этого я должен изменить совершенно свою точку наблюдения и изучать законы движения пара, колокола и ветра. То же должна сделать история. И попытки этого уже были сделаны.
Для изучения законов истории мы должны изменить совершенно предмет наблюдения, оставить в покое царей, министров и генералов, а изучать однородные, бесконечно малые элементы, которые руководят массами. Никто не может сказать, насколько дано человеку достигнуть этим путем понимания законов истории; но очевидно, что на этом пути только лежит возможность уловления исторических законов и что на этом пути не положено еще умом человеческим одной миллионной доли тех усилий, которые положены историками на описание деяний различных царей, полководцев и министров и на изложение своих соображений по случаю этих деяний.
Силы двунадесяти языков Европы ворвались в Россию. Русское войско и население отступают, избегая столкновения, до Смоленска и от Смоленска до Бородина. Французское войско с постоянно увеличивающеюся силой стремительности несется к Москве, к цели своего движения. Сила стремительности его, приближаясь к цели, увеличивается подобно увеличению быстроты падающего тела по мере приближения его к земле. Назади тысяча верст голодной, враждебной страны; впереди десятки верст, отделяющие от цели. Это чувствует всякий солдат наполеоновской армии, и нашествие надвигается само собой, по одной силе стремительности.
В русском войске по мере отступления все более и более разгорается дух озлобления против врага: отступая назад, оно сосредоточивается и нарастает. Под Бородиным происходит столкновение. Ни то, ни другое войско не распадаются, но русское войско непосредственно после столкновения отступает так же необходимо, как необходимо откатывается шар, столкнувшись с другим, с большей стремительностью несущимся на него шаром; и так же необходимо (хотя и потерявший всю свою силу в столкновении) стремительно разбежавшийся шар нашествия прокатывается еще некоторое пространство.
Русские отступают за сто двадцать верст – за Москву, французы доходят до Москвы и там останавливаются. В продолжение пяти недель после этого нет ни одного сражения. Французы не двигаются. Подобно смертельно раненному зверю, который, истекая кровью, зализывает свои раны, они пять недель остаются в Москве, ничего не предпринимая, и вдруг, без всякой новой причины, бегут назад: бросаются на Калужскую дорогу (и после победы, так как опять поле сражения осталось за ними под Малоярославцем), не вступая ни в одно серьезное сражение, бегут еще быстрее назад в Смоленск, за Смоленск, за Вильну, за Березину и далее.
В вечер 26 го августа и Кутузов, и вся русская армия были уверены, что Бородинское сражение выиграно. Кутузов так и писал государю. Кутузов приказал готовиться на новый бой, чтобы добить неприятеля не потому, чтобы он хотел кого нибудь обманывать, но потому, что он знал, что враг побежден, так же как знал это каждый из участников сражения.
Но в тот же вечер и на другой день стали, одно за другим, приходить известия о потерях неслыханных, о потере половины армии, и новое сражение оказалось физически невозможным.
Нельзя было давать сражения, когда еще не собраны были сведения, не убраны раненые, не пополнены снаряды, не сочтены убитые, не назначены новые начальники на места убитых, не наелись и не выспались люди.
А вместе с тем сейчас же после сражения, на другое утро, французское войско (по той стремительной силе движения, увеличенного теперь как бы в обратном отношении квадратов расстояний) уже надвигалось само собой на русское войско. Кутузов хотел атаковать на другой день, и вся армия хотела этого. Но для того чтобы атаковать, недостаточно желания сделать это; нужно, чтоб была возможность это сделать, а возможности этой не было. Нельзя было не отступить на один переход, потом точно так же нельзя было не отступить на другой и на третий переход, и наконец 1 го сентября, – когда армия подошла к Москве, – несмотря на всю силу поднявшегося чувства в рядах войск, сила вещей требовала того, чтобы войска эти шли за Москву. И войска отступили ещо на один, на последний переход и отдали Москву неприятелю.
Для тех людей, которые привыкли думать, что планы войн и сражений составляются полководцами таким же образом, как каждый из нас, сидя в своем кабинете над картой, делает соображения о том, как и как бы он распорядился в таком то и таком то сражении, представляются вопросы, почему Кутузов при отступлении не поступил так то и так то, почему он не занял позиции прежде Филей, почему он не отступил сразу на Калужскую дорогу, оставил Москву, и т. д. Люди, привыкшие так думать, забывают или не знают тех неизбежных условий, в которых всегда происходит деятельность всякого главнокомандующего. Деятельность полководца не имеет ни малейшего подобия с тою деятельностью, которую мы воображаем себе, сидя свободно в кабинете, разбирая какую нибудь кампанию на карте с известным количеством войска, с той и с другой стороны, и в известной местности, и начиная наши соображения с какого нибудь известного момента. Главнокомандующий никогда не бывает в тех условиях начала какого нибудь события, в которых мы всегда рассматриваем событие. Главнокомандующий всегда находится в средине движущегося ряда событий, и так, что никогда, ни в какую минуту, он не бывает в состоянии обдумать все значение совершающегося события. Событие незаметно, мгновение за мгновением, вырезается в свое значение, и в каждый момент этого последовательного, непрерывного вырезывания события главнокомандующий находится в центре сложнейшей игры, интриг, забот, зависимости, власти, проектов, советов, угроз, обманов, находится постоянно в необходимости отвечать на бесчисленное количество предлагаемых ему, всегда противоречащих один другому, вопросов.
Нам пресерьезно говорят ученые военные, что Кутузов еще гораздо прежде Филей должен был двинуть войска на Калужскую дорогу, что даже кто то предлагал таковой проект. Но перед главнокомандующим, особенно в трудную минуту, бывает не один проект, а всегда десятки одновременно. И каждый из этих проектов, основанных на стратегии и тактике, противоречит один другому. Дело главнокомандующего, казалось бы, состоит только в том, чтобы выбрать один из этих проектов. Но и этого он не может сделать. События и время не ждут. Ему предлагают, положим, 28 го числа перейти на Калужскую дорогу, но в это время прискакивает адъютант от Милорадовича и спрашивает, завязывать ли сейчас дело с французами или отступить. Ему надо сейчас, сию минуту, отдать приказанье. А приказанье отступить сбивает нас с поворота на Калужскую дорогу. И вслед за адъютантом интендант спрашивает, куда везти провиант, а начальник госпиталей – куда везти раненых; а курьер из Петербурга привозит письмо государя, не допускающее возможности оставить Москву, а соперник главнокомандующего, тот, кто подкапывается под него (такие всегда есть, и не один, а несколько), предлагает новый проект, диаметрально противоположный плану выхода на Калужскую дорогу; а силы самого главнокомандующего требуют сна и подкрепления; а обойденный наградой почтенный генерал приходит жаловаться, а жители умоляют о защите; посланный офицер для осмотра местности приезжает и доносит совершенно противоположное тому, что говорил перед ним посланный офицер; а лазутчик, пленный и делавший рекогносцировку генерал – все описывают различно положение неприятельской армии. Люди, привыкшие не понимать или забывать эти необходимые условия деятельности всякого главнокомандующего, представляют нам, например, положение войск в Филях и при этом предполагают, что главнокомандующий мог 1 го сентября совершенно свободно разрешать вопрос об оставлении или защите Москвы, тогда как при положении русской армии в пяти верстах от Москвы вопроса этого не могло быть. Когда же решился этот вопрос? И под Дриссой, и под Смоленском, и ощутительнее всего 24 го под Шевардиным, и 26 го под Бородиным, и в каждый день, и час, и минуту отступления от Бородина до Филей.
Русские войска, отступив от Бородина, стояли у Филей. Ермолов, ездивший для осмотра позиции, подъехал к фельдмаршалу.
– Драться на этой позиции нет возможности, – сказал он. Кутузов удивленно посмотрел на него и заставил его повторить сказанные слова. Когда он проговорил, Кутузов протянул ему руку.
– Дай ка руку, – сказал он, и, повернув ее так, чтобы ощупать его пульс, он сказал: – Ты нездоров, голубчик. Подумай, что ты говоришь.
Кутузов на Поклонной горе, в шести верстах от Дорогомиловской заставы, вышел из экипажа и сел на лавку на краю дороги. Огромная толпа генералов собралась вокруг него. Граф Растопчин, приехав из Москвы, присоединился к ним. Все это блестящее общество, разбившись на несколько кружков, говорило между собой о выгодах и невыгодах позиции, о положении войск, о предполагаемых планах, о состоянии Москвы, вообще о вопросах военных. Все чувствовали, что хотя и не были призваны на то, что хотя это не было так названо, но что это был военный совет. Разговоры все держались в области общих вопросов. Ежели кто и сообщал или узнавал личные новости, то про это говорилось шепотом, и тотчас переходили опять к общим вопросам: ни шуток, ни смеха, ни улыбок даже не было заметно между всеми этими людьми. Все, очевидно, с усилием, старались держаться на высота положения. И все группы, разговаривая между собой, старались держаться в близости главнокомандующего (лавка которого составляла центр в этих кружках) и говорили так, чтобы он мог их слышать. Главнокомандующий слушал и иногда переспрашивал то, что говорили вокруг него, но сам не вступал в разговор и не выражал никакого мнения. Большей частью, послушав разговор какого нибудь кружка, он с видом разочарования, – как будто совсем не о том они говорили, что он желал знать, – отворачивался. Одни говорили о выбранной позиции, критикуя не столько самую позицию, сколько умственные способности тех, которые ее выбрали; другие доказывали, что ошибка была сделана прежде, что надо было принять сраженье еще третьего дня; третьи говорили о битве при Саламанке, про которую рассказывал только что приехавший француз Кросар в испанском мундире. (Француз этот вместе с одним из немецких принцев, служивших в русской армии, разбирал осаду Сарагоссы, предвидя возможность так же защищать Москву.) В четвертом кружке граф Растопчин говорил о том, что он с московской дружиной готов погибнуть под стенами столицы, но что все таки он не может не сожалеть о той неизвестности, в которой он был оставлен, и что, ежели бы он это знал прежде, было бы другое… Пятые, выказывая глубину своих стратегических соображений, говорили о том направлении, которое должны будут принять войска. Шестые говорили совершенную бессмыслицу. Лицо Кутузова становилось все озабоченнее и печальнее. Из всех разговоров этих Кутузов видел одно: защищать Москву не было никакой физической возможности в полном значении этих слов, то есть до такой степени не было возможности, что ежели бы какой нибудь безумный главнокомандующий отдал приказ о даче сражения, то произошла бы путаница и сражения все таки бы не было; не было бы потому, что все высшие начальники не только признавали эту позицию невозможной, но в разговорах своих обсуждали только то, что произойдет после несомненного оставления этой позиции. Как же могли начальники вести свои войска на поле сражения, которое они считали невозможным? Низшие начальники, даже солдаты (которые тоже рассуждают), также признавали позицию невозможной и потому не могли идти драться с уверенностью поражения. Ежели Бенигсен настаивал на защите этой позиции и другие еще обсуждали ее, то вопрос этот уже не имел значения сам по себе, а имел значение только как предлог для спора и интриги. Это понимал Кутузов.
Бенигсен, выбрав позицию, горячо выставляя свой русский патриотизм (которого не мог, не морщась, выслушивать Кутузов), настаивал на защите Москвы. Кутузов ясно как день видел цель Бенигсена: в случае неудачи защиты – свалить вину на Кутузова, доведшего войска без сражения до Воробьевых гор, а в случае успеха – себе приписать его; в случае же отказа – очистить себя в преступлении оставления Москвы. Но этот вопрос интриги не занимал теперь старого человека. Один страшный вопрос занимал его. И на вопрос этот он ни от кого не слышал ответа. Вопрос состоял для него теперь только в том: «Неужели это я допустил до Москвы Наполеона, и когда же я это сделал? Когда это решилось? Неужели вчера, когда я послал к Платову приказ отступить, или третьего дня вечером, когда я задремал и приказал Бенигсену распорядиться? Или еще прежде?.. но когда, когда же решилось это страшное дело? Москва должна быть оставлена. Войска должны отступить, и надо отдать это приказание». Отдать это страшное приказание казалось ему одно и то же, что отказаться от командования армией. А мало того, что он любил власть, привык к ней (почет, отдаваемый князю Прозоровскому, при котором он состоял в Турции, дразнил его), он был убежден, что ему было предназначено спасение России и что потому только, против воли государя и по воле народа, он был избрал главнокомандующим. Он был убежден, что он один и этих трудных условиях мог держаться во главе армии, что он один во всем мире был в состоянии без ужаса знать своим противником непобедимого Наполеона; и он ужасался мысли о том приказании, которое он должен был отдать. Но надо было решить что нибудь, надо было прекратить эти разговоры вокруг него, которые начинали принимать слишком свободный характер.
Он подозвал к себе старших генералов.
– Ma tete fut elle bonne ou mauvaise, n'a qu'a s'aider d'elle meme, [Хороша ли, плоха ли моя голова, а положиться больше не на кого,] – сказал он, вставая с лавки, и поехал в Фили, где стояли его экипажи.
В просторной, лучшей избе мужика Андрея Савостьянова в два часа собрался совет. Мужики, бабы и дети мужицкой большой семьи теснились в черной избе через сени. Одна только внучка Андрея, Малаша, шестилетняя девочка, которой светлейший, приласкав ее, дал за чаем кусок сахара, оставалась на печи в большой избе. Малаша робко и радостно смотрела с печи на лица, мундиры и кресты генералов, одного за другим входивших в избу и рассаживавшихся в красном углу, на широких лавках под образами. Сам дедушка, как внутренне называла Maлаша Кутузова, сидел от них особо, в темном углу за печкой. Он сидел, глубоко опустившись в складное кресло, и беспрестанно покряхтывал и расправлял воротник сюртука, который, хотя и расстегнутый, все как будто жал его шею. Входившие один за другим подходили к фельдмаршалу; некоторым он пожимал руку, некоторым кивал головой. Адъютант Кайсаров хотел было отдернуть занавеску в окне против Кутузова, но Кутузов сердито замахал ему рукой, и Кайсаров понял, что светлейший не хочет, чтобы видели его лицо.
Вокруг мужицкого елового стола, на котором лежали карты, планы, карандаши, бумаги, собралось так много народа, что денщики принесли еще лавку и поставили у стола. На лавку эту сели пришедшие: Ермолов, Кайсаров и Толь. Под самыми образами, на первом месте, сидел с Георгием на шее, с бледным болезненным лицом и с своим высоким лбом, сливающимся с голой головой, Барклай де Толли. Второй уже день он мучился лихорадкой, и в это самое время его знобило и ломало. Рядом с ним сидел Уваров и негромким голосом (как и все говорили) что то, быстро делая жесты, сообщал Барклаю. Маленький, кругленький Дохтуров, приподняв брови и сложив руки на животе, внимательно прислушивался. С другой стороны сидел, облокотивши на руку свою широкую, с смелыми чертами и блестящими глазами голову, граф Остерман Толстой и казался погруженным в свои мысли. Раевский с выражением нетерпения, привычным жестом наперед курчавя свои черные волосы на висках, поглядывал то на Кутузова, то на входную дверь. Твердое, красивое и доброе лицо Коновницына светилось нежной и хитрой улыбкой. Он встретил взгляд Малаши и глазами делал ей знаки, которые заставляли девочку улыбаться.
Все ждали Бенигсена, который доканчивал свой вкусный обед под предлогом нового осмотра позиции. Его ждали от четырех до шести часов, и во все это время не приступали к совещанию и тихими голосами вели посторонние разговоры.
Только когда в избу вошел Бенигсен, Кутузов выдвинулся из своего угла и подвинулся к столу, но настолько, что лицо его не было освещено поданными на стол свечами.
Бенигсен открыл совет вопросом: «Оставить ли без боя священную и древнюю столицу России или защищать ее?» Последовало долгое и общее молчание. Все лица нахмурились, и в тишине слышалось сердитое кряхтенье и покашливанье Кутузова. Все глаза смотрели на него. Малаша тоже смотрела на дедушку. Она ближе всех была к нему и видела, как лицо его сморщилось: он точно собрался плакать. Но это продолжалось недолго.
– Священную древнюю столицу России! – вдруг заговорил он, сердитым голосом повторяя слова Бенигсена и этим указывая на фальшивую ноту этих слов. – Позвольте вам сказать, ваше сиятельство, что вопрос этот не имеет смысла для русского человека. (Он перевалился вперед своим тяжелым телом.) Такой вопрос нельзя ставить, и такой вопрос не имеет смысла. Вопрос, для которого я просил собраться этих господ, это вопрос военный. Вопрос следующий: «Спасенье России в армии. Выгоднее ли рисковать потерею армии и Москвы, приняв сраженье, или отдать Москву без сражения? Вот на какой вопрос я желаю знать ваше мнение». (Он откачнулся назад на спинку кресла.)
Начались прения. Бенигсен не считал еще игру проигранною. Допуская мнение Барклая и других о невозможности принять оборонительное сражение под Филями, он, проникнувшись русским патриотизмом и любовью к Москве, предлагал перевести войска в ночи с правого на левый фланг и ударить на другой день на правое крыло французов. Мнения разделились, были споры в пользу и против этого мнения. Ермолов, Дохтуров и Раевский согласились с мнением Бенигсена. Руководимые ли чувством потребности жертвы пред оставлением столицы или другими личными соображениями, но эти генералы как бы не понимали того, что настоящий совет не мог изменить неизбежного хода дел и что Москва уже теперь оставлена. Остальные генералы понимали это и, оставляя в стороне вопрос о Москве, говорили о том направлении, которое в своем отступлении должно было принять войско. Малаша, которая, не спуская глаз, смотрела на то, что делалось перед ней, иначе понимала значение этого совета. Ей казалось, что дело было только в личной борьбе между «дедушкой» и «длиннополым», как она называла Бенигсена. Она видела, что они злились, когда говорили друг с другом, и в душе своей она держала сторону дедушки. В средине разговора она заметила быстрый лукавый взгляд, брошенный дедушкой на Бенигсена, и вслед за тем, к радости своей, заметила, что дедушка, сказав что то длиннополому, осадил его: Бенигсен вдруг покраснел и сердито прошелся по избе. Слова, так подействовавшие на Бенигсена, были спокойным и тихим голосом выраженное Кутузовым мнение о выгоде и невыгоде предложения Бенигсена: о переводе в ночи войск с правого на левый фланг для атаки правого крыла французов.
– Я, господа, – сказал Кутузов, – не могу одобрить плана графа. Передвижения войск в близком расстоянии от неприятеля всегда бывают опасны, и военная история подтверждает это соображение. Так, например… (Кутузов как будто задумался, приискивая пример и светлым, наивным взглядом глядя на Бенигсена.) Да вот хоть бы Фридландское сражение, которое, как я думаю, граф хорошо помнит, было… не вполне удачно только оттого, что войска наши перестроивались в слишком близком расстоянии от неприятеля… – Последовало, показавшееся всем очень продолжительным, минутное молчание.
Прения опять возобновились, но часто наступали перерывы, и чувствовалось, что говорить больше не о чем.
Во время одного из таких перерывов Кутузов тяжело вздохнул, как бы сбираясь говорить. Все оглянулись на него.
– Eh bien, messieurs! Je vois que c'est moi qui payerai les pots casses, [Итак, господа, стало быть, мне платить за перебитые горшки,] – сказал он. И, медленно приподнявшись, он подошел к столу. – Господа, я слышал ваши мнения. Некоторые будут несогласны со мной. Но я (он остановился) властью, врученной мне моим государем и отечеством, я – приказываю отступление.
Вслед за этим генералы стали расходиться с той же торжественной и молчаливой осторожностью, с которой расходятся после похорон.
Некоторые из генералов негромким голосом, совсем в другом диапазоне, чем когда они говорили на совете, передали кое что главнокомандующему.
Малаша, которую уже давно ждали ужинать, осторожно спустилась задом с полатей, цепляясь босыми ножонками за уступы печки, и, замешавшись между ног генералов, шмыгнула в дверь.
Отпустив генералов, Кутузов долго сидел, облокотившись на стол, и думал все о том же страшном вопросе: «Когда же, когда же наконец решилось то, что оставлена Москва? Когда было сделано то, что решило вопрос, и кто виноват в этом?»
– Этого, этого я не ждал, – сказал он вошедшему к нему, уже поздно ночью, адъютанту Шнейдеру, – этого я не ждал! Этого я не думал!
– Вам надо отдохнуть, ваша светлость, – сказал Шнейдер.
– Да нет же! Будут же они лошадиное мясо жрать, как турки, – не отвечая, прокричал Кутузов, ударяя пухлым кулаком по столу, – будут и они, только бы…
В противоположность Кутузову, в то же время, в событии еще более важнейшем, чем отступление армии без боя, в оставлении Москвы и сожжении ее, Растопчин, представляющийся нам руководителем этого события, действовал совершенно иначе.
Событие это – оставление Москвы и сожжение ее – было так же неизбежно, как и отступление войск без боя за Москву после Бородинского сражения.
Каждый русский человек, не на основании умозаключений, а на основании того чувства, которое лежит в нас и лежало в наших отцах, мог бы предсказать то, что совершилось.
Начиная от Смоленска, во всех городах и деревнях русской земли, без участия графа Растопчина и его афиш, происходило то же самое, что произошло в Москве. Народ с беспечностью ждал неприятеля, не бунтовал, не волновался, никого не раздирал на куски, а спокойно ждал своей судьбы, чувствуя в себе силы в самую трудную минуту найти то, что должно было сделать. И как только неприятель подходил, богатейшие элементы населения уходили, оставляя свое имущество; беднейшие оставались и зажигали и истребляли то, что осталось.
Сознание того, что это так будет, и всегда так будет, лежало и лежит в душе русского человека. И сознание это и, более того, предчувствие того, что Москва будет взята, лежало в русском московском обществе 12 го года. Те, которые стали выезжать из Москвы еще в июле и начале августа, показали, что они ждали этого. Те, которые выезжали с тем, что они могли захватить, оставляя дома и половину имущества, действовали так вследствие того скрытого (latent) патриотизма, который выражается не фразами, не убийством детей для спасения отечества и т. п. неестественными действиями, а который выражается незаметно, просто, органически и потому производит всегда самые сильные результаты.
«Стыдно бежать от опасности; только трусы бегут из Москвы», – говорили им. Растопчин в своих афишках внушал им, что уезжать из Москвы было позорно. Им совестно было получать наименование трусов, совестно было ехать, но они все таки ехали, зная, что так надо было. Зачем они ехали? Нельзя предположить, чтобы Растопчин напугал их ужасами, которые производил Наполеон в покоренных землях. Уезжали, и первые уехали богатые, образованные люди, знавшие очень хорошо, что Вена и Берлин остались целы и что там, во время занятия их Наполеоном, жители весело проводили время с обворожительными французами, которых так любили тогда русские мужчины и в особенности дамы.
Они ехали потому, что для русских людей не могло быть вопроса: хорошо ли или дурно будет под управлением французов в Москве. Под управлением французов нельзя было быть: это было хуже всего. Они уезжали и до Бородинского сражения, и еще быстрее после Бородинского сражения, невзирая на воззвания к защите, несмотря на заявления главнокомандующего Москвы о намерении его поднять Иверскую и идти драться, и на воздушные шары, которые должны были погубить французов, и несмотря на весь тот вздор, о котором нисал Растопчин в своих афишах. Они знали, что войско должно драться, и что ежели оно не может, то с барышнями и дворовыми людьми нельзя идти на Три Горы воевать с Наполеоном, а что надо уезжать, как ни жалко оставлять на погибель свое имущество. Они уезжали и не думали о величественном значении этой громадной, богатой столицы, оставленной жителями и, очевидно, сожженной (большой покинутый деревянный город необходимо должен был сгореть); они уезжали каждый для себя, а вместе с тем только вследствие того, что они уехали, и совершилось то величественное событие, которое навсегда останется лучшей славой русского народа. Та барыня, которая еще в июне месяце с своими арапами и шутихами поднималась из Москвы в саратовскую деревню, с смутным сознанием того, что она Бонапарту не слуга, и со страхом, чтобы ее не остановили по приказанию графа Растопчина, делала просто и истинно то великое дело, которое спасло Россию. Граф же Растопчин, который то стыдил тех, которые уезжали, то вывозил присутственные места, то выдавал никуда не годное оружие пьяному сброду, то поднимал образа, то запрещал Августину вывозить мощи и иконы, то захватывал все частные подводы, бывшие в Москве, то на ста тридцати шести подводах увозил делаемый Леппихом воздушный шар, то намекал на то, что он сожжет Москву, то рассказывал, как он сжег свой дом и написал прокламацию французам, где торжественно упрекал их, что они разорили его детский приют; то принимал славу сожжения Москвы, то отрекался от нее, то приказывал народу ловить всех шпионов и приводить к нему, то упрекал за это народ, то высылал всех французов из Москвы, то оставлял в городе г жу Обер Шальме, составлявшую центр всего французского московского населения, а без особой вины приказывал схватить и увезти в ссылку старого почтенного почт директора Ключарева; то сбирал народ на Три Горы, чтобы драться с французами, то, чтобы отделаться от этого народа, отдавал ему на убийство человека и сам уезжал в задние ворота; то говорил, что он не переживет несчастия Москвы, то писал в альбомы по французски стихи о своем участии в этом деле, – этот человек не понимал значения совершающегося события, а хотел только что то сделать сам, удивить кого то, что то совершить патриотически геройское и, как мальчик, резвился над величавым и неизбежным событием оставления и сожжения Москвы и старался своей маленькой рукой то поощрять, то задерживать течение громадного, уносившего его вместе с собой, народного потока.
Элен, возвратившись вместе с двором из Вильны в Петербург, находилась в затруднительном положении.
В Петербурге Элен пользовалась особым покровительством вельможи, занимавшего одну из высших должностей в государстве. В Вильне же она сблизилась с молодым иностранным принцем. Когда она возвратилась в Петербург, принц и вельможа были оба в Петербурге, оба заявляли свои права, и для Элен представилась новая еще в ее карьере задача: сохранить свою близость отношений с обоими, не оскорбив ни одного.
То, что показалось бы трудным и даже невозможным для другой женщины, ни разу не заставило задуматься графиню Безухову, недаром, видно, пользовавшуюся репутацией умнейшей женщины. Ежели бы она стала скрывать свои поступки, выпутываться хитростью из неловкого положения, она бы этим самым испортила свое дело, сознав себя виноватою; но Элен, напротив, сразу, как истинно великий человек, который может все то, что хочет, поставила себя в положение правоты, в которую она искренно верила, а всех других в положение виноватости.
В первый раз, как молодое иностранное лицо позволило себе делать ей упреки, она, гордо подняв свою красивую голову и вполуоборот повернувшись к нему, твердо сказала:
– Voila l'egoisme et la cruaute des hommes! Je ne m'attendais pas a autre chose. Za femme se sacrifie pour vous, elle souffre, et voila sa recompense. Quel droit avez vous, Monseigneur, de me demander compte de mes amities, de mes affections? C'est un homme qui a ete plus qu'un pere pour moi. [Вот эгоизм и жестокость мужчин! Я ничего лучшего и не ожидала. Женщина приносит себя в жертву вам; она страдает, и вот ей награда. Ваше высочество, какое имеете вы право требовать от меня отчета в моих привязанностях и дружеских чувствах? Это человек, бывший для меня больше чем отцом.]
Лицо хотело что то сказать. Элен перебила его.
– Eh bien, oui, – сказала она, – peut etre qu'il a pour moi d'autres sentiments que ceux d'un pere, mais ce n'est; pas une raison pour que je lui ferme ma porte. Je ne suis pas un homme pour etre ingrate. Sachez, Monseigneur, pour tout ce qui a rapport a mes sentiments intimes, je ne rends compte qu'a Dieu et a ma conscience, [Ну да, может быть, чувства, которые он питает ко мне, не совсем отеческие; но ведь из за этого не следует же мне отказывать ему от моего дома. Я не мужчина, чтобы платить неблагодарностью. Да будет известно вашему высочеству, что в моих задушевных чувствах я отдаю отчет только богу и моей совести.] – кончила она, дотрогиваясь рукой до высоко поднявшейся красивой груди и взглядывая на небо.
– Mais ecoutez moi, au nom de Dieu. [Но выслушайте меня, ради бога.]
– Epousez moi, et je serai votre esclave. [Женитесь на мне, и я буду вашею рабою.]
– Mais c'est impossible. [Но это невозможно.]
– Vous ne daignez pas descende jusqu'a moi, vous… [Вы не удостаиваете снизойти до брака со мною, вы…] – заплакав, сказала Элен.
Лицо стало утешать ее; Элен же сквозь слезы говорила (как бы забывшись), что ничто не может мешать ей выйти замуж, что есть примеры (тогда еще мало было примеров, но она назвала Наполеона и других высоких особ), что она никогда не была женою своего мужа, что она была принесена в жертву.
– Но законы, религия… – уже сдаваясь, говорило лицо.
– Законы, религия… На что бы они были выдуманы, ежели бы они не могли сделать этого! – сказала Элен.
Важное лицо было удивлено тем, что такое простое рассуждение могло не приходить ему в голову, и обратилось за советом к святым братьям Общества Иисусова, с которыми оно находилось в близких отношениях.
Через несколько дней после этого, на одном из обворожительных праздников, который давала Элен на своей даче на Каменном острову, ей был представлен немолодой, с белыми как снег волосами и черными блестящими глазами, обворожительный m r de Jobert, un jesuite a robe courte, [г н Жобер, иезуит в коротком платье,] который долго в саду, при свете иллюминации и при звуках музыки, беседовал с Элен о любви к богу, к Христу, к сердцу божьей матери и об утешениях, доставляемых в этой и в будущей жизни единою истинною католическою религией. Элен была тронута, и несколько раз у нее и у m r Jobert в глазах стояли слезы и дрожал голос. Танец, на который кавалер пришел звать Элен, расстроил ее беседу с ее будущим directeur de conscience [блюстителем совести]; но на другой день m r de Jobert пришел один вечером к Элен и с того времени часто стал бывать у нее.
В один день он сводил графиню в католический храм, где она стала на колени перед алтарем, к которому она была подведена. Немолодой обворожительный француз положил ей на голову руки, и, как она сама потом рассказывала, она почувствовала что то вроде дуновения свежего ветра, которое сошло ей в душу. Ей объяснили, что это была la grace [благодать].
Потом ей привели аббата a robe longue [в длинном платье], он исповедовал ее и отпустил ей грехи ее. На другой день ей принесли ящик, в котором было причастие, и оставили ей на дому для употребления. После нескольких дней Элен, к удовольствию своему, узнала, что она теперь вступила в истинную католическую церковь и что на днях сам папа узнает о ней и пришлет ей какую то бумагу.
Все, что делалось за это время вокруг нее и с нею, все это внимание, обращенное на нее столькими умными людьми и выражающееся в таких приятных, утонченных формах, и голубиная чистота, в которой она теперь находилась (она носила все это время белые платья с белыми лентами), – все это доставляло ей удовольствие; но из за этого удовольствия она ни на минуту не упускала своей цели. И как всегда бывает, что в деле хитрости глупый человек проводит более умных, она, поняв, что цель всех этих слов и хлопот состояла преимущественно в том, чтобы, обратив ее в католичество, взять с нее денег в пользу иезуитских учреждений {о чем ей делали намеки), Элен, прежде чем давать деньги, настаивала на том, чтобы над нею произвели те различные операции, которые бы освободили ее от мужа. В ее понятиях значение всякой религии состояло только в том, чтобы при удовлетворении человеческих желаний соблюдать известные приличия. И с этою целью она в одной из своих бесед с духовником настоятельно потребовала от него ответа на вопрос о том, в какой мере ее брак связывает ее.
Они сидели в гостиной у окна. Были сумерки. Из окна пахло цветами. Элен была в белом платье, просвечивающем на плечах и груди. Аббат, хорошо откормленный, а пухлой, гладко бритой бородой, приятным крепким ртом и белыми руками, сложенными кротко на коленях, сидел близко к Элен и с тонкой улыбкой на губах, мирно – восхищенным ее красотою взглядом смотрел изредка на ее лицо и излагал свой взгляд на занимавший их вопрос. Элен беспокойно улыбалась, глядела на его вьющиеся волоса, гладко выбритые чернеющие полные щеки и всякую минуту ждала нового оборота разговора. Но аббат, хотя, очевидно, и наслаждаясь красотой и близостью своей собеседницы, был увлечен мастерством своего дела.
Ход рассуждения руководителя совести был следующий. В неведении значения того, что вы предпринимали, вы дали обет брачной верности человеку, который, с своей стороны, вступив в брак и не веря в религиозное значение брака, совершил кощунство. Брак этот не имел двоякого значения, которое должен он иметь. Но несмотря на то, обет ваш связывал вас. Вы отступили от него. Что вы совершили этим? Peche veniel или peche mortel? [Грех простительный или грех смертный?] Peche veniel, потому что вы без дурного умысла совершили поступок. Ежели вы теперь, с целью иметь детей, вступили бы в новый брак, то грех ваш мог бы быть прощен. Но вопрос опять распадается надвое: первое…
– Но я думаю, – сказала вдруг соскучившаяся Элен с своей обворожительной улыбкой, – что я, вступив в истинную религию, не могу быть связана тем, что наложила на меня ложная религия.
Directeur de conscience [Блюститель совести] был изумлен этим постановленным перед ним с такою простотою Колумбовым яйцом. Он восхищен был неожиданной быстротой успехов своей ученицы, но не мог отказаться от своего трудами умственными построенного здания аргументов.
– Entendons nous, comtesse, [Разберем дело, графиня,] – сказал он с улыбкой и стал опровергать рассуждения своей духовной дочери.
Элен понимала, что дело было очень просто и легко с духовной точки зрения, но что ее руководители делали затруднения только потому, что они опасались, каким образом светская власть посмотрит на это дело.
И вследствие этого Элен решила, что надо было в обществе подготовить это дело. Она вызвала ревность старика вельможи и сказала ему то же, что первому искателю, то есть поставила вопрос так, что единственное средство получить права на нее состояло в том, чтобы жениться на ней. Старое важное лицо первую минуту было так же поражено этим предложением выйти замуж от живого мужа, как и первое молодое лицо; но непоколебимая уверенность Элен в том, что это так же просто и естественно, как и выход девушки замуж, подействовала и на него. Ежели бы заметны были хоть малейшие признаки колебания, стыда или скрытности в самой Элен, то дело бы ее, несомненно, было проиграно; но не только не было этих признаков скрытности и стыда, но, напротив, она с простотой и добродушной наивностью рассказывала своим близким друзьям (а это был весь Петербург), что ей сделали предложение и принц и вельможа и что она любит обоих и боится огорчить того и другого.
По Петербургу мгновенно распространился слух не о том, что Элен хочет развестись с своим мужем (ежели бы распространился этот слух, очень многие восстали бы против такого незаконного намерения), но прямо распространился слух о том, что несчастная, интересная Элен находится в недоуменье о том, за кого из двух ей выйти замуж. Вопрос уже не состоял в том, в какой степени это возможно, а только в том, какая партия выгоднее и как двор посмотрит на это. Были действительно некоторые закоснелые люди, не умевшие подняться на высоту вопроса и видевшие в этом замысле поругание таинства брака; но таких было мало, и они молчали, большинство же интересовалось вопросами о счастии, которое постигло Элен, и какой выбор лучше. О том же, хорошо ли или дурно выходить от живого мужа замуж, не говорили, потому что вопрос этот, очевидно, был уже решенный для людей поумнее нас с вами (как говорили) и усомниться в правильности решения вопроса значило рисковать выказать свою глупость и неумение жить в свете.
Одна только Марья Дмитриевна Ахросимова, приезжавшая в это лето в Петербург для свидания с одним из своих сыновей, позволила себе прямо выразить свое, противное общественному, мнение. Встретив Элен на бале, Марья Дмитриевна остановила ее посередине залы и при общем молчании своим грубым голосом сказала ей:
– У вас тут от живого мужа замуж выходить стали. Ты, может, думаешь, что ты это новенькое выдумала? Упредили, матушка. Уж давно выдумано. Во всех…… так то делают. – И с этими словами Марья Дмитриевна с привычным грозным жестом, засучивая свои широкие рукава и строго оглядываясь, прошла через комнату.
На Марью Дмитриевну, хотя и боялись ее, смотрели в Петербурге как на шутиху и потому из слов, сказанных ею, заметили только грубое слово и шепотом повторяли его друг другу, предполагая, что в этом слове заключалась вся соль сказанного.
Князь Василий, последнее время особенно часто забывавший то, что он говорил, и повторявший по сотне раз одно и то же, говорил всякий раз, когда ему случалось видеть свою дочь.
– Helene, j'ai un mot a vous dire, – говорил он ей, отводя ее в сторону и дергая вниз за руку. – J'ai eu vent de certains projets relatifs a… Vous savez. Eh bien, ma chere enfant, vous savez que mon c?ur de pere se rejouit do vous savoir… Vous avez tant souffert… Mais, chere enfant… ne consultez que votre c?ur. C'est tout ce que je vous dis. [Элен, мне надо тебе кое что сказать. Я прослышал о некоторых видах касательно… ты знаешь. Ну так, милое дитя мое, ты знаешь, что сердце отца твоего радуется тому, что ты… Ты столько терпела… Но, милое дитя… Поступай, как велит тебе сердце. Вот весь мой совет.] – И, скрывая всегда одинаковое волнение, он прижимал свою щеку к щеке дочери и отходил.
Билибин, не утративший репутации умнейшего человека и бывший бескорыстным другом Элен, одним из тех друзей, которые бывают всегда у блестящих женщин, друзей мужчин, никогда не могущих перейти в роль влюбленных, Билибин однажды в petit comite [маленьком интимном кружке] высказал своему другу Элен взгляд свой на все это дело.
– Ecoutez, Bilibine (Элен таких друзей, как Билибин, всегда называла по фамилии), – и она дотронулась своей белой в кольцах рукой до рукава его фрака. – Dites moi comme vous diriez a une s?ur, que dois je faire? Lequel des deux? [Послушайте, Билибин: скажите мне, как бы сказали вы сестре, что мне делать? Которого из двух?]
Билибин собрал кожу над бровями и с улыбкой на губах задумался.
– Vous ne me prenez pas en расплох, vous savez, – сказал он. – Comme veritable ami j'ai pense et repense a votre affaire. Voyez vous. Si vous epousez le prince (это был молодой человек), – он загнул палец, – vous perdez pour toujours la chance d'epouser l'autre, et puis vous mecontentez la Cour. (Comme vous savez, il y a une espece de parente.) Mais si vous epousez le vieux comte, vous faites le bonheur de ses derniers jours, et puis comme veuve du grand… le prince ne fait plus de mesalliance en vous epousant, [Вы меня не захватите врасплох, вы знаете. Как истинный друг, я долго обдумывал ваше дело. Вот видите: если выйти за принца, то вы навсегда лишаетесь возможности быть женою другого, и вдобавок двор будет недоволен. (Вы знаете, ведь тут замешано родство.) А если выйти за старого графа, то вы составите счастие последних дней его, и потом… принцу уже не будет унизительно жениться на вдове вельможи.] – и Билибин распустил кожу.
– Voila un veritable ami! – сказала просиявшая Элен, еще раз дотрогиваясь рукой до рукава Билибипа. – Mais c'est que j'aime l'un et l'autre, je ne voudrais pas leur faire de chagrin. Je donnerais ma vie pour leur bonheur a tous deux, [Вот истинный друг! Но ведь я люблю того и другого и не хотела бы огорчать никого. Для счастия обоих я готова бы пожертвовать жизнию.] – сказала она.
Билибин пожал плечами, выражая, что такому горю даже и он пособить уже не может.
«Une maitresse femme! Voila ce qui s'appelle poser carrement la question. Elle voudrait epouser tous les trois a la fois», [«Молодец женщина! Вот что называется твердо поставить вопрос. Она хотела бы быть женою всех троих в одно и то же время».] – подумал Билибин.
– Но скажите, как муж ваш посмотрит на это дело? – сказал он, вследствие твердости своей репутации не боясь уронить себя таким наивным вопросом. – Согласится ли он?
– Ah! Il m'aime tant! – сказала Элен, которой почему то казалось, что Пьер тоже ее любил. – Il fera tout pour moi. [Ах! он меня так любит! Он на все для меня готов.]