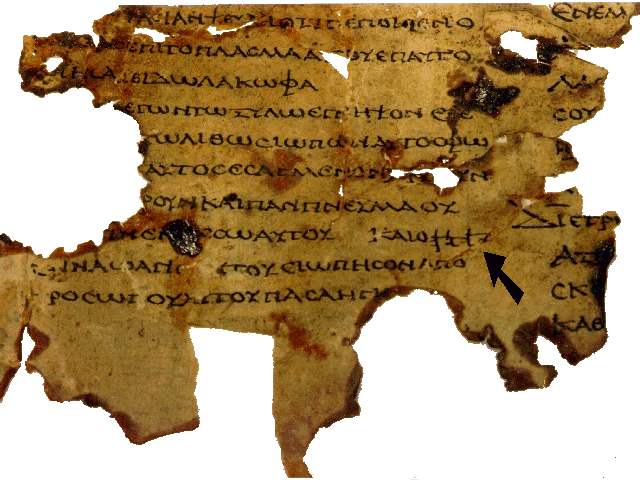Септуагинта
Септуаги́нта; также Перевод семидесяти толковников (от лат. Interpretatio Septuaginta Seniorum — «перевод семидесяти старцев»; др.-греч. Ἡ μετάφρασις τῶν Ἑβδομήκοντα) — собрание переводов Ветхого Завета на древнегреческий язык, выполненных в III—I веках до н. э. в Александрии. Часто обозначается как «LXX» (число семьдесят, записанное римскими цифрами). Название «Септуагинта» фиксируется уже в трудах Августина Аврелия, кратко пересказавшего историю её перевода (О граде Божьем, XVIII. 42).
Греческий текст Септуагинты сложился в эллинистическом иудаизме, был широко распространён, однако оказался полностью отвергнут талмудическим иудаизмом. Формирование корпуса Септуагинты, согласно легенде, началось в 280-е годы до н. э. и в общих чертах завершилось в начале I века до н. э. История перевода известна в предании, в разных версиях сохранённом еврейскими и христианскими авторами. Смысл предания о Септуагинте заключается в придании ей статуса соборного труда, предпринятого лицами, ответственными за сохранение библейской традиции, при одобрении общины в целом. В иудейской среде этот консенсус был подвергнут сомнению только во II веке, когда Септуагинта сделалась частью христианского Священного Писания. В этот же период начинается взаимодействие текста Септуагинты и выполненных позднее переводов Ветхого Завета на греческий язык, некоторые альтернативные переводы были введены Церковью в состав Септуагинты. За период II века до н. э. — XVI века н. э. сохранилось более 2000 рукописей LXX, в которых представлен определённый диапазон вариантов и разночтений.
Септуагинта является самым старым известным переводом Ветхого Завета на древнегреческий язык. Цитаты из неё встречаются в Новом Завете, наиболее точные — в Евангелии от Луки. Септуагинта сыграла важную роль в истории христианской церкви, став, по существу, каноном Ветхого Завета на греческом языке, с которого впоследствии были сделаны переводы на другие языки, в том числе первый перевод на церковнославянский. Тем не менее, несмотря на широкое распространение, в христианской традиции априори восторжествовало мнение, что еврейский оригинал предпочтительнее перевода во всех отношениях. И католицизм, и протестантские деноминации, и православие основывались на масоретском тексте — католики через Вульгату, протестанты — через новоевропейские переводы Ветхого Завета; за основу Синодального перевода Библии на русский язык также был взят масоретский текст. Интерес к Септуагинте оживился в XVIII веке — с появлением научной библейской критики.
Первые печатные издания Септуагинты в полном объёме были осуществлены в Испании и Италии между 1518 и 1587 годами, только с этого времени её текст окончательно стабилизировался. Научное филологическое издание стало осуществляться протестантскими учёными начиная с XVIII века. Наиболее авторитетные издания в ХХ веке выпускались Кембриджским университетом и Германским библейским обществом в Штутгарте. Методы реконструкции аутентичного текста LXX были предложены в 1863 году П. де Лагардом, в общих чертах они используются и современными исследователями. В парадигме исследований ХХ—XXI веков Септуагинта рассматривается как «единое, хотя и не монолитное художественное произведение» (определение А. Десницкого), к ней применяются методы литературного исследования Библии — анализ композиции, позволяющий реконструировать смыслы текста и стоящего за ним религиозного сознания.
Содержание
- 1 Содержание
- 2 История создания
- 3 Отказ от Септуагинты в раввинистском иудаизме
- 4 Античная ревизия Септуагинты. Создание стандартной византийской версии
- 5 Язык Септуагинты
- 6 Септуагинта и масоретская Библия
- 7 Рукописная передача текста Септуагинты и печатные издания
- 8 Значение Септуагинты
- 9 Комментарии
- 10 Примечания
- 11 Литература
- 12 Ссылки
Содержание
Состав иудейского канона и Септуагинта
По преданию, иудейский канон сложился примерно в V веке до н. э. благодаря деятельности пророков Ездры и Неемии, которые должны были заново собрать священные тексты после возвращения из Вавилонского пленения. Существует мнение, что именно Ездра придал Пятикнижию современный вид[1]. Согласно традиции, в тот период возникло Великое собрание (Бава Батра 15, 1), действовавшее до 270-х годов до н. э. Это собрание старцев одновременно разрешало религиозные вопросы и осуществляло контроль за правильным воспроизведением книг[2]. Время окончания Великого собрания пересекается с началом перевода Септуагинты — с 280-ми годами до н. э., поэтому можно предположить, что старцы-толковники были делегированы в Александрию именно Великим собранием[3]. Однако древний канон не соответствовал современному масоретскому тексту. В частности, Книга Варуха в древности читалась по синагогам в день памяти первого разрушения Храма, вошла в состав Септуагинты, но в иудейский современный канон не вошла[4].
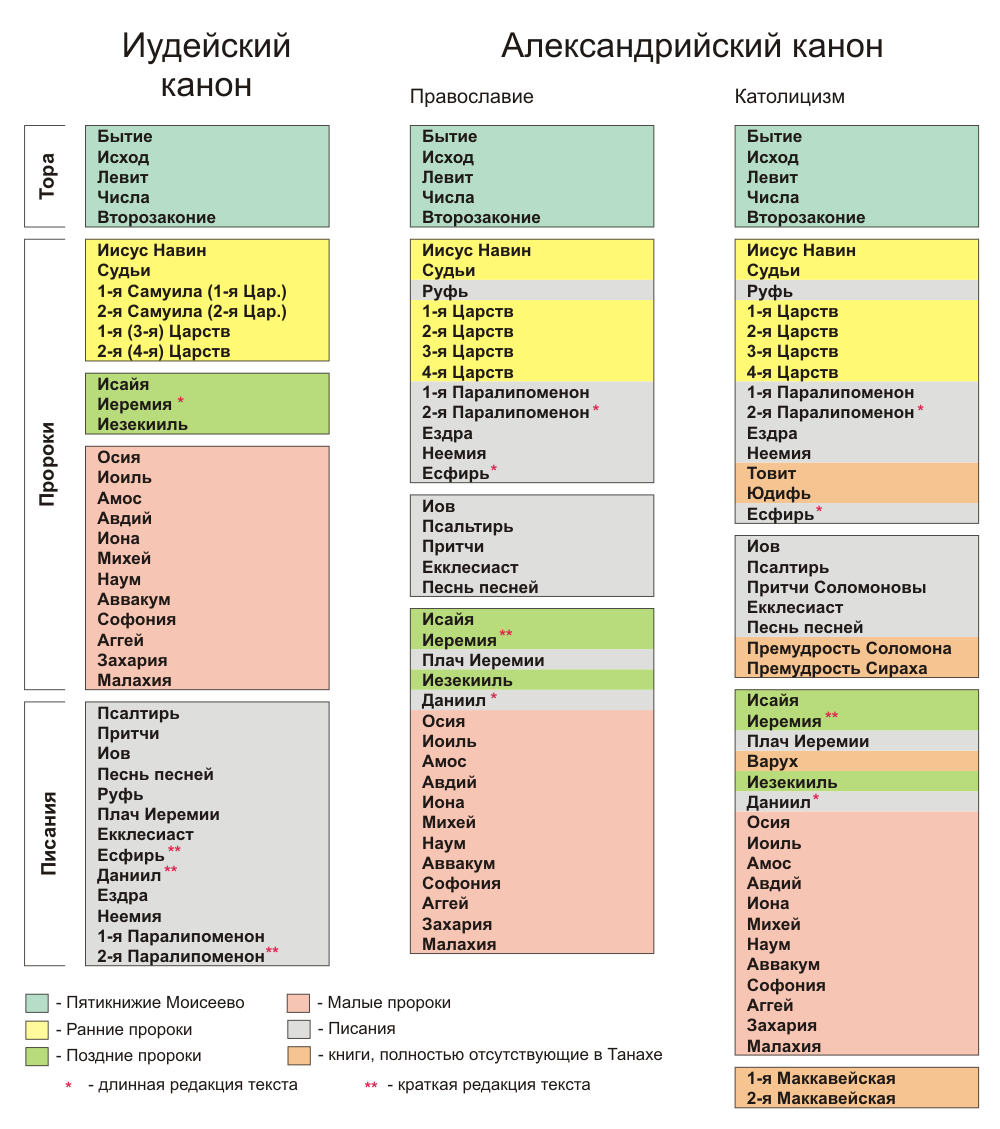 Древнейшие сведения об иудейском каноне представлены у Филона Александрийского, Иосифа Флавия и нескольких раннехристианских авторов. Древнейшее свидетельство о делении канона на три части (это деление закреплено в аббревиатуре Танах) содержится, по-видимому, в Евангелии от Луки (Лк. 24:44), составители Септуагинты о нём не знали[5]. Кирилл Александрийский и Григорий Назианзин подразделяли Септуагинту на 12 исторических книг (включая Пятикнижие), 5 поэтических и 5 пророческих. Епифаний Кипрский и Иоанн Дамаскин делили книги Ветхого Завета на 4 категории: законоположительные, поэтические, исторические и пророческие, по 5 книг в каждой из категорий. Большинство Отцов церкви воспроизводили число книг, равное числу букв еврейского алфавита (то есть 22). Расширенный вариант канона изначально охотнее использовался на латинском Западе, его придерживались Климент Римский, Папа Дамасий I, Ориген, Киприан Карфагенский, Климент Александрийский. Ряд апокрифических и второканонических книг (в том числе Псалом 151, Третья книга Ездры, Послание Иеремии, Третья книга Маккавейская) сохранились только в латинском переводе, поэтому Ветхий Завет Вульгаты включает 46 книг. Фактически уже во времена Оригена осознавалась разница между книгами каноническими и книгами, употребляемыми в церковном обиходе[6]. В общем, Александрийский канон включал в свой состав 39 книг. В древности деление на книги, однако, было вполне условным и не всегда совпадало с традицией, сложившейся в Средние Века. Так, Августин Аврелий насчитывал в Ветхом Завете 44 книги (De Doctrina Christiana I. II).
Древнейшие сведения об иудейском каноне представлены у Филона Александрийского, Иосифа Флавия и нескольких раннехристианских авторов. Древнейшее свидетельство о делении канона на три части (это деление закреплено в аббревиатуре Танах) содержится, по-видимому, в Евангелии от Луки (Лк. 24:44), составители Септуагинты о нём не знали[5]. Кирилл Александрийский и Григорий Назианзин подразделяли Септуагинту на 12 исторических книг (включая Пятикнижие), 5 поэтических и 5 пророческих. Епифаний Кипрский и Иоанн Дамаскин делили книги Ветхого Завета на 4 категории: законоположительные, поэтические, исторические и пророческие, по 5 книг в каждой из категорий. Большинство Отцов церкви воспроизводили число книг, равное числу букв еврейского алфавита (то есть 22). Расширенный вариант канона изначально охотнее использовался на латинском Западе, его придерживались Климент Римский, Папа Дамасий I, Ориген, Киприан Карфагенский, Климент Александрийский. Ряд апокрифических и второканонических книг (в том числе Псалом 151, Третья книга Ездры, Послание Иеремии, Третья книга Маккавейская) сохранились только в латинском переводе, поэтому Ветхий Завет Вульгаты включает 46 книг. Фактически уже во времена Оригена осознавалась разница между книгами каноническими и книгами, употребляемыми в церковном обиходе[6]. В общем, Александрийский канон включал в свой состав 39 книг. В древности деление на книги, однако, было вполне условным и не всегда совпадало с традицией, сложившейся в Средние Века. Так, Августин Аврелий насчитывал в Ветхом Завете 44 книги (De Doctrina Christiana I. II).
Развитие иудейского канона на арамейском и иврите пошло в другом направлении: в год разрушения Храма (70 год) Иоханан бен Заккай перенёс в Явне синедрион и основал центр изучения Торы. После утраты храмового списка Писания раввины перед лицом быстрого распространения христианства предприняли стандартизацию библейского текста, что сыграло колоссальную роль в формировании масоретской традиции. Однако не включённые в канон книги, судя по материалам Каирской генизы, активно использовались в еврейской среде ещё несколько веков; процесс был примерно одинаковым и для христианства, и для иудаизма[7].
Список книг Септуагинты
| Греческое название | Русское название | |
| Законоположительные книги | ||
|---|---|---|
| Γένεσις | Бытие | |
| Ἔξοδος | Исход | |
| Λευϊτικόν | Левит | |
| Ἀριθμοί | Числа | |
| Δευτερονόμιον | Второзаконие | |
| Исторические книги | ||
| Ἰησοῦς Nαυῆ | Иисуса Навина | |
| Κριταί | Судей | |
| Ῥούθ | Руфь | |
| Βασιλειῶν Αʹ | 1 Царств | |
| Βασιλειῶν Βʹ | 2 Царств | |
| Βασιλειῶν Γʹ | 3 Царств | |
| Βασιλειῶν Δʹ | 4 Царств | |
| Παραλειπομένων Αʹ | 1 Паралипоменон | |
| Παραλειπομένων Βʹ | 2 Паралипоменон | |
| Ἔσδρας Αʹ | Ездры (1-я книга Ездры) | |
| Ἔσδρας Βʹ | Неемии (2-я книга Ездры) | |
| Ἐσθήρ | Есфирь | |
| Ἰουδίθ | Юдифи | |
| Τωβίτ[Прим 1] | Товита | |
| Μακκαβαίων Αʹ | 1 Маккавеев | |
| Μακκαβαίων Βʹ | 2 Маккавеев | |
| Μακκαβαίων Γʹ | 3 Маккавеев | |
| Учительные (поэтические) книги | ||
| Ψαλμοί | Псалтирь | |
| Ψαλμός ΡΝΑʹ | Псалом 151 | |
| Προσευχὴ Μανάσση | Молитва Манассии | |
| Ἰώβ | Книга Иова | |
| Παροιμίαι | Притчей Соломоновых | |
| Ἐκκλησιαστής | Екклесиаста | |
| Ἆσμα Ἀσμάτων | Песни Песней | |
| Σοφία Σαλoμῶντος | Премудрости Соломона | |
| Σοφία Ἰησοῦ Σειράχ | Премудрости Иисуса, сына Сирахова | |
| Ψαλμοί Σαλoμῶντος | Псалмы Соломона[Прим 2] | |
| Пророческие книги | ||
| Δώδεκα | Малые пророки (Двенадцать) | |
| Ὡσηέ Αʹ | I. Осии | |
| Ἀμώς Βʹ | II. Амоса | |
| Μιχαίας Γʹ | III. Михея | |
| Ἰωήλ Δʹ | IV. Иоиля | |
| Ὀβδίου Εʹ | V. Авдия | |
| Ἰωνᾶς Ϛ' | VI. Ионы | |
| Ναούμ Ζʹ | VII. Наума | |
| Ἀμβακούμ Ηʹ | VIII. Аввакума | |
| Σοφονίας Θʹ | IX. Софонии | |
| Ἀγγαῖος Ιʹ | X. Аггея | |
| Ζαχαρίας ΙΑʹ | XI. Захарии | |
| Ἄγγελος ΙΒʹ | XII. Малахии (Посланник) | |
| Ἠσαΐας | Исаии | |
| Ἱερεμίας | Иеремии | |
| Βαρούχ | Варуха | |
| Θρῆνοι | Плач Иеремии | |
| Επιστολή Ιερεμίου | Послание Иеремии | |
| Ἰεζεκιήλ | Иезекииля | |
| Δανιήλ | Даниила | |
| Приложение | ||
| Μακκαβαίων Δ' Παράρτημα | 4 Маккавеев[Прим 3] | |
История создания
Дошедшие от древности материалы, которые позволяют реконструировать создание Септуагинты, согласно И. Вевюрко, делятся на две категории. Во-первых, это литературные произведения, в которых изложено предание о создании перевода в целостном виде (в противоречащих друг другу версиях), и, во-вторых, — это памятники, косвенно свидетельствующие о бытовании Септуагинты в определённый период времени[8].
Письмо Аристея
Наиболее древним и одновременно самым подробным свидетельством создания Септуагинты является Письмо Аристея. Оно написано от имени телохранителя царя Птолемея и адресовано Филократу — брату Аристея, повествуя о египетском посольстве в Иерусалим к первосвященнику Елеазару (правил в 284—247 годах до н. э.). Подлинность этого документа в древности не подвергалась сомнению, его использовал Иосиф Флавий при изложении обстоятельств создания Септуагинты, а собственно текст Письма Аристея сохранился в трудах Евсевия Кесарийского и Прокопия Газского. В настоящее время памятник датируется периодом между III и I веками до н. э., но не позднее начала нашей эры[9]. В 1684 году Гэмфри Годи опубликовал в Оксфорде диссертацию «Против истории Аристея», положения которой развил в книге 1705 года, начавшей продолжавшуюся два века дискуссию о подлинности самого памятника и достоверности сообщаемых им сведений. Постепенно восторжествовало мнение, что «Письмо Аристея» — древний псевдэпиграф, литературная апология, написанная грекоговорящим иудеем, однако подлинность сообщаемых фактов не подвергается значительным сомнениям[10].
О переводе Семидесяти в Письме Аристея сообщается следующее:
- на греческий язык при Птолемеях были переведены не все канонические книги, а только «Закон», то есть Тора;
- инициатором перевода были не иудеи, а царь Птолемей Филадельф;
- идея перевода принадлежит Деметрию Фалерскому — основателю и главе Александрийской библиотеки;
- еврейская община Александрии одобрила перевод постфактум;
- иудейская община постановила, что перевод должен являться неизменным до буквы, а на пытающихся его изменить накладывалось проклятие;
- текст для перевода был доставлен из Иерусалима, переводчиками выступили 72 приехавших из Палестины старца — по шестеро от каждого из колен Израилевых;
- перевод выполнялся всеми переводчиками совместно на общем собрании (др.-греч. συνέδριον), причём каждый согласовывал свой труд с остальными;
- упоминается, что до LXX существовал более ранний перевод, менее надёжный, «некоторых мест из Закона»[11].
История первого перевода Торы на нееврейский язык зафиксирована в барайте[Прим 4], приведённой в Талмуде, в трактате «Мегила» (I. 9). Принципиальное отличие от древнегреческой легенды состоит в том, что дерзкий царь Птолемей (называемый на иврите Талмай) захотел не просто приобрести за деньги перевод Торы, а заполучить текст, которым гордились находившиеся под его властью иудеи, самым простым образом — он заставил еврейских раввинов-полиглотов перевести Тору. Опасаясь предварительного сговора между 72 раввинами, он сначала поместил каждого в отдельную камеру, и только затем узникам были объяснены условия происходящего. Однако старцы понимали, что евреям не нужен перевод, поэтому они сознательно изменили священный текст, воспроизводимый для нечестивого царя, внеся туда 13 искажений[12].
Исследователь Каирской генизы П. Э. Кале в 1947 году выдвинул гипотезу, согласно которой Септуагинты как таковой не существовало, ибо она была составлена и отредактирована из вольных (подобных таргумам) переводов Писания на греческий язык; последние основывались как раз на таргумах. «Письмо Аристея», таким образом, относилось к тому же времени и было документом еврейской пропаганды[13]. Однако в числе Кумранских находок содержались греческие тексты, тесно связанные с Септуагинтой, иными словами, акт единовременного перевода имел место. Это также свидетельствует, что греческий перевод Библии очень рано был принят и в Палестине. Если в XVII—XIX веках критики Письма Аристея указывали на сомнительность инициативы египетского царя по переводу Священного писания иудеев, то во второй половине ХХ века возобладало мнение, что александрийские евреи в эпоху ранних Птолемеев говорили преимущественно на арамейском языке и пользовались значительными правами самоуправления. В результате для своих религиозных нужд они использовали арамейские таргумы, и потому цари, собиравшие библиотеку, в первую очередь нуждались в общепонятном переводе священного писания народа, занимавшего важное стратегическое положение между государствами Птолемеев и Селевкидов. Такую версию доказывал Н. Коллинз в своём исследовании 2000 года «Библиотека в Александрии и Библия на греческом»; похожую теорию выдвинул в XIX веке протоиерей Николай Елеонский[14].
Третья книга Маккавейская
Третья книга Маккавейская, по-видимому, была создана в Египте в I веке до н. э. В её тексте содержится указание на то, что уже в III веке до н. э. греческий перевод Библии хранился в Иерусалимском Храме. В предании (3Мак. 1:12) утверждается, что в 217 году до н. э. Птолемей IV Филопатор, проезжая Иерусалим, попытался войти в Святая Святых, но был остановлен первосвященником, который прочитал ему Закон. Вероятно, Закон мог быть прочитан царю только по-гречески, а изустный перевод не произвёл бы должного впечатления. Следует также учитывать, что в тот же период языком делопроизводства в Палестине стал греческий, который в более поздний период использовался даже крайними националистами, о чём говорят написанные по-гречески послания Бар Кохбы[15]. Таким образом, по мнению И. С. Вевюрко, вполне возможно, что возникла традиция хранить при Храме и греческую рукопись Писания наравне с еврейским оригиналом. Иосиф Флавий в таком случае, описывая спасённые им из Иерусалима священные книги, имел в виду именно свитки Септуагинты[16].
Филон Александрийский и Иосиф Флавий
Иосиф Флавий («Иудейские древности», XII. 2) всецело использовал сведения Письма Аристея, удостоверяя, что оно было известно в Палестине I века. Он же впервые выразил понимание того обстоятельства, что текст искажается в процессе передачи и переписывания и нуждается в постоянной сверке с оригиналом. При этом он не упоминает о проклятиях исказившему текст, то есть его восприятие Септуагинты носит менее религиозный характер, нежели в александрийской традиции[17].
В трудах Филона Александрийского («О созерцательной жизни» II. 7, 37—41) приводится собственная версия предания о Септуагинте, в котором есть много уникальных деталей. Одна из них — указание на ежегодное празднование годовщины перевода на острове Фарос, а также указание на то, что к I веку Септуагинта обрела статус древнего текста, очень важный для античной культуры. Характерно, что, говоря о Септуагинте, Филон писал только о Пятикнижии, хотя цитировал и другие её тексты. Филон Александрийский впервые зафиксировал несколько положений, ставших потом общими в традиции почитания Септуагинты как священного текста:
- переводчики были одновременно пророками;
- перевод был вдохновлён свыше и является строго буквальным;
- перевод равноценен оригиналу[18].
Святоотеческая традиция
Со II века собирание сведений об истории Септуагинты переходит к ранним христианам, которые видели в Ветхом Завете источник обетования всеобщего спасения. В «Апологии» Иустина Философа, основанной, по-видимому, на устной еврейской традиции, с которой он был тесно связан, упоминается, что все пророческие иудейские книги были переведены для царя Птолемея и его библиотеки[19]. Речь идёт не только о Пятикнижии, но и о пророчестве Исаии. Также Иустин свидетельствовал (Апология I. 31), что Септуагинта всё ещё была широко распространена в еврейской среде. Однако в «Диалоге с Трифоном Иудеем» (71) того же Иустина впервые упомянуто о расхождениях между LXX и стандартным еврейским текстом, наличии в одном большого числа фрагментов, отсутствующих в другом. Иустин Мученик первым озвучил версию, что раввины создали собственную редакцию текста (Диалог, 74)[20].
О переводе всех пророческих книг на греческий язык писал и Климент Александрийский (Строматы I. XXI, 148—149). Приводимые им сведения сводятся к следующему:
- перевод был осуществлён при Птолемее Филадельфе попечением Деметрия Фалерского;
- успех переводчиков объясняется Божественным вдохновением;
- переведён был не только Закон, но и пророческие книги;
- переводчики работали отдельно друг от друга, но оказалось, что все их переводы полностью совпали по смыслу и по букве[21].
По Клименту, истинным инициатором перевода Писания был Бог; это нашло зеркальное отражение в Талмуде (Мегила I. 9, 2), в котором говорится, что не иудейское пророчество пришло к эллинам, но их язык стал звучать в селениях иудеев[22].
Ириней Лионский практически слово в слово повторил рассказ Климента, но добавил интерпретацию мотива, почему были разлучены переводчики:
Желая испытать их порознь и опасаясь, чтобы они по взаимному соглашению не скрыли посредством перевода истины, содержащейся в Писаниях— Против ересей. III, 21, 2
Эта версия напоминает содержащуюся в Талмуде (Софрим), что показывает тесную связь иудейской и раннехристианской устных традиций[23].
Тертуллиан также приводил сведения о статусе текста Септуагинты. В его «Апологетике» (XVIII, 8—10) утверждается, что в Александрии свитки LXX хранились в храме Сераписа вместе с другими еврейскими рукописями и что результатом этого чтения бывает обращение в христианство. Это свидетельство хорошо вписывается в информацию Письма Аристея и вводит Септуагинту в контекст деятельности Александрийской школы, в которой библейский текст впервые получил текстологическую и богословскую интерпретацию. Это же означает, что греческая Библия стала частью традиции александрийской учёности и что все вновь переводимые разделы канона получали общее название — Септуагинта[24].
К III веку относится анонимный трактат «Увещание к эллинам», который в традиции приписывался Иустину Философу. История Септуагинты в нём рассматривалась в русле платоновской концепции вечного «детства» эллинской культуры: царь Птолемей заинтересовался в Библии не Законом и не пророчествами, а древностью её текста. В главе 13 «Увещания» содержится рассказ о 70 толковниках, для каждого из которых на Фаросе были построены отдельные домики, развалины которых видел на острове сам автор. Согласно И. Вевюрко, это свидетельство исторической памяти жителей египетской столицы, которая хорошо подтверждает сведения Письма Аристея[25].
Епифаний Кипрский, который в молодости получал образование у раввинов[26], включил в свой трактат «О мерах и весах» множество сведений о переводах Библии, современных ему. Он впервые озвучил мысль о том, что Септуагинта не является полностью дословным переводом, в который толковники внесли некоторые слова «для ясности» и лучшего стиля — в помощь язычникам. Вероятно, из еврейской традиции он заимствовал предание, что семьдесят толковников перевели ровно 22 книги Писания «содействием Духа Святого согласно друг с другом». По его версии, переводчиков было 72, и они были размещены в 36 домиках по двое, но не могли общаться между собой; к каждому из них было приставлено двое секретарей, которым они диктовали, еврейские книги Писания получали по очереди. Это означало окончательное признание боговдохновенности Септуагинты к началу V века[27].
Иероним, Августин, Иоанн Златоуст
Против мнения о боговдохновенности Септуагинты выступил Иероним Стридонский, имевший для этого множество причин. Он придерживался аллегорического метода истолкования Писания, заложенного ещё Оригеном. Приступив к созданию стандартного текста латинской Библии, он нуждался в точно выверенных текстах греческого и еврейского Писания для решения чрезвычайно масштабных задач. Вначале он ставил практическую задачу — установить, что содержит в себе «еврейский подлинник». В начале 390-х годов он пришёл к необходимости перевода с еврейского текста, а не греческого, что отразилось в прологах к книгам Вульгаты. Открыто порвав со сложившейся традицией восприятия перевода Семидесяти как чуда, Иероним вернулся к тезисам Письма Аристея, но приписывал семидесяти старцам уже перевод всех книг, а не только Пятикнижия. Отказавшись от идеи прямой вдохновенности перевода, Иероним совершил переворот: предание об абсолютной идентичности текстов толковников предполагало сакрализацию слова как набора букв и звуков. На практике это обессмысливалось различием вариантов и рукописей Септуагинты. Иероним противопоставил этой традиции своё учение о смысле как отдельном от слова содержании, которое именно потому поддаётся переводу и требует переводческого искусства. Это же служило и оправданием Септуагинты, которая зачастую уклонялась от буквы еврейского текста[27].
По словам И. С. Вевюрко, «точку в развитии христианской традиции о Септуагинте поставил… на Западе блж. Августин»[28]. Этому посвящены главы 42—45 XVIII книги «О граде Божием», в которых Августин свёл воедино все противоречащие друг другу аспекты традиции:
- абсолютное согласие переводчиков и их полная непогрешимость — это предание (но оно может оказаться и верным);
- предание имеет исторический и провиденциальный смысл, поскольку сообщает переводу абсолютный авторитет, принося пользу обращённым язычникам;
- указывается на общее почитание Септуагинты в церквях Востока и Запада, непоколебленное новыми переводами Иеронима;
- если даже толковники не прорицали, а общались между собой, то и тогда консилиум 70 старцев достоин высшего доверия;
- переводчики внесли в текст три вида изменений — когда перевод содержит «нечто иное» по сравнению с оригиналом, когда «неодинаковыми словами выражен тот же смысл», когда нечто опущено или прибавлено;
- все три типа изменений были предусмотрены Богом;
- происходит примирение еврейской традиции и традиции Семидесяти: и те, и другие были пророками;
- переводчики являются не только пророками, но и толкователями ещё более древних пророков[29].
За полвека до Августина аналогичные проблемы решал представитель Антиохийской школы — Иоанн Златоуст. Его взгляд отличался наибольшей для той эпохи широтой, ибо, активно пользуясь еврейской традицией, он указывал, что авторитет Семидесяти выше, чем у иудеев-переводчиков его современности.
…Семьдесят толковников, по справедливости, пред всеми прочими заслуживают большего вероятия. Те переводили после пришествия Христова, оставаясь иудеями; а потому справедливо можно подозревать, что они сказали так больше по вражде, и с намерением затемнили пророчество. Семьдесят же, которые за сто лет до пришествия Христова, или даже более, предприняли это дело, и притом таким большим обществом, свободны от всякого подобного подозрения; они и по времени, и по многочисленности, и по взаимному согласию, преимущественно заслуживают вероятия.— Толкование на святого Матфея Евангелиста. Беседа V, 2
По И. Вевюрко, свобода мышления Иоанна выражается в двух аспектах: во-первых, он использует критическую версию предания о Септуагинте, оставляя самый минимум сведений, достаточных для поддержания авторитета древнего перевода, и, во-вторых, готов учитывать другие версии текста. Это особенно заметно в его толкованиях на Исаию и Псалом 138 (для которого он предпочитал пользоваться еврейским оригиналом, считая перевод LXX неясным)[30].
Фактически отцы золотого века патристики выработали критерий, согласно которому всё, что помогает пониманию Библии, приемлемо. Сам текст понимался ими как обладающий полисемией, а также множеством исторически сложившихся форм, которые воспринимались как одинаково провиденциальные. Граница между каноном и апокрифами проходила по вариативности темы канонического текста: автор апокрифа воспринимался как самозваный авторитет. Однако в рамках канонического текста вариативность знаков, слов и целых выражений могла даже приветствоваться[31].
Отказ от Септуагинты в раввинистском иудаизме
Собрание библейских книг, ставшее достоянием Александрийской школы, ещё не являлось каноном в средневековом смысле этого термина. Отличием его была незавершённость; ранний канон допускал включение в свой состав новых книг. Здесь показателен пример книги Сираха, переводчик которой в предисловии указывает читателю, что автор — обычный образованный человек из благочестивой среды, а не пророк. Однако уже в период создания Септуагинты осуществлялся строгий отбор источников для собрания священных книг, ставших Библией в современном смысле этого слова. Первый перевод Ветхого Завета отражает процесс постепенного становления канона, который был доведён до конца в период размежевания еврейской среды на христианскую и иудейскую в рамках единой — библейской картины мира. Именно тогда возник вопрос о границах Божественного слова. Здесь яркими примерами являются раввинистские дискуссии II века о Песни песней и книге Екклесиаста[32].
Причины, по которым Септуагинта как целое и во всех частностях была отвергнута иудаизмом, изложены в предисловии к Штутгартскому изданию:
- Септуагинта стала частью Библии христианской церкви, причём христиане ссылались и на те чтения, которые для иудеев не имели доказательной силы;
- в Палестине был установлен и освящён канон, отличающийся от александрийского;
- во II веке в среде еврейских экзегетов победила линия Акивы, который придавал значение каждой букве Священного Писания[33].
Все эти причины накладывались одна на другую. Отличительной особенностью иудаизма является учение о двух Торах — устной и письменной, из которых только устная является единственным достоянием иудеев, в то время как письменной через греческий перевод завладели язычники[34]. Устная Тора отличается от христианского Священного Предания: в ней допустимы противоречия, которые дискутируются учёными раввинами до сих пор, также она имеет эзотерические стороны, отличаясь от христианской экзегезы, доступной любому читателю (который, однако, необязательно обладает правом толкования). Согласно представлениям древних раввинов, толкования должны быть устными и по статусу — их не следует записывать (Гиттин XL. 2). Устная Тора может и по букве не совпадать с записанной и даже выходить далеко за пределы простого смысла. В этом случае библейский текст трактуется как буквенный и числовой код, в котором любой знак вынимается из контекста и наделяется самостоятельным содержанием и значением[35]. Преобладание эзотерического знания в среде учёных раввинов было закреплено в начале II века, когда синедрион возглавил рав Акива бен Йосеф. Именно он был основателем течения, стремившегося придать значение каждой букве в Торе. В Талмуде (Берешит Шаббат 25а) утверждается, что «Истины, не явленные Моисею, были открыты Акиве». В трактате «Бава Мециа» (Тосефта 2, 29) сообщается, что ученик Акивы — рав Меир — в середине II века ввёл в преподавании в еврейских школах формальное различение между Писанием и Премудростью, представлявшей собою большее, нежели простое толкование Писания[34].
Таким образом, постепенно Тора начинает пониматься как вручённая одному только Израилю «драгоценность, которой создан Мир» (Авот III. 14). Иными словами, Бог начинает восприниматься как читатель собственной Торы, а Его творческая функция соединяется с еврейским языком и квадратным письмом[35]. Так началась и дискредитация греческого перевода. Завершение данного процесса зафиксировано в 146-й Новелле Юстиниана De Hebraeis 553 года. Во введении к ней сообщается о разногласиях между евреями, некоторые из которых полагали, что только иврит может использоваться при чтении Священного Писания, другие полагают, что и греческий язык может употребляться для этой цели. Новелла постановляет, что желающие могут читать Писание на греческом и на «любом языке, который распространён в их местности». Характерно, что в законодательном тексте повторена легенда о 72 толковниках, размещённых в 36 кельях по двое. Новелла рекомендует читать Септуагинту (и альтернативный перевод Акилы) как «более надёжный и лучший перевод, чем все другие». Целью данного законодательного акта было остановить вытеснение из синагог Восточной Римской империи нормативного греческого перевода неким другим переводом (устным), наподобие арамейских таргумов[36]. Согласно И. Вевюрко, с христианизацией Империи греческий язык стал утрачивать позиции в среде евреев по мере роста их недовольства своей социально-политической ролью и наступлением государства на права самоуправления. Именно данное обстоятельство определило отказ от Септуагинты и греческой синагогальной литургии, а затем и полного запрета на использование переводов Торы вообще[37].
Современные израильские исследователи также подчёркивают, что создание Септуагинты отражало процесс эллинизации египетской общины, вызывая опасение старейшин Иудеи, что чтение Торы на греческом приведёт к отпадению от еврейской идентичности как таковой. По словам М. Штереншиса, подобные опасения оказались правильными — со временем большая часть египетских евреев растворилась в греческом обществе. Он придерживался теории, что Септуагинта была переведена египетскими евреями для собственных нужд общины — в связи с тем, что многие из них не владели ивритом[38].
Античная ревизия Септуагинты. Создание стандартной византийской версии
В первые века нашей эры в иудео-христианской среде были созданы ещё несколько греческих версий всех ветхозаветных книг, по имени известны три переводчика — Акила, Симмах и Феодотион. В III веке Ориген осуществил грандиозный текстологический проект, создав Гексаплу, в которой были опубликованы вместе протомасоретский текст, собственно Септуагинта и три указанные версии перевода. Они оказывали существенное воздействие на текст LXX. После Гексаплы был создан вариант Лукиана, датируемый IV веком, к тому же времени началось оформление более или менее стандартизированной византийской версии. Э. Тов насчитывал три причины создания ревизий Септуагинты[40]:
- расхождения между Септуагинтой и еврейским текстом;
- поскольку Септуагинтой стали пользоваться христиане, евреи стремились создавать другие переводы;
- отражение еврейской экзегезы того времени.
Перевод Акилы
Акила из Понта окончил свою работу не позднее 177 года, поскольку она упоминается в трактате Иринея Лионского. Современные исследователи считают наиболее вероятным работу над переводом в 130-е годы[41]. Епифаний Кипрский приводил предание, что Акила был прозелитом, то есть христианином, обращённым из язычников (утверждалось также, что он был родственником императора Адриана), но из-за преследований единоверцами астрологии, которой он занимался, перешёл в иудаизм. Это предание признаётся исследователями важным, поскольку позволяет объяснить связь Акилы и рава Акивы, влияние на него вавилонской раннеталмудической традиции и то, что именно в экзегезе Акилы начинается использование гематрии, так характерной для раввинизма. Иудейские источники отождествляют его с Онкелосом — автором известного таргума[42].
Акила неоднократно упоминался и высоко оценивался блаженным Иеронимом, поскольку их задачи были в известной степени сходными, кроме того, подчёркнуто нелитературный буквальный перевод Акилы служил для Иеронима своего рода подстрочником и справочником. Отношение к переводу Акилы как пособию по еврейской грамматике он унаследовал от Оригена[43]. Издатель Гексаплы Филд описывал метод Акилы следующим образом:
- при переводе каждой лексемы её буквальный смысл предпочитается любому переносному;
- такая же однозначность выдерживается по отношению к любой части речи;
- перевод каждого слова еврейского текста в порядке его появления;
- создание глагольных форм, никогда не существовавших в греческом языке, от их ивритских эквивалентов — имён существительных (русский аналог: «диадемировать» или «костить»);
- перевод еврейских двусоставных слов двумя греческими словами во всех случаях;
- передача некоторых еврейских слов созвучными греческими, игнорируя смысл (по-видимому, Акила воспринимал еврейский язык как матрицу всех остальных языков)[44].
Г. Теккерей называл эти особенности «варварскими»[45], однако папирологические свидетельства и кумранские рукописи показывают, что все указанные тенденции появились ещё в редакциях библейского текста начала нашей эры. Так начались попытки приблизить текст Септуагинты к принятому в Палестине еврейскому тексту, что закончилось созданием принципиально иной текстологической традиции и предвосхитило создание масоретского текста[46].
Перевод Симмаха
Симмах Эвионит был по происхождению самаритянином и принадлежал к нищенствующей иудео-христианской секте эвионитов, которые совмещали отказ от имущества с Законом Моисеевым, о чём писал Евсевий Кесарийский («Церковная история» VI, 17). По выходе из самаритянства он принял иудаизм, его отождествляют с талмудическим Сумхусом, учеником рава Меира. Согласно Иерониму, Симмах «переводил скорее по смыслу, чем по букве». Его переводами активно пользовался Феодорит Кирский при экзегезе Псалтири[47]. Основные особенности перевода Симмаха были таковы:
- стремление к понятности целого, а не передаче отдельных слов;
- редкое употребление гебраизмов, эвфемизация выражений, которые могут смутить неподготовленного читателя;
- богословская тенденция — он делал акцент на воскресении мёртвых;
- сохранение классического греческого языка и стиля, замена идиом (например, «муж кровей» на «человек, запятнавший себя убийством»);
- допущение парафраза вместо перевода.
Стремление Симмаха к ясности было столь велико, что он заменял библейские топонимы на понятные среднему грекоговорящему читателю, например, Арарат на Армению[47].
Перевод Симмаха был ориентирован на обыкновенного грамотного человека, читающего на литературном греческом языке, без опоры на сложившуюся литургическую и молитвенную традицию. Видимо, это общая тенденция для иудео-христианского понимания Библии, которая была в этой среде источником разносторонней информации, ценность которой повышалась по мере возрастания отчётливости её понимания. Традиция, в которой была создана версия Симмаха, существенно повлияла на несторианство[48].
Перевод Феодотиона
Феодотион, согласно традиции, жил во времена Коммода, то есть должен был окончить свой перевод раньше Симмаха. По Епифанию Кипрскому, он изначально был гностиком — последователем Маркиона, но затем обратился в иудаизм и выучил еврейский язык (О весах, 17). Его стиль перевода Псалтири высоко оценивал Иероним. В общем его метод перевода ближе к Акиле, соответственно, и стиль его прост и тяжеловесен. Главной особенностью перевода Феодотиона является использование большого числа еврейских слов, переданных греческими буквами, без перевода. В первую очередь, это названия животных и растений, топонимы, архитектурные или религиозные термины. В тексте Септуагинты Ориген исправил Книгу Иова именно по переводу Феодотиона, сверяя его с еврейским оригиналом, а Книга Даниила, по сообщению Иеронима, была принята Церковью вместо имевшегося ранее перевода. Также текстологи XIX века обнаружили, что в целом ряде мест новозаветного канона Ветхий Завет цитируется именно в переводе Феодотиона, этот же перевод использовался в цитировании авторитетного раннехристианского текста — «Пастыря» Гермы[49].
Гексапла
 Грандиозный свод библейских текстов был создан Оригеном во время его пребывания в Палестине, а далее был перенесён в Кесарийскую библиотеку. Ориген расположил шесть версий известных ему ветхозаветных текстов (отсюда название — «ушестерённая», др.-греч. Ἑξαπλᾶ) параллельными столбцами в следующем порядке:
Грандиозный свод библейских текстов был создан Оригеном во время его пребывания в Палестине, а далее был перенесён в Кесарийскую библиотеку. Ориген расположил шесть версий известных ему ветхозаветных текстов (отсюда название — «ушестерённая», др.-греч. Ἑξαπλᾶ) параллельными столбцами в следующем порядке:
- еврейский текст консонантным письмом (без огласовок, как было принято в античности);
- греческая транскрипция огласовки первого;
- перевод Акилы;
- перевод Симмаха;
- Септуагинта;
- перевод Феодотиона.
Порядок, по-видимому, определялся степенью связи с еврейским текстом, а Феодотион воспринимался как редактор Септуагинты. Причинами составления Гексаплы обыкновенно называется стремление исправить Септуагинту по еврейскому тексту, чтобы лишить иудеев аргумента «испорченности Писания». Ориген вносил правки в текст Септуагинты, добавляя пропущенные слова и фразы из еврейского текста, обозначая их специальными знаками, разработанными Аристархом Самофракийским, — астериском и обелом[50]. Другие переводы служили ему пособием для понимания основного текста и как свидетельства понимания оригинала. Из комментария Оригена к Евангелию от Матфея (XV, 14) видно, что он не стремился к простому исправлению греческого текста по еврейскому, а сознательно искал варианты, признанные всеми свидетелями текста. Дополнительные чтения Септуагинты он не устранял, а лишь обозначал для читателя, который сам должен был решать, принимать их или нет.
«Проблема Гексаплы» возникла из-за того, что Септуагинту после III века стали переписывать преимущественно с редакции Оригена, автоматически внося его дополнения, но не воспроизводя критического аппарата, который погиб почти полностью. Ученики и коллеги Оригена — Памфил и Евсевий — тщательно переписали пятую колонку Гексапл, этот текст имел широкое хождение в IV веке. Полным экземпляром Гексапл пользовался ещё Иероним; считается, что оригинал погиб при взятии арабами Кесарии Палестинской в 653 году[51]. По-видимому, ни одной полной копии Гексаплы никогда не было сделано из-за колоссального объёма труда: по оценке Г. Свита, если он имел форму кодекса, то включал не менее 3250 пергаментных листов, то есть около 6500 страниц текста, и это при условии, что были переписаны только 22 канонические книги. Г. Свит проводил аналогии с Ватиканским кодексом, на страницах которого текст был записан в три колонки, давая шесть колонок на развороте[52].
По мнению Г. Теккерея, устранение гексапларных интерполяций является важнейшей задачей текстологии Септуагинты[53]. В современной науке это считается крайне трудноисполнимым. Единственным надёжным методом является внутреннее исследование текста: Ориген добавлял в греческий текст всё, что отличало от него еврейский текст. Таким образом, можно выделить места, когда Септуагинта расходится с еврейским текстом содержательно, а не только экзегетически. Доказанные следы редакции Оригена также надёжно свидетельствуют, что Ветхий Завет не подвергся христианским интерполяциям — сам он ещё жил в эпоху гонений, во время которой исправление было практически невозможным, и сам же заложил основы библейской текстологии, которая сделала систематическое внесение интерполяций невозможным[54].
Создание стандартного византийского текста Септуагинты
Иероним Стридонский писал, что ему известны три основные редакции греческого текста Септуагинты, которые порождали разнобой старолатинских переводов. Помимо Оригеновой Гексаплы, он упоминал редакцию Исихия Александрийского (ныне считается, что к ней восходит текст Ватиканского кодекса) и преподобномученика Лукиана, основателя Антиохийской школы. О последнем в византийском словаре Суды (Λ 685, 10—15) сказано, что он очистил библейские книги от исправлений «людей лукавых, близких эллинизму». Г. Свит полагал, что он сверял греческий текст с еврейским, но это был не тот вариант, из которого возник современный масоретский текст[55]. Встречаются также мнения, что основой труда Лукиана был аутентичный греческий вариант Библии. На основе редакции Лукиана был создан стандартный Константинопольский текст, который и стал основой готского, церковнославянского и старосирийского библейских переводов, на этот же прототип опирались и некоторые старолатинские переводчики[56].
В сравнении с другими вариантами Септуагинты, тексту Лукиана свойственны следующие признаки[57]:
- восполнение пропущенных отрывков;
- двойные чтения разным образом переведённых фраз;
- замена местоимений именами собственными;
- краткие контекстуальные добавления;
- перевод вместо транслитерации;
- замена эллинистических языковых форм аттическими.
Тем не менее, единственным текстом Константинопольский вариант так и не стал до конца Средних веков. В этом плане показательно цитирование перевода Акилы Константином Философом, а также использование переводов Акилы и Симмаха в полемике вокруг славянского перевода Писания Черноризцем Храбром[58]. Однако уже в послании новгородского архиепископа Геннадия 1489 года Акила, Симмах и Феодотион называются виновниками еретического извращения Священного Писания; инвективы, как и приведённые там же сведения из Письма Аристея, заимствованы из предисловия Никиты Ираклийского к толкованиям на Псалтирь[59].
И. Вевюрко так резюмировал процесс создания Константинопольской редакции:
Созданная еврейской книжностью дораввинистического периода, Септуагинта впоследствии претерпела всё то, на что обречён рукописный текст, находящийся в свободном обращении. Затем, в результате редакторской деятельности христианских учёных первых веков, отчасти аналогичной работе масоретов над еврейскими рукописями, её текст был приведён в единообразие настолько, насколько позволяли возможности науки того времени. При этом, в отличие от масоретов, эти редакторы не стремились к максимальной унификации на уровне буквы[Прим 6], оставляя текст связанным с древней устной экзегетической традицией множественными нитями вариативных чтений[60].
Язык Септуагинты
И. Вевюрко отмечал: «Главной особенностью языка Септуагинты, которая надёжно отличает его от языка литературного греческого койне любой эпохи, является то, что в целом ряде случае его грамматический строй может быть объяснён только из еврейского текста, и это системный, а не спорадически возникающий признак»[61].
Септуагинта впервые демонстрирует феномен так называемого «библейского языка» или «библейского стиля», то есть языка, который на фоне литературной и разговорной нормы своей эпохи отличается систематическим своеобразием и образованным читателем воспринимается как неправильный и тёмный или особый, священный язык. Характерно, что исследование многочисленных рукописных версий и изводов показывает логику развития этого языка и стиля — от свободного поиска норм перевода на раннем этапе до закрепления набора идиоматических фигур и структур, буквально следующих оригиналу. Однако свобода действий ранних переводчиков была заранее ограничена копированием некоторых оригинальных форм, которые стали основой для всех последующих переводов. В первую очередь, это вводные обороты с союзом «и» в начале каждой фразы в повествовательных фрагментах библейской прозы[62].
Преднамеренность языкового своеобразия у переводчиков и редакторов Септуагинты остаётся дискуссионным вопросом. Ещё в начале Нового времени существовала концепция особого «библейского языка», которая, однако, была отвергнута в XVIII веке и вновь возобладала в начале ХХ века. Благодаря папирологическим находкам, оказалось, что язык Септуагинты и следующего за ней Нового Завета достаточно близок, хотя и не тождественен разговорному греческому языку эпохи эллинизма — койне (др.-греч. κοινὴ διάλεκτος), поэтому в практике библейских филологов эти понятия считаются синонимами[63]. Множество оборотов и стилевых приёмов, которые считались гебраизмами, оказались при более глубоком исследовании греческими архаизмами, «реаниминированными» для перевода Писания. Например, употребление абсолютного инфинитива[Прим 7]: в Быт. 2:16 др.-греч. βρώσει φάγῃ («снѣ́дiю снѣ́си» церковнославянского перевода) и Авв. 3:9 др.-греч. ἐντείνων ἐντενεῖς («наляцáя налячéши»), является для Септуагинты наиболее характерным; церковнославянский перевод точно воспроизводит те же самые конструкции. Обе эти конструкции представлены в греческих текстах, которые не испытали семитского влияния, — у Платона и Геродота[65]. Если у классических писателей подобного рода конструкции были остаточными, то в Септуагинте они многочисленны и отвечают общей тенденции архаизации стиля и отхода от сложного синтаксиса к упрощённой речи, которая при этом отличается торжественностью[66].
Идиоматические выражения еврейского языка передаются в греческом тексте Септуагинты не единообразно, причём не только в разных книгах, но и в рамках одной книги. Характерным стилистическим приёмом является использование постпозитивного местоимения в Песни песней. Данный стилистический приём, характерный для иврита и арамейского, перешёл в идиш и разговорный язык русскоговорящей диаспоры. Однако благодаря библейским переводам, постпозитивное местоимение сохранилось и в литературном русском языке, хотя и в менее частом употреблении («ступай себе с миром» и т. п.)[67][Прим 8].
Септуагинта и масоретская Библия
Еврейский оригинал греческой Библии отличался от того текста, который впоследствии утвердился в еврейской традиции в качестве канонического[68]. В раввинистической среде Септуагинта может рассматриваться как самый ранний из сохранившихся мидрашей (определение Шаула Либермана)[69]. Однако Септуагинта отличается от арамейских таргумов, которые разъясняли как содержание, так и дословный смысл текста при помощи богословских понятий своего времени. Мидраши являлись раввинистским истолкованием. Однако главное назначение Септуагинты — литургическое и легислативное, поэтому так называемые «вставки», которые имеются в её тексте и отсутствуют в масоретском, являются отражением древнего оригинала. Проблема заключается также в том, что книги Ветхого Завета пережили сложную историю редактирования, соединения различных традиций и преданий. В частности, предполагается, что в окружении пророка Иеремии в своё время существовало две редакции его пророчеств — краткая, положенная в основу Септуагинты, и пространная, которая была использована в масоретском тексте. По М. Селезнёву, «если эта гипотеза верна, тогда теряет смысл дискуссия о подлинности и предпочтительности одного из текстов»[70]. Примерно такая же картина наблюдается со второй половиной книги Исход, которая сильно расходится в масоретской версии и LXX. По-видимому, эти расхождения также относятся к эпохе редактирования текста[70].
Наиболее существенные различия получались в процессе перевода еврейского оригинала на греческий язык, что объясняется и языковыми, и культурными особенностями. Значения греческих слов не всегда совпадали с оттенками смыслов еврейских, а более жёсткий ивритский синтаксис непередаваем средствами греческого языка. Филологи, изучавшие кумранские тексты, выявили, что переводчики хорошо знали и понимали язык оригинала и оперировали древними значениями слов, которые были забыты в последующей масоретской традиции и были восстановлены гебраистикой только в ХХ веке. Поскольку оригинальный текст записывался консонантным письмом, вокализацию заучивали на память. Процесс перевода, видимо, включал как минимум три операции: рецитация еврейского текста, перевод на греческий язык с голоса, запись греческого перевода с голоса. Организация труда переводчиков хорошо согласуется с легендой о толковниках, помещённых в кельи, и приставленных к ним секретарях[39].
Имела место и сознательная правка, поскольку переводчики считали себя одновременно и редакторами и стремились, подобно авторам таргумов, сделать текст понятнее и яснее. Имела место и теологическая интерпретация, когда переводчик восстанавливал истинный, в его понимании, смысл текста. В научной литературе чаще всего приводится пример из Исх. 24:10. В еврейском тексте книги Исход старейшины Израиля, взошедшие на гору Синай вслед за Моисеем, «видели Бога Израилева» (ивр. הֵי יִשְׂ וַיִּרְאוּ אֵת אֱלֹ), в то время как в греческом тексте они «видели место, где стоял Бог Израилев» (др.-греч. καὶ εἶδον τὸν τόπον οὗ εἱστήκει ἐκεῖ ὁ θεὸς τοῦ Ἰσραήλ). По контексту это не простая замена, поскольку она согласована со следующей частью фразы — «и под ногами Его (др.-греч. ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ) нечто подобное работе из чистого сапфира и, как самое небо, ясное». То есть в масоретском варианте старейшины видели самого Бога Израилева, в Септуагинте — признак Его присутствия: нечто, подобное небу, спустившемуся на землю. Есть версия, что согласование произошло на основе текста псалма (Пс. 131:7) др.-греч. προσκυνήσομεν εἰς τὸν τόπον οὗ ἔστησαν οἱ πόδες αὐτοῦ , дословно: «поклонимся месту, где стояли ноги Его». В контексте псалма идёт прославление Иерусалима как «земного неба», ни в чём не уступающего Синаю[71]. Подобного рода экзегетические приёмы нерегулярно встречаются в Септуагинте и в масоретском Пятикнижии наблюдаются чаще[72].
Переводчики Септуагинты были религиозными евреями, для которых соблюдение Торы уже было чем-то само собой разумеющимся. С этой точки зрения редактировались многие места Писания. Например, во Второзаконии (Втор. 16:22) запрещено воздвигать «стелы» как языческий обычай, но в Исходе (Исх. 24:4) Моисей воздвиг жертвенник под горой и 12 стел по числу колен Израилевых. В греческом тексте переводчики исправили стелы на «камни». Строгость ритуала привела даже к коррекции действий Бога: сотворив мир, Он «закончил в день седьмой свою работу, над которой трудился» (Быт. 2:2). Это в глазах эллинистических экзегетов могло означать, что Бог нарушал субботу, поэтому в Септуагинте (а также в Самаритянском Пятикнижии) текст исправлен: Бог кончает работу «в день шестой»[70]. Поскольку в эллинистическую эпоху изменились представления о человеке и характере религиозного чувства, редакторская работа велась и в этом направлении. Например, вместо «радости» (Исх. 18:9, Лев. 9:23-24) появляется «изумление» (др.-греч. Ἔξτασις)[70]. По подсчётам Г. Бертрама, это слово — одно из самых характерных для Септуагинты, употребляясь в тексте 89 раз. Оно соответствует при этом 30 различным еврейским словам[73].
Тема философской заинтересованности толковников была популярна в литературе XIX века, однако в наше время этот вопрос признаётся далёким от разрешения[74]. Философская подготовка переводчиков Септуагинты рассматривается в литературе прямо противоположным образом — от следования в переводе книги Бытия платоническим идеям до полного отрицания знакомства толковников с греческой философией. По мнению И. Вевюрко: «…текст Септуагинты во многих случаях подлежит философскому анализу, содержа в себе переводческое осмысление целого ряда философски значимых положений библейской мысли. Однако каждый такой случай должен рассматриваться отдельно, в целом же какую-либо тенденцию — идеализирующую, спиритуализирующую и т. п. — в интерпретативных слоях этого древнего перевода выявить не удаётся»[75].
Рукописная передача текста Септуагинты и печатные издания
Методы реконструкции аутентичного текста LXX были предложены в 1863 году П. де Лагардом, в общих чертах они используются и современными исследователями. Для текстологов существенен следующий вывод де Лагарда: все сохранившиеся кодексы LXX эклектичны по происхождению, поэтому реконструкция древнейшего слоя также будет эклектичной[76]. По мнению М. Селезнёва:
…начиная с глубокой древности Септуагинта постоянно редактируется, сверяется с еврейским текстом, подвергается влиянию более поздних переводов Ветхого Завета с еврейского на греческий (переводы Акилы, Симмаха, Феодотиона, которые появляются в начале нашей эры). Поэтому расхождения разных рукописей Септуагинты между собой едва ли не многочисленнее, чем расхождения между Септуагинтой и масоретским текстом. А задача воссоздания протографа Септуагинты — столь же трудновыполнима, как задача воссоздания еврейского протографа.
Стабилизация текста Септуагинты наблюдается лишь с появлением печатных изданий. Характерно, что печатные издания греческого Ветхого Завета, использующиеся в греческой Православной Церкви, очень сильно отличаются от текста научных, критических изданий Септуагинты. Издания греческой Церкви опираются на позднесредневековые рукописи. Критические издания стремятся восстановить текст эпохи эллинизма[68].
Рукописная передача
Первый сводный каталог рукописей Септуагинты опубликовали в 1827 году английские священники Роберт Холмс и Джеймс Парсонс; им было известно 311 кодексов, наиболее древние из них были обозначены римскими цифрами I—XIII. Уже к концу XIX века это число сильно возросло, за счёт как папирологических находок, так и открытия Синайского кодекса и некоторых других документов. Подавляющее большинство этих рукописей — фрагментарные, лишь считанные единицы включают весь греческий Ветхий Завет[77]. По данным Гёттингенской Академии наук, по состоянию на 2015 год известно около 2000 рукописей Септуагинты, датируемых периодом II века до н. э. — XVI века[78].
Число папирусных свидетельств постоянно растёт. Если в «Каталоге» ван Хельста, изданном в 1976 году, упомянуты 323 папируса, то до конца ХХ века было опубликовано ещё 40 новых папирусных находок. Древность папирусов не обязательно предполагает их текстологическое превосходство над более поздними рукописями на пергаменте, в которых часто сохраняются древние чтения, испорченные или исправленные в дошедших до нас папирусных фрагментах[79].
Для подготовки критических изданий Септуагинты особое значение имеют следующие рукописи:
- Ватиканский кодекс (IV век). Восходит к догексапларному тексту. Возможно, происходит из Александрии, в Италию попал из Константинополя. Содержит лакуны в книгах Бытие и в Псалтири (нет Пс. 105:27 — 137:6)[80]. Ватиканский кодекс лежит в основе нескольких позднейших изданий греческого текста: Сикстинского (1587), оксфордского Г. Свита (1895) и кембриджского (1940). Ватиканский список широко использовался и в России елизаветинскими священниками.
- Синайский кодекс (IV век). Происходит, вероятно, из Александрии. Многочисленные лакуны (например, отсутствует почти всё Пятикнижие). Текстологически Синайский кодекс близок ватиканской редакции (за исключением книги Товита). Поскольку уже в древности рукопись была исправлена по Гексапле, ценность её для восстановления догексапларного текста Септуагинты минимальна; вдобавок, значительная часть Ветхого Завета утрачена. Обнаружена К. фон Тишендорфом в монастыре св. Екатерины на Синае в 1844 году[81].
- Александрийский кодекс (V век). Происходит из Александрии или Константинополя (был привезён в Александрию между 1308 и 1316 годами). Содержит почти весь библейский текст за исключением некоторых стихов из Бытия, двух глав Первой книги Царств и Псалма 49. Редакция эклектична: в первых пророческих книгах отмечаются следы оригеновской рецензии, а в Псалтири и книге Иова — лукиановской. Характеризуется многочисленными дополнениями и гармонизацией чтений[82]. Лежит в основе лондонского издания И. Грабе, которое использовалось при подготовке Елизаветинской Библии в России, и последующих изданий.
- Ефремов кодекс (V век). Палимпсест на 209 листах, из Ветхого Завета сохранились только 45 листов. Публикация это кодекса в 1845 года принесла репутацию К. фон Тишендорфу[83].
- Коттоновский Генезис (VI век). Богато иллюстрированная рукопись, вероятно, египетского происхождения. До 1857 года считалась древнейшим кодексом Септуагинты. Сильно повреждена пожаром 1731 года, фрагменты были опубликованы Тишендорфом[84].
А. Алексеев отмечает, что всё это — «весьма дорогие рукописи, которые предназначались не для церковно-литургического применения, а для библиотек. Не исключено, что своим существованием они обязаны известному распоряжению императора Константина об изготовлении 50 кодексов Библии, с которым он обратился к знаменитому церковному учёному Евсевию Памфилу…[Прим 9] Представляется, что создание полных кодексов Библии в ту эпоху могло отражать секуляризованное или языческое отношение к Св. Писанию как к своего рода юридическому кодексу вне конкретных условий церковно-литургического применения текстов»[59].
Печатные издания
Первоиздания по рукописям
Впервые печатный текст Септуагинты увидел свет в Милане в 1481 году, это была Миланская Псалтирь, опубликованная Франческо Буонкорсо (Бонакурсиус). Псалтирь была напечатана также Альдом Мануцием в Венеции ранее 1498 года[86]. Однако полные издания греческого текста появились несколько позже.
- Комплютенская Полиглотта — первое многоязычное издание полного текста Библии и одновременно первое печатное издание греческого Ветхого Завета целиком (третья колонка текста после Танаха — с таргумом Онкелоса — и Вульгаты) — с подстрочным латинским переводом. Предпринято в Испании по инициативе кардинала Хименеса де Сиснероса в 1514—1517 годах в шести томах, в свет вышло только в 1522 году, то есть уже после венецианского издания типографии Альда. Это произошло из-за того, что Эразм Роттердамский в 1516 году получил исключительное четырёхлетнее право на печатание Textus Receptus от императора Максимилиана и Папы Льва Х. Греческий шрифт был смоделирован по рукописям XI—XII веков; он несовершенен: отсутствовали знаки густого и тонкого придыхания, ударения были расставлены непоследовательно, причём ударные слоги обозначались простым апексом, который напоминал острое ударение. Напротив каждой греческой фразы в соответствии с текстом Вульгаты стоит латинская буква, помогающая слабо владеющим греческим языком читателям ориентироваться в тексте[87]. Текст Септуагинты в полиглотте базировался на рукописях из Ватиканской библиотеки, две из которых сохранились до наших дней (греческие Ватиканские кодексы 330 и 346). Греческий текст Комплютенской полиглотты воспроизводился в Антверпенской (1568—1572) и Парижской полиглоттах (1645), а также Женевском (1586, 1599, 1616) и Гамбургском изданиях (1596)[88].
- Альдинское издание в трёх томах греческой Библии целиком (Венеция, 1518) было предпринято Андреа Азолано (тестем Альда Мануция) и основано на рукописях из библиотеки св. Марка; текстологическая основа его у́же, чем у Комплютенского[Прим 10]. Текст неоднократно воспроизводился, в том числе в Базеле («Библия Меланхтона» 1545, 1550, 1582), Страсбурге (1526) и др.[90]
- Сикстинское издание Ветхого Завета (Рим, 1587), осуществлённое ватиканским библиотекарем кардиналом Антонио Карафа с санкции Папы Сикста V. Греческий текст занимает 783 страницы из 810, ему предпосланы посвящение кардинала Карафы, папское послание и предисловие к читателю, из которого можно узнать историю греческого текста. За основу издания был взят Ватиканский кодекс, лакуны которого восполнялись по другим рукописям из Апостольской библиотеки, библиотеки св. Марка и Лауренцианы. Сикстинское издание использовалось текстологами вплоть до середины XIX века и неоднократно переиздавалось, в том числе ван Эссом (1824) и Тишендорфом (семь изданий 1855—1887 годов, два из них под редакцией Э. Нестле)[91]. Четыре издания на основе Сикстинского выпустил известный библеист Генри Барклай Свит[en] (в 1887, 1895, 1901, 1909 годах).
- Издание Грабе (Лондон, 1707—1720) — Септуагинта в четырёх томах, начатая Иоганном Эрнестом Грабе[de] и оконченная после его кончины в 1711 году коллегами. Издание осуществлено на основе Александрийского кодекса и некоторых других рукописей, находящихся в Англии. Подобно Сикстинскому изданию, основой был единственный кодекс, текстологическая работа велась по образцу Оригена: слова и фразы, отсутствующие в масоретском тексте, обозначались астерисками, обелы ставились напротив фраз и параграфов, которые, как казалось исследователю, были заимствованы из других переводов (Акилы, Симмаха и Феодотиона). Это издание было воспроизведено в 1730-е годы в Германии, а в 1821 году было положено в основу Греческой Библии, изданной в Москве по повелению Святейшего Синода[92].
Эти четыре издания Г. Свит называл «великими» и составляющими основу текстологической работы над Септуагинтой: каждое из них базировалось на одном из древних манускриптов хорошей сохранности[93]. По словам А. А. Алексеева, «все издатели древних авторов и текстов первоначальной эпохи книгопечатания подходили к делу так же, как переписчики текстов. Они меняли и улучшали издаваемые тексты в довольно широких пределах, пользуясь неограниченными возможностями конъектуральной критики. Поэтому все первоначальные издания (editio princeps) должны рассматриваться в том же ряду источников текста, что и рукописи»[94].
Дальнейшая издательская работа, проводимая преимущественно протестантскими учёными, шла в направлении критического текста с научным аппаратом. Первым примером такой работы является
- Оксфордская Септуагинта — пятитомный греческий Ветхий Завет, опубликованный Холмсом и Парсонсом в 1798—1827 годах. В основу его было положено Сикстинское издание, дополненное мощным критическим аппаратом. В приложении к пятому тому опубликован список греческих рукописей Септуагинты, известных редакторам. Холмс и Парсонс, помимо 311 греческих рукописей (из которых 20 — унциальные), использовали старолатинские свидетельства по изданию Сабатье (Реймс, 1743), а также коптскую, церковнославянскую, арабскую, армянскую и грузинскую версии. При всей фундаментальности метод Холмса и Парсонса вызвал критику П. де Лагарда[95]: коллации рукописей производились разными людьми без строгой унификации процедуры, потому нельзя быть уверенным, что тот или иной источник в критическом аппарате представлен в полном объёме и так же, как другие[96].
Московское издание 1821 года — официальный текст Греческой церкви
Московское издание полной греческой Библии 1821 года (греч. Τα Βιβλια, εν Μοσχα, ετει 1821) было задумано греческими патриотами, в первую очередь — братьями Зосима, которые обеспечили финансовую сторону предприятия. Средства поступали по подписке и из самой Греции, где готовилось восстание, духовной опорой которого должно было стать Священное Писание. Издание шло в Московской синодальной типографии и было начато около 1818 года. Помимо политических аспектов, присутствовал и идеологический: в 1818 году Британское библейское общество начало перевод Библии на новогреческий язык. Руководство осуществлял протопресвитер Успенского собора Иаков Дмитриев, сотрудник Российского библейского общества, знаток еврейского и древнегреческого языков. Ввиду его преклонного возраста непосредственно над изданием работали священник Троицкой церкви Владимир Цветков и законоучитель университетского пансиона Алексей Терентьев. За основу Ветхого Завета было взято лондонское издание Грабе, однако редакторские поправки иногда публиковались механически, возможно, будучи принятыми за истинное чтение Александрийского кодекса. Были внесены и некоторые поправки по масоретскому тексту, но совершенно бессистемно. Почти весь тираж Московского издания 1821 года (5000 экземпляров) был разослан в Стамбул и Афины, где стал образцом для местных перепечаток. По постановлению Элладского Синода московское издание было перепечатано в Афинах без изменений и стало официальным текстом Греческой церкви. Британское библейское общество, готовя новое издание греческой Библии 1859 года, вынуждено было основываться на Московском издании, как получившем канонический статус в Греческой церкви. Ввиду текстологической эклектики греческие церковные издания Септуагинты не имеют самостоятельного научного значения[97].
Научные филологические издания
Константин фон Тишендорф, известный своими филологическими изданиями Нового Завета, предпринял также печатание греческого текста Ветхого Завета. Его издание выходило четырежды в период 1850—1869 годов, за основу бралось Сикстинское издание, которое снабжалось аппаратом разночтений по четырём древнейшим унциальным рукописям, включая открытый Тишендорфом Синайский кодекс. Его работу продолжил в 1887 году Эберхард Нестле[98].
В ХХ веке наиболее филологически основательные издания Септуагинты осуществил ученик де Лагарда Альфред Ральфс, работавший в Гёттингене. Его «Исследования по Септуагинте» (Septuaginta-Studien) увидели свет в трёх томах в 1904—1918 годах[99]. С его именем также связано распространённое критическое издание 1935 года — Штутгартское издание. Оно с исправлениями выходило в 1979 и 2006 годах в одном томе карманного формата, причём последнее пересмотренное издание насчитывало более 1000 поправок по сравнению с первым[100]. А. Алексеев, однако, писал, что Штутгартское издание удобно как справочное и учебное пособие, но научному его использованию препятствует тот факт, что «реальный текст Септуагинты, как он представлен в рукописных источниках, подвержен гораздо большему диапазону текстовых колебаний»[96]. С 1931 года в Гёттингене выпускается 20-томная «Большая Гёттингенская Септуагинта» (Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum Auctoritate Academiae Scientiarum Gottingensis editum), но она до сих пор не окончена[101].
В 1906—1940 годах в Кембридже под названием The Old Testament in Greek вышло 8 томов так называемой Кембриджской Септуагинты под редакцией А. Брука, Н. Мак-Лина и Г. Теккерея. Издание включало книги от Бытия до Товита включительно. В основу издания положен Ватиканский кодекс с элементами реконструкции[96].
В серии Monumenta musicae Byzantinae в 1939—1981 годах было выпущено критическое издание греческого профитология Lectionaria. Vol. I: Prophetologium / Ed. С. Hoeg et S. Lake. — Hauniae, 1939—1970; Pars 2. Lectiones anni immobilis / Ed. G. Engberg. — Hauniae, 1980—1981. Издатели — в том числе Сильва Лейк — предполагали реконструкцию «стандартного» текста, выполненную на основе 80 рукописей, критический аппарат включал лишь существенные, по мнению редакторов, варианты. В той же серии намечалась публикация новозаветных лекционарных текстов, но реализована она не была[102].
Значение Септуагинты
Научное изучение Септуагинты началось в эпоху Ренессанса, к греческому тексту Ветхого Завета обращались Лоренцо Валла, Поджо Браччолини, Азария деи Росси и Эразм Роттердамский. В целом исследование греческого библейского текста в Европе долгое время ограничивалось априорным предположением, что еврейский оригинал в религиозном и лингвистическом отношении предпочтительнее перевода. Первое сопоставление иудейского текста и LXX предпринял в 1506 году Иоганн Рейхлин в трактате De rudimentis linguae Hebraicae. В связи с бурным распространением протестантизма, в XVII веке началась дискуссия о степени повреждённости греческого и еврейского текста, инициированная католической церковью[103]. Она была начата в 1650 году Луисом Капелла, который опубликовал трактат Critica Sacra, направленный против Иоганна и Якоба Буксторфов. Эта дискуссия шла вплоть до конца XIX века, её участники — в том числе учёные-текстологи — по разным причинам принимали сторону Септуагинты или масоретской традиции.
В Российской империи вопрос об истинности текста Писания имел множество аспектов, в том числе политических. В 1856—1857 годах по инициативе обер-прокурора Св. Синода было организовано «синодальное рассуждение» — обмен мнениями между митрополитом Киевским Филаретом (Амфитеатровым) и митрополитом Московским Филаретом (Дроздовым). Первый выступал против перевода Библии на современный русский язык и ссылался на Септуагинту, перевод которой был устроен Богом как средство сохранения подлинных ветхозаветных Писаний. Однако решение о переводе было принято, и следовало решить вопрос, какой из текстов принять за оригинальный. За основу Синодального перевода был взят масоретский текст, что является заслугой Филарета Московского[104]. По ходу дискуссии были высказаны и другие мнения, например, обер-прокурор Синода Н. А. Протасов настаивал на канонизации славянской Библии по аналогии со статусом Вульгаты. Гебраист В. А. Левинсон предлагал для перевода Пятикнижия основываться на самаритянском варианте, а профессор Д. А. Хвольсон решительно отстаивал неповреждённость масоретского текста, основываясь на караимских памятниках Крыма, фальсифицированных А. Фирковичем. Принятие масоретского текста вызвало возражения свт. Феофана Затворника и П. А. Юнгерова, который предпринял перевод Септуагинты в противовес Синодальному[104][105]. Результатом рассуждения стало решение о том, чтобы за основу Синодального перевода был взят масоретский текст, а также изданы «охранительные правила».
Исследователи ХХ века признали бессмысленность оценок версий Библии вне контекста традиции и признали, что канон, бывший в обращении к началу нашей эры, был нестабилен. В современной науке Септуагинта рассматривается с трёх позиций:
- Значение для истории христианства. Септуагинта является первой Библией Церкви, наделённой каноническим статусом и являвшейся нормативным текстом Откровения для раннехристианских богословов. Появление текстов Нового Завета также должно рассматриваться с учётом языковой среды, богословского и богослужебного чтения Септуагинты[106].
- Значение для истории иудаизма. Разрушение Второго Храма в 70 году вызвало разрыв между традицией и позднейшей религиозной практикой. Вследствие разрушения традиции и апелляции христианства была постепенно отвергнута Септуагинта. Только после кумранских открытий Септуагинта стала восприниматься как самое древнее свидетельство еврейской традиции и источником сведений для текстологической работы с Ветхим Заветом. Однако такой подход не является общепризнанным[107].
- Значение для истории мировой культуры. Септуагинта может рассматриваться как первый художественный перевод, выполненный в античности[108]. Э. Ауэрбах писал о Библии следующее:
Насколько разрозненнее, обособленнее в своём расположении по горизонтали стоят эти рассказы, целые группы рассказов, по сравнению с «Илиадой» и «Одиссеей», настолько крепче их связь по вертикали, — объединяющая их все под одним знаком. У Гомера такой связи нет. В каждой значительной фигуре Ветхого Завета, от Адама до пророков, воплощён момент этой вертикальной связи[109].
На христианском Востоке Септуагинта оказала колоссальное влияние на литургику и связанный с нею «синтез искусств» (определение Павла Флоренского); влияние Септуагинты на Запад оказалось более опосредованным — через латинскую Псалтирь и традицию Ареопагитик[110].
Напишите отзыв о статье "Септуагинта"
Комментарии
- ↑ Также называется др.-греч. Τωβείτ или др.-греч. Τωβίθ в некоторых источниках.
- ↑ Не входят в православный канон, но изначально присутствовали в LXX. См.: [ccat.sas.upenn.edu/nets/edition/ Electronic Edition of NETS] (англ.). New English Translation of the Septuagint. Проверено 3 июля 2015.
- ↑ Первоначально находилась после 3 Маккавейской и перед Псалтирью, в православном каноне вынесена в приложение.
- ↑ Барайта (арам. בְּרַיְיתָא — «внешний») — галахическое положение или аггада, невключённые в Мишну, кодифицированную Иехудой ха-Наси.
- ↑ В текстологии изводом называется письменный памятник, сложившийся в ходе накопления ненамеренных формальных изменений, которым неизбежно подвергается любой рукописный текст в процессе копирования (определение Д. С. Лихачёва). Древнееврейское Писание записывалось консонантным письмом без огласовок, поэтому изменения возникали не только из-за путаницы букв похожей формы, но и на уровне традиции прочтения записанного текста, которая была только устной[39].
- ↑ В масоретской традиции унификация была достигнута через уничтожение всех рукописей, содержащих разночтения. В Талмуде содержатся запреты писцу начертить хотя бы одну букву по памяти, без образца, и запрет владеть рукописями, не прошедшими корректуру[60].
- ↑ Об абсолютном инфинитиве в греческом языке см. статью М. А. Габинского[64].
- ↑ Подробнее о постпозитивных русских местоимениях см. статью К. Бонно [halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00675370/document Индивидуализация и «деиндивидуализация». Постпозиция неопределенных местоимений в русском языке]. HAL. Проверено 3 июля 2015.
- ↑ В написанной им Vita Constantini Евсевий сообщает, что император Константин в 331 году распорядился изготовить 50 списков Библии, необходимых для отправления богослужения во вновь отстроенных церквах; возможно, они должны были служить эталонными экземплярами для копирования в каждом из диоцезов империи. Предположительно, из этих 50 экземпляров сохранились два — Ватиканский и Синайский кодексы[85].
- ↑ Новый Завет в Альдинском издании печатался по Textus Receptus, выпущенному Эразмом в 1516 году; при этом были воспроизведены даже типографские ошибки, в том числе исправленные в списке опечаток[89].
Примечания
- ↑ Юнгеров, 2003, с. 49.
- ↑ La Sor, 1956, p. 224.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 83.
- ↑ Алексеев, 2007, с. 225.
- ↑ Swete, 1900, p. 218.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 86—87.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 88—89.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 41.
- ↑ Lamarche, 1997, p. 16.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 42—44.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 45—46.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 40.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 46.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 48.
- ↑ Dines, 2008, p. 5.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 60.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 60—61.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 61—62.
- ↑ Елеонский, 1875, с. 15.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 63—64.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 64—65.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 65.
- ↑ Simon-Shoshan, 2007, p. 31.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 66.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 67—68.
- ↑ Юнгеров, 2003, с. 65.
- ↑ 1 2 Вевюрко, 2013, с. 68—69.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 69—70.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 70—71.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 73.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 73—74.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 119.
- ↑ Septuaginta, 1979, s. XLII—XLIII.
- ↑ 1 2 Вевюрко, 2013, с. 120.
- ↑ 1 2 Палант, 2001, с. 8—9.
- ↑ Veltri, 2006, s. 116—130.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 124.
- ↑ Штереншис, 2008, с. 134—135.
- ↑ 1 2 Вевюрко, 2013, с. 157.
- ↑ Тов, 2001, с. 136—140.
- ↑ Lamarche, 1997, p. 21.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 185—186.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 186—187.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 188.
- ↑ Thackeray, 1909, p. 9.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 189.
- ↑ 1 2 Вевюрко, 2013, с. 190—192.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 192—193.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 193—194.
- ↑ Septuaginta, 1979, p. XLVII—XLVIII.
- ↑ Юнгеров, 2003, с. 271.
- ↑ Swete, 1900, p. 74.
- ↑ Thackeray, 1909, p. 4.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 181.
- ↑ Swete, 1900, p. 85.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 182—183.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 183.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 195.
- ↑ 1 2 Алексеев, 1999, с. 104.
- ↑ 1 2 Вевюрко, 2013, с. 184.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 150.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 126—127.
- ↑ Маунс, 2011, с. 17—18.
- ↑ Габинский, 1968.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 136—137.
- ↑ Thackeray, 1909, p. 28—29.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 151.
- ↑ 1 2 Селезнёв, 2008, с. 57.
- ↑ Lieberman, 1962, p. 50.
- ↑ 1 2 3 4 Селезнёв, 2008, с. 58.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 165.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 166.
- ↑ Селезнёв, 2008, с. 59.
- ↑ Olofsson, 1990, p. 149.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 168.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 23.
- ↑ Swete, 1900, p. 122—123.
- ↑ [adw-goe.de/forschung/forschungsprojekte-akademienprogramm/septuaginta-unternehmen/ Herzlich willkommen auf den Seiten des Göttinger Septuaginta-Unternehmens!] (нем.). Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Проверено 3 июля 2015.
- ↑ [www.pravenc.ru/text/209477.html#part_4 Библия. Рукописи и издания еврейского и греческого текста]. Православная энциклопедия. Проверено 3 июля 2015.
- ↑ Swete, 1900, p. 126—128.
- ↑ Swete, 1900, p. 129—131.
- ↑ Swete, 1900, p. 125—126.
- ↑ Swete, 1900, p. 128—129.
- ↑ Swete, 1900, p. 132—134.
- ↑ Skeat, T. K. The Codex Sinaiticus, The Codex Vaticanus and Constantine // Journal of Theological Studies. — 1999. — Vol. 50. — P. 583—625.
- ↑ Swete, 1900, p. 191.
- ↑ Мецгер, 1996, с. 94.
- ↑ Swete, 1900, p. 171—173.
- ↑ Мецгер, 1996, с. 100.
- ↑ Swete, 1900, p. 173—174.
- ↑ Swete, 1900, p. 174—182.
- ↑ Swete, 1900, p. 182—184.
- ↑ Swete, 1900, p. 184.
- ↑ Алексеев, 1999, с. 108.
- ↑ Swete, 1900, p. 184—186.
- ↑ 1 2 3 Алексеев, 1999, с. 109.
- ↑ Евсеев, И. [www.sravnika.narod.ru/lxx/lxx16.htm Московское издание Греческой Библии] // Богословский Вестник. — 1902 (январь—апрель). — С. 207—211.</span>
- ↑ Swete, 1900, p. 187—188.
- ↑ [archive.org/search.php?query=Septuaginta-Studien Septuaginta-Studien] (нем.). Internet Archive. Проверено 3 июля 2015.
- ↑ [www.scholarly-bibles.com/products/Original-Texts/Old-Testament/Greek/Septuaginta.html?XTCsid=cqotgre8gkt1qab84t073k4ai7 Septuaginta. Editio altera (2nd revised edition)] (англ.). Deutsche Bibelgesellschaft. Проверено 3 июля 2015.
- ↑ [ccat.sas.upenn.edu/ioscs/editions.html Critical Editions of Septuagint/Old Greek Texts] (англ.). The International Organization for Septuagint and Cognate Studies. Проверено 3 июля 2015.
- ↑ Алексеев, 1999, с. 110.
- ↑ Юнгеров, 2003, с. 20.
- ↑ 1 2 Селезнёв, 2008, с. 60.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 16—17.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 18.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 19—20.
- ↑ Десницкий, 2007, с. 157.
- ↑ Ауэрбах, 1976, с. 38.
- ↑ Вевюрко, 2013, с. 20—21.
</ol>
Литература
- Алексеев А. А. Глава 4. Оригиналы славянских библейских переводов // [krotov.info/library/01_a/le/kseev_5.htm Текстология славянской Библии]. — СПб. : Дмитрий Буланин, 1999. — С. 104—110. — 256 с. — ISBN 3-412-00598-3.</span>
- Алексеев А. А. Септуагинта и её литературное окружение // Богословские труды. — 2007. — Вып. 41. — С. 212—259.</span>
- Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. — М. : Прогресс, 1976. — 556 с.</span>
- Библейские переводы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- Вевюрко И. С. Септуагинта: древнегреческий текст Ветхого Завета в истории религиозной мысли. — М. : Издательство Московского университета, 2013. — 973 с. — ISBN 978-5-211-06400-3.</span>
- Габинский М. А. [www.jstor.org/stable/23466232?seq=1#page_scan_tab_contents Новая этиология утраты греческого инфинитива] // Listy filologické / Folia philologica. — 1968. — Т. 91, вып. 3. — С. 241—251.</span>
- Десницкий А. [azbyka.ru/dictionary/02/poetika.pdf Поэтика библейского параллелизма]. — М. : Библейско-богословский ин-т, 2007. — 576 с. — (Современная библеистика). — ISBN 5-89647-133-5.</span>
- Елеонский Н. Свидетельства о происхождении перевода LXX и степень их достоверности // Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. — 1875. — № 1. — С. 3—47.</span>
- Маунс У. Д. Основы библейского греческого языка = Basics of Biblical Greek Grammar / Пер. И. Кумпяк, П. Тогобицкий. — СПб. : Библия для всех, 2011. — 472 с. — ISBN 978-5-74541-162-5.</span>
- Мецгер Б. Текстология Нового Завета: Рукописная традиция, возникновение искажений и реконструкция оригинала. — М. : Библейско-богословский ин-т св. апостола Андрея, 1996. — 334 с. — ISBN 5-87507-011-0.</span>
- Палант Д. Тайны еврейского алфавита. — М. : Центр изучения иудаизма в СНГ, 2001. — 64 с.</span>
- Селезнёв М. Г. [pstgu.ru/download/1280828738.seleznev.pdf Еврейский текст Библии и Септуагинта: два оригинала, два перевода?] // XVIII Ежегодная богословская конференция ПСТГУ: Материалы. — М., 2008. — С. 56—61.</span>
- Тов Э. [www.yudovin.co.il/websitesfolders/00000447/upload/books/Textologia.pdf Текстология Ветхого Завета] = Textual Criticism of the Hebrew Bible / Пер. К. Бурмистров, Г. Ястребов. — М. : Библейско-богословский ин-т апостола Андрея, 2001. — 424 с. — ISBN 5-89647-031-2.</span>
- Штереншис М. Евреи: история нации. — Герцлия: Исрадон, 2008. — 560 с. — ISBN 978-5-94467-064-9.
- Юнгеров П. А. Введение в Ветхий Завет. — М. : Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт, 2003. — Т. 1. Общее историко-критическое введение в Священные Ветхозаветные книги. — 443 с. — ISBN 5-7429-0189-5.</span>
- Dines J. M. Im Brennpunkt: Die Septuaginta, Band 3, Studien zur Theologie, Anthropologie, Ekklesiologie, Eschatologie und Liturgie der Griechischen Bibel // Journal for the Study of the Old Testament. — 2008. — Vol. 32, no. 5 (июнь). — С. 52.</span>
- [books.google.ru/books?id=UMBIAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=ro&source=gbs_ge_summary_r#v=onepage&q&f=false He palaia diatheke etc. Vetus testamentum juxta septuaginta ex auctoritate Sixti V. ed]. — Roma : Franciscus Zannetti, 1587. — 810 p.</span>
- Lamarche P. The Septuagint: Bible of the Earliest Christians // The Bible in Greek Christian Antiquity. — University of Notre Dame Press, 1997. — P. 15—33. — ISBN 9780268007010.</span>
- La Sor W. S. Amazing Dead Sea Scrolls and the Christian Faith. — Chicago : Moody Press, 1956. — 251 p.</span>
- Lieberman S. [greek.rabbinics.org/Saul%20Lieberman%20Hellenism%20in%20Jewish%20Palestine.pdf Hellenism in Jewish Palestine: Studies in the Literature Transmission Beliefs and Manners of Palestine in the Century B. C. E. IV Century C.E.]. — N. Y. : Jewish Theiological Seminary of America, 1962. — 231 p. — (Texts and studies of the Jewish Theological Seminary of America; vol. l8).</span>
- Olofsson S. God Is My Rock: A Study of Translation Technique and Theological Exegesis in the Septuagint. — Stockholm : Almqvist & Wiksell International, 1990. — 208 p. — (Coniectanea Biblical Old Testament Ser. : No 31). — ISBN 978-9122013945.</span>
- Rahlfs A. [archive.org/details/mitteilungendess00akaduoft Verzeichnis der griechischen Handschriften des Alten Testaments, für das Septuaginta-Unternehmen]. — Berlin : Weidmann, 1909. — 390 s.</span>
- Septuaginta: Id Est Vetus Testamentum Graece Iuxta LXX Interpretes (Editio Minor, Duo Volumina In Uno) / Ed. A. Rahlfs. — Stuttgart : Deitsche Bibelgesellschaft, 1979. — 1184 s. — ISBN 978-3438051202.</span>
- Simon-Shoshan M. [muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/prooftexts/v027/27.1simon-shoshan.pdf The Tasks of the Translators: The Rabbis, the Septuagint, and the Cultural Politics of Translation] // Prooftexts. — 2007. — Vol. 27, no. 1. — P. 1—39.</span>
- Swete H. B. [archive.org/details/introductiontool00swet An introduction to the Old Testament in Greek]. — Cambridge : University Press, 1900. — 620 p.</span>
- Thackeray H. St. J. [archive.org/details/grammarofoldtest01thacuoft A grammar of the Old Testament in Greek according to the Septuagint]. — Cambridge : University Press, 1909. — Vol. 1. — 360 p.</span>
- Veltri G. Libraries, Translations, and 'Canonic' Texts. The Septuagint, Aquila and Ben Sira in the Jewish and Christian Traditions. — Leiden : Brill Academic Publishers, 2006. — 280 p. — ISBN 978-90-04-14993-9.</span>
Ссылки
- [www.obohu.cz/bible/index.php?styl=LXXA&k=Gn&kap=1 Аналитическая Септуагинта, Ветхий Завет — с морфологией]. www.obohu.cz. Проверено 3 июля 2015.
- [hebrew-studies.philosophy.spbu.ru/title/about_project.html Библеистика и гебраистика: материалы и исследования]. Центр библеистики и иудаики при философском факультете СПбГУ. Проверено 3 июля 2015.
- [www.pravenc.ru/text/209477.html#part_4 Библия. Рукописи и издания еврейского и греческого текста]. Православная энциклопедия. Проверено 3 июля 2015.
- [ihtys.narod.ru/index.html#sept Библия — Слово Божье. Священные тексты на иврите, арамейском, греческом, латинском, коптском, французском, английском, немецком, итальянском, церковно-славянском и русском языках]. Проверено 3 июля 2015.
- [biblia.russportal.ru/index.php?id=lxx.serg Опытъ переложенія на русскій языкъ священныхъ книгъ Ветхаго Завѣта свящ. А. А. Сергіевскаго (съ греческаго текста LXX)] (рус. дореф.). Русская Библія. Проверено 3 июля 2015.
- [biblia.russportal.ru/index.php?id=lxx.uspen Опытъ переложенія на русскій языкъ Священныхъ Книгъ Ветхаго Завѣта еп. Порфирія Успенскаго (съ греческаго текста LXX)] (рус. дореф.). Русская Библія. Проверено 3 июля 2015.
- [biblia.russportal.ru/index.php?id=lxx.jung Опытъ переложенія на русскій языкъ священныхъ книгъ Ветхаго Завѣта проф. П. А. Юнгерова (съ греческаго текста LXX)] (рус. дореф.). Русская Библія. Проверено 3 июля 2015.
- [www.bible.in.ua/underl/index.htm Подстрочный перевод Ветхого и Нового Заветов на русский язык]. Алексей Винокуров. Проверено 3 июля 2015.
- [manuscript-bible.ru/ Подстрочный перевод Ветхого и Нового Заветов на русский язык]. DEUTSCHE BIBELGESELLSCHAFT, Stuttgart. Проверено 3 июля 2015.
| Эта статья входит в число избранных статей русскоязычного раздела Википедии. |
Отрывок, характеризующий Септуагинта
Один Кутузов не хотел понимать этого и открыто говорил свое мнение о том, что новая война не может улучшить положение и увеличить славу России, а только может ухудшить ее положение и уменьшить ту высшую степень славы, на которой, по его мнению, теперь стояла Россия. Он старался доказать государю невозможность набрания новых войск; говорил о тяжелом положении населений, о возможности неудач и т. п.При таком настроении фельдмаршал, естественно, представлялся только помехой и тормозом предстоящей войны.
Для избежания столкновений со стариком сам собою нашелся выход, состоящий в том, чтобы, как в Аустерлице и как в начале кампании при Барклае, вынуть из под главнокомандующего, не тревожа его, не объявляя ему о том, ту почву власти, на которой он стоял, и перенести ее к самому государю.
С этою целью понемногу переформировался штаб, и вся существенная сила штаба Кутузова была уничтожена и перенесена к государю. Толь, Коновницын, Ермолов – получили другие назначения. Все громко говорили, что фельдмаршал стал очень слаб и расстроен здоровьем.
Ему надо было быть слабым здоровьем, для того чтобы передать свое место тому, кто заступал его. И действительно, здоровье его было слабо.
Как естественно, и просто, и постепенно явился Кутузов из Турции в казенную палату Петербурга собирать ополчение и потом в армию, именно тогда, когда он был необходим, точно так же естественно, постепенно и просто теперь, когда роль Кутузова была сыграна, на место его явился новый, требовавшийся деятель.
Война 1812 го года, кроме своего дорогого русскому сердцу народного значения, должна была иметь другое – европейское.
За движением народов с запада на восток должно было последовать движение народов с востока на запад, и для этой новой войны нужен был новый деятель, имеющий другие, чем Кутузов, свойства, взгляды, движимый другими побуждениями.
Александр Первый для движения народов с востока на запад и для восстановления границ народов был так же необходим, как необходим был Кутузов для спасения и славы России.
Кутузов не понимал того, что значило Европа, равновесие, Наполеон. Он не мог понимать этого. Представителю русского народа, после того как враг был уничтожен, Россия освобождена и поставлена на высшую степень своей славы, русскому человеку, как русскому, делать больше было нечего. Представителю народной войны ничего не оставалось, кроме смерти. И он умер.
Пьер, как это большею частью бывает, почувствовал всю тяжесть физических лишений и напряжений, испытанных в плену, только тогда, когда эти напряжения и лишения кончились. После своего освобождения из плена он приехал в Орел и на третий день своего приезда, в то время как он собрался в Киев, заболел и пролежал больным в Орле три месяца; с ним сделалась, как говорили доктора, желчная горячка. Несмотря на то, что доктора лечили его, пускали кровь и давали пить лекарства, он все таки выздоровел.
Все, что было с Пьером со времени освобождения и до болезни, не оставило в нем почти никакого впечатления. Он помнил только серую, мрачную, то дождливую, то снежную погоду, внутреннюю физическую тоску, боль в ногах, в боку; помнил общее впечатление несчастий, страданий людей; помнил тревожившее его любопытство офицеров, генералов, расспрашивавших его, свои хлопоты о том, чтобы найти экипаж и лошадей, и, главное, помнил свою неспособность мысли и чувства в то время. В день своего освобождения он видел труп Пети Ростова. В тот же день он узнал, что князь Андрей был жив более месяца после Бородинского сражения и только недавно умер в Ярославле, в доме Ростовых. И в тот же день Денисов, сообщивший эту новость Пьеру, между разговором упомянул о смерти Элен, предполагая, что Пьеру это уже давно известно. Все это Пьеру казалось тогда только странно. Он чувствовал, что не может понять значения всех этих известий. Он тогда торопился только поскорее, поскорее уехать из этих мест, где люди убивали друг друга, в какое нибудь тихое убежище и там опомниться, отдохнуть и обдумать все то странное и новое, что он узнал за это время. Но как только он приехал в Орел, он заболел. Проснувшись от своей болезни, Пьер увидал вокруг себя своих двух людей, приехавших из Москвы, – Терентия и Ваську, и старшую княжну, которая, живя в Ельце, в имении Пьера, и узнав о его освобождении и болезни, приехала к нему, чтобы ходить за ним.
Во время своего выздоровления Пьер только понемногу отвыкал от сделавшихся привычными ему впечатлений последних месяцев и привыкал к тому, что его никто никуда не погонит завтра, что теплую постель его никто не отнимет и что у него наверное будет обед, и чай, и ужин. Но во сне он еще долго видел себя все в тех же условиях плена. Так же понемногу Пьер понимал те новости, которые он узнал после своего выхода из плена: смерть князя Андрея, смерть жены, уничтожение французов.
Радостное чувство свободы – той полной, неотъемлемой, присущей человеку свободы, сознание которой он в первый раз испытал на первом привале, при выходе из Москвы, наполняло душу Пьера во время его выздоровления. Он удивлялся тому, что эта внутренняя свобода, независимая от внешних обстоятельств, теперь как будто с излишком, с роскошью обставлялась и внешней свободой. Он был один в чужом городе, без знакомых. Никто от него ничего не требовал; никуда его не посылали. Все, что ему хотелось, было у него; вечно мучившей его прежде мысли о жене больше не было, так как и ее уже не было.
– Ах, как хорошо! Как славно! – говорил он себе, когда ему подвигали чисто накрытый стол с душистым бульоном, или когда он на ночь ложился на мягкую чистую постель, или когда ему вспоминалось, что жены и французов нет больше. – Ах, как хорошо, как славно! – И по старой привычке он делал себе вопрос: ну, а потом что? что я буду делать? И тотчас же он отвечал себе: ничего. Буду жить. Ах, как славно!
То самое, чем он прежде мучился, чего он искал постоянно, цели жизни, теперь для него не существовало. Эта искомая цель жизни теперь не случайно не существовала для него только в настоящую минуту, но он чувствовал, что ее нет и не может быть. И это то отсутствие цели давало ему то полное, радостное сознание свободы, которое в это время составляло его счастие.
Он не мог иметь цели, потому что он теперь имел веру, – не веру в какие нибудь правила, или слова, или мысли, но веру в живого, всегда ощущаемого бога. Прежде он искал его в целях, которые он ставил себе. Это искание цели было только искание бога; и вдруг он узнал в своем плену не словами, не рассуждениями, но непосредственным чувством то, что ему давно уж говорила нянюшка: что бог вот он, тут, везде. Он в плену узнал, что бог в Каратаеве более велик, бесконечен и непостижим, чем в признаваемом масонами Архитектоне вселенной. Он испытывал чувство человека, нашедшего искомое у себя под ногами, тогда как он напрягал зрение, глядя далеко от себя. Он всю жизнь свою смотрел туда куда то, поверх голов окружающих людей, а надо было не напрягать глаз, а только смотреть перед собой.
Он не умел видеть прежде великого, непостижимого и бесконечного ни в чем. Он только чувствовал, что оно должно быть где то, и искал его. Во всем близком, понятном он видел одно ограниченное, мелкое, житейское, бессмысленное. Он вооружался умственной зрительной трубой и смотрел в даль, туда, где это мелкое, житейское, скрываясь в тумане дали, казалось ему великим и бесконечным оттого только, что оно было неясно видимо. Таким ему представлялась европейская жизнь, политика, масонство, философия, филантропия. Но и тогда, в те минуты, которые он считал своей слабостью, ум его проникал и в эту даль, и там он видел то же мелкое, житейское, бессмысленное. Теперь же он выучился видеть великое, вечное и бесконечное во всем, и потому естественно, чтобы видеть его, чтобы наслаждаться его созерцанием, он бросил трубу, в которую смотрел до сих пор через головы людей, и радостно созерцал вокруг себя вечно изменяющуюся, вечно великую, непостижимую и бесконечную жизнь. И чем ближе он смотрел, тем больше он был спокоен и счастлив. Прежде разрушавший все его умственные постройки страшный вопрос: зачем? теперь для него не существовал. Теперь на этот вопрос – зачем? в душе его всегда готов был простой ответ: затем, что есть бог, тот бог, без воли которого не спадет волос с головы человека.
Пьер почти не изменился в своих внешних приемах. На вид он был точно таким же, каким он был прежде. Так же, как и прежде, он был рассеян и казался занятым не тем, что было перед глазами, а чем то своим, особенным. Разница между прежним и теперешним его состоянием состояла в том, что прежде, когда он забывал то, что было перед ним, то, что ему говорили, он, страдальчески сморщивши лоб, как будто пытался и не мог разглядеть чего то, далеко отстоящего от него. Теперь он так же забывал то, что ему говорили, и то, что было перед ним; но теперь с чуть заметной, как будто насмешливой, улыбкой он всматривался в то самое, что было перед ним, вслушивался в то, что ему говорили, хотя очевидно видел и слышал что то совсем другое. Прежде он казался хотя и добрым человеком, но несчастным; и потому невольно люди отдалялись от него. Теперь улыбка радости жизни постоянно играла около его рта, и в глазах его светилось участие к людям – вопрос: довольны ли они так же, как и он? И людям приятно было в его присутствии.
Прежде он много говорил, горячился, когда говорил, и мало слушал; теперь он редко увлекался разговором и умел слушать так, что люди охотно высказывали ему свои самые задушевные тайны.
Княжна, никогда не любившая Пьера и питавшая к нему особенно враждебное чувство с тех пор, как после смерти старого графа она чувствовала себя обязанной Пьеру, к досаде и удивлению своему, после короткого пребывания в Орле, куда она приехала с намерением доказать Пьеру, что, несмотря на его неблагодарность, она считает своим долгом ходить за ним, княжна скоро почувствовала, что она его любит. Пьер ничем не заискивал расположения княжны. Он только с любопытством рассматривал ее. Прежде княжна чувствовала, что в его взгляде на нее были равнодушие и насмешка, и она, как и перед другими людьми, сжималась перед ним и выставляла только свою боевую сторону жизни; теперь, напротив, она чувствовала, что он как будто докапывался до самых задушевных сторон ее жизни; и она сначала с недоверием, а потом с благодарностью выказывала ему затаенные добрые стороны своего характера.
Самый хитрый человек не мог бы искуснее вкрасться в доверие княжны, вызывая ее воспоминания лучшего времени молодости и выказывая к ним сочувствие. А между тем вся хитрость Пьера состояла только в том, что он искал своего удовольствия, вызывая в озлобленной, cyхой и по своему гордой княжне человеческие чувства.
– Да, он очень, очень добрый человек, когда находится под влиянием не дурных людей, а таких людей, как я, – говорила себе княжна.
Перемена, происшедшая в Пьере, была замечена по своему и его слугами – Терентием и Васькой. Они находили, что он много попростел. Терентий часто, раздев барина, с сапогами и платьем в руке, пожелав покойной ночи, медлил уходить, ожидая, не вступит ли барин в разговор. И большею частью Пьер останавливал Терентия, замечая, что ему хочется поговорить.
– Ну, так скажи мне… да как же вы доставали себе еду? – спрашивал он. И Терентий начинал рассказ о московском разорении, о покойном графе и долго стоял с платьем, рассказывая, а иногда слушая рассказы Пьера, и, с приятным сознанием близости к себе барина и дружелюбия к нему, уходил в переднюю.
Доктор, лечивший Пьера и навещавший его каждый день, несмотря на то, что, по обязанности докторов, считал своим долгом иметь вид человека, каждая минута которого драгоценна для страждущего человечества, засиживался часами у Пьера, рассказывая свои любимые истории и наблюдения над нравами больных вообще и в особенности дам.
– Да, вот с таким человеком поговорить приятно, не то, что у нас, в провинции, – говорил он.
В Орле жило несколько пленных французских офицеров, и доктор привел одного из них, молодого итальянского офицера.
Офицер этот стал ходить к Пьеру, и княжна смеялась над теми нежными чувствами, которые выражал итальянец к Пьеру.
Итальянец, видимо, был счастлив только тогда, когда он мог приходить к Пьеру и разговаривать и рассказывать ему про свое прошедшее, про свою домашнюю жизнь, про свою любовь и изливать ему свое негодование на французов, и в особенности на Наполеона.
– Ежели все русские хотя немного похожи на вас, – говорил он Пьеру, – c'est un sacrilege que de faire la guerre a un peuple comme le votre. [Это кощунство – воевать с таким народом, как вы.] Вы, пострадавшие столько от французов, вы даже злобы не имеете против них.
И страстную любовь итальянца Пьер теперь заслужил только тем, что он вызывал в нем лучшие стороны его души и любовался ими.
Последнее время пребывания Пьера в Орле к нему приехал его старый знакомый масон – граф Вилларский, – тот самый, который вводил его в ложу в 1807 году. Вилларский был женат на богатой русской, имевшей большие имения в Орловской губернии, и занимал в городе временное место по продовольственной части.
Узнав, что Безухов в Орле, Вилларский, хотя и никогда не был коротко знаком с ним, приехал к нему с теми заявлениями дружбы и близости, которые выражают обыкновенно друг другу люди, встречаясь в пустыне. Вилларский скучал в Орле и был счастлив, встретив человека одного с собой круга и с одинаковыми, как он полагал, интересами.
Но, к удивлению своему, Вилларский заметил скоро, что Пьер очень отстал от настоящей жизни и впал, как он сам с собою определял Пьера, в апатию и эгоизм.
– Vous vous encroutez, mon cher, [Вы запускаетесь, мой милый.] – говорил он ему. Несмотря на то, Вилларскому было теперь приятнее с Пьером, чем прежде, и он каждый день бывал у него. Пьеру же, глядя на Вилларского и слушая его теперь, странно и невероятно было думать, что он сам очень недавно был такой же.
Вилларский был женат, семейный человек, занятый и делами имения жены, и службой, и семьей. Он считал, что все эти занятия суть помеха в жизни и что все они презренны, потому что имеют целью личное благо его и семьи. Военные, административные, политические, масонские соображения постоянно поглощали его внимание. И Пьер, не стараясь изменить его взгляд, не осуждая его, с своей теперь постоянно тихой, радостной насмешкой, любовался на это странное, столь знакомое ему явление.
В отношениях своих с Вилларским, с княжною, с доктором, со всеми людьми, с которыми он встречался теперь, в Пьере была новая черта, заслуживавшая ему расположение всех людей: это признание возможности каждого человека думать, чувствовать и смотреть на вещи по своему; признание невозможности словами разубедить человека. Эта законная особенность каждого человека, которая прежде волновала и раздражала Пьера, теперь составляла основу участия и интереса, которые он принимал в людях. Различие, иногда совершенное противоречие взглядов людей с своею жизнью и между собою, радовало Пьера и вызывало в нем насмешливую и кроткую улыбку.
В практических делах Пьер неожиданно теперь почувствовал, что у него был центр тяжести, которого не было прежде. Прежде каждый денежный вопрос, в особенности просьбы о деньгах, которым он, как очень богатый человек, подвергался очень часто, приводили его в безвыходные волнения и недоуменья. «Дать или не дать?» – спрашивал он себя. «У меня есть, а ему нужно. Но другому еще нужнее. Кому нужнее? А может быть, оба обманщики?» И из всех этих предположений он прежде не находил никакого выхода и давал всем, пока было что давать. Точно в таком же недоуменье он находился прежде при каждом вопросе, касающемся его состояния, когда один говорил, что надо поступить так, а другой – иначе.
Теперь, к удивлению своему, он нашел, что во всех этих вопросах не было более сомнений и недоумений. В нем теперь явился судья, по каким то неизвестным ему самому законам решавший, что было нужно и чего не нужно делать.
Он был так же, как прежде, равнодушен к денежным делам; но теперь он несомненно знал, что должно сделать и чего не должно. Первым приложением этого нового судьи была для него просьба пленного французского полковника, пришедшего к нему, много рассказывавшего о своих подвигах и под конец заявившего почти требование о том, чтобы Пьер дал ему четыре тысячи франков для отсылки жене и детям. Пьер без малейшего труда и напряжения отказал ему, удивляясь впоследствии, как было просто и легко то, что прежде казалось неразрешимо трудным. Вместе с тем тут же, отказывая полковнику, он решил, что необходимо употребить хитрость для того, чтобы, уезжая из Орла, заставить итальянского офицера взять денег, в которых он, видимо, нуждался. Новым доказательством для Пьера его утвердившегося взгляда на практические дела было его решение вопроса о долгах жены и о возобновлении или невозобновлении московских домов и дач.
В Орел приезжал к нему его главный управляющий, и с ним Пьер сделал общий счет своих изменявшихся доходов. Пожар Москвы стоил Пьеру, по учету главно управляющего, около двух миллионов.
Главноуправляющий, в утешение этих потерь, представил Пьеру расчет о том, что, несмотря на эти потери, доходы его не только не уменьшатся, но увеличатся, если он откажется от уплаты долгов, оставшихся после графини, к чему он не может быть обязан, и если он не будет возобновлять московских домов и подмосковной, которые стоили ежегодно восемьдесят тысяч и ничего не приносили.
– Да, да, это правда, – сказал Пьер, весело улыбаясь. – Да, да, мне ничего этого не нужно. Я от разоренья стал гораздо богаче.
Но в январе приехал Савельич из Москвы, рассказал про положение Москвы, про смету, которую ему сделал архитектор для возобновления дома и подмосковной, говоря про это, как про дело решенное. В это же время Пьер получил письмо от князя Василия и других знакомых из Петербурга. В письмах говорилось о долгах жены. И Пьер решил, что столь понравившийся ему план управляющего был неверен и что ему надо ехать в Петербург покончить дела жены и строиться в Москве. Зачем было это надо, он не знал; но он знал несомненно, что это надо. Доходы его вследствие этого решения уменьшались на три четверти. Но это было надо; он это чувствовал.
Вилларский ехал в Москву, и они условились ехать вместе.
Пьер испытывал во все время своего выздоровления в Орле чувство радости, свободы, жизни; но когда он, во время своего путешествия, очутился на вольном свете, увидал сотни новых лиц, чувство это еще более усилилось. Он все время путешествия испытывал радость школьника на вакации. Все лица: ямщик, смотритель, мужики на дороге или в деревне – все имели для него новый смысл. Присутствие и замечания Вилларского, постоянно жаловавшегося на бедность, отсталость от Европы, невежество России, только возвышали радость Пьера. Там, где Вилларский видел мертвенность, Пьер видел необычайную могучую силу жизненности, ту силу, которая в снегу, на этом пространстве, поддерживала жизнь этого целого, особенного и единого народа. Он не противоречил Вилларскому и, как будто соглашаясь с ним (так как притворное согласие было кратчайшее средство обойти рассуждения, из которых ничего не могло выйти), радостно улыбался, слушая его.
Так же, как трудно объяснить, для чего, куда спешат муравьи из раскиданной кочки, одни прочь из кочки, таща соринки, яйца и мертвые тела, другие назад в кочку – для чего они сталкиваются, догоняют друг друга, дерутся, – так же трудно было бы объяснить причины, заставлявшие русских людей после выхода французов толпиться в том месте, которое прежде называлось Москвою. Но так же, как, глядя на рассыпанных вокруг разоренной кочки муравьев, несмотря на полное уничтожение кочки, видно по цепкости, энергии, по бесчисленности копышущихся насекомых, что разорено все, кроме чего то неразрушимого, невещественного, составляющего всю силу кочки, – так же и Москва, в октябре месяце, несмотря на то, что не было ни начальства, ни церквей, ни святынь, ни богатств, ни домов, была та же Москва, какою она была в августе. Все было разрушено, кроме чего то невещественного, но могущественного и неразрушимого.
Побуждения людей, стремящихся со всех сторон в Москву после ее очищения от врага, были самые разнообразные, личные, и в первое время большей частью – дикие, животные. Одно только побуждение было общее всем – это стремление туда, в то место, которое прежде называлось Москвой, для приложения там своей деятельности.
Через неделю в Москве уже было пятнадцать тысяч жителей, через две было двадцать пять тысяч и т. д. Все возвышаясь и возвышаясь, число это к осени 1813 года дошло до цифры, превосходящей население 12 го года.
Первые русские люди, которые вступили в Москву, были казаки отряда Винцингероде, мужики из соседних деревень и бежавшие из Москвы и скрывавшиеся в ее окрестностях жители. Вступившие в разоренную Москву русские, застав ее разграбленною, стали тоже грабить. Они продолжали то, что делали французы. Обозы мужиков приезжали в Москву с тем, чтобы увозить по деревням все, что было брошено по разоренным московским домам и улицам. Казаки увозили, что могли, в свои ставки; хозяева домов забирали все то, что они находили и других домах, и переносили к себе под предлогом, что это была их собственность.
Но за первыми грабителями приезжали другие, третьи, и грабеж с каждым днем, по мере увеличения грабителей, становился труднее и труднее и принимал более определенные формы.
Французы застали Москву хотя и пустою, но со всеми формами органически правильно жившего города, с его различными отправлениями торговли, ремесел, роскоши, государственного управления, религии. Формы эти были безжизненны, но они еще существовали. Были ряды, лавки, магазины, лабазы, базары – большинство с товарами; были фабрики, ремесленные заведения; были дворцы, богатые дома, наполненные предметами роскоши; были больницы, остроги, присутственные места, церкви, соборы. Чем долее оставались французы, тем более уничтожались эти формы городской жизни, и под конец все слилось в одно нераздельное, безжизненное поле грабежа.
Грабеж французов, чем больше он продолжался, тем больше разрушал богатства Москвы и силы грабителей. Грабеж русских, с которого началось занятие русскими столицы, чем дольше он продолжался, чем больше было в нем участников, тем быстрее восстановлял он богатство Москвы и правильную жизнь города.
Кроме грабителей, народ самый разнообразный, влекомый – кто любопытством, кто долгом службы, кто расчетом, – домовладельцы, духовенство, высшие и низшие чиновники, торговцы, ремесленники, мужики – с разных сторон, как кровь к сердцу, – приливали к Москве.
Через неделю уже мужики, приезжавшие с пустыми подводами, для того чтоб увозить вещи, были останавливаемы начальством и принуждаемы к тому, чтобы вывозить мертвые тела из города. Другие мужики, прослышав про неудачу товарищей, приезжали в город с хлебом, овсом, сеном, сбивая цену друг другу до цены ниже прежней. Артели плотников, надеясь на дорогие заработки, каждый день входили в Москву, и со всех сторон рубились новые, чинились погорелые дома. Купцы в балаганах открывали торговлю. Харчевни, постоялые дворы устраивались в обгорелых домах. Духовенство возобновило службу во многих не погоревших церквах. Жертвователи приносили разграбленные церковные вещи. Чиновники прилаживали свои столы с сукном и шкафы с бумагами в маленьких комнатах. Высшее начальство и полиция распоряжались раздачею оставшегося после французов добра. Хозяева тех домов, в которых было много оставлено свезенных из других домов вещей, жаловались на несправедливость своза всех вещей в Грановитую палату; другие настаивали на том, что французы из разных домов свезли вещи в одно место, и оттого несправедливо отдавать хозяину дома те вещи, которые у него найдены. Бранили полицию; подкупали ее; писали вдесятеро сметы на погоревшие казенные вещи; требовали вспомоществований. Граф Растопчин писал свои прокламации.
В конце января Пьер приехал в Москву и поселился в уцелевшем флигеле. Он съездил к графу Растопчину, к некоторым знакомым, вернувшимся в Москву, и собирался на третий день ехать в Петербург. Все торжествовали победу; все кипело жизнью в разоренной и оживающей столице. Пьеру все были рады; все желали видеть его, и все расспрашивали его про то, что он видел. Пьер чувствовал себя особенно дружелюбно расположенным ко всем людям, которых он встречал; но невольно теперь он держал себя со всеми людьми настороже, так, чтобы не связать себя чем нибудь. Он на все вопросы, которые ему делали, – важные или самые ничтожные, – отвечал одинаково неопределенно; спрашивали ли у него: где он будет жить? будет ли он строиться? когда он едет в Петербург и возьмется ли свезти ящичек? – он отвечал: да, может быть, я думаю, и т. д.
О Ростовых он слышал, что они в Костроме, и мысль о Наташе редко приходила ему. Ежели она и приходила, то только как приятное воспоминание давно прошедшего. Он чувствовал себя не только свободным от житейских условий, но и от этого чувства, которое он, как ему казалось, умышленно напустил на себя.
На третий день своего приезда в Москву он узнал от Друбецких, что княжна Марья в Москве. Смерть, страдания, последние дни князя Андрея часто занимали Пьера и теперь с новой живостью пришли ему в голову. Узнав за обедом, что княжна Марья в Москве и живет в своем не сгоревшем доме на Вздвиженке, он в тот же вечер поехал к ней.
Дорогой к княжне Марье Пьер не переставая думал о князе Андрее, о своей дружбе с ним, о различных с ним встречах и в особенности о последней в Бородине.
«Неужели он умер в том злобном настроении, в котором он был тогда? Неужели не открылось ему перед смертью объяснение жизни?» – думал Пьер. Он вспомнил о Каратаеве, о его смерти и невольно стал сравнивать этих двух людей, столь различных и вместе с тем столь похожих по любви, которую он имел к обоим, и потому, что оба жили и оба умерли.
В самом серьезном расположении духа Пьер подъехал к дому старого князя. Дом этот уцелел. В нем видны были следы разрушения, но характер дома был тот же. Встретивший Пьера старый официант с строгим лицом, как будто желая дать почувствовать гостю, что отсутствие князя не нарушает порядка дома, сказал, что княжна изволили пройти в свои комнаты и принимают по воскресеньям.
– Доложи; может быть, примут, – сказал Пьер.
– Слушаю с, – отвечал официант, – пожалуйте в портретную.
Через несколько минут к Пьеру вышли официант и Десаль. Десаль от имени княжны передал Пьеру, что она очень рада видеть его и просит, если он извинит ее за бесцеремонность, войти наверх, в ее комнаты.
В невысокой комнатке, освещенной одной свечой, сидела княжна и еще кто то с нею, в черном платье. Пьер помнил, что при княжне всегда были компаньонки. Кто такие и какие они, эти компаньонки, Пьер не знал и не помнил. «Это одна из компаньонок», – подумал он, взглянув на даму в черном платье.
Княжна быстро встала ему навстречу и протянула руку.
– Да, – сказала она, всматриваясь в его изменившееся лицо, после того как он поцеловал ее руку, – вот как мы с вами встречаемся. Он и последнее время часто говорил про вас, – сказала она, переводя свои глаза с Пьера на компаньонку с застенчивостью, которая на мгновение поразила Пьера.
– Я так была рада, узнав о вашем спасенье. Это было единственное радостное известие, которое мы получили с давнего времени. – Опять еще беспокойнее княжна оглянулась на компаньонку и хотела что то сказать; но Пьер перебил ее.
– Вы можете себе представить, что я ничего не знал про него, – сказал он. – Я считал его убитым. Все, что я узнал, я узнал от других, через третьи руки. Я знаю только, что он попал к Ростовым… Какая судьба!
Пьер говорил быстро, оживленно. Он взглянул раз на лицо компаньонки, увидал внимательно ласково любопытный взгляд, устремленный на него, и, как это часто бывает во время разговора, он почему то почувствовал, что эта компаньонка в черном платье – милое, доброе, славное существо, которое не помешает его задушевному разговору с княжной Марьей.
Но когда он сказал последние слова о Ростовых, замешательство в лице княжны Марьи выразилось еще сильнее. Она опять перебежала глазами с лица Пьера на лицо дамы в черном платье и сказала:
– Вы не узнаете разве?
Пьер взглянул еще раз на бледное, тонкое, с черными глазами и странным ртом, лицо компаньонки. Что то родное, давно забытое и больше чем милое смотрело на него из этих внимательных глаз.
«Но нет, это не может быть, – подумал он. – Это строгое, худое и бледное, постаревшее лицо? Это не может быть она. Это только воспоминание того». Но в это время княжна Марья сказала: «Наташа». И лицо, с внимательными глазами, с трудом, с усилием, как отворяется заржавелая дверь, – улыбнулось, и из этой растворенной двери вдруг пахнуло и обдало Пьера тем давно забытым счастием, о котором, в особенности теперь, он не думал. Пахнуло, охватило и поглотило его всего. Когда она улыбнулась, уже не могло быть сомнений: это была Наташа, и он любил ее.
В первую же минуту Пьер невольно и ей, и княжне Марье, и, главное, самому себе сказал неизвестную ему самому тайну. Он покраснел радостно и страдальчески болезненно. Он хотел скрыть свое волнение. Но чем больше он хотел скрыть его, тем яснее – яснее, чем самыми определенными словами, – он себе, и ей, и княжне Марье говорил, что он любит ее.
«Нет, это так, от неожиданности», – подумал Пьер. Но только что он хотел продолжать начатый разговор с княжной Марьей, он опять взглянул на Наташу, и еще сильнейшая краска покрыла его лицо, и еще сильнейшее волнение радости и страха охватило его душу. Он запутался в словах и остановился на середине речи.
Пьер не заметил Наташи, потому что он никак не ожидал видеть ее тут, но он не узнал ее потому, что происшедшая в ней, с тех пор как он не видал ее, перемена была огромна. Она похудела и побледнела. Но не это делало ее неузнаваемой: ее нельзя было узнать в первую минуту, как он вошел, потому что на этом лице, в глазах которого прежде всегда светилась затаенная улыбка радости жизни, теперь, когда он вошел и в первый раз взглянул на нее, не было и тени улыбки; были одни глаза, внимательные, добрые и печально вопросительные.
Смущение Пьера не отразилось на Наташе смущением, но только удовольствием, чуть заметно осветившим все ее лицо.
– Она приехала гостить ко мне, – сказала княжна Марья. – Граф и графиня будут на днях. Графиня в ужасном положении. Но Наташе самой нужно было видеть доктора. Ее насильно отослали со мной.
– Да, есть ли семья без своего горя? – сказал Пьер, обращаясь к Наташе. – Вы знаете, что это было в тот самый день, как нас освободили. Я видел его. Какой был прелестный мальчик.
Наташа смотрела на него, и в ответ на его слова только больше открылись и засветились ее глаза.
– Что можно сказать или подумать в утешенье? – сказал Пьер. – Ничего. Зачем было умирать такому славному, полному жизни мальчику?
– Да, в наше время трудно жить бы было без веры… – сказала княжна Марья.
– Да, да. Вот это истинная правда, – поспешно перебил Пьер.
– Отчего? – спросила Наташа, внимательно глядя в глаза Пьеру.
– Как отчего? – сказала княжна Марья. – Одна мысль о том, что ждет там…
Наташа, не дослушав княжны Марьи, опять вопросительно поглядела на Пьера.
– И оттого, – продолжал Пьер, – что только тот человек, который верит в то, что есть бог, управляющий нами, может перенести такую потерю, как ее и… ваша, – сказал Пьер.
Наташа раскрыла уже рот, желая сказать что то, но вдруг остановилась. Пьер поспешил отвернуться от нее и обратился опять к княжне Марье с вопросом о последних днях жизни своего друга. Смущение Пьера теперь почти исчезло; но вместе с тем он чувствовал, что исчезла вся его прежняя свобода. Он чувствовал, что над каждым его словом, действием теперь есть судья, суд, который дороже ему суда всех людей в мире. Он говорил теперь и вместе с своими словами соображал то впечатление, которое производили его слова на Наташу. Он не говорил нарочно того, что бы могло понравиться ей; но, что бы он ни говорил, он с ее точки зрения судил себя.
Княжна Марья неохотно, как это всегда бывает, начала рассказывать про то положение, в котором она застала князя Андрея. Но вопросы Пьера, его оживленно беспокойный взгляд, его дрожащее от волнения лицо понемногу заставили ее вдаться в подробности, которые она боялась для самой себя возобновлять в воображенье.
– Да, да, так, так… – говорил Пьер, нагнувшись вперед всем телом над княжной Марьей и жадно вслушиваясь в ее рассказ. – Да, да; так он успокоился? смягчился? Он так всеми силами души всегда искал одного; быть вполне хорошим, что он не мог бояться смерти. Недостатки, которые были в нем, – если они были, – происходили не от него. Так он смягчился? – говорил Пьер. – Какое счастье, что он свиделся с вами, – сказал он Наташе, вдруг обращаясь к ней и глядя на нее полными слез глазами.
Лицо Наташи вздрогнуло. Она нахмурилась и на мгновенье опустила глаза. С минуту она колебалась: говорить или не говорить?
– Да, это было счастье, – сказала она тихим грудным голосом, – для меня наверное это было счастье. – Она помолчала. – И он… он… он говорил, что он желал этого, в ту минуту, как я пришла к нему… – Голос Наташи оборвался. Она покраснела, сжала руки на коленах и вдруг, видимо сделав усилие над собой, подняла голову и быстро начала говорить:
– Мы ничего не знали, когда ехали из Москвы. Я не смела спросить про него. И вдруг Соня сказала мне, что он с нами. Я ничего не думала, не могла представить себе, в каком он положении; мне только надо было видеть его, быть с ним, – говорила она, дрожа и задыхаясь. И, не давая перебивать себя, она рассказала то, чего она еще никогда, никому не рассказывала: все то, что она пережила в те три недели их путешествия и жизни в Ярославль.
Пьер слушал ее с раскрытым ртом и не спуская с нее своих глаз, полных слезами. Слушая ее, он не думал ни о князе Андрее, ни о смерти, ни о том, что она рассказывала. Он слушал ее и только жалел ее за то страдание, которое она испытывала теперь, рассказывая.
Княжна, сморщившись от желания удержать слезы, сидела подле Наташи и слушала в первый раз историю этих последних дней любви своего брата с Наташей.
Этот мучительный и радостный рассказ, видимо, был необходим для Наташи.
Она говорила, перемешивая ничтожнейшие подробности с задушевнейшими тайнами, и, казалось, никогда не могла кончить. Несколько раз она повторяла то же самое.
За дверью послышался голос Десаля, спрашивавшего, можно ли Николушке войти проститься.
– Да вот и все, все… – сказала Наташа. Она быстро встала, в то время как входил Николушка, и почти побежала к двери, стукнулась головой о дверь, прикрытую портьерой, и с стоном не то боли, не то печали вырвалась из комнаты.
Пьер смотрел на дверь, в которую она вышла, и не понимал, отчего он вдруг один остался во всем мире.
Княжна Марья вызвала его из рассеянности, обратив его внимание на племянника, который вошел в комнату.
Лицо Николушки, похожее на отца, в минуту душевного размягчения, в котором Пьер теперь находился, так на него подействовало, что он, поцеловав Николушку, поспешно встал и, достав платок, отошел к окну. Он хотел проститься с княжной Марьей, но она удержала его.
– Нет, мы с Наташей не спим иногда до третьего часа; пожалуйста, посидите. Я велю дать ужинать. Подите вниз; мы сейчас придем.
Прежде чем Пьер вышел, княжна сказала ему:
– Это в первый раз она так говорила о нем.
Пьера провели в освещенную большую столовую; через несколько минут послышались шаги, и княжна с Наташей вошли в комнату. Наташа была спокойна, хотя строгое, без улыбки, выражение теперь опять установилось на ее лице. Княжна Марья, Наташа и Пьер одинаково испытывали то чувство неловкости, которое следует обыкновенно за оконченным серьезным и задушевным разговором. Продолжать прежний разговор невозможно; говорить о пустяках – совестно, а молчать неприятно, потому что хочется говорить, а этим молчанием как будто притворяешься. Они молча подошли к столу. Официанты отодвинули и пододвинули стулья. Пьер развернул холодную салфетку и, решившись прервать молчание, взглянул на Наташу и княжну Марью. Обе, очевидно, в то же время решились на то же: у обеих в глазах светилось довольство жизнью и признание того, что, кроме горя, есть и радости.
– Вы пьете водку, граф? – сказала княжна Марья, и эти слова вдруг разогнали тени прошедшего.
– Расскажите же про себя, – сказала княжна Марья. – Про вас рассказывают такие невероятные чудеса.
– Да, – с своей, теперь привычной, улыбкой кроткой насмешки отвечал Пьер. – Мне самому даже рассказывают про такие чудеса, каких я и во сне не видел. Марья Абрамовна приглашала меня к себе и все рассказывала мне, что со мной случилось, или должно было случиться. Степан Степаныч тоже научил меня, как мне надо рассказывать. Вообще я заметил, что быть интересным человеком очень покойно (я теперь интересный человек); меня зовут и мне рассказывают.
Наташа улыбнулась и хотела что то сказать.
– Нам рассказывали, – перебила ее княжна Марья, – что вы в Москве потеряли два миллиона. Правда это?
– А я стал втрое богаче, – сказал Пьер. Пьер, несмотря на то, что долги жены и необходимость построек изменили его дела, продолжал рассказывать, что он стал втрое богаче.
– Что я выиграл несомненно, – сказал он, – так это свободу… – начал он было серьезно; но раздумал продолжать, заметив, что это был слишком эгоистический предмет разговора.
– А вы строитесь?
– Да, Савельич велит.
– Скажите, вы не знали еще о кончине графини, когда остались в Москве? – сказала княжна Марья и тотчас же покраснела, заметив, что, делая этот вопрос вслед за его словами о том, что он свободен, она приписывает его словам такое значение, которого они, может быть, не имели.
– Нет, – отвечал Пьер, не найдя, очевидно, неловким то толкование, которое дала княжна Марья его упоминанию о своей свободе. – Я узнал это в Орле, и вы не можете себе представить, как меня это поразило. Мы не были примерные супруги, – сказал он быстро, взглянув на Наташу и заметив в лице ее любопытство о том, как он отзовется о своей жене. – Но смерть эта меня страшно поразила. Когда два человека ссорятся – всегда оба виноваты. И своя вина делается вдруг страшно тяжела перед человеком, которого уже нет больше. И потом такая смерть… без друзей, без утешения. Мне очень, очень жаль еe, – кончил он и с удовольствием заметил радостное одобрение на лице Наташи.
– Да, вот вы опять холостяк и жених, – сказала княжна Марья.
Пьер вдруг багрово покраснел и долго старался не смотреть на Наташу. Когда он решился взглянуть на нее, лицо ее было холодно, строго и даже презрительно, как ему показалось.
– Но вы точно видели и говорили с Наполеоном, как нам рассказывали? – сказала княжна Марья.
Пьер засмеялся.
– Ни разу, никогда. Всегда всем кажется, что быть в плену – значит быть в гостях у Наполеона. Я не только не видал его, но и не слыхал о нем. Я был гораздо в худшем обществе.
Ужин кончался, и Пьер, сначала отказывавшийся от рассказа о своем плене, понемногу вовлекся в этот рассказ.
– Но ведь правда, что вы остались, чтоб убить Наполеона? – спросила его Наташа, слегка улыбаясь. – Я тогда догадалась, когда мы вас встретили у Сухаревой башни; помните?
Пьер признался, что это была правда, и с этого вопроса, понемногу руководимый вопросами княжны Марьи и в особенности Наташи, вовлекся в подробный рассказ о своих похождениях.
Сначала он рассказывал с тем насмешливым, кротким взглядом, который он имел теперь на людей и в особенности на самого себя; но потом, когда он дошел до рассказа об ужасах и страданиях, которые он видел, он, сам того не замечая, увлекся и стал говорить с сдержанным волнением человека, в воспоминании переживающего сильные впечатления.
Княжна Марья с кроткой улыбкой смотрела то на Пьера, то на Наташу. Она во всем этом рассказе видела только Пьера и его доброту. Наташа, облокотившись на руку, с постоянно изменяющимся, вместе с рассказом, выражением лица, следила, ни на минуту не отрываясь, за Пьером, видимо, переживая с ним вместе то, что он рассказывал. Не только ее взгляд, но восклицания и короткие вопросы, которые она делала, показывали Пьеру, что из того, что он рассказывал, она понимала именно то, что он хотел передать. Видно было, что она понимала не только то, что он рассказывал, но и то, что он хотел бы и не мог выразить словами. Про эпизод свой с ребенком и женщиной, за защиту которых он был взят, Пьер рассказал таким образом:
– Это было ужасное зрелище, дети брошены, некоторые в огне… При мне вытащили ребенка… женщины, с которых стаскивали вещи, вырывали серьги…
Пьер покраснел и замялся.
– Тут приехал разъезд, и всех тех, которые не грабили, всех мужчин забрали. И меня.
– Вы, верно, не все рассказываете; вы, верно, сделали что нибудь… – сказала Наташа и помолчала, – хорошее.
Пьер продолжал рассказывать дальше. Когда он рассказывал про казнь, он хотел обойти страшные подробности; но Наташа требовала, чтобы он ничего не пропускал.
Пьер начал было рассказывать про Каратаева (он уже встал из за стола и ходил, Наташа следила за ним глазами) и остановился.
– Нет, вы не можете понять, чему я научился у этого безграмотного человека – дурачка.
– Нет, нет, говорите, – сказала Наташа. – Он где же?
– Его убили почти при мне. – И Пьер стал рассказывать последнее время их отступления, болезнь Каратаева (голос его дрожал беспрестанно) и его смерть.
Пьер рассказывал свои похождения так, как он никогда их еще не рассказывал никому, как он сам с собою никогда еще не вспоминал их. Он видел теперь как будто новое значение во всем том, что он пережил. Теперь, когда он рассказывал все это Наташе, он испытывал то редкое наслаждение, которое дают женщины, слушая мужчину, – не умные женщины, которые, слушая, стараются или запомнить, что им говорят, для того чтобы обогатить свой ум и при случае пересказать то же или приладить рассказываемое к своему и сообщить поскорее свои умные речи, выработанные в своем маленьком умственном хозяйстве; а то наслажденье, которое дают настоящие женщины, одаренные способностью выбирания и всасыванья в себя всего лучшего, что только есть в проявлениях мужчины. Наташа, сама не зная этого, была вся внимание: она не упускала ни слова, ни колебания голоса, ни взгляда, ни вздрагиванья мускула лица, ни жеста Пьера. Она на лету ловила еще не высказанное слово и прямо вносила в свое раскрытое сердце, угадывая тайный смысл всей душевной работы Пьера.
Княжна Марья понимала рассказ, сочувствовала ему, но она теперь видела другое, что поглощало все ее внимание; она видела возможность любви и счастия между Наташей и Пьером. И в первый раз пришедшая ей эта мысль наполняла ее душу радостию.
Было три часа ночи. Официанты с грустными и строгими лицами приходили переменять свечи, но никто не замечал их.
Пьер кончил свой рассказ. Наташа блестящими, оживленными глазами продолжала упорно и внимательно глядеть на Пьера, как будто желая понять еще то остальное, что он не высказал, может быть. Пьер в стыдливом и счастливом смущении изредка взглядывал на нее и придумывал, что бы сказать теперь, чтобы перевести разговор на другой предмет. Княжна Марья молчала. Никому в голову не приходило, что три часа ночи и что пора спать.
– Говорят: несчастия, страдания, – сказал Пьер. – Да ежели бы сейчас, сию минуту мне сказали: хочешь оставаться, чем ты был до плена, или сначала пережить все это? Ради бога, еще раз плен и лошадиное мясо. Мы думаем, как нас выкинет из привычной дорожки, что все пропало; а тут только начинается новое, хорошее. Пока есть жизнь, есть и счастье. Впереди много, много. Это я вам говорю, – сказал он, обращаясь к Наташе.
– Да, да, – сказала она, отвечая на совсем другое, – и я ничего бы не желала, как только пережить все сначала.
Пьер внимательно посмотрел на нее.
– Да, и больше ничего, – подтвердила Наташа.
– Неправда, неправда, – закричал Пьер. – Я не виноват, что я жив и хочу жить; и вы тоже.
Вдруг Наташа опустила голову на руки и заплакала.
– Что ты, Наташа? – сказала княжна Марья.
– Ничего, ничего. – Она улыбнулась сквозь слезы Пьеру. – Прощайте, пора спать.
Пьер встал и простился.
Княжна Марья и Наташа, как и всегда, сошлись в спальне. Они поговорили о том, что рассказывал Пьер. Княжна Марья не говорила своего мнения о Пьере. Наташа тоже не говорила о нем.
– Ну, прощай, Мари, – сказала Наташа. – Знаешь, я часто боюсь, что мы не говорим о нем (князе Андрее), как будто мы боимся унизить наше чувство, и забываем.
Княжна Марья тяжело вздохнула и этим вздохом признала справедливость слов Наташи; но словами она не согласилась с ней.
– Разве можно забыть? – сказала она.
– Мне так хорошо было нынче рассказать все; и тяжело, и больно, и хорошо. Очень хорошо, – сказала Наташа, – я уверена, что он точно любил его. От этого я рассказала ему… ничего, что я рассказала ему? – вдруг покраснев, спросила она.
– Пьеру? О нет! Какой он прекрасный, – сказала княжна Марья.
– Знаешь, Мари, – вдруг сказала Наташа с шаловливой улыбкой, которой давно не видала княжна Марья на ее лице. – Он сделался какой то чистый, гладкий, свежий; точно из бани, ты понимаешь? – морально из бани. Правда?
– Да, – сказала княжна Марья, – он много выиграл.
– И сюртучок коротенький, и стриженые волосы; точно, ну точно из бани… папа, бывало…
– Я понимаю, что он (князь Андрей) никого так не любил, как его, – сказала княжна Марья.
– Да, и он особенный от него. Говорят, что дружны мужчины, когда совсем особенные. Должно быть, это правда. Правда, он совсем на него не похож ничем?
– Да, и чудесный.
– Ну, прощай, – отвечала Наташа. И та же шаловливая улыбка, как бы забывшись, долго оставалась на ее лице.
Пьер долго не мог заснуть в этот день; он взад и вперед ходил по комнате, то нахмурившись, вдумываясь во что то трудное, вдруг пожимая плечами и вздрагивая, то счастливо улыбаясь.
Он думал о князе Андрее, о Наташе, об их любви, и то ревновал ее к прошедшему, то упрекал, то прощал себя за это. Было уже шесть часов утра, а он все ходил по комнате.
«Ну что ж делать. Уж если нельзя без этого! Что ж делать! Значит, так надо», – сказал он себе и, поспешно раздевшись, лег в постель, счастливый и взволнованный, но без сомнений и нерешительностей.
«Надо, как ни странно, как ни невозможно это счастье, – надо сделать все для того, чтобы быть с ней мужем и женой», – сказал он себе.
Пьер еще за несколько дней перед этим назначил в пятницу день своего отъезда в Петербург. Когда он проснулся, в четверг, Савельич пришел к нему за приказаниями об укладке вещей в дорогу.
«Как в Петербург? Что такое Петербург? Кто в Петербурге? – невольно, хотя и про себя, спросил он. – Да, что то такое давно, давно, еще прежде, чем это случилось, я зачем то собирался ехать в Петербург, – вспомнил он. – Отчего же? я и поеду, может быть. Какой он добрый, внимательный, как все помнит! – подумал он, глядя на старое лицо Савельича. – И какая улыбка приятная!» – подумал он.
– Что ж, все не хочешь на волю, Савельич? – спросил Пьер.
– Зачем мне, ваше сиятельство, воля? При покойном графе, царство небесное, жили и при вас обиды не видим.
– Ну, а дети?
– И дети проживут, ваше сиятельство: за такими господами жить можно.
– Ну, а наследники мои? – сказал Пьер. – Вдруг я женюсь… Ведь может случиться, – прибавил он с невольной улыбкой.
– И осмеливаюсь доложить: хорошее дело, ваше сиятельство.
«Как он думает это легко, – подумал Пьер. – Он не знает, как это страшно, как опасно. Слишком рано или слишком поздно… Страшно!»
– Как же изволите приказать? Завтра изволите ехать? – спросил Савельич.
– Нет; я немножко отложу. Я тогда скажу. Ты меня извини за хлопоты, – сказал Пьер и, глядя на улыбку Савельича, подумал: «Как странно, однако, что он не знает, что теперь нет никакого Петербурга и что прежде всего надо, чтоб решилось то. Впрочем, он, верно, знает, но только притворяется. Поговорить с ним? Как он думает? – подумал Пьер. – Нет, после когда нибудь».
За завтраком Пьер сообщил княжне, что он был вчера у княжны Марьи и застал там, – можете себе представить кого? – Натали Ростову.
Княжна сделала вид, что она в этом известии не видит ничего более необыкновенного, как в том, что Пьер видел Анну Семеновну.
– Вы ее знаете? – спросил Пьер.
– Я видела княжну, – отвечала она. – Я слышала, что ее сватали за молодого Ростова. Это было бы очень хорошо для Ростовых; говорят, они совсем разорились.
– Нет, Ростову вы знаете?
– Слышала тогда только про эту историю. Очень жалко.
«Нет, она не понимает или притворяется, – подумал Пьер. – Лучше тоже не говорить ей».
Княжна также приготавливала провизию на дорогу Пьеру.
«Как они добры все, – думал Пьер, – что они теперь, когда уж наверное им это не может быть более интересно, занимаются всем этим. И все для меня; вот что удивительно».
В этот же день к Пьеру приехал полицеймейстер с предложением прислать доверенного в Грановитую палату для приема вещей, раздаваемых нынче владельцам.
«Вот и этот тоже, – думал Пьер, глядя в лицо полицеймейстера, – какой славный, красивый офицер и как добр! Теперь занимается такими пустяками. А еще говорят, что он не честен и пользуется. Какой вздор! А впрочем, отчего же ему и не пользоваться? Он так и воспитан. И все так делают. А такое приятное, доброе лицо, и улыбается, глядя на меня».
Пьер поехал обедать к княжне Марье.
Проезжая по улицам между пожарищами домов, он удивлялся красоте этих развалин. Печные трубы домов, отвалившиеся стены, живописно напоминая Рейн и Колизей, тянулись, скрывая друг друга, по обгорелым кварталам. Встречавшиеся извозчики и ездоки, плотники, рубившие срубы, торговки и лавочники, все с веселыми, сияющими лицами, взглядывали на Пьера и говорили как будто: «А, вот он! Посмотрим, что выйдет из этого».
При входе в дом княжны Марьи на Пьера нашло сомнение в справедливости того, что он был здесь вчера, виделся с Наташей и говорил с ней. «Может быть, это я выдумал. Может быть, я войду и никого не увижу». Но не успел он вступить в комнату, как уже во всем существе своем, по мгновенному лишению своей свободы, он почувствовал ее присутствие. Она была в том же черном платье с мягкими складками и так же причесана, как и вчера, но она была совсем другая. Если б она была такою вчера, когда он вошел в комнату, он бы не мог ни на мгновение не узнать ее.
Она была такою же, какою он знал ее почти ребенком и потом невестой князя Андрея. Веселый вопросительный блеск светился в ее глазах; на лице было ласковое и странно шаловливое выражение.
Пьер обедал и просидел бы весь вечер; но княжна Марья ехала ко всенощной, и Пьер уехал с ними вместе.
На другой день Пьер приехал рано, обедал и просидел весь вечер. Несмотря на то, что княжна Марья и Наташа были очевидно рады гостю; несмотря на то, что весь интерес жизни Пьера сосредоточивался теперь в этом доме, к вечеру они всё переговорили, и разговор переходил беспрестанно с одного ничтожного предмета на другой и часто прерывался. Пьер засиделся в этот вечер так поздно, что княжна Марья и Наташа переглядывались между собою, очевидно ожидая, скоро ли он уйдет. Пьер видел это и не мог уйти. Ему становилось тяжело, неловко, но он все сидел, потому что не мог подняться и уйти.
Княжна Марья, не предвидя этому конца, первая встала и, жалуясь на мигрень, стала прощаться.
– Так вы завтра едете в Петербург? – сказала ока.
– Нет, я не еду, – с удивлением и как будто обидясь, поспешно сказал Пьер. – Да нет, в Петербург? Завтра; только я не прощаюсь. Я заеду за комиссиями, – сказал он, стоя перед княжной Марьей, краснея и не уходя.
Наташа подала ему руку и вышла. Княжна Марья, напротив, вместо того чтобы уйти, опустилась в кресло и своим лучистым, глубоким взглядом строго и внимательно посмотрела на Пьера. Усталость, которую она очевидно выказывала перед этим, теперь совсем прошла. Она тяжело и продолжительно вздохнула, как будто приготавливаясь к длинному разговору.
Все смущение и неловкость Пьера, при удалении Наташи, мгновенно исчезли и заменились взволнованным оживлением. Он быстро придвинул кресло совсем близко к княжне Марье.
– Да, я и хотел сказать вам, – сказал он, отвечая, как на слова, на ее взгляд. – Княжна, помогите мне. Что мне делать? Могу я надеяться? Княжна, друг мой, выслушайте меня. Я все знаю. Я знаю, что я не стою ее; я знаю, что теперь невозможно говорить об этом. Но я хочу быть братом ей. Нет, я не хочу.. я не могу…
Он остановился и потер себе лицо и глаза руками.
– Ну, вот, – продолжал он, видимо сделав усилие над собой, чтобы говорить связно. – Я не знаю, с каких пор я люблю ее. Но я одну только ее, одну любил во всю мою жизнь и люблю так, что без нее не могу себе представить жизни. Просить руки ее теперь я не решаюсь; но мысль о том, что, может быть, она могла бы быть моею и что я упущу эту возможность… возможность… ужасна. Скажите, могу я надеяться? Скажите, что мне делать? Милая княжна, – сказал он, помолчав немного и тронув ее за руку, так как она не отвечала.
– Я думаю о том, что вы мне сказали, – отвечала княжна Марья. – Вот что я скажу вам. Вы правы, что теперь говорить ей об любви… – Княжна остановилась. Она хотела сказать: говорить ей о любви теперь невозможно; но она остановилась, потому что она третий день видела по вдруг переменившейся Наташе, что не только Наташа не оскорбилась бы, если б ей Пьер высказал свою любовь, но что она одного только этого и желала.
– Говорить ей теперь… нельзя, – все таки сказала княжна Марья.
– Но что же мне делать?
– Поручите это мне, – сказала княжна Марья. – Я знаю…
Пьер смотрел в глаза княжне Марье.
– Ну, ну… – говорил он.
– Я знаю, что она любит… полюбит вас, – поправилась княжна Марья.
Не успела она сказать эти слова, как Пьер вскочил и с испуганным лицом схватил за руку княжну Марью.
– Отчего вы думаете? Вы думаете, что я могу надеяться? Вы думаете?!
– Да, думаю, – улыбаясь, сказала княжна Марья. – Напишите родителям. И поручите мне. Я скажу ей, когда будет можно. Я желаю этого. И сердце мое чувствует, что это будет.
– Нет, это не может быть! Как я счастлив! Но это не может быть… Как я счастлив! Нет, не может быть! – говорил Пьер, целуя руки княжны Марьи.
– Вы поезжайте в Петербург; это лучше. А я напишу вам, – сказала она.
– В Петербург? Ехать? Хорошо, да, ехать. Но завтра я могу приехать к вам?
На другой день Пьер приехал проститься. Наташа была менее оживлена, чем в прежние дни; но в этот день, иногда взглянув ей в глаза, Пьер чувствовал, что он исчезает, что ни его, ни ее нет больше, а есть одно чувство счастья. «Неужели? Нет, не может быть», – говорил он себе при каждом ее взгляде, жесте, слове, наполнявших его душу радостью.
Когда он, прощаясь с нею, взял ее тонкую, худую руку, он невольно несколько дольше удержал ее в своей.
«Неужели эта рука, это лицо, эти глаза, все это чуждое мне сокровище женской прелести, неужели это все будет вечно мое, привычное, такое же, каким я сам для себя? Нет, это невозможно!..»
– Прощайте, граф, – сказала она ему громко. – Я очень буду ждать вас, – прибавила она шепотом.
И эти простые слова, взгляд и выражение лица, сопровождавшие их, в продолжение двух месяцев составляли предмет неистощимых воспоминаний, объяснений и счастливых мечтаний Пьера. «Я очень буду ждать вас… Да, да, как она сказала? Да, я очень буду ждать вас. Ах, как я счастлив! Что ж это такое, как я счастлив!» – говорил себе Пьер.
В душе Пьера теперь не происходило ничего подобного тому, что происходило в ней в подобных же обстоятельствах во время его сватовства с Элен.
Он не повторял, как тогда, с болезненным стыдом слов, сказанных им, не говорил себе: «Ах, зачем я не сказал этого, и зачем, зачем я сказал тогда „je vous aime“?» [я люблю вас] Теперь, напротив, каждое слово ее, свое он повторял в своем воображении со всеми подробностями лица, улыбки и ничего не хотел ни убавить, ни прибавить: хотел только повторять. Сомнений в том, хорошо ли, или дурно то, что он предпринял, – теперь не было и тени. Одно только страшное сомнение иногда приходило ему в голову. Не во сне ли все это? Не ошиблась ли княжна Марья? Не слишком ли я горд и самонадеян? Я верю; а вдруг, что и должно случиться, княжна Марья скажет ей, а она улыбнется и ответит: «Как странно! Он, верно, ошибся. Разве он не знает, что он человек, просто человек, а я?.. Я совсем другое, высшее».
Только это сомнение часто приходило Пьеру. Планов он тоже не делал теперь никаких. Ему казалось так невероятно предстоящее счастье, что стоило этому совершиться, и уж дальше ничего не могло быть. Все кончалось.
Радостное, неожиданное сумасшествие, к которому Пьер считал себя неспособным, овладело им. Весь смысл жизни, не для него одного, но для всего мира, казался ему заключающимся только в его любви и в возможности ее любви к нему. Иногда все люди казались ему занятыми только одним – его будущим счастьем. Ему казалось иногда, что все они радуются так же, как и он сам, и только стараются скрыть эту радость, притворяясь занятыми другими интересами. В каждом слове и движении он видел намеки на свое счастие. Он часто удивлял людей, встречавшихся с ним, своими значительными, выражавшими тайное согласие, счастливыми взглядами и улыбками. Но когда он понимал, что люди могли не знать про его счастье, он от всей души жалел их и испытывал желание как нибудь объяснить им, что все то, чем они заняты, есть совершенный вздор и пустяки, не стоящие внимания.
Когда ему предлагали служить или когда обсуждали какие нибудь общие, государственные дела и войну, предполагая, что от такого или такого исхода такого то события зависит счастие всех людей, он слушал с кроткой соболезнующею улыбкой и удивлял говоривших с ним людей своими странными замечаниями. Но как те люди, которые казались Пьеру понимающими настоящий смысл жизни, то есть его чувство, так и те несчастные, которые, очевидно, не понимали этого, – все люди в этот период времени представлялись ему в таком ярком свете сиявшего в нем чувства, что без малейшего усилия, он сразу, встречаясь с каким бы то ни было человеком, видел в нем все, что было хорошего и достойного любви.
Рассматривая дела и бумаги своей покойной жены, он к ее памяти не испытывал никакого чувства, кроме жалости в том, что она не знала того счастья, которое он знал теперь. Князь Василий, особенно гордый теперь получением нового места и звезды, представлялся ему трогательным, добрым и жалким стариком.
Пьер часто потом вспоминал это время счастливого безумия. Все суждения, которые он составил себе о людях и обстоятельствах за этот период времени, остались для него навсегда верными. Он не только не отрекался впоследствии от этих взглядов на людей и вещи, но, напротив, в внутренних сомнениях и противуречиях прибегал к тому взгляду, который он имел в это время безумия, и взгляд этот всегда оказывался верен.
«Может быть, – думал он, – я и казался тогда странен и смешон; но я тогда не был так безумен, как казалось. Напротив, я был тогда умнее и проницательнее, чем когда либо, и понимал все, что стоит понимать в жизни, потому что… я был счастлив».
Безумие Пьера состояло в том, что он не дожидался, как прежде, личных причин, которые он называл достоинствами людей, для того чтобы любить их, а любовь переполняла его сердце, и он, беспричинно любя людей, находил несомненные причины, за которые стоило любить их.
С первого того вечера, когда Наташа, после отъезда Пьера, с радостно насмешливой улыбкой сказала княжне Марье, что он точно, ну точно из бани, и сюртучок, и стриженый, с этой минуты что то скрытое и самой ей неизвестное, но непреодолимое проснулось в душе Наташи.
Все: лицо, походка, взгляд, голос – все вдруг изменилось в ней. Неожиданные для нее самой – сила жизни, надежды на счастье всплыли наружу и требовали удовлетворения. С первого вечера Наташа как будто забыла все то, что с ней было. Она с тех пор ни разу не пожаловалась на свое положение, ни одного слова не сказала о прошедшем и не боялась уже делать веселые планы на будущее. Она мало говорила о Пьере, но когда княжна Марья упоминала о нем, давно потухший блеск зажигался в ее глазах и губы морщились странной улыбкой.
Перемена, происшедшая в Наташе, сначала удивила княжну Марью; но когда она поняла ее значение, то перемена эта огорчила ее. «Неужели она так мало любила брата, что так скоро могла забыть его», – думала княжна Марья, когда она одна обдумывала происшедшую перемену. Но когда она была с Наташей, то не сердилась на нее и не упрекала ее. Проснувшаяся сила жизни, охватившая Наташу, была, очевидно, так неудержима, так неожиданна для нее самой, что княжна Марья в присутствии Наташи чувствовала, что она не имела права упрекать ее даже в душе своей.
Наташа с такой полнотой и искренностью вся отдалась новому чувству, что и не пыталась скрывать, что ей было теперь не горестно, а радостно и весело.
Когда, после ночного объяснения с Пьером, княжна Марья вернулась в свою комнату, Наташа встретила ее на пороге.
– Он сказал? Да? Он сказал? – повторила она. И радостное и вместе жалкое, просящее прощения за свою радость, выражение остановилось на лице Наташи.
– Я хотела слушать у двери; но я знала, что ты скажешь мне.
Как ни понятен, как ни трогателен был для княжны Марьи тот взгляд, которым смотрела на нее Наташа; как ни жалко ей было видеть ее волнение; но слова Наташи в первую минуту оскорбили княжну Марью. Она вспомнила о брате, о его любви.
«Но что же делать! она не может иначе», – подумала княжна Марья; и с грустным и несколько строгим лицом передала она Наташе все, что сказал ей Пьер. Услыхав, что он собирается в Петербург, Наташа изумилась.
– В Петербург? – повторила она, как бы не понимая. Но, вглядевшись в грустное выражение лица княжны Марьи, она догадалась о причине ее грусти и вдруг заплакала. – Мари, – сказала она, – научи, что мне делать. Я боюсь быть дурной. Что ты скажешь, то я буду делать; научи меня…
– Ты любишь его?
– Да, – прошептала Наташа.
– О чем же ты плачешь? Я счастлива за тебя, – сказала княжна Марья, за эти слезы простив уже совершенно радость Наташи.
– Это будет не скоро, когда нибудь. Ты подумай, какое счастие, когда я буду его женой, а ты выйдешь за Nicolas.
– Наташа, я тебя просила не говорить об этом. Будем говорить о тебе.
Они помолчали.
– Только для чего же в Петербург! – вдруг сказала Наташа, и сама же поспешно ответила себе: – Нет, нет, это так надо… Да, Мари? Так надо…
Прошло семь лет после 12 го года. Взволнованное историческое море Европы улеглось в свои берега. Оно казалось затихшим; но таинственные силы, двигающие человечество (таинственные потому, что законы, определяющие их движение, неизвестны нам), продолжали свое действие.
Несмотря на то, что поверхность исторического моря казалась неподвижною, так же непрерывно, как движение времени, двигалось человечество. Слагались, разлагались различные группы людских сцеплений; подготовлялись причины образования и разложения государств, перемещений народов.
Историческое море, не как прежде, направлялось порывами от одного берега к другому: оно бурлило в глубине. Исторические лица, не как прежде, носились волнами от одного берега к другому; теперь они, казалось, кружились на одном месте. Исторические лица, прежде во главе войск отражавшие приказаниями войн, походов, сражений движение масс, теперь отражали бурлившее движение политическими и дипломатическими соображениями, законами, трактатами…
Эту деятельность исторических лиц историки называют реакцией.
Описывая деятельность этих исторических лиц, бывших, по их мнению, причиною того, что они называют реакцией, историки строго осуждают их. Все известные люди того времени, от Александра и Наполеона до m me Stael, Фотия, Шеллинга, Фихте, Шатобриана и проч., проходят перед их строгим судом и оправдываются или осуждаются, смотря по тому, содействовали ли они прогрессу или реакции.
В России, по их описанию, в этот период времени тоже происходила реакция, и главным виновником этой реакции был Александр I – тот самый Александр I, который, по их же описаниям, был главным виновником либеральных начинаний своего царствования и спасения России.
В настоящей русской литературе, от гимназиста до ученого историка, нет человека, который не бросил бы своего камушка в Александра I за неправильные поступки его в этот период царствования.
«Он должен был поступить так то и так то. В таком случае он поступил хорошо, в таком дурно. Он прекрасно вел себя в начале царствования и во время 12 го года; но он поступил дурно, дав конституцию Польше, сделав Священный Союз, дав власть Аракчееву, поощряя Голицына и мистицизм, потом поощряя Шишкова и Фотия. Он сделал дурно, занимаясь фронтовой частью армии; он поступил дурно, раскассировав Семеновский полк, и т. д.».
Надо бы исписать десять листов для того, чтобы перечислить все те упреки, которые делают ему историки на основании того знания блага человечества, которым они обладают.
Что значат эти упреки?
Те самые поступки, за которые историки одобряют Александра I, – как то: либеральные начинания царствования, борьба с Наполеоном, твердость, выказанная им в 12 м году, и поход 13 го года, не вытекают ли из одних и тех же источников – условий крови, воспитания, жизни, сделавших личность Александра тем, чем она была, – из которых вытекают и те поступки, за которые историки порицают его, как то: Священный Союз, восстановление Польши, реакция 20 х годов?
В чем же состоит сущность этих упреков?
В том, что такое историческое лицо, как Александр I, лицо, стоявшее на высшей возможной ступени человеческой власти, как бы в фокусе ослепляющего света всех сосредоточивающихся на нем исторических лучей; лицо, подлежавшее тем сильнейшим в мире влияниям интриг, обманов, лести, самообольщения, которые неразлучны с властью; лицо, чувствовавшее на себе, всякую минуту своей жизни, ответственность за все совершавшееся в Европе, и лицо не выдуманное, а живое, как и каждый человек, с своими личными привычками, страстями, стремлениями к добру, красоте, истине, – что это лицо, пятьдесят лет тому назад, не то что не было добродетельно (за это историки не упрекают), а не имело тех воззрений на благо человечества, которые имеет теперь профессор, смолоду занимающийся наукой, то есть читанном книжек, лекций и списыванием этих книжек и лекций в одну тетрадку.
Но если даже предположить, что Александр I пятьдесят лет тому назад ошибался в своем воззрении на то, что есть благо народов, невольно должно предположить, что и историк, судящий Александра, точно так же по прошествии некоторого времени окажется несправедливым, в своем воззрении на то, что есть благо человечества. Предположение это тем более естественно и необходимо, что, следя за развитием истории, мы видим, что с каждым годом, с каждым новым писателем изменяется воззрение на то, что есть благо человечества; так что то, что казалось благом, через десять лет представляется злом; и наоборот. Мало того, одновременно мы находим в истории совершенно противоположные взгляды на то, что было зло и что было благо: одни данную Польше конституцию и Священный Союз ставят в заслугу, другие в укор Александру.
Про деятельность Александра и Наполеона нельзя сказать, чтобы она была полезна или вредна, ибо мы не можем сказать, для чего она полезна и для чего вредна. Если деятельность эта кому нибудь не нравится, то она не нравится ему только вследствие несовпадения ее с ограниченным пониманием его о том, что есть благо. Представляется ли мне благом сохранение в 12 м году дома моего отца в Москве, или слава русских войск, или процветание Петербургского и других университетов, или свобода Польши, или могущество России, или равновесие Европы, или известного рода европейское просвещение – прогресс, я должен признать, что деятельность всякого исторического лица имела, кроме этих целей, ещь другие, более общие и недоступные мне цели.
Но положим, что так называемая наука имеет возможность примирить все противоречия и имеет для исторических лиц и событий неизменное мерило хорошего и дурного.
Положим, что Александр мог сделать все иначе. Положим, что он мог, по предписанию тех, которые обвиняют его, тех, которые профессируют знание конечной цели движения человечества, распорядиться по той программе народности, свободы, равенства и прогресса (другой, кажется, нет), которую бы ему дали теперешние обвинители. Положим, что эта программа была бы возможна и составлена и что Александр действовал бы по ней. Что же сталось бы тогда с деятельностью всех тех людей, которые противодействовали тогдашнему направлению правительства, – с деятельностью, которая, по мнению историков, хороша и полезна? Деятельности бы этой не было; жизни бы не было; ничего бы не было.
Если допустить, что жизнь человеческая может управляться разумом, – то уничтожится возможность жизни.
Если допустить, как то делают историки, что великие люди ведут человечество к достижению известных целей, состоящих или в величии России или Франции, или в равновесии Европы, или в разнесении идей революции, или в общем прогрессе, или в чем бы то ни было, то невозможно объяснить явлений истории без понятий о случае и о гении.
Если цель европейских войн начала нынешнего столетия состояла в величии России, то эта цель могла быть достигнута без всех предшествовавших войн и без нашествия. Если цель – величие Франции, то эта цель могла быть достигнута и без революции, и без империи. Если цель – распространение идей, то книгопечатание исполнило бы это гораздо лучше, чем солдаты. Если цель – прогресс цивилизации, то весьма легко предположить, что, кроме истребления людей и их богатств, есть другие более целесообразные пути для распространения цивилизации.
Почему же это случилось так, а не иначе?
Потому что это так случилось. «Случай сделал положение; гений воспользовался им», – говорит история.
Но что такое случай? Что такое гений?
Слова случай и гений не обозначают ничего действительно существующего и потому не могут быть определены. Слова эти только обозначают известную степень понимания явлений. Я не знаю, почему происходит такое то явление; думаю, что не могу знать; потому не хочу знать и говорю: случай. Я вижу силу, производящую несоразмерное с общечеловеческими свойствами действие; не понимаю, почему это происходит, и говорю: гений.
Для стада баранов тот баран, который каждый вечер отгоняется овчаром в особый денник к корму и становится вдвое толще других, должен казаться гением. И то обстоятельство, что каждый вечер именно этот самый баран попадает не в общую овчарню, а в особый денник к овсу, и что этот, именно этот самый баран, облитый жиром, убивается на мясо, должно представляться поразительным соединением гениальности с целым рядом необычайных случайностей.
Но баранам стоит только перестать думать, что все, что делается с ними, происходит только для достижения их бараньих целей; стоит допустить, что происходящие с ними события могут иметь и непонятные для них цели, – и они тотчас же увидят единство, последовательность в том, что происходит с откармливаемым бараном. Ежели они и не будут знать, для какой цели он откармливался, то, по крайней мере, они будут знать, что все случившееся с бараном случилось не нечаянно, и им уже не будет нужды в понятии ни о случае, ни о гении.
Только отрешившись от знаний близкой, понятной цели и признав, что конечная цель нам недоступна, мы увидим последовательность и целесообразность в жизни исторических лиц; нам откроется причина того несоразмерного с общечеловеческими свойствами действия, которое они производят, и не нужны будут нам слова случай и гений.
Стоит только признать, что цель волнений европейских народов нам неизвестна, а известны только факты, состоящие в убийствах, сначала во Франции, потом в Италии, в Африке, в Пруссии, в Австрии, в Испании, в России, и что движения с запада на восток и с востока на запад составляют сущность и цель этих событий, и нам не только не нужно будет видеть исключительность и гениальность в характерах Наполеона и Александра, но нельзя будет представить себе эти лица иначе, как такими же людьми, как и все остальные; и не только не нужно будет объяснять случайностию тех мелких событий, которые сделали этих людей тем, чем они были, но будет ясно, что все эти мелкие события были необходимы.
Отрешившись от знания конечной цели, мы ясно поймем, что точно так же, как ни к одному растению нельзя придумать других, более соответственных ему, цвета и семени, чем те, которые оно производит, точно так же невозможно придумать других двух людей, со всем их прошедшим, которое соответствовало бы до такой степени, до таких мельчайших подробностей тому назначению, которое им предлежало исполнить.
Основной, существенный смысл европейских событий начала нынешнего столетия есть воинственное движение масс европейских народов с запада на восток и потом с востока на запад. Первым зачинщиком этого движения было движение с запада на восток. Для того чтобы народы запада могли совершить то воинственное движение до Москвы, которое они совершили, необходимо было: 1) чтобы они сложились в воинственную группу такой величины, которая была бы в состоянии вынести столкновение с воинственной группой востока; 2) чтобы они отрешились от всех установившихся преданий и привычек и 3) чтобы, совершая свое воинственное движение, они имели во главе своей человека, который, и для себя и для них, мог бы оправдывать имеющие совершиться обманы, грабежи и убийства, которые сопутствовали этому движению.
И начиная с французской революции разрушается старая, недостаточно великая группа; уничтожаются старые привычки и предания; вырабатываются, шаг за шагом, группа новых размеров, новые привычки и предания, и приготовляется тот человек, который должен стоять во главе будущего движения и нести на себе всю ответственность имеющего совершиться.
Человек без убеждений, без привычек, без преданий, без имени, даже не француз, самыми, кажется, странными случайностями продвигается между всеми волнующими Францию партиями и, не приставая ни к одной из них, выносится на заметное место.
Невежество сотоварищей, слабость и ничтожество противников, искренность лжи и блестящая и самоуверенная ограниченность этого человека выдвигают его во главу армии. Блестящий состав солдат итальянской армии, нежелание драться противников, ребяческая дерзость и самоуверенность приобретают ему военную славу. Бесчисленное количество так называемых случайностей сопутствует ему везде. Немилость, в которую он впадает у правителей Франции, служит ему в пользу. Попытки его изменить предназначенный ему путь не удаются: его не принимают на службу в Россию, и не удается ему определение в Турцию. Во время войн в Италии он несколько раз находится на краю гибели и всякий раз спасается неожиданным образом. Русские войска, те самые, которые могут разрушить его славу, по разным дипломатическим соображениям, не вступают в Европу до тех пор, пока он там.
По возвращении из Италии он находит правительство в Париже в том процессе разложения, в котором люди, попадающие в это правительство, неизбежно стираются и уничтожаются. И сам собой для него является выход из этого опасного положения, состоящий в бессмысленной, беспричинной экспедиции в Африку. Опять те же так называемые случайности сопутствуют ему. Неприступная Мальта сдается без выстрела; самые неосторожные распоряжения увенчиваются успехом. Неприятельский флот, который не пропустит после ни одной лодки, пропускает целую армию. В Африке над безоружными почти жителями совершается целый ряд злодеяний. И люди, совершающие злодеяния эти, и в особенности их руководитель, уверяют себя, что это прекрасно, что это слава, что это похоже на Кесаря и Александра Македонского и что это хорошо.
Тот идеал славы и величия, состоящий в том, чтобы не только ничего не считать для себя дурным, но гордиться всяким своим преступлением, приписывая ему непонятное сверхъестественное значение, – этот идеал, долженствующий руководить этим человеком и связанными с ним людьми, на просторе вырабатывается в Африке. Все, что он ни делает, удается ему. Чума не пристает к нему. Жестокость убийства пленных не ставится ему в вину. Ребячески неосторожный, беспричинный и неблагородный отъезд его из Африки, от товарищей в беде, ставится ему в заслугу, и опять неприятельский флот два раза упускает его. В то время как он, уже совершенно одурманенный совершенными им счастливыми преступлениями, готовый для своей роли, без всякой цели приезжает в Париж, то разложение республиканского правительства, которое могло погубить его год тому назад, теперь дошло до крайней степени, и присутствие его, свежего от партий человека, теперь только может возвысить его.
Он не имеет никакого плана; он всего боится; но партии ухватываются за него и требуют его участия.
Он один, с своим выработанным в Италии и Египте идеалом славы и величия, с своим безумием самообожания, с своею дерзостью преступлений, с своею искренностью лжи, – он один может оправдать то, что имеет совершиться.
Он нужен для того места, которое ожидает его, и потому, почти независимо от его воли и несмотря на его нерешительность, на отсутствие плана, на все ошибки, которые он делает, он втягивается в заговор, имеющий целью овладение властью, и заговор увенчивается успехом.
Его вталкивают в заседание правителей. Испуганный, он хочет бежать, считая себя погибшим; притворяется, что падает в обморок; говорит бессмысленные вещи, которые должны бы погубить его. Но правители Франции, прежде сметливые и гордые, теперь, чувствуя, что роль их сыграна, смущены еще более, чем он, говорят не те слова, которые им нужно бы было говорить, для того чтоб удержать власть и погубить его.
Случайность, миллионы случайностей дают ему власть, и все люди, как бы сговорившись, содействуют утверждению этой власти. Случайности делают характеры тогдашних правителей Франции, подчиняющимися ему; случайности делают характер Павла I, признающего его власть; случайность делает против него заговор, не только не вредящий ему, но утверждающий его власть. Случайность посылает ему в руки Энгиенского и нечаянно заставляет его убить, тем самым, сильнее всех других средств, убеждая толпу, что он имеет право, так как он имеет силу. Случайность делает то, что он напрягает все силы на экспедицию в Англию, которая, очевидно, погубила бы его, и никогда не исполняет этого намерения, а нечаянно нападает на Мака с австрийцами, которые сдаются без сражения. Случайность и гениальность дают ему победу под Аустерлицем, и случайно все люди, не только французы, но и вся Европа, за исключением Англии, которая и не примет участия в имеющих совершиться событиях, все люди, несмотря на прежний ужас и отвращение к его преступлениям, теперь признают за ним его власть, название, которое он себе дал, и его идеал величия и славы, который кажется всем чем то прекрасным и разумным.
Как бы примериваясь и приготовляясь к предстоящему движению, силы запада несколько раз в 1805 м, 6 м, 7 м, 9 м году стремятся на восток, крепчая и нарастая. В 1811 м году группа людей, сложившаяся во Франции, сливается в одну огромную группу с серединными народами. Вместе с увеличивающейся группой людей дальше развивается сила оправдания человека, стоящего во главе движения. В десятилетний приготовительный период времени, предшествующий большому движению, человек этот сводится со всеми коронованными лицами Европы. Разоблаченные владыки мира не могут противопоставить наполеоновскому идеалу славы и величия, не имеющего смысла, никакого разумного идеала. Один перед другим, они стремятся показать ему свое ничтожество. Король прусский посылает свою жену заискивать милости великого человека; император Австрии считает за милость то, что человек этот принимает в свое ложе дочь кесарей; папа, блюститель святыни народов, служит своей религией возвышению великого человека. Не столько сам Наполеон приготовляет себя для исполнения своей роли, сколько все окружающее готовит его к принятию на себя всей ответственности того, что совершается и имеет совершиться. Нет поступка, нет злодеяния или мелочного обмана, который бы он совершил и который тотчас же в устах его окружающих не отразился бы в форме великого деяния. Лучший праздник, который могут придумать для него германцы, – это празднование Иены и Ауерштета. Не только он велик, но велики его предки, его братья, его пасынки, зятья. Все совершается для того, чтобы лишить его последней силы разума и приготовить к его страшной роли. И когда он готов, готовы и силы.
Нашествие стремится на восток, достигает конечной цели – Москвы. Столица взята; русское войско более уничтожено, чем когда нибудь были уничтожены неприятельские войска в прежних войнах от Аустерлица до Ваграма. Но вдруг вместо тех случайностей и гениальности, которые так последовательно вели его до сих пор непрерывным рядом успехов к предназначенной цели, является бесчисленное количество обратных случайностей, от насморка в Бородине до морозов и искры, зажегшей Москву; и вместо гениальности являются глупость и подлость, не имеющие примеров.
Нашествие бежит, возвращается назад, опять бежит, и все случайности постоянно теперь уже не за, а против него.
Совершается противодвижение с востока на запад с замечательным сходством с предшествовавшим движением с запада на восток. Те же попытки движения с востока на запад в 1805 – 1807 – 1809 годах предшествуют большому движению; то же сцепление и группу огромных размеров; то же приставание серединных народов к движению; то же колебание в середине пути и та же быстрота по мере приближения к цели.
Париж – крайняя цель достигнута. Наполеоновское правительство и войска разрушены. Сам Наполеон не имеет больше смысла; все действия его очевидно жалки и гадки; но опять совершается необъяснимая случайность: союзники ненавидят Наполеона, в котором они видят причину своих бедствий; лишенный силы и власти, изобличенный в злодействах и коварствах, он бы должен был представляться им таким, каким он представлялся им десять лет тому назад и год после, – разбойником вне закона. Но по какой то странной случайности никто не видит этого. Роль его еще не кончена. Человека, которого десять лет тому назад и год после считали разбойником вне закона, посылают в два дня переезда от Франции на остров, отдаваемый ему во владение с гвардией и миллионами, которые платят ему за что то.
Движение народов начинает укладываться в свои берега. Волны большого движения отхлынули, и на затихшем море образуются круги, по которым носятся дипломаты, воображая, что именно они производят затишье движения.
Но затихшее море вдруг поднимается. Дипломатам кажется, что они, их несогласия, причиной этого нового напора сил; они ждут войны между своими государями; положение им кажется неразрешимым. Но волна, подъем которой они чувствуют, несется не оттуда, откуда они ждут ее. Поднимается та же волна, с той же исходной точки движения – Парижа. Совершается последний отплеск движения с запада; отплеск, который должен разрешить кажущиеся неразрешимыми дипломатические затруднения и положить конец воинственному движению этого периода.
Человек, опустошивший Францию, один, без заговора, без солдат, приходит во Францию. Каждый сторож может взять его; но, по странной случайности, никто не только не берет, но все с восторгом встречают того человека, которого проклинали день тому назад и будут проклинать через месяц.
Человек этот нужен еще для оправдания последнего совокупного действия.
Действие совершено. Последняя роль сыграна. Актеру велено раздеться и смыть сурьму и румяны: он больше не понадобится.
И проходят несколько лет в том, что этот человек, в одиночестве на своем острове, играет сам перед собой жалкую комедию, мелочно интригует и лжет, оправдывая свои деяния, когда оправдание это уже не нужно, и показывает всему миру, что такое было то, что люди принимали за силу, когда невидимая рука водила им.
Распорядитель, окончив драму и раздев актера, показал его нам.
– Смотрите, чему вы верили! Вот он! Видите ли вы теперь, что не он, а Я двигал вас?
Но, ослепленные силой движения, люди долго не понимали этого.
Еще большую последовательность и необходимость представляет жизнь Александра I, того лица, которое стояло во главе противодвижения с востока на запад.
Что нужно для того человека, который бы, заслоняя других, стоял во главе этого движения с востока на запад?
Нужно чувство справедливости, участие к делам Европы, но отдаленное, не затемненное мелочными интересами; нужно преобладание высоты нравственной над сотоварищами – государями того времени; нужна кроткая и привлекательная личность; нужно личное оскорбление против Наполеона. И все это есть в Александре I; все это подготовлено бесчисленными так называемыми случайностями всей его прошедшей жизни: и воспитанием, и либеральными начинаниями, и окружающими советниками, и Аустерлицем, и Тильзитом, и Эрфуртом.
Во время народной войны лицо это бездействует, так как оно не нужно. Но как скоро является необходимость общей европейской войны, лицо это в данный момент является на свое место и, соединяя европейские народы, ведет их к цели.
Цель достигнута. После последней войны 1815 года Александр находится на вершине возможной человеческой власти. Как же он употребляет ее?
Александр I, умиротворитель Европы, человек, с молодых лет стремившийся только к благу своих народов, первый зачинщик либеральных нововведений в своем отечестве, теперь, когда, кажется, он владеет наибольшей властью и потому возможностью сделать благо своих народов, в то время как Наполеон в изгнании делает детские и лживые планы о том, как бы он осчастливил человечество, если бы имел власть, Александр I, исполнив свое призвание и почуяв на себе руку божию, вдруг признает ничтожность этой мнимой власти, отворачивается от нее, передает ее в руки презираемых им и презренных людей и говорит только: