Сражения за острова Адмиралтейства
| Сражения за острова Адмиралтейства | |||
| Основной конфликт: Вторая мировая война, Новогвинейская кампания | |||
 Первая волна американских солдат высаживается на острове Лос-Негрос. 29 февраля 1944 г.. | |||
| Дата |
с 29 февраля по 18 мая 1944 года | ||
|---|---|---|---|
| Место | |||
| Итог |
Решительная победа союзников. | ||
| Противники | |||
| |||
| Командующие | |||
| |||
| Силы сторон | |||
| |||
| Потери | |||
| |||
Сражения за острова Адмиралтейства — серия сражений Второй мировой войны, в ходе которых 1-я кавалерийская дивизия армии США захватила занимаемые японскими войсками острова Адмиралтейства. Является частью Новогвинейской кампании.
Действуя в соответствии с отчётами лётчиков, говоривших об отсутствии вражеской активности на островах и возможной проведённой эвакуации японских войск, генерал Макартур решил ускорить захват островов и отдал приказ о немедленном проведении рекогносцировки. Военные действия начались 29 февраля 1944 года, когда американский отряд высадился на Лос-Негрос, третий по величине остров. Отряду удалось достичь эффекта неожиданности за счёт высадки на небольшом, изолированном побережье, где японцы не ожидали никакой атаки, однако, выяснилось также, что на островах сохранилось военное присутствие противника. За контроль над островами начались ожесточённые бои.
Превосходство в воздухе и на море позволило союзникам значительно укрепить свои позиции на Лос-Негросе, что дало 1-й кавалерийской дивизии возможность захватить острова. Официальная дата конца сражений за острова — 18 мая 1944 года. Победа союзников позволила им завершить изоляцию основной японской базы в Рабауле, что являлось основной целью тихоокеанских кампаний союзников в 1942 и 1943 годах. После захвата, острова Адмиралтейства стали основной морской и воздушной базой в Тихом океане, с которой в 1944 году проводилось дальнейшее наступление на Японскую империю.
Содержание
Предыстория
География островов
 Острова Адмиралтейства лежат в 320 км к северо-востоку от берегов Новой Гвинеи и на 580 км западнее Рабаула, всего лишь двумя градусами южнее экватора. Климат на островах тропический с постоянными высокими температурами, высокой влажностью и годовым количеством осадков, равным 3 900 мм. Часто идут грозовые дожди. С декабря по май — сезон северо-западных муссонов с ветрами, формирующими данное направление[1].
Острова Адмиралтейства лежат в 320 км к северо-востоку от берегов Новой Гвинеи и на 580 км западнее Рабаула, всего лишь двумя градусами южнее экватора. Климат на островах тропический с постоянными высокими температурами, высокой влажностью и годовым количеством осадков, равным 3 900 мм. Часто идут грозовые дожди. С декабря по май — сезон северо-западных муссонов с ветрами, формирующими данное направление[1].
Самым большим из всей группы островов является остров Манус, простирающийся с востока на запад на 79 км, и с севера на юг на 26 км[2]. Ландшафт острова — горный, вершины гор, покрытых влажными тропическими лесами, поднимаются на высоту до 910 м. Не полностью нанесённое (на тот момент) на карту побережье острова имеет многочисленные рифы, а сам берег представляет собой мангровое болото.
Остров Лос-Негрос отделён от Мануса узким проливом Лониу. На Лос-Негросе есть три важные гавани: на западном побережье находится Папитаи, соседствующая с гаванью Зееадлер, а на восточном побережье — гавань Гайанэ. Папитаи и Гайанэ разделяет песчаная полоса длиной около 46 м. Здесь местные жители построили скользкую дорожку для того, чтобы перетаскивать каноэ из одной гавани в другую. Подковообразный изгиб Лос-Негроса является естественным волнорезом для гавани Зееадлер. Также гавань защищена со стороны Мануса и ряда небольших островов, находящихся неподалёку. Главный вход в Зееадлер лежит через проход между островами Хауэй и Ндрило шириной в 2,4 км. Гавань занимает в ширину 32 км с востока на запад и 9,7 км с севера на юг, её глубина — около 37 м[1].
Планы союзников
 В июле 1942 г Объединённый комитет начальников штабов одобрил проведение серии операций, направленных против японского бастиона в Рабауле, сковывающего действия союзников и не дававшего им продвигаться вдоль северного побережья Новой Гвинеи на Филиппины и на север к главной японской морской базе на Труке. В соответствии с глобальной стратегией союзников, в которой первостепенное значение имела война в Европе, было решено поставить основной целью этих операций не поражение Японии, а просто снижение угрозы, которую представляли базирующиеся в Рабауле японские самолёты и корабли для морских и воздушных коммуникаций между США и Австралией.
В июле 1942 г Объединённый комитет начальников штабов одобрил проведение серии операций, направленных против японского бастиона в Рабауле, сковывающего действия союзников и не дававшего им продвигаться вдоль северного побережья Новой Гвинеи на Филиппины и на север к главной японской морской базе на Труке. В соответствии с глобальной стратегией союзников, в которой первостепенное значение имела война в Европе, было решено поставить основной целью этих операций не поражение Японии, а просто снижение угрозы, которую представляли базирующиеся в Рабауле японские самолёты и корабли для морских и воздушных коммуникаций между США и Австралией.
По соглашению между союзниками, в марте 1942 г весь тихоокеанский театр военных действий был поделен на две части. Военные силы, действующие в юго-западном районе Тихого океана, были подчинены генералу Дугласу Макартуру, а войска в остальной части океана — адмиралу Честеру Нимицу. Рабаул попал в зону ответственности Макартура, но первоначальные операции в районе Южных Соломоновых островов проводились под контролем Нимица.[3] Реакция японцев оказалась более ожесточённой, чем ожидалось, из-за чего победное завершение битвы за Гуадалканал заняло несколько месяцев. Тем временем, войска генерала Макартура, состоящие в основном из австралийцев, отбили ряд атак японцев в ходе битвы за Кокодский тракт, Буна-Гонской операции и сражении при Вау[4].
На тихоокеанской военной конференции в марте 1943 г комитет начальников штабов одобрил новейшую версию плана Макартура по продвижению к Рабаулу. Из-за нехватки ресурсов (в частности, тяжёлых бомбардировщиков) заключительная стадия плана, а именно — захват базы, была отложена на 1944 г.[5]В июле 1943 г комитет рассматривал возможность нейтрализации и обхода Рабаула, однако для этого флоту была нужна опорная база.[6] Острова Адмиралтейства, присутствующие на плане Макартура, годились для этой цели, так как на них были равнинные участки, на которых можно было бы построить взлётные полосы и военные объекты, а также гавань Зееадлер, которая была в состоянии вместить морской отряд[7]. 6 августа 1943 года Объединённый комитет начальников штабов принял план, предпочитающий нейтрализацию Рабаула его захвату, и назначил дату вторжения на острова Адмиралтейства на 1 июня 1944 года[8].
На протяжении января 1944 г американские самолёты, базирующиеся на Соломоновых островах, и самолёты ВВС Австралии, базирующиеся на острове Киривина, поддерживали длительное наступление на Рабаул. От постоянных и неослабевающих атак японская оборона стала слабеть, что позволило 15 февраля произвести высадку на островах Грин, лежащие примерно в 160 км от Рабаула. 16 и 17 февраля отряд кораблей тихоокеанского флота США атаковал главную японскую базу на Труке. Большая часть японской авиации поспешила на защиту Трука и 19 февраля состоялся последний значительный перехват союзных самолётов над Рабаулом[9]. Тем временем, 13 февраля генерал Макартур издал указ о вторжении на острова Адмиралтейства. Вторжение получило кодовое название «операция Брюер», датой его начала стало 1 апреля. Войска, которым предстояло взять контроль над островами, состояли из 1-й кавалерийской дивизии, 73-го крыла королевских австралийских ВВС, 592-го инженерного и берегового полка, 1-го батальона машин-амфибий из состава корпуса морской пехоты и строительные батальоны ВМС США («морские пчёлы»), в задачу которых входило построение морской базы — всего около 45 000 человек[10].
Однако, 23 февраля 1944 года три бомбардировщика B-25 из состава 5-й воздушной армии США пролетели низко над Лос-Негросом, после чего экипажи самолётов отрапортовали, что они не заметили никакой вражеской активности, а острова покинуты противником.[11] Генерал-лейтенант Джордж Кенни, командующий союзными войсками в юго-западной части Тихого океана, предложил Макартуру, чтобы незанятые острова были быстро оккупированы небольшими по численности силами. Согласно Кенни: «Генерал слушал некоторое время, ходил туда и обратно пока я говорил, время от времени кивал, потом внезапно остановился и сказал: „Это вставит пробку в бутылку“»[12].
24 февраля вышел приказ, предписывающий усиленному эскадрону из 1-й кавалерийской дивизии произвести рекогносцировку в течение пяти дней. Если выяснится, что острова оставлены, их следовало занять и основать базу. Если же выяснится, что войска врага на островах достаточно сильны, отряду следовало вернуться. В первом случае, генерал Макартур и вице-адмирал Томас Кинкейд, командующий союзническим флотом в юго-западной части Тихого океана, будут «под рукой» для принятия соответствующих решений, а во втором случае руководство будет передано контр-адмиралу Уильяму Флетчеру, командующему 8-й десантной группой из состава 7-го десантного отряда контр-адмирала Даниеля Барби. Чтобы разместить войка, был вызван лёгкий крейсер Феникс. На момент вызова, крейсер был пришвартован в Брисбене, а его команда находилась в увольнительной в городе. Чтобы созвать по тревоге его команду, пришлось пустить по городу грузовики с мегафонами[13]. Для того, чтобы достичь эффекта неожиданности и достичь островов за пять дней, требовались высокоскоростные транспортные суда. Десантные корабли-доки были слишком тихоходными для этой цели и уложились бы в такие сроки[14]. Только три переоборудованных в транспорты эсминца были доступны для проведения операции: это были корабли Брукс, Хэмфрейс и Сэндс. Каждый такой корабль мог вместить в себя до 170 человек. Остальные войска было решено перебросить на девяти эсминцах: Буш, Дрэйтон, Флузер, Мэхан, Рэйд, Смит, Стивенсон, Стоктон и Веллес. Всего на судах перевозилось 1026 человек[15].
Командование высаживающимся отрядом было поручено генералу Уильяму Чейзу, командиру 1-й бригады из состава 1-й кавалерийской дивизии[16]. Высаживающиеся войска включали в себя три стрелковых соединения, тяжёлое соединение из состава 2-го эскадрона 5-го кавалерийского полка, взвод из состава батареи В, входящей в 99-й батальон полевой артиллерии, вооружённый двумя 75-мм гаубицами M16б, 673-ю противовоздушную пулемётную батарею и 29 человек из австралийской новогвинейской администрации. Последние должны были оказывать помощь в сборе информации и общении с местным населением островов, которое составляло около 13 000 человек[17]. Сразу же по принятии решения о пребывании на островах, была запланирована высадка остальных войск: остальных соединений 5-ко кавалерийского полка и 99-го артиллерийского батальона, 40-го морского строительного батальона. Кроме того, была запланирована выгрузка около 2500 тонн различных материалов[18]. Когда помощник генерала Макартура выразил беспокойство относительно поручения столь рискованной миссии боевому соединению, не имеющему боевого опыта, Макартур напомнил, что 5-й полк воевал бок о бок с войсками его отца против Джеронимо. «Они сражались тогда, — сказал генерал. — И они будут сражаться сейчас»[19].
Оборона японцев
Японскую оборону на островах Адмиралтейства обеспечивала японская 8-я сухопутная армия которой командовал генерал Хитоси Имамура, а штаб-квартира находилась в Рабауле. В сентябре 1943 года из-за невозможности остановить наступление Союзников в Новой Гвинее и Соломоновых островах Генеральный штаб вооружённых сил Японии принял решение о переносе линии обороны Японской империи в южной и центральной части Тихого океана, которая теперь протянулась от моря Банда до Каролинских островов. Генеральный штаб назначил Имамуру ответственным за удержание его участка новой линии обороны, который включал острова Адмиралтейства, в течение как можно более долгого срока, чтобы дать возможность японскому флоту и армии подготовить «решительное» контрнаступление на войска Союзников. Контроль островов Адмиралтейства был чрезвычайно важен для оборонительных планов Японии, так как при захвате этих островов Союзниками ключевая японская военная база на островах Трук окажется в радиусе действия тяжёлых бомбардировщиков. Очевидно не ожидая, что Союзники подойдут к островам Адмиралтейства так быстро, Генеральный штаб дал Имамуре время до середины 1944 года для завершения подготовительных работ по обороне острова под его руководством[20]. В это самое время крупнейшим японским подразделением на островах был 51-й транспортный полк, который прибыл в Лос-Негрос в апреле[21].
Имамура собирал подкрепления для защиты островов Адмиралтейства в конце 1943 и начале 1944 года. В октябре 1943 года он запросил пехотную дивизию для обороны островов, но ни одна дивизия не была доступна в тот момент. Последовавшее за этим предложение перебросить 66-й полк из Палау, где он переформировывался после того, как понёс большие потери, на острова Адмиралтейства также не имело успеха, так как Генеральный штаб считал, что 18-я армия больше нуждается в этом подразделении. Императорский флот Японии также отказал Имамуре в предоставлении специального подразделения морской пехоты для обороны островов[21]. Генеральный штаб дал согласие на развёртывание 66-го полка на островах Адмиралтейства в январе 1944 года для поддержания оборонительных сил в регионе после десантов союзников у Араве и Сэйдора в середине декабря и начале января соответственно, но эта переброска была отменена после того, как судно, перевозящее подкрепления полка было затоплено подводной лодкой Вэйл с большими потерями в войсках 16 января[22]. После этой катастрофы Имамура направил один батальон 38-й дивизии и 750 солдат из 2-го батальона 1-го отдельного смешанного полка, которые прибыли на острова в ночь с 24 на 25 января. Последующая попытка перебросить морем на острова Адмиралтейства пехотный и артиллерийский батальоны едва не была сорвана атаками авиации и подводных лодок Союзников, но 530 солдат 1-го батальона 229-го пехотного полка 38-й дивизии прибыли ночью 2 февраля. Большая часть эти перебросок войск была обнаружена разведкой Союзников[23].
На момент высадки Союзников силы Императорской армии Японии на островах Адмиралтейства включали 51-й транспортный полк под командованием полковника Ёсио Едзаки, который также командовал гарнизоном; 2-й батальон 1-го отдельного смешанного полка; 1-й батальон 229-го пехотного полка а также подразделения 14-го подразделения морских баз Императорского флота Японии[24][25]. Разведка Союзников определила присутствие всех этих подразделений на островах Адмиралтейства, хотя их были определены не полностью. Тогда как 1-й батальон 229-го пехотного полка уже принимал участие в нескольких кампаниях, у него было недостаточно оборудования и не хватало артиллерии. 2-м батальоном 1-го отдельного смешанного полка командовали офицеры резерва, которые принимали участие в боевых действиях в Китае, но большая часть рядового состава боевого опыта не имела[26].
51-й транспортный полк занимался строительством взлётно-посадочной полосы в Лоренгау и начал строительство ещё одной, известной как полоса Момотэ, на плантациях Момотэ на Лос-Негросе. Лоренгау использовалась как промежуточный аэродром для перелёта между Рабаулом и аэродромами северо-востока Новой Гвинеи. Значение островов Адмиралтейства для Японии возросло в результате операций Союзников в Новой Гвинее и Новой Британии, что привело к блокированию других маршрутов. В декабре 1943 года были высланы подкрепления из Палау но транспорты были атакованы подводными лодками и были вынуждены вернуться. Два пехотных батальона были отправлены из Рабаула в январе 1943 года. Несмотря на атаки авиации Союзников во время перехода они добрались до пункта назначения в целости[27]. В феврале обе взлётно-посадочные полосы не функционировали, а орудия противовоздушной защиты молчали в связи с приказом беречь боеприпасы и скрывать свои позиции. Едзаки приказал своим солдатам не менять дислокацию и не стрелять в светлое время суток[28].
Битва за Лос-Негрос
Высадка
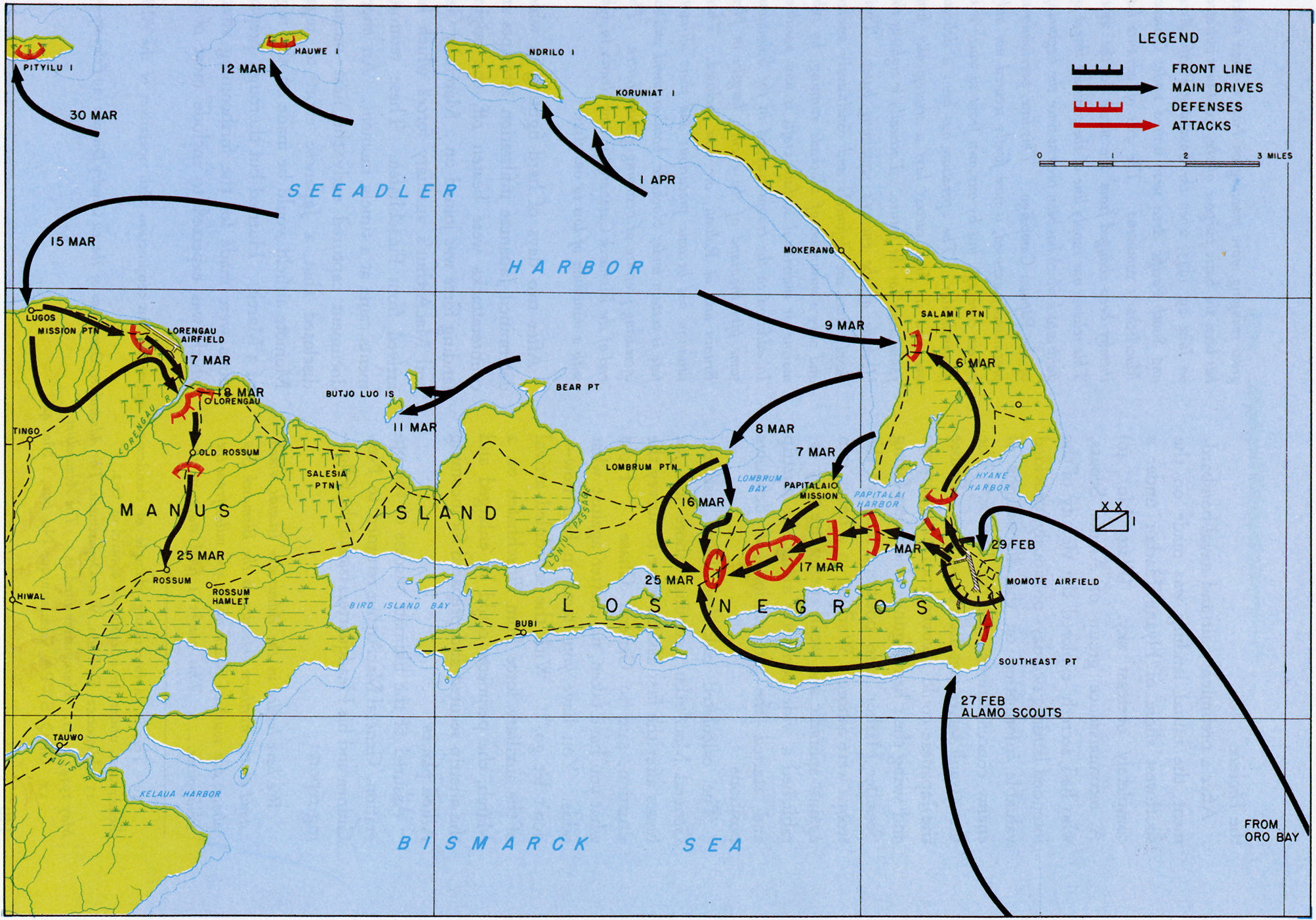 Участок, выбранный для высадки, был небольшим пляжем на южной стороне гавани Гаянэ у взлётно-посадочной полосы Момотэ. Взлётно-посадочная полоса могла быть захвачена быстро; однако окружающая территория была покрыта мангровыми болотами, а вход в гавань находился только в 750 ярдах (700 м). "При том, что вся операция была весьма рискованной, " отмечал Самуэль Элиот Моррисон, «она должна была быть последовательной.»[29] Риск оправдался. Японцы не ожидали высадки в этом месте и сконцентрировалм все свои силы на обороне пляжей гавани Зееадлер на другой стороне острова.[30] Погода 29 февраля 1944 года была облачной, причём облака были низкими, что помешало провести авианалёт так, как планировалось. Только три B-24 и девять B-25 нашли свои цели. Морская бомбардировка по этой причине была продлена ещё на 15 минут.[31] Каждый эсминец-транспорт выгрузил четыре десантных катеров LCPR. Каждый LCPR нёс при максимальной загрузке 37 солдат, которые взбирались вдоль бортов эсминцев и спускались грузовыми сетями.[31] Небронированные десантные катера LCPR всё ещё продолжали использоваться, так как шлюпбалки не могли выдержать груз более тяжёлых бронированных десантных катеров LCVP.[32]
Участок, выбранный для высадки, был небольшим пляжем на южной стороне гавани Гаянэ у взлётно-посадочной полосы Момотэ. Взлётно-посадочная полоса могла быть захвачена быстро; однако окружающая территория была покрыта мангровыми болотами, а вход в гавань находился только в 750 ярдах (700 м). "При том, что вся операция была весьма рискованной, " отмечал Самуэль Элиот Моррисон, «она должна была быть последовательной.»[29] Риск оправдался. Японцы не ожидали высадки в этом месте и сконцентрировалм все свои силы на обороне пляжей гавани Зееадлер на другой стороне острова.[30] Погода 29 февраля 1944 года была облачной, причём облака были низкими, что помешало провести авианалёт так, как планировалось. Только три B-24 и девять B-25 нашли свои цели. Морская бомбардировка по этой причине была продлена ещё на 15 минут.[31] Каждый эсминец-транспорт выгрузил четыре десантных катеров LCPR. Каждый LCPR нёс при максимальной загрузке 37 солдат, которые взбирались вдоль бортов эсминцев и спускались грузовыми сетями.[31] Небронированные десантные катера LCPR всё ещё продолжали использоваться, так как шлюпбалки не могли выдержать груз более тяжёлых бронированных десантных катеров LCVP.[32]
Первая волна десанта высадилась без потерь в 08:17, но как только бомбардировка прекратилась, японцы поднялись из своих укрытий и открыли огонь из пулемётов и береговых батарей. Десантные катера на обратном пути попали под перекрёстный огонь пулемётов противника по обеим сторонам гавани. Огонь значительно усилился, и вторая волна была вынуждена вернуться, пока вражеский огонь не был подавлен эсминцами. Третья и четвёртая волна высаживались также под огнём.[33] Корреспондент газеты Yank, the Army Weekly описывал высадку так:
|
Четыре из двенадцати LCPR получили повреждения. Три вскоре были отремонтированы, но они не могли далее подвергаться риску, так как без них высадившихся солдат нельзя было бы эвакуировать. В чрезвычайной ситуации планировалось, что эсминцы-транспорты войдут в гавань и примут на борт войска с мола, но было неизвестно, насколько возможен был бы подобный сценарий. Через четыре часа катера продолжили совершать рейсы к берегу, но только после того, как эсминцы подавили вражеский огонь. Ливень сделал выгрузку безопаснее из-за снижения видимости. Последний эсминец разгрузился в 12:50. К этому моменту флот потерял двоих убитыми и троих ранеными.[35]
К этому моменту на берегу уже было всё кончено. Кавалеристы захватили взлётно-посадочную полосу. Сопротивление было эпизодическим, что позволило установить зенитные пулемёты на берегу, выгрузить снабжение и топливо на берег. Погибло два солдата, трое были ранены. В 16:00 генерал Макартур и адмирал Кинкейд высадились на берег. Генерал проинспектировал позиции.[36] Один из лейтенантов предупредил его, что всего несколько минут назад был убит японский снайпер. "Это было лучшее, что с ним было можно сделать, " ответил генерал.[37] Он решил остановиться, приказал Чейзу удерживать позиции до прихода остальных сил, а затем вернулся на Феникс. Силы Фечтелера прибыли в 17:29, транспорты разгрузились и большая часть артиллерийских кораблей отошла из-за истощения боекомплекта. Буш и Стоктон остались, чтобы обеспечивать экстренную артиллерийскую поддержку.[36]
Бои за захват прибрежной полосы
Чейз разместил свои войска в тесном периметре. Из-за отсутствия колючей проволоки пришлось прикрывать всю территорию полностью. Суша была твёрдой, кораллового происхождения, что было хорошо для строительства авиабазы, но создавало трудности для рытья траншей. Двенадцать пулемётов .50 калибра (12.7 мм) были размещены по передней линии.[38] Ночью происходили боевые столкновения с небольшими японскими группами, которые пытались просочиться на позиции американских солдат.[39] Была запрошена доставка боеприпасов по воздуху. Смена погоды позволила трём B-25 из 38-й бомбардировочной группы США сбросить снабжение около 08:30. Четыре B-17 из 375-й парашютной группы сбросили по три тонны грузов каждый, в том числе плазму крови, боеприпасы, ручные гранаты и колючую проволоку.[40] Часть боеприпасов приземлилось за периметром, но по некоторым причинам солдаты, которые отправились на их поиски, не были обстреляны.[41]
Японцы не планировали предпринимать ещё одну попытку нападения до наступления темноты, но около 16:00 японский патруль был обнаружен. Так или иначе, среди белого дня кто-то сумел проникнуть внутрь периметра и оказался в 35 ярдах (32 м) от командного пункта генерала Чейза. Снайпер произвёл выстрел по командному посту, и по патрулю был направлен огонь. Майор Джулио Чиарамонте, офицер разведки, выступил с четырьмя солдатами, чтобы уничтожить снайпера. Когда его отряд приблизился, произошла серия взрывов. Три японца покончили с жизнью, взорвав ручные гранаты, а ещё один сделал харакири своей саблей. Было насчитано пятнадцать мёртвых тел офицеров и сержантов, в том числе капитана Баба, командира японского батальона, который атаковал американцев предыдущей ночью. Японцы начали новое наступление на периметр в 17:00, но могли достичь лишь небольших успехов, встретившись с американской огневой мощью .[42]
На следующее утро прибыли следующие американские подразделения, шесть десантных кораблей LST, каждый из которых буксировал десантный катер LCM, под эскортом американских эсминцев Маллани и Аммен, австралийского эсминца Варрамунга и эсминцев-тральщиков Гамильтон и Лонг. Они вошли в залив Гаянэ и подошли к берегу, попав под миномётный огонь сразу после этого. LST-202, которым управлял экипаж Береговой охраны, ответил огнём 3-х дюймовых (76 мм) и 40-мм автоматических пушек.[43] LST разгружались в течение последующих семи часов. В процессе разгрузки боеприпасы, строительное оборудование и вооружения были беспорядочно нагромождены. Чтобы обеспечить надлежащее рассредоточение арсенала генерал Чейз приказал расширить периметр, для чего было необходимо атаковать японцев.[44] Была запрошена поддержка с воздуха. B-25 из 345-й бомбардировочной группы США были перехвачены около 15 японскими истребителями. Из заставили отойти восемь истребителей P-47 Thunderbolt эскорта, которые сбили восемь японских самолётов. Два B-17 из 69-й десантной эскадрильи США, которые доставляли грузы на парашютах, также были атакованы, по их утверждениям они сбили один из атакующих самолётов. Так сложилось, что две из четырёх эскадрилий B-25 сбросили бомбы на территории, занятые американскими солдатами, два из них погибли, а ещё четверо ранены до того, как 12-я группа наведения авиации США смогла исправить ошибку.[45] Оба эскадрона 5-го кавалерийского полка начали наступление в 15:00. Все цели были достигнуты и новый, больший периметр обороны был подготовлен.[46] Был высажен 40-й морской инженерный батальон, который должен был подготовить полосу Момотэ к эксплуатации. Однако вместо этого они получили приказ с помощью своего оборудования очистить зоны ведения огня и построить укрепления, а также им был выделен сектор периметра, который они должны были оборонять.[47] С помощью бульдозера было вырыто шесть траншей, рассчитанных на десять солдат каждая. Их экскаватор вырыл траншею длиной около 300 ярдов (270 м), которая сформировала вторую линию обороны. Покрытие аэродрома превратилось в огневые точки тяжёлых пулемётов.[46]
Предполагалось, что два эсминца-тральщика протралят вход в залив Зееадлер между островами Хауэй и Ндрило, однако огонь как минимум одного японского 4-хдюймового (102 мм) орудия на острове Хауэй не дал им возможности войти в гавань. Капитан 1-го ранга Эмиль Дешануа, командовавший эсминцами поддержки высадившегося десанта, отправил Аммен, Буш, Маллани и Варрамунгу на бомбардировку острова. Японские орудия прекратили огонь, но снова открыли его, когда тральщики предприняли ещё одну попытку протралить пролив. Дешануа прекратил операцию, приказав эсминцам присоединиться к его кораблям. Эсминцы обстреляли японские пушки, держащие под прицелом вход в залив Гаянэ, чтобы дать возможность LST безопасно отойти.[48] Один LST возвращался с 20-30 контейнерами вооружения на борту. LST не должны были оставваться после наступления темноты, так как ожидалась новая атака японских войск.[49] Дешануа эскортировал их часть пути, пока не получил приказ от адмирала Барбея оставить Аммен, Маллани, Варрамунгу и Веллес у Лос-Негроса. Аммен и Маллани обстреляли остров Хауэй утром ещё раз, взорвав несколько складов боеприпасов, но всё ещё четыре или пять пушек продолжали вести точную стрельбу, и Дешануа был вынужден доложить Барбею, что он не может справиться с пушками на острове.[48]
Генерал Крюгер проявил серьёзную озабоченность ситуацией на Лос-Негросе. В ответ на срочный запрос генерала Чейза Крюгер договорился с адмиралом Бербеем об ускорении переброски оставшейся части 1-й кавалерийской дивизии. По запросу Крюгера 2-й эскадрон 7-го кавалерийского полка был переброшен на трёх эсминцах-транспортах. Другие подразделения должны были прибыть 6 и 9 марта вместо 9 и 16 марта соответственно. Крюгер понимал, что залив Гаянэ была слишком мал для поддержки подходящей дивизии, но здесь были хорошие пляжи вокруг плантации Салами на западном берегу Лос-Негроса. Для того, чтобы использовать их, а также иметь возможность провести операцию против Мануса с берега Лос-Негроса, необходимо было обеспечить возможность войти в залив Зееадлер.[50]
С точки зрения японцев сражение также не проходило успешно. Японцы ожидали высадки в заливе Зееадлер, который был бы логичной целью для американцев, и сконцентрировали свои силы вокруг аэродрома Лоренгау. Оборона полосы Момотэ и залива Гаянэ была ответственностью войск капитана Бабы, ядром которых был 1-й батальон 229-го пехотного полка. Полковник Едзаки приказал Бабе атаковать береговой плацдарм, но считал, что высадка в заливе Гаянэ была диверсией, которая вместе с ложными донесениями об активности врага у Салами заставила его оставить 2-й (Иваками) батальон 1-го отдельного пехотного полка там вместо того, чтобы направить его на помощь силам Бабы. 2 марта Едзаки решил напасть на плацдарм Гаянэ всеми имеющимися силами. Труднопроходимая местность и урон, нанесённый огнём американской сухопутной и морской артиллерии, заставил перенести наступление на ночь 3 марта.[51]
В 21:00 японский самолёт сбросил восемь бомб, перебивших телефонные провода. Сразу после того, как он улетел, взлетели жёлтые ракеты и началась атака японской пехоты, которую поддерживал миномётный огонь.[52] Находящиеся в открытом море эсминцы Дешануа были атакованы четырьмя бомбардировщиками Бетти.[53] 1-й эскадрон 5-го кавалерийского полка был атакован двумя усиленными взводами, которые были встречены плотным огнём автоматического оружия и миномётов. Густые джунгли в этом секторе позволили японским войскам добраться до позиций американцев, но их было недостаточно для того, чтобы захватить эти позиции.[54] Главное японское наступление проводилось силами 2-го батальона 1-го отдельного смешанного полка в направлении местной трелёвочной дороги, а также подразделениями из района Порлака, им противостоял 2-й эскадрон 5-го кавалерийского полка. Пехотинцы заметили смену японской тактики. Вместо бесшумного проникновения на американские позиции, японцы атаковали открыто, разговаривая, и даже в некоторых случаях с песнями. Японская атака вела их прямо на противопехотные мины и мины-ловушки, которые должным образом сработали, а затем на огонь американского автоматического оружия, в том числе несколько станковых пулемётов Браунинг 30 калибра, однако наступление продолжалось.[55] Орудия 211-го батальона береговой артиллерии и 99-го батальона полевой артиллерии вели огонь всю ночь в попытке сорвать японское наступление из района Порлака. Сразу после полуночи японские баржи пересекли залив Гаянэ, но попали под огонь зенитных орудий и не достигли американских позиций. Позиции 40-мм пушек Бофорс были захвачены японцами, которую в свою очередь отбили морские инженеры.[56] Ведя огонь из пулемётов 30 калибра, пулемётчики 5-го кавалерийского полка завалили позицию мёртвыми японскими телами перед тем, как пулемёты пришлось переместить на более подходящую позицию для стрельбы. Один из пулемётов Браунинг, который применялся при удержании позиции, позже был оставлен там как памятник.[55] Сержант Трой Макгил занял укрытие с ещё восемью солдатами. Все они были убиты или ранены, кроме Макгила и ещё одного бойца, которому он приказал вернуться. Макгил вёл огонь из винтовки, пока её не заело, затем поднялся на японца врукопашную, но был убит. Посмертно он был награждён Медалью Почёта.[57]
К рассвету японская атака прекратилась. Более 750 тел японцев было обнаружено вокруг американских позиций. Взятых в плен не было. Американские потери составили 61 человека убитыми и 244 ранеными, в том числе девять убитых и 38 раненых морских инженеров.[58] 2-й эскадрон 5-го кавалерийского полка и 40-й морской инженерный батальон были удостоены Президентской награды.[59] Генерал Чейз вызвал подкрепление боеприпасами по воздуху, огромное количество которых было потрачено прошедшей ночью, и огонь Варрамунги по местной трелёвочной дороге.[60]
Оборона гавани Зееадлер
Утром 4 марта прибыл 2-й эскадрон 7-го кавалерийского полка, который усилил 2-й эскадрон 5-го кавалерийского полка. На следующий день генерал-майор Иннис П. Свифт, командующий 1-й кавалерийской дивизией, прибыл на борту эсминца Буш и принял командование. Он приказал 2-у эскадрону 7-го кавалерийского полка наступать параллельно трелёвочной дороге. 2-й эскадрон 5-го кавалерийского полка затем отошёл назад, сменив его. Так как рельеф местности позволял, японцы пошли в дневную атаку. Она была отбита кавалеристами с помощью артиллерийского и миномётного огня, но американская атака была перенесена на вторую половину суток. Эта атака наткнулась на японское минное поле и к рассвету войска продвинулись не далее, чем до конца трелёвочной дороги.[61]
Утром 6 марта следующий конвой прибыл в залив Гаянэ: пять LST, каждый из которых буксировал LCM с 12-м кавалерийским полком и другими подразделениями и тяжёлым вооружением, в том числе пять гусеничных десантных машин (LVT) 592-го инженерного полка, три танка Стюарт 603-й танковой роты и двенадцать 105-мм гаубиц 271-го батальона полевой артиллерии.[62] 12-у кавалерийскому полку был дан приказ последовать за 2-м эскадроном 7-го кавалерийского полка в его наступлении на север и захватить плантацию Салами. Дорога на Салами была немногим более, чем грязная тропа, в которой техника вскоре стала застревать. Кроме того, японцы сделали всё, чтобы затруднить по ней движение канавами, поваленными деревьями, снайперами и минами-ловушками.[63] Австралийский уорэнт-офицер Р. Дж. Букер, знавший эту местность, провёл 12-й кавалерийский полк и три танка до Салами.[64] Здесь японцы оказали ожесточённое сопротивление, которое длилось больше часа. Танки вели огонь картечью по зданиям и разрывными снарядами по щелям японских бункеров.[65]
Местные жители проинформировали подразделение Австралийской администрации Новой Гвинеи, что японцы отступили через гавань Зееадлер к миссии Папиталаи. Она и стала новой целью войск США. 5-й кавалерийский полк должен был атаковать плантацию Папиталаи с востока, а 2-й эскадрон 12-го кавалерийского полка в это же время должен был атаковать миссию Папиталаи. 5-й кавалерийский полк захватил Порлака не встретив сопротивления и пересёк бухту Лемондрол на каноэ и резиновых лодках.[66] Патруль капитана Уильяма С. Корнелиуса вступил в бой против около 50 японских солдат, которым пришлось отойти. Капитан Корнелиус, на счету которого было четверо убитых, был тяжело ранен и на следующий день умер. Он был посмертно награждён крестом «За выдающиеся заслуги».[67]
Из-за кораловых рифов десантные катера не могли использоваться для высадки у миссии Папиталаи. Пять LVT, один боевой и четыре транспортных, решили перебросить от гавани Гаянэ на плантацию Салами, но дорога была настолько плоха, что только один боевой и один грузовой LVT прибыли вовремя. Так или иначе, атака продолжилась после авианалёта и артиллерийской бомбардировки 271-го батальона полевой артиллерии. Боевой LVT выпустил 24 4,5-дюймовых ракеты M8. Ответный огонь вели японские миномёты и пулемёты, а также 75-мм гаубица.[68] Первой волне пришлось сдерживать огонь японских из бункеров в течение 45 минут, пока LVT вернулись с солдатами второй волны. Позже они отразили контратаку около 30 японцев.[69] К операции присоединился третий LVT, который наконец был доставлен к Салами, LVT совершили 16 рейсов через залив до наступления сумерек, перевезя 2-й эскадрон 12-го кавалерийского полка вместе с рационами, водой и боеприпасами, и эвакуировав мёртвых и раненых.[70]
Полковник Едзаки доложил, об американском наступлении на миссию Папиталаи в штаб 8-й сухопутной армии в Рабаул, обещав проведение ночной контратаки; однако контратаки не было. Японцы отступили, и больше никаких донесений от полковника Едзаки на поступало.[71]
Задача подавления японской артиллерии, охраняющей вход в гавань Зееадлер была поручена оперативному соединению 74 (TF74) контр-адмирала Виктора Кратчли, в которое входили тяжёлый крейсер Шропшир, лёгкие крейсера Феникс и Нэшвилл и эсминцы Баше, Бил, Дэли и Хатчинс. Они провели часовую бомбардировку острова Хауэй 4 марта, но 6 марта Николсон получил попадание японского снаряда с острова Хауэй. Так как тральщики планировалось снова направить в залив Зееадлер 8 марта, адмирал Кинкейд приказал Кратчли повторить попытку. Днём 7 марта, TF74 провело бомбардировку островов Хауэй, Ндрило, Коруниат, Питиилу и север Лос-Негроса. Шропшир выпустил 64 8-мидюймовых (203 мм) и 92 4-хдюймовых (102 мм) снарядов, а американские крейсера и эсминцы 1144 5-тидюймовых (127 мм) и6-тидюймовых (152 мм) снарядов.[72] На следующий день два эсминца, два тральщика, LCM (зенитный) и шесть LCM с автотехникой и снабжением вошли в гавань Зееадлер не встретив никакого сопротивления.[70] Это расчистило путь 2-й бригаде 1-й кавалерийской дивизии для высадки на Салми 9 марта.

К 7 марта морские инженеры подготовили аэродром Момотэ к эксплуатации. Самолёты наведения артиллерии начали полёты с аэродрома 6 марта, а B-25 совершил экстренную посадку на следующий день.[73] Сопровождавшие B-25 двенадцать P-40 Kittyhawk 76-й эскадрильи Королевских ВВС Австралии прибыли из Киривины через Финшхафтен 9 марта, ещё двенадцать самолётов эскадрильи прибыло на следующий день. К ним присоединилась аэродромная команда 77-й эскадрильи Королевских ВВС Австралии, которая прибыла на LST 6 марта. Остальная часть 73 крыла Королевских ВВС Австралии прибыла через две недели и включала истребители Kittyhawk 77-й эскадрильи и Supermarine Spitfire 79-й эскадрильи Королевских ВВС Австралии. Боевые действия операции они начали 10 марта и с этого момента корабли и сухопутные силы на островах Адмиралтейства могли получить поддержку с воздуха в считанные минуты[74].
Подразделение Австралийской администрации Новой Гвинеи прибыло в город Мокеранг 9 марта и обнаружило пятьдесят местных жителей. Подразделение испытало облегчение, обнаружив, что местные жители не подвергались преднамеренному дурному обращению со стороны японцев. Отступающие японцы забрали всё продовольствие из их садов, оставив гражданское население голодать, поэтому австралийцы обеспечили их продовольствием, полученным от американцев[64].
Битва за Манус
Хауэй
Операция на Лос-Негросе перешла в стадию зачистки, но оставалось ещё 2700 японских солдат на острове Манус. Генерал Свифт принял решение о высадке 2-й бригады бригадного генерала Верне Д. Муджа к миссии Лугос к западу от Лоренгау. Лоренгау, хорошо укреплённый, был важной целью. Там находился аэродром, и там же сводились в одну точку четыре дороги. Подготавливая операцию, разведывательному отряду 302-го кавалерийского полка было приказано места, с которых артиллерия может прикрывать высадку на Манус.[75] Три патруля были высланы на LCVP 11 марта. Первый обнаружил, что на мысе Медведь на Манусе нет японцев, но также нет места для размещения артиллерии. Второй вёл разведку островов Бутхо-Луо. Он обнаружил, что эти острова не заняты противником и есть удобные участки на северном острове. Третий патруль, 25 офицеров и солдат разведывательного отряда 302-го кавалерийского полка, два офицера из 99-го батальона полевой артиллерии,[76] с уоррент-офицером А. Л. Робинсоном из подразделения Австралийской администрации Новой Гвинеи и Киаху, местным жителем из Мокеранга в качестве проводников, отправились на Хауэй на LCVP,[64] под эскортом PT 329,[77] одного из торпедных катеров, ведущего операции с тендера Ойстер Бэй в гавани Зееадлер[78].
Когда патруль подошёл к берегу, майор Картер С. Вэйден обнаружил хорошо замаскированный бункер и бросил три ручные гранаты в него. После того, как они взорвались, замаскированные японские миномёты и пулемёты открыли огонь по патрулю и по катеру. Торпедный катер получил попадание, его командир получил ранение, и катер отошёл. LCVP направился к берегу, где забрал пять человек, в том числе Робинсона и Кайху. LCVP отплыл и направился в сторону моря, но обнаружил ещё одну группу на пляже. Катер вернулся и поднял их, несмотря на ранение командира, и успешно отошёл от берега. После того, как катер снова подошёл к берегу, в него попала мина и он начал набирать воду. Тем временем повреждённый торпедный катер доложил о случившемся и был направлен бомбардировщик для выяснения положения. В полёте на низкой высоте он заметил солдат в воде и ещё один торпедный катер был отправлен на спасательную операцию под прикрытием эсминца Арунта. После трёх часов в воде, спасшихся с LCVP поднял торпедный катер. Восемь американцев, включая майора Вэйдена погибли и ещё 15 получили ранения, включая членов экипажа LCVP[79]. Кайху исчез, и Робинсон обдумывал, как сообщить печальную новость его семье. Однако Кайху сумел самостоятельно доплыть до Лос-Негроса[80].
Генерал Свифт перенёс высадку на Лугос и приказал 2-му эскадрону 7-го кавалерийского полка захватить Хауэй[81]. И в этот раз проводником выступил Робинсон, у которого ещё не прошли сильные ожоги от солнца, которые он получил за время нахождения в воде в предыдущий день.[80] Десант прикрывали эсминцы Арунта, Буш, Стоктон и Торн;[82] два вооружённых ракетами LCVP и LCM (с зенитной установкой), которые выпустили 168 4.5-дюймовых (114 мм) ракет; орудия 61-го батальона полевой артиллерии на Лос-Негросе;[76] а также шесть Kittyhawk 76 эскадрильи, сбросившие 500-фунтовые (230 кг) бомбы.[83] Для наступления использовались три грузовых LVT. Чтобы уменьшить износ двигателей LVT, их LCM на буксире протащили через гавань Зееадлер и отцепили перед последним участком пути к берегу.[79] Кавалеристы обнаружили хорошо построенные и укреплённые бункеры, из которых огнём перекрывались все подходы, и весьма точных снайперов. На следующее утро LCM привёз средний танк, против которого у японцев не было оружия, и кавалеристы смогли подойти к позициям оборонявшихся ценой восьми погибших и 46 раненых; было насчитано 43 мёртвых тела, принадлежащих к японскому флотскому персоналу. 61-й и 271-й батальоны полевой артиллерии были переброшены на Хауэй, а 99-й занял позиции на Бутхо-Луто.[84]
Лоренгау
Наступление на Манус началось 15 марта. До рассвета два отряда 8-го кавалерийского полка, шесть грузовых LVT и один боевой LVT погрузились на борт LST и начали переход от Салами длиной в 18 км через залив Зееадлер. В качестве места высадки были выбраны пляжи у Лугоса, находившиеся в 4 км к западу от Лоренгау, который был хорошо укреплён.[85] Эсминцы Гиллиспи, Хобби, Кэлк и Рэйд провели бомбардировку территории 5-тидюймовыми орудиями;[82] двумя ракетными LCVP, LCM (с зенитным орудием) и боевым LVT, вооружённым ракетами; артиллерия на островах Бутхо-Луо и Хауэй также обстреляли цели;[85] кроме того 18 B-25 499-й и 500-й бомбардировочных эскадрилий сбросили 81 500-фунтовую (230 кг) бомбу и обстреляли территорию.[86]
Очевидно, японцы не ожидали высадки у Лугоса и их позиции были быстро захвачены. 1-й эскадрон 8-го кавалерийского полка продолжили наступать на восток, пока его не остановил японский комплекс бункеров в конце взлётно-посадочной полосы Лоренгау. Артиллерийский заградительный огонь прекратился после бомбардировки самолётами Kittyhawk, которые сбросили 500-фунтовые бомбы. Кавалеристы продолжили своё наступление и захватили хребет, с которого был хорошо виден аэродром, не встретив сопротивления. В то же самое время 7-й кавалерийский полк высадился у Лугоса с LST, совершившими второй рейс и занял оборону территории, освободив 2-й эскадрон 8-го кавалерийского полка для участия в наступлении на Лоренгау. Первая попытка захватить аэродром не удалась из-за противодействия врагов, имевшего комплекс бункеров. Вторая попытка состоялась 17 марта, к этому моменту подошло усиление — 1 эскадрон 7-го кавалерийского полка и танки, и эта атака позволила продвинуться на значительное расстояние. Наступление было продолжено, и Лоренгау пал 18 марта.[87]
Несмотря на ожесточённое сопротивление, главные японские силы на Манусе не были размещены в этом районе. Продолжив наступление к Россуму, 7 кавалерийский полк обнаружил их 20 марта. Потребовалось шесть дней боёв в окрестностях Россума, чтобы 7-й и 8-й кавалерийские полки уменьшили число японских укреплённых позиций там. Японские бункеры, представляющие из бревенчатые и земляные огневые точки, оказались устойчивыми перед артиллерийским огнём.[88]
Внешние острова
По мере того, как японцы на Лос-Негросе стали испытывать недостаток продовольствия и боеприпасов, борьба становилась всё более неравной. Последний очаг сопротивления на холмах Папиталаи, которые обороняли пятьдесят японских солдат, был погашен 24 марта и с этого момента организованное сопротивление японских сил на Лос-Негросе прекратилось.[89] Несмотря на окончание организованного сопротивления на Лос-Негросе и Манусе, ряд островов всё ещё находились в руках японцев. Чтобы минимизировать гражданские потери, Австралийская администрация Новой Гвинеи срочно эвакуировала эти острова в преддверии американских операций.[90] Предполагалось, что Питиилу обороняет около 60 японцев. 30 марта 1-й эскадрон 7-го кавалерийского полка был переброшен с Логенгау на 10 LCM, которые буксировали семь LVT.[91] Учтя внимание уроки Хауэя, десант прикрывался бомбардировкой эсминцев, артиллерии и двух десантных кораблей, кроме того, операцию прикрывали самолёты Kittyhawk и Spitfire. Высадка десанта не встретила сопротивления, но хорошо укреплённые японские позиции пришлось преодолевать с помощью артиллерии и танков. Погибло 59 японцев; с американской стороны было восемь погибших и шесть раненых.[92]
Аналогичная операция предполагалась против островов Ндрило и Коруниат 1 апреля, однако 1-й эскадрон 12-го кавалерийского полка обнаружил их незанятыми. Эта операция стала известна как единственная амфибийная операция войны, в которой применялись каноэ.[93] Последний десант был произведен на остров Рамбутё 3 апреля силами 2-го эскадрона 12-го кавалерийского полка. В это раз использовались шесть LCM и шесть LCVP вместо LVT. В результате первые волны высадились на риф, и солдаты должны были добираться до берега через прибой. К счастью, сопротивления не было.[93] Японцы, скрывшиеся в внутренних районах острова, были обнаружены подразделением Австралийской администрации Новой Гвинеи, 30 японцев были убиты и пять взяты в плен.[94] Патрули продолжили охоту за японцами на островах. В большей мере кавалерия находила их по донесениям местных жителей. На Лос-Негросе 302-я разведывательная группа уничтожила 48 и взяла в плен 15 японцев в течение мая. На Манусе было уничтожено 586 японцев и ещё 47 взято в плен.[95] Генерал Крюгер официально объявил кампанию завершённой 18 мая.[96]
Операция глазами японцев
Дневник, обнаруженный у мёртвого японского солдата, описывает его последние дни:

|
28 марта. Последнее ночное дежурство прошло тихо, за исключением редкого миномётного и ружейного огня, который был слышен. По результатам совещания командиров подразделений, они решили оставить занимаемые позиции и отступить. Начались приготовления к этому. Тем не менее, кажется, это решение отменено и мы будем удерживать позицию. О! Это почётная оборона и я полагаю, что мы должны гордиться нашей судьбой. Останутся только наши имена, и это то, что мне совсем не нравится. Да, жизнь тех, кто остался, это 300 человек, ограничена всего несколькими днями. 30 марта. Это восьмой день нашего отступления. Мы перемещаемся рядом с горными дорогами из-за присутствия врага. Мы ещё не прибыли к пункту нашего назначения, но у нас уже закончились рационы. Наши тела всё слабеют и слабеют, и голод становится невыносимым. |

|
Основание военных баз
Конфликт в высшем командовании
Дискуссия относительно использования возможностей развития баз на островах Адмиралтейства развернулась в начале февраля между представителями Юго-западнотихоокеанского командования и соседним Южнотихоокеанским командованием адмирала Уильяма Хэлси. Первоначально предполагалось, что силы Юго-западнотихоокеанского командования захватят острова и построят авиабазу, а Южнотихоокеанское командование примет ответственность за строительство военно-морской базы. Представители Южнотихоокеанского командования утверждали, что не могут отправить на острова снабжение для войск и материалы на ранних этапах, и было принято решение, что Юго-западнотихоокеанское командование также примет на себя первые этапы строительства морских баз.[98]
Адмирал Нимиц рекомендовал Объединённому командованию, чтобы развитие и управление инфраструктурой баз было передано Южнотихоокеанскому командованию в связи с переносом границы, которая захватила и острова Адмиралтейства.[99] Макартур был в ярости; границы Юго-западнотихоокеанского командования не должны были меняться без согласования с правительством Австралии.[100] Предложение Нимица было в конечном счёте отклонено Объединённым командованием, но до этого Макартур ограничил доступ к инфраструктуре кораблям Седьмого флота ВМС США и Британского Тихоокеанского флота. Хэлси был вызван в штаб Макартура в Брисбен 3 марта 1944 года, и стороны пришли к компромиссу.[101] Ответственность за развитие базы была переложена на с Крюгера на флот Союзников под командованием Кинкейда 18 мая 1944 года. Было предложено управление в конечном счёте передать Южнотихоокеанскому командованию, но этого фактически не произошло.[102]
Развитие авиабаз
Аэродром Момотэ изначально строился на коралловой основе с покрытием из гумуса от кокосовых пальм, который японцы присыпали тонким слоем кораллов и кораллового песка. Такое покрытие не могло выдерживать тяжёлые самолёты, и 40-й морской строительный батальон, 8-й инженерный эскадрон и береговой батальон 592-го инженерного полка сняли гумус и положили новое коралловое покрытие. 3600 футов (1100 м) взлётно-посадочной полосы было достаточно для истребителей Kittyhawk и Spitfire, но полоса была достроена до 7800 футов (2400 м) к концу апреля.[103] B-24 5-го бомбардировочного крыла были переброшены 18 апреля 1944 года и совершили первый вылет на бомбардировку Волеаи через два дня.[104]
Планировалось строительство второго аэродрома на плантации Салами, но исследования выявили, что этот участок непригоден и новое место для аэродрома было найдено в кокосовой плантации у Мокеранга. Пока 46-й морской инженерный батальон расчищал дорогу, 836-й авиационный инженерный батальон занимался строительством взлётно-посадочной полосы, а 104-й и 46-й морские инженерные батальоны строили рулёжные дорожки и стоянки. Как на Момотэ, слой гумуса был снят до кораллового основания, которое затем было обработано и утрамбовано. В ряде мест коралл был настолько твёрдым, что пришлось использовать взрывчатку. Было расчищено 1100 акров (4,5 кв. км) и вырублено 18,000 кокосовых деревьев.[105] B-24 307-го бомбардировочного крыла («Дальние рейнджеры») прибыли 21 апреля 1944 года.[106] Они приняли участие в налётах на Биак и приняли участие в сражении за Биак в мае.[105]
База истребителей с ремонтной инфраструктурой для самолётов с авианосцев была построена 78-м морским инженерным батальоном на острове Понам. Половина полезной площади была болотистой, пришлось взрывать кораллы до уровня океана и использовать как материал для покрытия. Ещё одна база для самолётов авианосцев была построена на Питиилу 71-м морским инженерным батальоном в мае-июне 1944 года вместе с казармами на 2500 человек. Восточная оконечность острова Питиилу была расчищена под строительство базы отдыха флота на 10 000 человек.[107]
Развитие морских баз
 Строительство морской базы на Лос-Негросе было поручено 2-му морскому инженерному полку, в который входили 11-й, 58-й и 71-й морские инженерные батальоны. Необходимо было построить склады в Папиталау на 500 000 бареллей (~68 000 т) мазута, 100 000 бареллей (~14 000 т) дизельного топлива, 76 000 бареллей (~10 000 т) авиационного топлива и 30 000 бареллей (~4 100 т) бензина;[108] госпиталь на 500 койко-мест; два причала для судов Либерти; 24 склада и 83 административных здания из сборных модулей. На мысе Ломбрум морские инженеры построили три объекта: ремонтная база гидросамолётов, ремонтная база кораблей, и ремонтная база десантных катеров. 250-тонный понтонный сухой док был построен для обслуживания десантных судов.[109]
Строительство морской базы на Лос-Негросе было поручено 2-му морскому инженерному полку, в который входили 11-й, 58-й и 71-й морские инженерные батальоны. Необходимо было построить склады в Папиталау на 500 000 бареллей (~68 000 т) мазута, 100 000 бареллей (~14 000 т) дизельного топлива, 76 000 бареллей (~10 000 т) авиационного топлива и 30 000 бареллей (~4 100 т) бензина;[108] госпиталь на 500 койко-мест; два причала для судов Либерти; 24 склада и 83 административных здания из сборных модулей. На мысе Ломбрум морские инженеры построили три объекта: ремонтная база гидросамолётов, ремонтная база кораблей, и ремонтная база десантных катеров. 250-тонный понтонный сухой док был построен для обслуживания десантных судов.[109]
Развитие инфраструктуры Мануса было поручено 5-му морскому инженерному полку, в который входили 35-й, 44-й и 57-й морские строительные батальоны, которые прибыли в середине апреля. Они возвели 128 складов и 50 холодильников, каждый ёмкостью 680 кв футов (19 кв. м). Мощность системы водоснабжения составила до 15 млн литров в день. Были модернизированы две системы, одна использовала воды района Ломбрум объёмом 10,2 млн литров в день, вторая — с прилегающей территории объёмом 3,2 млн литров в день. Система включала очистные сооружения, резервуары и водопровод.[110] Все строительные работы были закончены в апреле 1945 года, база использовалась до конца войны.[111]
Потери
В окончательном докладе о кампании генерал Крюгер доложил об 3280 убитых японцах и 75 взятых в плен. Возможно, ещё 1100 пропали без вести, их никто никогда больше не видел. Американские потери составили 326 убитых, 1189 раненых и 4 пропавших без вести. 1625 американцев были эвакуированы по всем причинам, включая ранения и болезни.[59] Был ранен один австралиец. Подразделение Австралийской администрации Новой Гвинеи сообщило об одном погибшем местном жителе и одном раненом в бою, ещё три погибли от рук японцев, а 20 погибших и 34 раненых стали случайными жертвами воздушных, артиллерийских и морских бомбардировок.[112]
Значение сражения
Стратегическое значение островов Адмиралтейства было огромным. По суровой арифметике войны их захват сохранил много жизней, которые могли бы быть отданы при захвате Трука, Кавьенга, Рабаула и залива Ганза и ускорил наступление Союзников на несколько месяцев. В качестве авиабазы острова Адмиралтейства имели также большое значение, базировавшиеся на них самолёты могли достигать Трука, Вевака и их окрестностей. В качестве военно-морской базы их значение также было большим, так как они совмещали якорную стоянку с крупной инфраструктурой.[113]
Хорошо известно правило о том, что для достижения успеха атакующие силы должны превышать обороняющиеся в пропорции 3:1. На первых этапах сражения за Лос-Негрос это соотношение было меньше чем 1:4. В конечном счёте Союзники победили "просто потому, " писал Моррисон, «что США и Австралия доминировали в океанских водах и в воздухе над ним.»[114] Когда был задан вопрос о поддержке флота, генерал Чейз ответил, что «они не помогали нам; они спасали наши шеи».[115] Оборонительная тактика Чейза также была важным фактором низких потерь. Он был награждён Бронзовой звездой за эту кампанию, как и Макартур.[116]
Командиры Союзников, а также позднее историки, спорили относительно того, является ли кампания на островах Адмиралтейства смелой операцией великого полководца или безрассудным предприятием которое могло закончиться провалом. Адмирал Флетчер был убеждён, что "от нас отвернулась удача, что мы не получили опустевший остров, "[117] а адмирал Барбей считал, что первоначальный план основывался на захвате островов в короткие сроки с малыми потерями.[115] Разумеется, он был намного менее рискованным, но весьма сомнительно, что высадка на хорошо защищённые пляжи гавани Зееадлер далась бы ценой меньших потерь. Принимая во внимание кампании Макартура и Нимица, эта высадка сократила войну как минимум на месяц. Поэтому окончательные выводы относительно кампании — «быстрая победа, которая уменьшила число погибших и раненых».[118]
Что касается Японии, по потеря островов Адмиралтейства для неё означала потерю передового пункта линии обороны в юго-восточной её части. Генеральный штаб вооружённых сил Японии издал приказ о переносе линии обороны в Западную Новую Гвинею. Операция по захвату островов Адмиралтейства также показала, что Союзники становятся всё более амбициозными и могут обойти с фланга залив Ганза. Соответственно японская 18 армия в Новой Гвинее получила приказ подготовить к обороне Аитапе и Вевак.[119]
Напишите отзыв о статье "Сражения за острова Адмиралтейства"
Примечания
- ↑ 1 2 Frierson, 1990, p. 6-7.
- ↑ Morison, 1950, p. 432.
- ↑ Miller, 1959, p. 1-2.
- ↑ Miller, 1959, p. 5-6.
- ↑ Hayes, 1959, p. 312-334.
- ↑ Hayes, 1959, p. 425-430.
- ↑ Morison, Breaking the Bismarcks Barrier, с. 432.
- ↑ Hayes, The History of the Joint Chiefs of Staff in World War II: The War Against Japan, сс. 427—430.
- ↑ Mortensen, «Rabaul and Cape Gloucester», in Craven and Cate (eds), Guadalcanal to Saipan, сс. 350—356.
- ↑ Miller, Cartwheel: The Reduction of Rabaul, сс. 316—317. Из-за смены планов не все эти подразделения развёртывались бы.
- ↑ Reports of General MacArthur, Volume I, с. 137.
- ↑ Kenney, General Kenney Reports, с. 360.
- ↑ Morison, Breaking the Bismarcks Barrier, p. 435.
- ↑ Barbey, MacArthur’s Amphibious Navy, pp.145-151.
- ↑ Morison, Breaking the Bismarcks Barrier, pp. 436—437.
- ↑ Hirrel, Bismarck Archipelago, с. 14.
- ↑ Powell, The Third Force:ANGAU’s New Guinea War 1942-46, с. 82.
- ↑ Barbey, MacArthur’s Amphibious Navy, с. 152.
- ↑ Taafe, MacArthur’s Jungle War, с. 61.
- ↑ Hayashi, Kogun: The Japanese Army in the Pacific War, сс. 72-73.
- ↑ 1 2 Drea, MacArthur’s Ultra, с. 99
- ↑ Drea, MacArthur’s Ultra, c. 100
- ↑ Drea, MacArthur’s Ultra, с. 101
- ↑ Miller, Cartwheel: The Reduction of Rabaul, с. 319.
- ↑ Jersey, Hell’s Islands, сс. 360—361, 366—367. 1-й батальон 229-го пехотного полка, состоящий главным образом из солдат из префектуры Гифу, проходил службу на Гуадалканале с ноября 1942 года до эвакуации в Рабаул в феврале 1943 года. На Гуадалканале батальоном командовал майор Цугуто Томода, однако неизвестно, находился ли он с батальоном на островах Адмиралтейства.
- ↑ Drea, MacArthur’s Ultra, сс. 102—103
- ↑ Reports of General MacArthur, Volume II, часть I, сс. 244—245.
- ↑ Miller, Cartwheel: The Reduction of Rabaul, с. 320.
- ↑ Morison, Breaking the Bismarcks Barrier, с. 436.
- ↑ Hirrel, Bismarck Archipelago, сс. 14-15.
- ↑ 1 2 Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, с. 23.
- ↑ Friedman, US Amphibious ships and craft, с. 207.
- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, сс. 23-27.
- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, с. 28.
- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, с. 29.
- ↑ 1 2 Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, с. 31.
- ↑ Manchester, American Caesar, с. 341.
- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, сс. 31-32.
- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, с. 35.
- ↑ Futrell and Mortensen, «The Admiralties», in Craven and Cate (eds), Guadalcanal to Saipan, с. 565.
- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, с. 36.
- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, сс. 37-38.
- ↑ Morison, Breaking the Bismarcks Barrier, с. 440.
- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, сс. 39, 42.
- ↑ Futrell and Mortensen, «The Admiralties», in Craven and Cate (eds), Guadalcanal to Saipan, с. 566.
- ↑ 1 2 Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, сс. 39-41.
- ↑ Barbey, MacArthur’s Amphibious Navy, с. 156.
- ↑ 1 2 Gill, Royal Australian Navy 1942—1945, с. 374.
- ↑ Casey, Amphibian Engineer Operations, с. 232.
- ↑ Miller, Cartwheel: The Reduction of Rabaul, с. 336.
- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, сс. 52-57.
- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, с. 45.
- ↑ Gill, Royal Australian Navy 1942—1945, с. 375.
- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, сс. 45-46.
- ↑ 1 2 Dunlap, Roy F., Ordnance Went Up Front, с. 310.
- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, сс. 46-49.
- ↑ [www.history.army.mil/html/moh/wwII-m-s.html World War II Medal of Honor Citations]. United States Army Center of Military History. [www.webcitation.org/67BkoHz8o Архивировано из первоисточника 25 апреля 2012].
- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, с. 50.
- ↑ 1 2 Krueger, Walter, Report on Brewer Operation, 2 августа 1944, AWM54 519/1/12.
- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, сс. 50-51.
- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, сс. 58-60.
- ↑ Miller, Cartwheel: The Reduction of Rabaul, с. 338.
- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, сс. 61-63.
- ↑ 1 2 3 Powell, The Third Force, с. 84.
- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, сс. 63-64.
- ↑ Casey, Amphibian Engineer Operations, c. 238.
- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, c. 65.
- ↑ Casey, Amphibian Engineer Operations, сс. 236—237.
- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, с. 66.
- ↑ 1 2 Casey, Amphibian Engineer Operations, с. 237.
- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, с. 67.
- ↑ Gill, Royal Australian Navy 1942—1945, сс. 375—377.
- ↑ Futrell and Mortensen, «The Admiralties», in Craven and Cate (eds), Guadalcanal to Saipan, с. 568.
- ↑ Odgers, Air War Against Japan, сс. 175—177.
- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, сс. 76-79.
- ↑ 1 2 Casey, Amphibian Engineer Operations, с. 240.
- ↑ Bulkley, At Close Quarters, с. 228.
- ↑ Morison, Breaking the Bismarcks Barrier, с. 446.
- ↑ 1 2 Casey, Amphibian Engineer Operations, сс. 240—241.
- ↑ 1 2 Powell, The Third Force, с. 85.
- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, с. 80.
- ↑ 1 2 Gill, Royal Australian Navy 1942—1945, с. 378.
- ↑ Odgers, Air War Against Japan 1943—1945, сс. 174—175.
- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, сс. 81-82.
- ↑ 1 2 Casey, Amphibian Engineer Operations, с. 243.
- ↑ Futrell and Mortensen, «The Admiralties», in Craven and Cate (eds), Guadalcanal to Saipan, с. 569.
- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, сс. 82-103.
- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, cc. 103—116.
- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, сс. 132—133.
- ↑ Powell, The Third Force, с. 86.
- ↑ Casey, Amphibian Engineer Operations, с. 246.
- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, сс. 137—138.
- ↑ 1 2 Casey, Amphibian Engineer Operations, с. 247.
- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, с. 140.
- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, сс. 143—144.
- ↑ Miller, Cartwheel: The Reduction of Rabaul, с. 348.
- ↑ Frierson, The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, с. 133.
- ↑ Casey, Airfield and Base Development, сс. 209—210.
- ↑ James, The Years of MacArthur, Volume II, сс. 388—389.
- ↑ Hayes, The History of the Joint Chiefs of Staff in World War II: The War Against Japan, с. 564.
- ↑ Miller, Cartwheel: The Reduction of Rabaul
- ↑ Casey, Airfield and Base Development, с. 212.
- ↑ Casey, Airfield and Base Development, с. 213.
- ↑ Futrell, «Hollandia», in Craven and Cate (eds), Guadalcanal to Saipan, с. 604.
- ↑ 1 2 Casey, Airfield and Base Development, с. 216.
- ↑ Building the Navies Bases in World War II, с. 296.
- ↑ Building the Navies Bases in World War II, сс. 301—302.
- ↑ Casey, Airfield and Base Development, с. 220.
- ↑ Building the Navies Bases in World War II, сс. 296—299.
- ↑ Building the Navies Bases in World War II, сс. 296—301.
- ↑ Casey, Airfield and Base Development, с. 222.
- ↑ ANGAU History of Admiralty Islands Campaign, AWM54 80/6/6.
- ↑ Miller, MacArthur and the Admiralties, сс. 301—302.
- ↑ Morison, Breaking the Bismarcks Barrier, с. 448.
- ↑ 1 2 Barbey, MacArthur’s Amphibious Navy, с. 157.
- ↑ Chase, Front Line General, с. 59.
- ↑ James, The Years of MacArthur, Volume II, с. 387.
- ↑ Miller, MacArthur and the Admiralties, с. 302.
- ↑ Reports of General MacArthur, Volume II, part I, сс. 248—249.
Литература
- Barbey Daniel E. MacArthur's Amphibious Navy: Seventh Amphibious Force operations, 1943–1945. — Annapolis: United States Naval Institute, 1969.
- Bulkley Robert J. [www.ibiblio.org/hyperwar/USN/CloseQuarters/index.html At Close Quarters: PT Boats in the United States Navy]. — Annapolis: Naval Institute Press, 2003. — ISBN 1-59114-095-1.
- Airfield and Base Development. — United States Government Printing Office, 1951.
- Amphibian Engineer Operations. — United States Government Printing Office, 1959.
- Chase William C. Front Line General: The Commands of Maj. Gen. Wm. C. Chase. — Houston, Texas: Pacesetter Press, 1975. — ISBN 978-0-88415-295-8.
- [www.ibiblio.org/hyperwar/AAF/IV/index.html Vol. IV, The Pacific: Guadalcanal to Saipan, August 1942 to July 1944]. — University of Chicago Press, 1950.
- Dexter David. [www.awm.gov.au/histories/second_world_war/volume.asp?levelID=67908 The New Guinea Offensives]. — Canberra: Australian War Memorial, 1961.
- Drea Edward J. MacArthur's Ultra: Codebreaking and the War against Japan, 1942–1945. — Lawrence: University of Kansas Press, 1992. — ISBN 07000605762.
- Dunlap Roy F. Ordnance Went Up Front. — Plantersville, South Carolina: Samworth Press, 1948. — ISBN 1-884849-09-1.
- Friedman Norman. US Amphibious Ships and Craft: An Illustrated Design History. — Annapolis: United States Naval Institute, 2002. — ISBN 1-55750-250-1.
- Frierson Major William C. [www.history.army.mil/books/wwii/admiralties/admiralties-fm.htm The Admiralties: Operations of the 1st Cavalry Division, 29 February–18 May 1944]. — Washington, D.C.: United States Army Center of Military History, 1990. — ISBN 100-3.
- Futrell Frank. [www.airforcehistory.hq.af.mil/Publications/fulltext/aaf_wwii-v4.pdf Vol. IV, The Pacific—Guadalcanal to Saipan (August 1942 to July 1944)]. — University of Chicago Press, 1950. — P. 549–574. — ISBN 0-912799-03-X.
- Gill G. Hermon. [www.awm.gov.au/histories/second_world_war/volume.asp?levelID=67911 Royal Australian Navy, 1942–1945]. — Canberra: Australian War Memorial, 1968.
- Hayashi Saburō. Kogun: The Japanese Army in the Pacific War. — Quantico, Virginia: Marine Corps Association, 1959. — ISBN ASIN B000ID3YRK.
- Hayes Grace P. The History of the Joint Chiefs of Staff in World War II: The War Against Japan. — Annapolis: United States Naval Institute, 1982. — ISBN 0-87021-269-9.
- Hirrel Leo. [www.history.army.mil/brochures/bismarck/bismarck.htm Bismarck Archipelago 15 December 1943–27 November 1944]. — Washington, D.C.: United States Army Center of Military History, 1993. — ISBN CMH Pub 72-24978-0-16-042089-4.
- James D. Clayton. The Years of MacArthur, Volume II: 1942–1945. — Boston: Houghton Mifflin, 1975. — ISBN 0-395-20446-1.
- Jersey Stanley Coleman. Hell's Islands: The Untold Story of Guadalcanal. — College Station, Texas: Texas A&M University Press, 2008. — ISBN 1-58544-616-5.
- Kenney George C. [www.airforcehistory.hq.af.mil/Publications/fulltext/gen_kenney_reports.pdf General Kenney Reports: A Personal History of the Pacific War]. — New York City: Duell, Sloan and Pearce, 1949. — ISBN 0-912799-44-7.
- Krueger Walter. From Down Under to Nippon: the Story of the 6th Army In World War II. — Lawrence, Kansas: Zenger Pub, 1953. — ISBN 0-89839-125-3.
- Manchester William. American Caesar. — Richmond, Victoria: Hutchinson Group, 1978. — ISBN 0-09-136500-7.
- Miller John, Jr. [www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-P-Rabaul/index.html Cartwheel: The Reduction of Rabaul]. — Office of the Chief of Military History, U.S. Department of the Army, 1959.
- Miller John, Jr. [www.history.army.mil/books/70-7_11.htm 11. MacArthur and the Admiralties] // [www.history.army.mil/books/70-7_0.htm Command Decisions]. — Washington, D.C.: United States Army Center of Military History, 1990. — ISBN CMH Pub 70-7.
- Morison Samuel Eliot. Breaking the Bismarcks Barrier: 22 July 1942–1 May 1944. — Boston: Little, Brown and Company, 1950. — ISBN 0-7858-1307-1.
- Odgers George. [www.awm.gov.au/histories/second_world_war/volume.asp?levelID=67913 Air War Against Japan 1943–1945]. — Canberra: Australian War Memorial, 1968.
- Powell Alan. The Third Force:ANGAU's New Guinea War. — South Melbourne, Victoria: Oxford University Press, 2003. — ISBN 0-19-551639-7.
- Taafe Stephen R. MacArthur's Jungle War: The 1944 New Guinea Campaign. — Lawrence, Kansas: University Press of Kansas, 1998. — ISBN 0-7006-0870-2.
- Willoughby Charles Andrew. [www.history.army.mil/books/wwii/MacArthur%20Reports/MacArthur%20V1/index.htm The Campaigns of MacArthur in the Pacific, Volume I]. — Washington, D.C.: United States Army Center of Military History, 1966.
- Willoughby Charles Andrew. [www.history.army.mil/books/wwii/MacArthur%20Reports/MacArthur%20V2%20P1/macarthurv2.htm#contents Japanese Operations in the Southwest Pacific Area, Volume II – Part I]. — United States Army Center of Military History, 1966.
| Статья содержит короткие («гарвардские») ссылки на публикации, не указанные или неправильно описанные в библиографическом разделе. Список неработающих ссылок: Hayes, 1959 Пожалуйста, исправьте ссылки согласно инструкции к шаблону {{sfn}} и дополните библиографический раздел корректными описаниями цитируемых публикаций, следуя руководствам ВП:Сноски и ВП:Ссылки на источники.
|
Отрывок, характеризующий Сражения за острова Адмиралтейства
– Не смотрите на меня. Мама, не смотрите, я сейчас заплачу.– Садись, посиди со мной, – сказала графиня.
– Мама, мне его надо. За что я так пропадаю, мама?… – Голос ее оборвался, слезы брызнули из глаз, и она, чтобы скрыть их, быстро повернулась и вышла из комнаты. Она вышла в диванную, постояла, подумала и пошла в девичью. Там старая горничная ворчала на молодую девушку, запыхавшуюся, с холода прибежавшую с дворни.
– Будет играть то, – говорила старуха. – На всё время есть.
– Пусти ее, Кондратьевна, – сказала Наташа. – Иди, Мавруша, иди.
И отпустив Маврушу, Наташа через залу пошла в переднюю. Старик и два молодые лакея играли в карты. Они прервали игру и встали при входе барышни. «Что бы мне с ними сделать?» подумала Наташа. – Да, Никита, сходи пожалуста… куда бы мне его послать? – Да, сходи на дворню и принеси пожалуста петуха; да, а ты, Миша, принеси овса.
– Немного овса прикажете? – весело и охотно сказал Миша.
– Иди, иди скорее, – подтвердил старик.
– Федор, а ты мелу мне достань.
Проходя мимо буфета, она велела подавать самовар, хотя это было вовсе не время.
Буфетчик Фока был самый сердитый человек из всего дома. Наташа над ним любила пробовать свою власть. Он не поверил ей и пошел спросить, правда ли?
– Уж эта барышня! – сказал Фока, притворно хмурясь на Наташу.
Никто в доме не рассылал столько людей и не давал им столько работы, как Наташа. Она не могла равнодушно видеть людей, чтобы не послать их куда нибудь. Она как будто пробовала, не рассердится ли, не надуется ли на нее кто из них, но ничьих приказаний люди не любили так исполнять, как Наташиных. «Что бы мне сделать? Куда бы мне пойти?» думала Наташа, медленно идя по коридору.
– Настасья Ивановна, что от меня родится? – спросила она шута, который в своей куцавейке шел навстречу ей.
– От тебя блохи, стрекозы, кузнецы, – отвечал шут.
– Боже мой, Боже мой, всё одно и то же. Ах, куда бы мне деваться? Что бы мне с собой сделать? – И она быстро, застучав ногами, побежала по лестнице к Фогелю, который с женой жил в верхнем этаже. У Фогеля сидели две гувернантки, на столе стояли тарелки с изюмом, грецкими и миндальными орехами. Гувернантки разговаривали о том, где дешевле жить, в Москве или в Одессе. Наташа присела, послушала их разговор с серьезным задумчивым лицом и встала. – Остров Мадагаскар, – проговорила она. – Ма да гас кар, – повторила она отчетливо каждый слог и не отвечая на вопросы m me Schoss о том, что она говорит, вышла из комнаты. Петя, брат ее, был тоже наверху: он с своим дядькой устраивал фейерверк, который намеревался пустить ночью. – Петя! Петька! – закричала она ему, – вези меня вниз. с – Петя подбежал к ней и подставил спину. Она вскочила на него, обхватив его шею руками и он подпрыгивая побежал с ней. – Нет не надо – остров Мадагаскар, – проговорила она и, соскочив с него, пошла вниз.
Как будто обойдя свое царство, испытав свою власть и убедившись, что все покорны, но что всё таки скучно, Наташа пошла в залу, взяла гитару, села в темный угол за шкапчик и стала в басу перебирать струны, выделывая фразу, которую она запомнила из одной оперы, слышанной в Петербурге вместе с князем Андреем. Для посторонних слушателей у ней на гитаре выходило что то, не имевшее никакого смысла, но в ее воображении из за этих звуков воскресал целый ряд воспоминаний. Она сидела за шкапчиком, устремив глаза на полосу света, падавшую из буфетной двери, слушала себя и вспоминала. Она находилась в состоянии воспоминания.
Соня прошла в буфет с рюмкой через залу. Наташа взглянула на нее, на щель в буфетной двери и ей показалось, что она вспоминает то, что из буфетной двери в щель падал свет и что Соня прошла с рюмкой. «Да и это было точь в точь также», подумала Наташа. – Соня, что это? – крикнула Наташа, перебирая пальцами на толстой струне.
– Ах, ты тут! – вздрогнув, сказала Соня, подошла и прислушалась. – Не знаю. Буря? – сказала она робко, боясь ошибиться.
«Ну вот точно так же она вздрогнула, точно так же подошла и робко улыбнулась тогда, когда это уж было», подумала Наташа, «и точно так же… я подумала, что в ней чего то недостает».
– Нет, это хор из Водоноса, слышишь! – И Наташа допела мотив хора, чтобы дать его понять Соне.
– Ты куда ходила? – спросила Наташа.
– Воду в рюмке переменить. Я сейчас дорисую узор.
– Ты всегда занята, а я вот не умею, – сказала Наташа. – А Николай где?
– Спит, кажется.
– Соня, ты поди разбуди его, – сказала Наташа. – Скажи, что я его зову петь. – Она посидела, подумала о том, что это значит, что всё это было, и, не разрешив этого вопроса и нисколько не сожалея о том, опять в воображении своем перенеслась к тому времени, когда она была с ним вместе, и он влюбленными глазами смотрел на нее.
«Ах, поскорее бы он приехал. Я так боюсь, что этого не будет! А главное: я стареюсь, вот что! Уже не будет того, что теперь есть во мне. А может быть, он нынче приедет, сейчас приедет. Может быть приехал и сидит там в гостиной. Может быть, он вчера еще приехал и я забыла». Она встала, положила гитару и пошла в гостиную. Все домашние, учителя, гувернантки и гости сидели уж за чайным столом. Люди стояли вокруг стола, – а князя Андрея не было, и была всё прежняя жизнь.
– А, вот она, – сказал Илья Андреич, увидав вошедшую Наташу. – Ну, садись ко мне. – Но Наташа остановилась подле матери, оглядываясь кругом, как будто она искала чего то.
– Мама! – проговорила она. – Дайте мне его , дайте, мама, скорее, скорее, – и опять она с трудом удержала рыдания.
Она присела к столу и послушала разговоры старших и Николая, который тоже пришел к столу. «Боже мой, Боже мой, те же лица, те же разговоры, так же папа держит чашку и дует точно так же!» думала Наташа, с ужасом чувствуя отвращение, подымавшееся в ней против всех домашних за то, что они были всё те же.
После чая Николай, Соня и Наташа пошли в диванную, в свой любимый угол, в котором всегда начинались их самые задушевные разговоры.
– Бывает с тобой, – сказала Наташа брату, когда они уселись в диванной, – бывает с тобой, что тебе кажется, что ничего не будет – ничего; что всё, что хорошее, то было? И не то что скучно, а грустно?
– Еще как! – сказал он. – У меня бывало, что всё хорошо, все веселы, а мне придет в голову, что всё это уж надоело и что умирать всем надо. Я раз в полку не пошел на гулянье, а там играла музыка… и так мне вдруг скучно стало…
– Ах, я это знаю. Знаю, знаю, – подхватила Наташа. – Я еще маленькая была, так со мной это бывало. Помнишь, раз меня за сливы наказали и вы все танцовали, а я сидела в классной и рыдала, никогда не забуду: мне и грустно было и жалко было всех, и себя, и всех всех жалко. И, главное, я не виновата была, – сказала Наташа, – ты помнишь?
– Помню, – сказал Николай. – Я помню, что я к тебе пришел потом и мне хотелось тебя утешить и, знаешь, совестно было. Ужасно мы смешные были. У меня тогда была игрушка болванчик и я его тебе отдать хотел. Ты помнишь?
– А помнишь ты, – сказала Наташа с задумчивой улыбкой, как давно, давно, мы еще совсем маленькие были, дяденька нас позвал в кабинет, еще в старом доме, а темно было – мы это пришли и вдруг там стоит…
– Арап, – докончил Николай с радостной улыбкой, – как же не помнить? Я и теперь не знаю, что это был арап, или мы во сне видели, или нам рассказывали.
– Он серый был, помнишь, и белые зубы – стоит и смотрит на нас…
– Вы помните, Соня? – спросил Николай…
– Да, да я тоже помню что то, – робко отвечала Соня…
– Я ведь спрашивала про этого арапа у папа и у мама, – сказала Наташа. – Они говорят, что никакого арапа не было. А ведь вот ты помнишь!
– Как же, как теперь помню его зубы.
– Как это странно, точно во сне было. Я это люблю.
– А помнишь, как мы катали яйца в зале и вдруг две старухи, и стали по ковру вертеться. Это было, или нет? Помнишь, как хорошо было?
– Да. А помнишь, как папенька в синей шубе на крыльце выстрелил из ружья. – Они перебирали улыбаясь с наслаждением воспоминания, не грустного старческого, а поэтического юношеского воспоминания, те впечатления из самого дальнего прошедшего, где сновидение сливается с действительностью, и тихо смеялись, радуясь чему то.
Соня, как и всегда, отстала от них, хотя воспоминания их были общие.
Соня не помнила многого из того, что они вспоминали, а и то, что она помнила, не возбуждало в ней того поэтического чувства, которое они испытывали. Она только наслаждалась их радостью, стараясь подделаться под нее.
Она приняла участие только в том, когда они вспоминали первый приезд Сони. Соня рассказала, как она боялась Николая, потому что у него на курточке были снурки, и ей няня сказала, что и ее в снурки зашьют.
– А я помню: мне сказали, что ты под капустою родилась, – сказала Наташа, – и помню, что я тогда не смела не поверить, но знала, что это не правда, и так мне неловко было.
Во время этого разговора из задней двери диванной высунулась голова горничной. – Барышня, петуха принесли, – шопотом сказала девушка.
– Не надо, Поля, вели отнести, – сказала Наташа.
В середине разговоров, шедших в диванной, Диммлер вошел в комнату и подошел к арфе, стоявшей в углу. Он снял сукно, и арфа издала фальшивый звук.
– Эдуард Карлыч, сыграйте пожалуста мой любимый Nocturiene мосье Фильда, – сказал голос старой графини из гостиной.
Диммлер взял аккорд и, обратясь к Наташе, Николаю и Соне, сказал: – Молодежь, как смирно сидит!
– Да мы философствуем, – сказала Наташа, на минуту оглянувшись, и продолжала разговор. Разговор шел теперь о сновидениях.
Диммлер начал играть. Наташа неслышно, на цыпочках, подошла к столу, взяла свечу, вынесла ее и, вернувшись, тихо села на свое место. В комнате, особенно на диване, на котором они сидели, было темно, но в большие окна падал на пол серебряный свет полного месяца.
– Знаешь, я думаю, – сказала Наташа шопотом, придвигаясь к Николаю и Соне, когда уже Диммлер кончил и всё сидел, слабо перебирая струны, видимо в нерешительности оставить, или начать что нибудь новое, – что когда так вспоминаешь, вспоминаешь, всё вспоминаешь, до того довоспоминаешься, что помнишь то, что было еще прежде, чем я была на свете…
– Это метампсикова, – сказала Соня, которая всегда хорошо училась и все помнила. – Египтяне верили, что наши души были в животных и опять пойдут в животных.
– Нет, знаешь, я не верю этому, чтобы мы были в животных, – сказала Наташа тем же шопотом, хотя музыка и кончилась, – а я знаю наверное, что мы были ангелами там где то и здесь были, и от этого всё помним…
– Можно мне присоединиться к вам? – сказал тихо подошедший Диммлер и подсел к ним.
– Ежели бы мы были ангелами, так за что же мы попали ниже? – сказал Николай. – Нет, это не может быть!
– Не ниже, кто тебе сказал, что ниже?… Почему я знаю, чем я была прежде, – с убеждением возразила Наташа. – Ведь душа бессмертна… стало быть, ежели я буду жить всегда, так я и прежде жила, целую вечность жила.
– Да, но трудно нам представить вечность, – сказал Диммлер, который подошел к молодым людям с кроткой презрительной улыбкой, но теперь говорил так же тихо и серьезно, как и они.
– Отчего же трудно представить вечность? – сказала Наташа. – Нынче будет, завтра будет, всегда будет и вчера было и третьего дня было…
– Наташа! теперь твой черед. Спой мне что нибудь, – послышался голос графини. – Что вы уселись, точно заговорщики.
– Мама! мне так не хочется, – сказала Наташа, но вместе с тем встала.
Всем им, даже и немолодому Диммлеру, не хотелось прерывать разговор и уходить из уголка диванного, но Наташа встала, и Николай сел за клавикорды. Как всегда, став на средину залы и выбрав выгоднейшее место для резонанса, Наташа начала петь любимую пьесу своей матери.
Она сказала, что ей не хотелось петь, но она давно прежде, и долго после не пела так, как она пела в этот вечер. Граф Илья Андреич из кабинета, где он беседовал с Митинькой, слышал ее пенье, и как ученик, торопящийся итти играть, доканчивая урок, путался в словах, отдавая приказания управляющему и наконец замолчал, и Митинька, тоже слушая, молча с улыбкой, стоял перед графом. Николай не спускал глаз с сестры, и вместе с нею переводил дыхание. Соня, слушая, думала о том, какая громадная разница была между ей и ее другом и как невозможно было ей хоть на сколько нибудь быть столь обворожительной, как ее кузина. Старая графиня сидела с счастливо грустной улыбкой и слезами на глазах, изредка покачивая головой. Она думала и о Наташе, и о своей молодости, и о том, как что то неестественное и страшное есть в этом предстоящем браке Наташи с князем Андреем.
Диммлер, подсев к графине и закрыв глаза, слушал.
– Нет, графиня, – сказал он наконец, – это талант европейский, ей учиться нечего, этой мягкости, нежности, силы…
– Ах! как я боюсь за нее, как я боюсь, – сказала графиня, не помня, с кем она говорит. Ее материнское чутье говорило ей, что чего то слишком много в Наташе, и что от этого она не будет счастлива. Наташа не кончила еще петь, как в комнату вбежал восторженный четырнадцатилетний Петя с известием, что пришли ряженые.
Наташа вдруг остановилась.
– Дурак! – закричала она на брата, подбежала к стулу, упала на него и зарыдала так, что долго потом не могла остановиться.
– Ничего, маменька, право ничего, так: Петя испугал меня, – говорила она, стараясь улыбаться, но слезы всё текли и всхлипывания сдавливали горло.
Наряженные дворовые, медведи, турки, трактирщики, барыни, страшные и смешные, принеся с собою холод и веселье, сначала робко жались в передней; потом, прячась один за другого, вытеснялись в залу; и сначала застенчиво, а потом всё веселее и дружнее начались песни, пляски, хоровые и святочные игры. Графиня, узнав лица и посмеявшись на наряженных, ушла в гостиную. Граф Илья Андреич с сияющей улыбкой сидел в зале, одобряя играющих. Молодежь исчезла куда то.
Через полчаса в зале между другими ряжеными появилась еще старая барыня в фижмах – это был Николай. Турчанка был Петя. Паяс – это был Диммлер, гусар – Наташа и черкес – Соня, с нарисованными пробочными усами и бровями.
После снисходительного удивления, неузнавания и похвал со стороны не наряженных, молодые люди нашли, что костюмы так хороши, что надо было их показать еще кому нибудь.
Николай, которому хотелось по отличной дороге прокатить всех на своей тройке, предложил, взяв с собой из дворовых человек десять наряженных, ехать к дядюшке.
– Нет, ну что вы его, старика, расстроите! – сказала графиня, – да и негде повернуться у него. Уж ехать, так к Мелюковым.
Мелюкова была вдова с детьми разнообразного возраста, также с гувернантками и гувернерами, жившая в четырех верстах от Ростовых.
– Вот, ma chere, умно, – подхватил расшевелившийся старый граф. – Давай сейчас наряжусь и поеду с вами. Уж я Пашету расшевелю.
Но графиня не согласилась отпустить графа: у него все эти дни болела нога. Решили, что Илье Андреевичу ехать нельзя, а что ежели Луиза Ивановна (m me Schoss) поедет, то барышням можно ехать к Мелюковой. Соня, всегда робкая и застенчивая, настоятельнее всех стала упрашивать Луизу Ивановну не отказать им.
Наряд Сони был лучше всех. Ее усы и брови необыкновенно шли к ней. Все говорили ей, что она очень хороша, и она находилась в несвойственном ей оживленно энергическом настроении. Какой то внутренний голос говорил ей, что нынче или никогда решится ее судьба, и она в своем мужском платье казалась совсем другим человеком. Луиза Ивановна согласилась, и через полчаса четыре тройки с колокольчиками и бубенчиками, визжа и свистя подрезами по морозному снегу, подъехали к крыльцу.
Наташа первая дала тон святочного веселья, и это веселье, отражаясь от одного к другому, всё более и более усиливалось и дошло до высшей степени в то время, когда все вышли на мороз, и переговариваясь, перекликаясь, смеясь и крича, расселись в сани.
Две тройки были разгонные, третья тройка старого графа с орловским рысаком в корню; четвертая собственная Николая с его низеньким, вороным, косматым коренником. Николай в своем старушечьем наряде, на который он надел гусарский, подпоясанный плащ, стоял в середине своих саней, подобрав вожжи.
Было так светло, что он видел отблескивающие на месячном свете бляхи и глаза лошадей, испуганно оглядывавшихся на седоков, шумевших под темным навесом подъезда.
В сани Николая сели Наташа, Соня, m me Schoss и две девушки. В сани старого графа сели Диммлер с женой и Петя; в остальные расселись наряженные дворовые.
– Пошел вперед, Захар! – крикнул Николай кучеру отца, чтобы иметь случай перегнать его на дороге.
Тройка старого графа, в которую сел Диммлер и другие ряженые, визжа полозьями, как будто примерзая к снегу, и побрякивая густым колокольцом, тронулась вперед. Пристяжные жались на оглобли и увязали, выворачивая как сахар крепкий и блестящий снег.
Николай тронулся за первой тройкой; сзади зашумели и завизжали остальные. Сначала ехали маленькой рысью по узкой дороге. Пока ехали мимо сада, тени от оголенных деревьев ложились часто поперек дороги и скрывали яркий свет луны, но как только выехали за ограду, алмазно блестящая, с сизым отблеском, снежная равнина, вся облитая месячным сиянием и неподвижная, открылась со всех сторон. Раз, раз, толконул ухаб в передних санях; точно так же толконуло следующие сани и следующие и, дерзко нарушая закованную тишину, одни за другими стали растягиваться сани.
– След заячий, много следов! – прозвучал в морозном скованном воздухе голос Наташи.
– Как видно, Nicolas! – сказал голос Сони. – Николай оглянулся на Соню и пригнулся, чтоб ближе рассмотреть ее лицо. Какое то совсем новое, милое, лицо, с черными бровями и усами, в лунном свете, близко и далеко, выглядывало из соболей.
«Это прежде была Соня», подумал Николай. Он ближе вгляделся в нее и улыбнулся.
– Вы что, Nicolas?
– Ничего, – сказал он и повернулся опять к лошадям.
Выехав на торную, большую дорогу, примасленную полозьями и всю иссеченную следами шипов, видными в свете месяца, лошади сами собой стали натягивать вожжи и прибавлять ходу. Левая пристяжная, загнув голову, прыжками подергивала свои постромки. Коренной раскачивался, поводя ушами, как будто спрашивая: «начинать или рано еще?» – Впереди, уже далеко отделившись и звеня удаляющимся густым колокольцом, ясно виднелась на белом снегу черная тройка Захара. Слышны были из его саней покрикиванье и хохот и голоса наряженных.
– Ну ли вы, разлюбезные, – крикнул Николай, с одной стороны подергивая вожжу и отводя с кнутом pуку. И только по усилившемуся как будто на встречу ветру, и по подергиванью натягивающих и всё прибавляющих скоку пристяжных, заметно было, как шибко полетела тройка. Николай оглянулся назад. С криком и визгом, махая кнутами и заставляя скакать коренных, поспевали другие тройки. Коренной стойко поколыхивался под дугой, не думая сбивать и обещая еще и еще наддать, когда понадобится.
Николай догнал первую тройку. Они съехали с какой то горы, выехали на широко разъезженную дорогу по лугу около реки.
«Где это мы едем?» подумал Николай. – «По косому лугу должно быть. Но нет, это что то новое, чего я никогда не видал. Это не косой луг и не Дёмкина гора, а это Бог знает что такое! Это что то новое и волшебное. Ну, что бы там ни было!» И он, крикнув на лошадей, стал объезжать первую тройку.
Захар сдержал лошадей и обернул свое уже объиндевевшее до бровей лицо.
Николай пустил своих лошадей; Захар, вытянув вперед руки, чмокнул и пустил своих.
– Ну держись, барин, – проговорил он. – Еще быстрее рядом полетели тройки, и быстро переменялись ноги скачущих лошадей. Николай стал забирать вперед. Захар, не переменяя положения вытянутых рук, приподнял одну руку с вожжами.
– Врешь, барин, – прокричал он Николаю. Николай в скок пустил всех лошадей и перегнал Захара. Лошади засыпали мелким, сухим снегом лица седоков, рядом с ними звучали частые переборы и путались быстро движущиеся ноги, и тени перегоняемой тройки. Свист полозьев по снегу и женские взвизги слышались с разных сторон.
Опять остановив лошадей, Николай оглянулся кругом себя. Кругом была всё та же пропитанная насквозь лунным светом волшебная равнина с рассыпанными по ней звездами.
«Захар кричит, чтобы я взял налево; а зачем налево? думал Николай. Разве мы к Мелюковым едем, разве это Мелюковка? Мы Бог знает где едем, и Бог знает, что с нами делается – и очень странно и хорошо то, что с нами делается». Он оглянулся в сани.
– Посмотри, у него и усы и ресницы, всё белое, – сказал один из сидевших странных, хорошеньких и чужих людей с тонкими усами и бровями.
«Этот, кажется, была Наташа, подумал Николай, а эта m me Schoss; а может быть и нет, а это черкес с усами не знаю кто, но я люблю ее».
– Не холодно ли вам? – спросил он. Они не отвечали и засмеялись. Диммлер из задних саней что то кричал, вероятно смешное, но нельзя было расслышать, что он кричал.
– Да, да, – смеясь отвечали голоса.
– Однако вот какой то волшебный лес с переливающимися черными тенями и блестками алмазов и с какой то анфиладой мраморных ступеней, и какие то серебряные крыши волшебных зданий, и пронзительный визг каких то зверей. «А ежели и в самом деле это Мелюковка, то еще страннее то, что мы ехали Бог знает где, и приехали в Мелюковку», думал Николай.
Действительно это была Мелюковка, и на подъезд выбежали девки и лакеи со свечами и радостными лицами.
– Кто такой? – спрашивали с подъезда.
– Графские наряженные, по лошадям вижу, – отвечали голоса.
Пелагея Даниловна Мелюкова, широкая, энергическая женщина, в очках и распашном капоте, сидела в гостиной, окруженная дочерьми, которым она старалась не дать скучать. Они тихо лили воск и смотрели на тени выходивших фигур, когда зашумели в передней шаги и голоса приезжих.
Гусары, барыни, ведьмы, паясы, медведи, прокашливаясь и обтирая заиндевевшие от мороза лица в передней, вошли в залу, где поспешно зажигали свечи. Паяц – Диммлер с барыней – Николаем открыли пляску. Окруженные кричавшими детьми, ряженые, закрывая лица и меняя голоса, раскланивались перед хозяйкой и расстанавливались по комнате.
– Ах, узнать нельзя! А Наташа то! Посмотрите, на кого она похожа! Право, напоминает кого то. Эдуард то Карлыч как хорош! Я не узнала. Да как танцует! Ах, батюшки, и черкес какой то; право, как идет Сонюшке. Это еще кто? Ну, утешили! Столы то примите, Никита, Ваня. А мы так тихо сидели!
– Ха ха ха!… Гусар то, гусар то! Точно мальчик, и ноги!… Я видеть не могу… – слышались голоса.
Наташа, любимица молодых Мелюковых, с ними вместе исчезла в задние комнаты, куда была потребована пробка и разные халаты и мужские платья, которые в растворенную дверь принимали от лакея оголенные девичьи руки. Через десять минут вся молодежь семейства Мелюковых присоединилась к ряженым.
Пелагея Даниловна, распорядившись очисткой места для гостей и угощениями для господ и дворовых, не снимая очков, с сдерживаемой улыбкой, ходила между ряжеными, близко глядя им в лица и никого не узнавая. Она не узнавала не только Ростовых и Диммлера, но и никак не могла узнать ни своих дочерей, ни тех мужниных халатов и мундиров, которые были на них.
– А это чья такая? – говорила она, обращаясь к своей гувернантке и глядя в лицо своей дочери, представлявшей казанского татарина. – Кажется, из Ростовых кто то. Ну и вы, господин гусар, в каком полку служите? – спрашивала она Наташу. – Турке то, турке пастилы подай, – говорила она обносившему буфетчику: – это их законом не запрещено.
Иногда, глядя на странные, но смешные па, которые выделывали танцующие, решившие раз навсегда, что они наряженные, что никто их не узнает и потому не конфузившиеся, – Пелагея Даниловна закрывалась платком, и всё тучное тело ее тряслось от неудержимого доброго, старушечьего смеха. – Сашинет то моя, Сашинет то! – говорила она.
После русских плясок и хороводов Пелагея Даниловна соединила всех дворовых и господ вместе, в один большой круг; принесли кольцо, веревочку и рублик, и устроились общие игры.
Через час все костюмы измялись и расстроились. Пробочные усы и брови размазались по вспотевшим, разгоревшимся и веселым лицам. Пелагея Даниловна стала узнавать ряженых, восхищалась тем, как хорошо были сделаны костюмы, как шли они особенно к барышням, и благодарила всех за то, что так повеселили ее. Гостей позвали ужинать в гостиную, а в зале распорядились угощением дворовых.
– Нет, в бане гадать, вот это страшно! – говорила за ужином старая девушка, жившая у Мелюковых.
– Отчего же? – спросила старшая дочь Мелюковых.
– Да не пойдете, тут надо храбрость…
– Я пойду, – сказала Соня.
– Расскажите, как это было с барышней? – сказала вторая Мелюкова.
– Да вот так то, пошла одна барышня, – сказала старая девушка, – взяла петуха, два прибора – как следует, села. Посидела, только слышит, вдруг едет… с колокольцами, с бубенцами подъехали сани; слышит, идет. Входит совсем в образе человеческом, как есть офицер, пришел и сел с ней за прибор.
– А! А!… – закричала Наташа, с ужасом выкатывая глаза.
– Да как же, он так и говорит?
– Да, как человек, всё как должно быть, и стал, и стал уговаривать, а ей бы надо занять его разговором до петухов; а она заробела; – только заробела и закрылась руками. Он ее и подхватил. Хорошо, что тут девушки прибежали…
– Ну, что пугать их! – сказала Пелагея Даниловна.
– Мамаша, ведь вы сами гадали… – сказала дочь.
– А как это в амбаре гадают? – спросила Соня.
– Да вот хоть бы теперь, пойдут к амбару, да и слушают. Что услышите: заколачивает, стучит – дурно, а пересыпает хлеб – это к добру; а то бывает…
– Мама расскажите, что с вами было в амбаре?
Пелагея Даниловна улыбнулась.
– Да что, я уж забыла… – сказала она. – Ведь вы никто не пойдете?
– Нет, я пойду; Пепагея Даниловна, пустите меня, я пойду, – сказала Соня.
– Ну что ж, коли не боишься.
– Луиза Ивановна, можно мне? – спросила Соня.
Играли ли в колечко, в веревочку или рублик, разговаривали ли, как теперь, Николай не отходил от Сони и совсем новыми глазами смотрел на нее. Ему казалось, что он нынче только в первый раз, благодаря этим пробочным усам, вполне узнал ее. Соня действительно этот вечер была весела, оживлена и хороша, какой никогда еще не видал ее Николай.
«Так вот она какая, а я то дурак!» думал он, глядя на ее блестящие глаза и счастливую, восторженную, из под усов делающую ямочки на щеках, улыбку, которой он не видал прежде.
– Я ничего не боюсь, – сказала Соня. – Можно сейчас? – Она встала. Соне рассказали, где амбар, как ей молча стоять и слушать, и подали ей шубку. Она накинула ее себе на голову и взглянула на Николая.
«Что за прелесть эта девочка!» подумал он. «И об чем я думал до сих пор!»
Соня вышла в коридор, чтобы итти в амбар. Николай поспешно пошел на парадное крыльцо, говоря, что ему жарко. Действительно в доме было душно от столпившегося народа.
На дворе был тот же неподвижный холод, тот же месяц, только было еще светлее. Свет был так силен и звезд на снеге было так много, что на небо не хотелось смотреть, и настоящих звезд было незаметно. На небе было черно и скучно, на земле было весело.
«Дурак я, дурак! Чего ждал до сих пор?» подумал Николай и, сбежав на крыльцо, он обошел угол дома по той тропинке, которая вела к заднему крыльцу. Он знал, что здесь пойдет Соня. На половине дороги стояли сложенные сажени дров, на них был снег, от них падала тень; через них и с боку их, переплетаясь, падали тени старых голых лип на снег и дорожку. Дорожка вела к амбару. Рубленная стена амбара и крыша, покрытая снегом, как высеченная из какого то драгоценного камня, блестели в месячном свете. В саду треснуло дерево, и опять всё совершенно затихло. Грудь, казалось, дышала не воздухом, а какой то вечно молодой силой и радостью.
С девичьего крыльца застучали ноги по ступенькам, скрыпнуло звонко на последней, на которую был нанесен снег, и голос старой девушки сказал:
– Прямо, прямо, вот по дорожке, барышня. Только не оглядываться.
– Я не боюсь, – отвечал голос Сони, и по дорожке, по направлению к Николаю, завизжали, засвистели в тоненьких башмачках ножки Сони.
Соня шла закутавшись в шубку. Она была уже в двух шагах, когда увидала его; она увидала его тоже не таким, каким она знала и какого всегда немножко боялась. Он был в женском платье со спутанными волосами и с счастливой и новой для Сони улыбкой. Соня быстро подбежала к нему.
«Совсем другая, и всё та же», думал Николай, глядя на ее лицо, всё освещенное лунным светом. Он продел руки под шубку, прикрывавшую ее голову, обнял, прижал к себе и поцеловал в губы, над которыми были усы и от которых пахло жженой пробкой. Соня в самую середину губ поцеловала его и, выпростав маленькие руки, с обеих сторон взяла его за щеки.
– Соня!… Nicolas!… – только сказали они. Они подбежали к амбару и вернулись назад каждый с своего крыльца.
Когда все поехали назад от Пелагеи Даниловны, Наташа, всегда всё видевшая и замечавшая, устроила так размещение, что Луиза Ивановна и она сели в сани с Диммлером, а Соня села с Николаем и девушками.
Николай, уже не перегоняясь, ровно ехал в обратный путь, и всё вглядываясь в этом странном, лунном свете в Соню, отыскивал при этом всё переменяющем свете, из под бровей и усов свою ту прежнюю и теперешнюю Соню, с которой он решил уже никогда не разлучаться. Он вглядывался, и когда узнавал всё ту же и другую и вспоминал, слышав этот запах пробки, смешанный с чувством поцелуя, он полной грудью вдыхал в себя морозный воздух и, глядя на уходящую землю и блестящее небо, он чувствовал себя опять в волшебном царстве.
– Соня, тебе хорошо? – изредка спрашивал он.
– Да, – отвечала Соня. – А тебе ?
На середине дороги Николай дал подержать лошадей кучеру, на минутку подбежал к саням Наташи и стал на отвод.
– Наташа, – сказал он ей шопотом по французски, – знаешь, я решился насчет Сони.
– Ты ей сказал? – спросила Наташа, вся вдруг просияв от радости.
– Ах, какая ты странная с этими усами и бровями, Наташа! Ты рада?
– Я так рада, так рада! Я уж сердилась на тебя. Я тебе не говорила, но ты дурно с ней поступал. Это такое сердце, Nicolas. Как я рада! Я бываю гадкая, но мне совестно было быть одной счастливой без Сони, – продолжала Наташа. – Теперь я так рада, ну, беги к ней.
– Нет, постой, ах какая ты смешная! – сказал Николай, всё всматриваясь в нее, и в сестре тоже находя что то новое, необыкновенное и обворожительно нежное, чего он прежде не видал в ней. – Наташа, что то волшебное. А?
– Да, – отвечала она, – ты прекрасно сделал.
«Если б я прежде видел ее такою, какою она теперь, – думал Николай, – я бы давно спросил, что сделать и сделал бы всё, что бы она ни велела, и всё бы было хорошо».
– Так ты рада, и я хорошо сделал?
– Ах, так хорошо! Я недавно с мамашей поссорилась за это. Мама сказала, что она тебя ловит. Как это можно говорить? Я с мама чуть не побранилась. И никому никогда не позволю ничего дурного про нее сказать и подумать, потому что в ней одно хорошее.
– Так хорошо? – сказал Николай, еще раз высматривая выражение лица сестры, чтобы узнать, правда ли это, и, скрыпя сапогами, он соскочил с отвода и побежал к своим саням. Всё тот же счастливый, улыбающийся черкес, с усиками и блестящими глазами, смотревший из под собольего капора, сидел там, и этот черкес был Соня, и эта Соня была наверное его будущая, счастливая и любящая жена.
Приехав домой и рассказав матери о том, как они провели время у Мелюковых, барышни ушли к себе. Раздевшись, но не стирая пробочных усов, они долго сидели, разговаривая о своем счастьи. Они говорили о том, как они будут жить замужем, как их мужья будут дружны и как они будут счастливы.
На Наташином столе стояли еще с вечера приготовленные Дуняшей зеркала. – Только когда всё это будет? Я боюсь, что никогда… Это было бы слишком хорошо! – сказала Наташа вставая и подходя к зеркалам.
– Садись, Наташа, может быть ты увидишь его, – сказала Соня. Наташа зажгла свечи и села. – Какого то с усами вижу, – сказала Наташа, видевшая свое лицо.
– Не надо смеяться, барышня, – сказала Дуняша.
Наташа нашла с помощью Сони и горничной положение зеркалу; лицо ее приняло серьезное выражение, и она замолкла. Долго она сидела, глядя на ряд уходящих свечей в зеркалах, предполагая (соображаясь с слышанными рассказами) то, что она увидит гроб, то, что увидит его, князя Андрея, в этом последнем, сливающемся, смутном квадрате. Но как ни готова она была принять малейшее пятно за образ человека или гроба, она ничего не видала. Она часто стала мигать и отошла от зеркала.
– Отчего другие видят, а я ничего не вижу? – сказала она. – Ну садись ты, Соня; нынче непременно тебе надо, – сказала она. – Только за меня… Мне так страшно нынче!
Соня села за зеркало, устроила положение, и стала смотреть.
– Вот Софья Александровна непременно увидят, – шопотом сказала Дуняша; – а вы всё смеетесь.
Соня слышала эти слова, и слышала, как Наташа шопотом сказала:
– И я знаю, что она увидит; она и прошлого года видела.
Минуты три все молчали. «Непременно!» прошептала Наташа и не докончила… Вдруг Соня отсторонила то зеркало, которое она держала, и закрыла глаза рукой.
– Ах, Наташа! – сказала она.
– Видела? Видела? Что видела? – вскрикнула Наташа, поддерживая зеркало.
Соня ничего не видала, она только что хотела замигать глазами и встать, когда услыхала голос Наташи, сказавшей «непременно»… Ей не хотелось обмануть ни Дуняшу, ни Наташу, и тяжело было сидеть. Она сама не знала, как и вследствие чего у нее вырвался крик, когда она закрыла глаза рукою.
– Его видела? – спросила Наташа, хватая ее за руку.
– Да. Постой… я… видела его, – невольно сказала Соня, еще не зная, кого разумела Наташа под словом его: его – Николая или его – Андрея.
«Но отчего же мне не сказать, что я видела? Ведь видят же другие! И кто же может уличить меня в том, что я видела или не видала?» мелькнуло в голове Сони.
– Да, я его видела, – сказала она.
– Как же? Как же? Стоит или лежит?
– Нет, я видела… То ничего не было, вдруг вижу, что он лежит.
– Андрей лежит? Он болен? – испуганно остановившимися глазами глядя на подругу, спрашивала Наташа.
– Нет, напротив, – напротив, веселое лицо, и он обернулся ко мне, – и в ту минуту как она говорила, ей самой казалось, что она видела то, что говорила.
– Ну а потом, Соня?…
– Тут я не рассмотрела, что то синее и красное…
– Соня! когда он вернется? Когда я увижу его! Боже мой, как я боюсь за него и за себя, и за всё мне страшно… – заговорила Наташа, и не отвечая ни слова на утешения Сони, легла в постель и долго после того, как потушили свечу, с открытыми глазами, неподвижно лежала на постели и смотрела на морозный, лунный свет сквозь замерзшие окна.
Вскоре после святок Николай объявил матери о своей любви к Соне и о твердом решении жениться на ней. Графиня, давно замечавшая то, что происходило между Соней и Николаем, и ожидавшая этого объяснения, молча выслушала его слова и сказала сыну, что он может жениться на ком хочет; но что ни она, ни отец не дадут ему благословения на такой брак. В первый раз Николай почувствовал, что мать недовольна им, что несмотря на всю свою любовь к нему, она не уступит ему. Она, холодно и не глядя на сына, послала за мужем; и, когда он пришел, графиня хотела коротко и холодно в присутствии Николая сообщить ему в чем дело, но не выдержала: заплакала слезами досады и вышла из комнаты. Старый граф стал нерешительно усовещивать Николая и просить его отказаться от своего намерения. Николай отвечал, что он не может изменить своему слову, и отец, вздохнув и очевидно смущенный, весьма скоро перервал свою речь и пошел к графине. При всех столкновениях с сыном, графа не оставляло сознание своей виноватости перед ним за расстройство дел, и потому он не мог сердиться на сына за отказ жениться на богатой невесте и за выбор бесприданной Сони, – он только при этом случае живее вспоминал то, что, ежели бы дела не были расстроены, нельзя было для Николая желать лучшей жены, чем Соня; и что виновен в расстройстве дел только один он с своим Митенькой и с своими непреодолимыми привычками.
Отец с матерью больше не говорили об этом деле с сыном; но несколько дней после этого, графиня позвала к себе Соню и с жестокостью, которой не ожидали ни та, ни другая, графиня упрекала племянницу в заманивании сына и в неблагодарности. Соня, молча с опущенными глазами, слушала жестокие слова графини и не понимала, чего от нее требуют. Она всем готова была пожертвовать для своих благодетелей. Мысль о самопожертвовании была любимой ее мыслью; но в этом случае она не могла понять, кому и чем ей надо жертвовать. Она не могла не любить графиню и всю семью Ростовых, но и не могла не любить Николая и не знать, что его счастие зависело от этой любви. Она была молчалива и грустна, и не отвечала. Николай не мог, как ему казалось, перенести долее этого положения и пошел объясниться с матерью. Николай то умолял мать простить его и Соню и согласиться на их брак, то угрожал матери тем, что, ежели Соню будут преследовать, то он сейчас же женится на ней тайно.
Графиня с холодностью, которой никогда не видал сын, отвечала ему, что он совершеннолетний, что князь Андрей женится без согласия отца, и что он может то же сделать, но что никогда она не признает эту интригантку своей дочерью.
Взорванный словом интригантка , Николай, возвысив голос, сказал матери, что он никогда не думал, чтобы она заставляла его продавать свои чувства, и что ежели это так, то он последний раз говорит… Но он не успел сказать того решительного слова, которого, судя по выражению его лица, с ужасом ждала мать и которое может быть навсегда бы осталось жестоким воспоминанием между ними. Он не успел договорить, потому что Наташа с бледным и серьезным лицом вошла в комнату от двери, у которой она подслушивала.
– Николинька, ты говоришь пустяки, замолчи, замолчи! Я тебе говорю, замолчи!.. – почти кричала она, чтобы заглушить его голос.
– Мама, голубчик, это совсем не оттого… душечка моя, бедная, – обращалась она к матери, которая, чувствуя себя на краю разрыва, с ужасом смотрела на сына, но, вследствие упрямства и увлечения борьбы, не хотела и не могла сдаться.
– Николинька, я тебе растолкую, ты уйди – вы послушайте, мама голубушка, – говорила она матери.
Слова ее были бессмысленны; но они достигли того результата, к которому она стремилась.
Графиня тяжело захлипав спрятала лицо на груди дочери, а Николай встал, схватился за голову и вышел из комнаты.
Наташа взялась за дело примирения и довела его до того, что Николай получил обещание от матери в том, что Соню не будут притеснять, и сам дал обещание, что он ничего не предпримет тайно от родителей.
С твердым намерением, устроив в полку свои дела, выйти в отставку, приехать и жениться на Соне, Николай, грустный и серьезный, в разладе с родными, но как ему казалось, страстно влюбленный, в начале января уехал в полк.
После отъезда Николая в доме Ростовых стало грустнее чем когда нибудь. Графиня от душевного расстройства сделалась больна.
Соня была печальна и от разлуки с Николаем и еще более от того враждебного тона, с которым не могла не обращаться с ней графиня. Граф более чем когда нибудь был озабочен дурным положением дел, требовавших каких нибудь решительных мер. Необходимо было продать московский дом и подмосковную, а для продажи дома нужно было ехать в Москву. Но здоровье графини заставляло со дня на день откладывать отъезд.
Наташа, легко и даже весело переносившая первое время разлуки с своим женихом, теперь с каждым днем становилась взволнованнее и нетерпеливее. Мысль о том, что так, даром, ни для кого пропадает ее лучшее время, которое бы она употребила на любовь к нему, неотступно мучила ее. Письма его большей частью сердили ее. Ей оскорбительно было думать, что тогда как она живет только мыслью о нем, он живет настоящею жизнью, видит новые места, новых людей, которые для него интересны. Чем занимательнее были его письма, тем ей было досаднее. Ее же письма к нему не только не доставляли ей утешения, но представлялись скучной и фальшивой обязанностью. Она не умела писать, потому что не могла постигнуть возможности выразить в письме правдиво хоть одну тысячную долю того, что она привыкла выражать голосом, улыбкой и взглядом. Она писала ему классически однообразные, сухие письма, которым сама не приписывала никакого значения и в которых, по брульонам, графиня поправляла ей орфографические ошибки.
Здоровье графини все не поправлялось; но откладывать поездку в Москву уже не было возможности. Нужно было делать приданое, нужно было продать дом, и притом князя Андрея ждали сперва в Москву, где в эту зиму жил князь Николай Андреич, и Наташа была уверена, что он уже приехал.
Графиня осталась в деревне, а граф, взяв с собой Соню и Наташу, в конце января поехал в Москву.
Пьер после сватовства князя Андрея и Наташи, без всякой очевидной причины, вдруг почувствовал невозможность продолжать прежнюю жизнь. Как ни твердо он был убежден в истинах, открытых ему его благодетелем, как ни радостно ему было то первое время увлечения внутренней работой самосовершенствования, которой он предался с таким жаром, после помолвки князя Андрея с Наташей и после смерти Иосифа Алексеевича, о которой он получил известие почти в то же время, – вся прелесть этой прежней жизни вдруг пропала для него. Остался один остов жизни: его дом с блестящею женой, пользовавшеюся теперь милостями одного важного лица, знакомство со всем Петербургом и служба с скучными формальностями. И эта прежняя жизнь вдруг с неожиданной мерзостью представилась Пьеру. Он перестал писать свой дневник, избегал общества братьев, стал опять ездить в клуб, стал опять много пить, опять сблизился с холостыми компаниями и начал вести такую жизнь, что графиня Елена Васильевна сочла нужным сделать ему строгое замечание. Пьер почувствовав, что она была права, и чтобы не компрометировать свою жену, уехал в Москву.
В Москве, как только он въехал в свой огромный дом с засохшими и засыхающими княжнами, с громадной дворней, как только он увидал – проехав по городу – эту Иверскую часовню с бесчисленными огнями свеч перед золотыми ризами, эту Кремлевскую площадь с незаезженным снегом, этих извозчиков и лачужки Сивцева Вражка, увидал стариков московских, ничего не желающих и никуда не спеша доживающих свой век, увидал старушек, московских барынь, московские балы и Московский Английский клуб, – он почувствовал себя дома, в тихом пристанище. Ему стало в Москве покойно, тепло, привычно и грязно, как в старом халате.
Московское общество всё, начиная от старух до детей, как своего давно жданного гостя, которого место всегда было готово и не занято, – приняло Пьера. Для московского света, Пьер был самым милым, добрым, умным веселым, великодушным чудаком, рассеянным и душевным, русским, старого покроя, барином. Кошелек его всегда был пуст, потому что открыт для всех.
Бенефисы, дурные картины, статуи, благотворительные общества, цыгане, школы, подписные обеды, кутежи, масоны, церкви, книги – никто и ничто не получало отказа, и ежели бы не два его друга, занявшие у него много денег и взявшие его под свою опеку, он бы всё роздал. В клубе не было ни обеда, ни вечера без него. Как только он приваливался на свое место на диване после двух бутылок Марго, его окружали, и завязывались толки, споры, шутки. Где ссорились, он – одной своей доброй улыбкой и кстати сказанной шуткой, мирил. Масонские столовые ложи были скучны и вялы, ежели его не было.
Когда после холостого ужина он, с доброй и сладкой улыбкой, сдаваясь на просьбы веселой компании, поднимался, чтобы ехать с ними, между молодежью раздавались радостные, торжественные крики. На балах он танцовал, если не доставало кавалера. Молодые дамы и барышни любили его за то, что он, не ухаживая ни за кем, был со всеми одинаково любезен, особенно после ужина. «Il est charmant, il n'a pas de seхе», [Он очень мил, но не имеет пола,] говорили про него.
Пьер был тем отставным добродушно доживающим свой век в Москве камергером, каких были сотни.
Как бы он ужаснулся, ежели бы семь лет тому назад, когда он только приехал из за границы, кто нибудь сказал бы ему, что ему ничего не нужно искать и выдумывать, что его колея давно пробита, определена предвечно, и что, как он ни вертись, он будет тем, чем были все в его положении. Он не мог бы поверить этому! Разве не он всей душой желал, то произвести республику в России, то самому быть Наполеоном, то философом, то тактиком, победителем Наполеона? Разве не он видел возможность и страстно желал переродить порочный род человеческий и самого себя довести до высшей степени совершенства? Разве не он учреждал и школы и больницы и отпускал своих крестьян на волю?
А вместо всего этого, вот он, богатый муж неверной жены, камергер в отставке, любящий покушать, выпить и расстегнувшись побранить легко правительство, член Московского Английского клуба и всеми любимый член московского общества. Он долго не мог помириться с той мыслью, что он есть тот самый отставной московский камергер, тип которого он так глубоко презирал семь лет тому назад.
Иногда он утешал себя мыслями, что это только так, покамест, он ведет эту жизнь; но потом его ужасала другая мысль, что так, покамест, уже сколько людей входили, как он, со всеми зубами и волосами в эту жизнь и в этот клуб и выходили оттуда без одного зуба и волоса.
В минуты гордости, когда он думал о своем положении, ему казалось, что он совсем другой, особенный от тех отставных камергеров, которых он презирал прежде, что те были пошлые и глупые, довольные и успокоенные своим положением, «а я и теперь всё недоволен, всё мне хочется сделать что то для человечества», – говорил он себе в минуты гордости. «А может быть и все те мои товарищи, точно так же, как и я, бились, искали какой то новой, своей дороги в жизни, и так же как и я силой обстановки, общества, породы, той стихийной силой, против которой не властен человек, были приведены туда же, куда и я», говорил он себе в минуты скромности, и поживши в Москве несколько времени, он не презирал уже, а начинал любить, уважать и жалеть, так же как и себя, своих по судьбе товарищей.
На Пьера не находили, как прежде, минуты отчаяния, хандры и отвращения к жизни; но та же болезнь, выражавшаяся прежде резкими припадками, была вогнана внутрь и ни на мгновенье не покидала его. «К чему? Зачем? Что такое творится на свете?» спрашивал он себя с недоумением по нескольку раз в день, невольно начиная вдумываться в смысл явлений жизни; но опытом зная, что на вопросы эти не было ответов, он поспешно старался отвернуться от них, брался за книгу, или спешил в клуб, или к Аполлону Николаевичу болтать о городских сплетнях.
«Елена Васильевна, никогда ничего не любившая кроме своего тела и одна из самых глупых женщин в мире, – думал Пьер – представляется людям верхом ума и утонченности, и перед ней преклоняются. Наполеон Бонапарт был презираем всеми до тех пор, пока он был велик, и с тех пор как он стал жалким комедиантом – император Франц добивается предложить ему свою дочь в незаконные супруги. Испанцы воссылают мольбы Богу через католическое духовенство в благодарность за то, что они победили 14 го июня французов, а французы воссылают мольбы через то же католическое духовенство о том, что они 14 го июня победили испанцев. Братья мои масоны клянутся кровью в том, что они всем готовы жертвовать для ближнего, а не платят по одному рублю на сборы бедных и интригуют Астрея против Ищущих манны, и хлопочут о настоящем Шотландском ковре и об акте, смысла которого не знает и тот, кто писал его, и которого никому не нужно. Все мы исповедуем христианский закон прощения обид и любви к ближнему – закон, вследствие которого мы воздвигли в Москве сорок сороков церквей, а вчера засекли кнутом бежавшего человека, и служитель того же самого закона любви и прощения, священник, давал целовать солдату крест перед казнью». Так думал Пьер, и эта вся, общая, всеми признаваемая ложь, как он ни привык к ней, как будто что то новое, всякий раз изумляла его. – «Я понимаю эту ложь и путаницу, думал он, – но как мне рассказать им всё, что я понимаю? Я пробовал и всегда находил, что и они в глубине души понимают то же, что и я, но стараются только не видеть ее . Стало быть так надо! Но мне то, мне куда деваться?» думал Пьер. Он испытывал несчастную способность многих, особенно русских людей, – способность видеть и верить в возможность добра и правды, и слишком ясно видеть зло и ложь жизни, для того чтобы быть в силах принимать в ней серьезное участие. Всякая область труда в глазах его соединялась со злом и обманом. Чем он ни пробовал быть, за что он ни брался – зло и ложь отталкивали его и загораживали ему все пути деятельности. А между тем надо было жить, надо было быть заняту. Слишком страшно было быть под гнетом этих неразрешимых вопросов жизни, и он отдавался первым увлечениям, чтобы только забыть их. Он ездил во всевозможные общества, много пил, покупал картины и строил, а главное читал.
Он читал и читал всё, что попадалось под руку, и читал так что, приехав домой, когда лакеи еще раздевали его, он, уже взяв книгу, читал – и от чтения переходил ко сну, и от сна к болтовне в гостиных и клубе, от болтовни к кутежу и женщинам, от кутежа опять к болтовне, чтению и вину. Пить вино для него становилось всё больше и больше физической и вместе нравственной потребностью. Несмотря на то, что доктора говорили ему, что с его корпуленцией, вино для него опасно, он очень много пил. Ему становилось вполне хорошо только тогда, когда он, сам не замечая как, опрокинув в свой большой рот несколько стаканов вина, испытывал приятную теплоту в теле, нежность ко всем своим ближним и готовность ума поверхностно отзываться на всякую мысль, не углубляясь в сущность ее. Только выпив бутылку и две вина, он смутно сознавал, что тот запутанный, страшный узел жизни, который ужасал его прежде, не так страшен, как ему казалось. С шумом в голове, болтая, слушая разговоры или читая после обеда и ужина, он беспрестанно видел этот узел, какой нибудь стороной его. Но только под влиянием вина он говорил себе: «Это ничего. Это я распутаю – вот у меня и готово объяснение. Но теперь некогда, – я после обдумаю всё это!» Но это после никогда не приходило.
Натощак, поутру, все прежние вопросы представлялись столь же неразрешимыми и страшными, и Пьер торопливо хватался за книгу и радовался, когда кто нибудь приходил к нему.
Иногда Пьер вспоминал о слышанном им рассказе о том, как на войне солдаты, находясь под выстрелами в прикрытии, когда им делать нечего, старательно изыскивают себе занятие, для того чтобы легче переносить опасность. И Пьеру все люди представлялись такими солдатами, спасающимися от жизни: кто честолюбием, кто картами, кто писанием законов, кто женщинами, кто игрушками, кто лошадьми, кто политикой, кто охотой, кто вином, кто государственными делами. «Нет ни ничтожного, ни важного, всё равно: только бы спастись от нее как умею»! думал Пьер. – «Только бы не видать ее , эту страшную ее ».
В начале зимы, князь Николай Андреич Болконский с дочерью приехали в Москву. По своему прошедшему, по своему уму и оригинальности, в особенности по ослаблению на ту пору восторга к царствованию императора Александра, и по тому анти французскому и патриотическому направлению, которое царствовало в то время в Москве, князь Николай Андреич сделался тотчас же предметом особенной почтительности москвичей и центром московской оппозиции правительству.
Князь очень постарел в этот год. В нем появились резкие признаки старости: неожиданные засыпанья, забывчивость ближайших по времени событий и памятливость к давнишним, и детское тщеславие, с которым он принимал роль главы московской оппозиции. Несмотря на то, когда старик, особенно по вечерам, выходил к чаю в своей шубке и пудренном парике, и начинал, затронутый кем нибудь, свои отрывистые рассказы о прошедшем, или еще более отрывистые и резкие суждения о настоящем, он возбуждал во всех своих гостях одинаковое чувство почтительного уважения. Для посетителей весь этот старинный дом с огромными трюмо, дореволюционной мебелью, этими лакеями в пудре, и сам прошлого века крутой и умный старик с его кроткою дочерью и хорошенькой француженкой, которые благоговели перед ним, – представлял величественно приятное зрелище. Но посетители не думали о том, что кроме этих двух трех часов, во время которых они видели хозяев, было еще 22 часа в сутки, во время которых шла тайная внутренняя жизнь дома.
В последнее время в Москве эта внутренняя жизнь сделалась очень тяжела для княжны Марьи. Она была лишена в Москве тех своих лучших радостей – бесед с божьими людьми и уединения, – которые освежали ее в Лысых Горах, и не имела никаких выгод и радостей столичной жизни. В свет она не ездила; все знали, что отец не пускает ее без себя, а сам он по нездоровью не мог ездить, и ее уже не приглашали на обеды и вечера. Надежду на замужество княжна Марья совсем оставила. Она видела ту холодность и озлобление, с которыми князь Николай Андреич принимал и спроваживал от себя молодых людей, могущих быть женихами, иногда являвшихся в их дом. Друзей у княжны Марьи не было: в этот приезд в Москву она разочаровалась в своих двух самых близких людях. М lle Bourienne, с которой она и прежде не могла быть вполне откровенна, теперь стала ей неприятна и она по некоторым причинам стала отдаляться от нее. Жюли, которая была в Москве и к которой княжна Марья писала пять лет сряду, оказалась совершенно чужою ей, когда княжна Марья вновь сошлась с нею лично. Жюли в это время, по случаю смерти братьев сделавшись одной из самых богатых невест в Москве, находилась во всем разгаре светских удовольствий. Она была окружена молодыми людьми, которые, как она думала, вдруг оценили ее достоинства. Жюли находилась в том периоде стареющейся светской барышни, которая чувствует, что наступил последний шанс замужества, и теперь или никогда должна решиться ее участь. Княжна Марья с грустной улыбкой вспоминала по четвергам, что ей теперь писать не к кому, так как Жюли, Жюли, от присутствия которой ей не было никакой радости, была здесь и виделась с нею каждую неделю. Она, как старый эмигрант, отказавшийся жениться на даме, у которой он проводил несколько лет свои вечера, жалела о том, что Жюли была здесь и ей некому писать. Княжне Марье в Москве не с кем было поговорить, некому поверить своего горя, а горя много прибавилось нового за это время. Срок возвращения князя Андрея и его женитьбы приближался, а его поручение приготовить к тому отца не только не было исполнено, но дело напротив казалось совсем испорчено, и напоминание о графине Ростовой выводило из себя старого князя, и так уже большую часть времени бывшего не в духе. Новое горе, прибавившееся в последнее время для княжны Марьи, были уроки, которые она давала шестилетнему племяннику. В своих отношениях с Николушкой она с ужасом узнавала в себе свойство раздражительности своего отца. Сколько раз она ни говорила себе, что не надо позволять себе горячиться уча племянника, почти всякий раз, как она садилась с указкой за французскую азбуку, ей так хотелось поскорее, полегче перелить из себя свое знание в ребенка, уже боявшегося, что вот вот тетя рассердится, что она при малейшем невнимании со стороны мальчика вздрагивала, торопилась, горячилась, возвышала голос, иногда дергала его за руку и ставила в угол. Поставив его в угол, она сама начинала плакать над своей злой, дурной натурой, и Николушка, подражая ей рыданьями, без позволенья выходил из угла, подходил к ней и отдергивал от лица ее мокрые руки, и утешал ее. Но более, более всего горя доставляла княжне раздражительность ее отца, всегда направленная против дочери и дошедшая в последнее время до жестокости. Ежели бы он заставлял ее все ночи класть поклоны, ежели бы он бил ее, заставлял таскать дрова и воду, – ей бы и в голову не пришло, что ее положение трудно; но этот любящий мучитель, самый жестокий от того, что он любил и за то мучил себя и ее, – умышленно умел не только оскорбить, унизить ее, но и доказать ей, что она всегда и во всем была виновата. В последнее время в нем появилась новая черта, более всего мучившая княжну Марью – это было его большее сближение с m lle Bourienne. Пришедшая ему, в первую минуту по получении известия о намерении своего сына, мысль шутка о том, что ежели Андрей женится, то и он сам женится на Bourienne, – видимо понравилась ему, и он с упорством последнее время (как казалось княжне Марье) только для того, чтобы ее оскорбить, выказывал особенную ласку к m lle Bоurienne и выказывал свое недовольство к дочери выказываньем любви к Bourienne.
Однажды в Москве, в присутствии княжны Марьи (ей казалось, что отец нарочно при ней это сделал), старый князь поцеловал у m lle Bourienne руку и, притянув ее к себе, обнял лаская. Княжна Марья вспыхнула и выбежала из комнаты. Через несколько минут m lle Bourienne вошла к княжне Марье, улыбаясь и что то весело рассказывая своим приятным голосом. Княжна Марья поспешно отерла слезы, решительными шагами подошла к Bourienne и, видимо сама того не зная, с гневной поспешностью и взрывами голоса, начала кричать на француженку: «Это гадко, низко, бесчеловечно пользоваться слабостью…» Она не договорила. «Уйдите вон из моей комнаты», прокричала она и зарыдала.
На другой день князь ни слова не сказал своей дочери; но она заметила, что за обедом он приказал подавать кушанье, начиная с m lle Bourienne. В конце обеда, когда буфетчик, по прежней привычке, опять подал кофе, начиная с княжны, князь вдруг пришел в бешенство, бросил костылем в Филиппа и тотчас же сделал распоряжение об отдаче его в солдаты. «Не слышат… два раза сказал!… не слышат!»
«Она – первый человек в этом доме; она – мой лучший друг, – кричал князь. – И ежели ты позволишь себе, – закричал он в гневе, в первый раз обращаясь к княжне Марье, – еще раз, как вчера ты осмелилась… забыться перед ней, то я тебе покажу, кто хозяин в доме. Вон! чтоб я не видал тебя; проси у ней прощенья!»
Княжна Марья просила прощенья у Амальи Евгеньевны и у отца за себя и за Филиппа буфетчика, который просил заступы.
В такие минуты в душе княжны Марьи собиралось чувство, похожее на гордость жертвы. И вдруг в такие то минуты, при ней, этот отец, которого она осуждала, или искал очки, ощупывая подле них и не видя, или забывал то, что сейчас было, или делал слабевшими ногами неверный шаг и оглядывался, не видал ли кто его слабости, или, что было хуже всего, он за обедом, когда не было гостей, возбуждавших его, вдруг задремывал, выпуская салфетку, и склонялся над тарелкой, трясущейся головой. «Он стар и слаб, а я смею осуждать его!» думала она с отвращением к самой себе в такие минуты.
В 1811 м году в Москве жил быстро вошедший в моду французский доктор, огромный ростом, красавец, любезный, как француз и, как говорили все в Москве, врач необыкновенного искусства – Метивье. Он был принят в домах высшего общества не как доктор, а как равный.
Князь Николай Андреич, смеявшийся над медициной, последнее время, по совету m lle Bourienne, допустил к себе этого доктора и привык к нему. Метивье раза два в неделю бывал у князя.
В Николин день, в именины князя, вся Москва была у подъезда его дома, но он никого не велел принимать; а только немногих, список которых он передал княжне Марье, велел звать к обеду.
Метивье, приехавший утром с поздравлением, в качестве доктора, нашел приличным de forcer la consigne [нарушить запрет], как он сказал княжне Марье, и вошел к князю. Случилось так, что в это именинное утро старый князь был в одном из своих самых дурных расположений духа. Он целое утро ходил по дому, придираясь ко всем и делая вид, что он не понимает того, что ему говорят, и что его не понимают. Княжна Марья твердо знала это состояние духа тихой и озабоченной ворчливости, которая обыкновенно разрешалась взрывом бешенства, и как перед заряженным, с взведенными курками, ружьем, ходила всё это утро, ожидая неизбежного выстрела. Утро до приезда доктора прошло благополучно. Пропустив доктора, княжна Марья села с книгой в гостиной у двери, от которой она могла слышать всё то, что происходило в кабинете.
Сначала она слышала один голос Метивье, потом голос отца, потом оба голоса заговорили вместе, дверь распахнулась и на пороге показалась испуганная, красивая фигура Метивье с его черным хохлом, и фигура князя в колпаке и халате с изуродованным бешенством лицом и опущенными зрачками глаз.
– Не понимаешь? – кричал князь, – а я понимаю! Французский шпион, Бонапартов раб, шпион, вон из моего дома – вон, я говорю, – и он захлопнул дверь.
Метивье пожимая плечами подошел к mademoiselle Bourienne, прибежавшей на крик из соседней комнаты.
– Князь не совсем здоров, – la bile et le transport au cerveau. Tranquillisez vous, je repasserai demain, [желчь и прилив к мозгу. Успокойтесь, я завтра зайду,] – сказал Метивье и, приложив палец к губам, поспешно вышел.
За дверью слышались шаги в туфлях и крики: «Шпионы, изменники, везде изменники! В своем доме нет минуты покоя!»
После отъезда Метивье старый князь позвал к себе дочь и вся сила его гнева обрушилась на нее. Она была виновата в том, что к нему пустили шпиона. .Ведь он сказал, ей сказал, чтобы она составила список, и тех, кого не было в списке, чтобы не пускали. Зачем же пустили этого мерзавца! Она была причиной всего. С ней он не мог иметь ни минуты покоя, не мог умереть спокойно, говорил он.
– Нет, матушка, разойтись, разойтись, это вы знайте, знайте! Я теперь больше не могу, – сказал он и вышел из комнаты. И как будто боясь, чтобы она не сумела как нибудь утешиться, он вернулся к ней и, стараясь принять спокойный вид, прибавил: – И не думайте, чтобы я это сказал вам в минуту сердца, а я спокоен, и я обдумал это; и это будет – разойтись, поищите себе места!… – Но он не выдержал и с тем озлоблением, которое может быть только у человека, который любит, он, видимо сам страдая, затряс кулаками и прокричал ей:
– И хоть бы какой нибудь дурак взял ее замуж! – Он хлопнул дверью, позвал к себе m lle Bourienne и затих в кабинете.
В два часа съехались избранные шесть персон к обеду. Гости – известный граф Ростопчин, князь Лопухин с своим племянником, генерал Чатров, старый, боевой товарищ князя, и из молодых Пьер и Борис Друбецкой – ждали его в гостиной.
На днях приехавший в Москву в отпуск Борис пожелал быть представленным князю Николаю Андреевичу и сумел до такой степени снискать его расположение, что князь для него сделал исключение из всех холостых молодых людей, которых он не принимал к себе.
Дом князя был не то, что называется «свет», но это был такой маленький кружок, о котором хотя и не слышно было в городе, но в котором лестнее всего было быть принятым. Это понял Борис неделю тому назад, когда при нем Ростопчин сказал главнокомандующему, звавшему графа обедать в Николин день, что он не может быть:
– В этот день уж я всегда езжу прикладываться к мощам князя Николая Андреича.
– Ах да, да, – отвечал главнокомандующий. – Что он?..
Небольшое общество, собравшееся в старомодной, высокой, с старой мебелью, гостиной перед обедом, было похоже на собравшийся, торжественный совет судилища. Все молчали и ежели говорили, то говорили тихо. Князь Николай Андреич вышел серьезен и молчалив. Княжна Марья еще более казалась тихою и робкою, чем обыкновенно. Гости неохотно обращались к ней, потому что видели, что ей было не до их разговоров. Граф Ростопчин один держал нить разговора, рассказывая о последних то городских, то политических новостях.
Лопухин и старый генерал изредка принимали участие в разговоре. Князь Николай Андреич слушал, как верховный судья слушает доклад, который делают ему, только изредка молчанием или коротким словцом заявляя, что он принимает к сведению то, что ему докладывают. Тон разговора был такой, что понятно было, никто не одобрял того, что делалось в политическом мире. Рассказывали о событиях, очевидно подтверждающих то, что всё шло хуже и хуже; но во всяком рассказе и суждении было поразительно то, как рассказчик останавливался или бывал останавливаем всякий раз на той границе, где суждение могло относиться к лицу государя императора.
За обедом разговор зашел о последней политической новости, о захвате Наполеоном владений герцога Ольденбургского и о русской враждебной Наполеону ноте, посланной ко всем европейским дворам.
– Бонапарт поступает с Европой как пират на завоеванном корабле, – сказал граф Ростопчин, повторяя уже несколько раз говоренную им фразу. – Удивляешься только долготерпению или ослеплению государей. Теперь дело доходит до папы, и Бонапарт уже не стесняясь хочет низвергнуть главу католической религии, и все молчат! Один наш государь протестовал против захвата владений герцога Ольденбургского. И то… – Граф Ростопчин замолчал, чувствуя, что он стоял на том рубеже, где уже нельзя осуждать.


