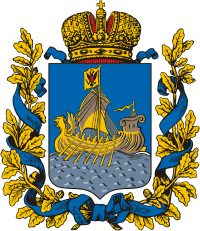Суворов, Александр Аркадьевич
Александр Аркадьевич Суворов<tr><td colspan="2" style="text-align: center; border-top: solid darkgray 1px;"> </td></tr> </td></tr>
<tr><td colspan="2" style="text-align: center;">На портрете кисти Ф. Крюгера (1851)</td></tr> | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ноября 1861 — 1 августа 1866 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Предшественник: | Павел Николаевич Игнатьев | ||||||||||||||||||||||||||||
| Преемник: | должность упразднена | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 января 1848 — 4 ноября 1861 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Предшественник: | Евгений Александрович Головин | ||||||||||||||||||||||||||||
| Преемник: | Вильгельм Карлович Ливен | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 октября — 30 декабря 1847 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Предшественник: | Константин Никифорович Григорьев | ||||||||||||||||||||||||||||
| Преемник: | Илларион Илларионович Васильчиков | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рождение: | 1 (13) июня 1804 Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||
| Смерть: | 31 января (12 февраля) 1882 (77 лет) Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||||||||||
| Место погребения: | Троице-Сергиева пустынь | ||||||||||||||||||||||||||||
| Род: | Суворовы | ||||||||||||||||||||||||||||
| Отец: | Аркадий Александрович Суворов | ||||||||||||||||||||||||||||
| Мать: | Елена Александровна Нарышкина | ||||||||||||||||||||||||||||
| Образование: | Гёттингенский университет | ||||||||||||||||||||||||||||
| Военная служба | |||||||||||||||||||||||||||||
| Годы службы: | 1824—1882 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежность: | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Род войск: | армия | ||||||||||||||||||||||||||||
| Звание: | генерал от инфантерии | ||||||||||||||||||||||||||||
| Командовал: | полком, бригадой; войсками Рижской губернии | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сражения: | Русско-персидская война (1826—1828); Русско-турецкая война (1828—1829); Польская кампания (1830—1831) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Награды: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Светлейший князь Алекса́ндр Арка́дьевич Суво́ров (1 (13) июня 1804, Санкт-Петербург — 31 января (12 февраля) 1882, Санкт-Петербург) — русский государственный, общественный и военный деятель, генерал от инфантерии. В 1848-61 гг. генерал-губернатор Прибалтийского края, в 1861-66 гг. санкт-петербургский военный генерал-губернатор, позднее генерал-инспектор пехоты. Внук генералиссимуса Александра Васильевича Суворова.
Содержание
Ранние годы
Отец — генерал-лейтенант Аркадий Александрович Суворов погиб при переправе через реку Рымник 13 апреля 1811 года. Мать — Елена Александровна Нарышкина.
После безвременной кончины отца мать отдала восьмилетнего Александра в иезуитский пансион в Петербурге, где он воспитывался, следуя моде того времени, с сыновьями других русских аристократов. Через три года, в связи с изменившимся отношением к иезуитам, дядя его, Кирилл Александрович Нарышкин (сам воспитанник иезуитов) забрал мальчика к себе. Для продолжения воспитания Александра были приглашены лучшие учителя. Его мать Елена Александровна, проживавшая во Флоренции, пожелала иметь сына рядом с собой. Это послужило причиной переезда в Италию. На тринадцатом году жизни князь Александр был помещён в школу знаменитого швейцарского педагога Фелленберга в Гофвиль, около Берна. Здесь Александр пробыл пять лет, в совершенстве овладев несколькими иностранными языками, а также занимаясь историей и изучением естественных наук.
После уехал в Париж, когда ему исполнилось восемнадцать лет, недолго обучался в Сорбонне, а закончил образование в Гёттингенском университете. Несомненно, что влияние на формирование мировоззрения молодого Суворова оказала продолжительная жизнь за границей и знакомство с течениями западноевропейской мысли. Так, например, учась в Гёттингене, он вступил в 1825 году в члены студенческой корпорации («корпус Курония VII»).
Служба
В 1824 году вернулся в Россию, зачислен юнкером в лейб-гвардии конный полк. Корнет с 1 января 1826, с 14 декабря 1825 — эстандарт-юнкер. Проходил по делу декабристов, был арестован, но вскоре освобождён.

Участвовал в персидской кампании. Отличился при осаде и взятии крепости Сардарабад, был произведён в поручики, награждён орденом св. Владимира 4 ст. с бантом и золотой шпагой с надписью «За храбрость».
С 1828 г. флигель-адъютант Николая I. Участник русско-турецкой войны 1828—1829 годов, во время которой находился при особе Государя. Здесь он участвовал в сражении под Шумлой, в осаде Варны, взятии крепости Исакчи, в сражении при Буланлыке, лично принял капитуляцию небольшой крепости Мачин. За боевые заслуги произведён в штабс-ротмистры, награждён орденом св. Анны 2 ст.
В Петербурге Александр Аркадьевич Суворов был временно прикомандирован к лейб-гвардии Конному полку для изучения строевой службы. Участвовал в подавлении польского восстания 1830 года, отличился в ряде боёв, в том числе в штурме Варшавы, был отправлен парламентёром для переговоров о сдаче. Заступивший на пост главнокомандующего после смерти фельдмаршала Ивана Дибича фельдмаршал Иван Паскевич командировал его в Петербург с посланием о победе. Александра Аркадьевича принял император Николай I, воспели в стихах Пушкин и Жуковский.
В 1831—1832 годах командир гвардейского батальона, в 1839—1842 командир Фанагорийского гренадерского полка, затем командир бригады; с 30 августа 1839 года — генерал-майор свиты, с 25 июня 1846 — генерал-адъютант. В 1847—1848 годах костромской губернатор, в 1848—1861 годах генерал-губернатор Прибалтийского края и военный губернатор Риги. Входил в Остзейский комитет по реформе землевладения в Остзейском крае[1].
В 1854 г., с началом войны с англо-французской коалицией, Суворов был назначен командующим войсками Рижской губернии. За успешное руководство войсками края во время войны, в апреле 1855 г. пожалован в кавалеры ордена св. Александра Невского. В сентябре 1859 года был произведён за отличие в генералы от инфантерии, а в 1860 — назначен шефом Ряжского пехотного полка.
 С 23 апреля 1861 года член Государственного совета, с 18 октября 1861 года — санкт-петербургский военный генерал-губернатор. Должность была упразднена в 1866 году после покушения Каракозова на Александра II. Назначен генерал-инспектором всей пехоты и в этой должности оставался до самой смерти. На государственных должностях проявил себя как либеральный политик, что создало ему популярность среди студенческой молодёжи, но вместе с тем он приобрёл и видных противников в среде высшей администрации.
С 23 апреля 1861 года член Государственного совета, с 18 октября 1861 года — санкт-петербургский военный генерал-губернатор. Должность была упразднена в 1866 году после покушения Каракозова на Александра II. Назначен генерал-инспектором всей пехоты и в этой должности оставался до самой смерти. На государственных должностях проявил себя как либеральный политик, что создало ему популярность среди студенческой молодёжи, но вместе с тем он приобрёл и видных противников в среде высшей администрации.
Когда по инициативе Помпея Батюшкова и Антонины Блудовой петербургская аристократия собирала подписи под приветственным адресом по случаю вручения М. Н. Муравьёву, успешно подавившему польское восстание 1863 года, иконы Архистратига Михаила. Александр Аркадьевич Суворов отказался, назвав публично Муравьёва «людоедом». Ответ последовал от Тютчева в виде язвительного стихотворения («Гуманный внук воинственного деда…»).
В апреле 1863 г. Суворов был удостоен ордена Андрея Первозванного. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов Александр Аркадьевич находился при Александре II. В последний период жизни был президентом Вольного экономического общества, председателем Попечительского совета заведений общественного призрения в Санкт-Петербурге (с 1861 по 1882 год, жертвовал заведениям личные средства)[2], почётным членом Демидовского дома трудящихся, почётным членом Академии наук, действительным членом Императорского человеколюбивого общества, председателем российского общества покровительства животных и пр. Избран почётным гражданином городов Рыбинска, Тихвина, Новой Ладоги, Боровичей, Череповца[3] и почётным мировым судьёй Петергофского и Московского уездов.
После убийства 1 (13) марта 1881 года императора Александра II именно А. А. Суворов вышел к собравшемуся у Зимнего дворца народу и сообщил о кончине Государя.
С 1849 по 1868 гг. Суворов проживал в петербургском особняке по адресу: Большая Морская улица, 47. Умер 31 января (12 февраля) 1882 года. Похоронен в Троице-Сергиевой пустыни на берегу Финского залива (фото могилы).
Гуманный внук воинственного деда,
Простите нам, наш симпатичный князь,
Что русского честим мы людоеда,
Мы, русские, Европы не спросясь!..
Как извинить пред вами эту смелость?
Как оправдать сочувствие к тому,
Кто отстоял и спас России целость,
Всем жертвуя призванью своему
..................................
Так будь и нам позорною уликой
Письмо к нему от нас, его друзей!
Но нам сдается, князь, ваш дед великий
Его скрепил бы подписью своей.
- Военные чины и свитские звания
- Корнет лейб-гвардии (01.01.1826)
- Эстандарт-юнкер (14.12.1825)
- Поручик за отличие при взятии Аббасабада (06.12.1827)
- Флигель-адъютант (29.02.1828)
- Штабс-ротмистр за отличие под Шумлой (22.07.1828)
- Ротмистр (25.06.1831)
- Полковник (05.09.1831)
- Генерал-майор Свиты (30.08.1839)
- Генерал-адъютант (25.06.1846)
- Генерал-лейтенант (11.04.1848)
- Генерал от инфантерии (08.09.1859)
- Награды
- Орден Святого Владимира 4 ст. с бантом — за отличие при взятии Аббасабада (06.10.1827)
- Золотая шпага «За храбрость» — за отличие при взятии Эривани (25.01.1828)
- Орден Святой Анны 2 ст. — за осаду Варны (29.09.1828)
- Медаль «За персидскую войну» (1828)
- Медаль «За турецкую войну» (01.10.1829)
- Медаль «За взятие приступом Варшавы» (19.08.1832)
- Польский знак отличия «За военное достоинство» 4 ст. (19.08.1832)
- Императорская корона к Ордену Святой Анны 2 ст. (06.12.1833)
- Орден Святого Владимира 3 ст. (06.12.1835)
- Золотая табакерка с вензелем Имени Его Величества (1840)
- Золотая медаль в память бракосочетания Цесаревича (16.04.1841)
- Орден Святого Станислава 1 ст. (17.08.1843)
- Орден Святой Анны 1 ст. — за исполнение особого поручения (21.04.1847)
- Орден Святого Георгия 4 ст. — за выслугу 25 лет в офицерских чинах (26.11.1847)
- Знак отличия «За XX лет беспорочной службы» (22.08.1850)
- Орден Белого Орла (06.12.1850)
- Медаль «За усмирение Венгрии и Трансильвании» (19.12.1850)
- Знак отличия «За XXV лет беспорочной службы» (22.08.1854)
- Орден Святого Александра Невского (17.04.1855)
- Медаль «В память войны 1853—1856» (26.08.1856)
- Алмазные знаки к Ордену Святого Александра Невского (30.08.1856)
- Большая золотая медаль в память коронования Александра II (10.09.1856)
- Орден Святого Владимира 1 ст. с мечами (10.11.1861)
- Орден Святого Андрея Первозванного (17.04.1863)
- Алмазные знаки к Ордену Святого Андрея Первозванного (20.05.1868)
- Знак отличия «За XL лет беспорочной службы» (1874)
- Портрет Его Величества, украшенный алмазами для ношения в петлице на Андреевской ленте (01.01.1876)
иностранные:
- Персидский Орден Льва и Солнца 2 ст. с алмазами (1830)
- Прусский Орден Святого Иоанна Иерусалимского (1831)
- Алмазные знаки к прусскому Орден Святого Иоанна Иерусалимского — за известие о рождении великого князя Михаила Николаевича (27.11.1832)
- Табакерка от Его Величества короля прусского Фридриха Вильгельма III с шифром (1832)
- Австрийский Орден Леопольда, командорский крест (02.11.1833)
- Табакерка от нидерландского короля Вильгельма I Оранского с шифром (1834)
- Золотая табакерка от нассауского герцога Вильгельма I с шифром (1835)
- Прусский Орден Красного Орла 4 ст. (1835)
- Табакерка от Его Величества короля прусского Фридриха Вильгельма III с шифром (1835)
- Табакерка от нассауского герцога Вильгельма I с алмазами (1835)
- Прусский Орден Красного орла 3 ст. (1838)
- Датский Орден Данеброга 1 ст. (1843)
- Гессен-Кассельский Орден Золотого Льва 1 ст. (1844)
- Сардинский Орден Аннунциаты с цепью и звездой — как наследнику А. В. Суворова (1844)
- Сицилийский Орден Франциска I 1 ст. (1845)
- Вюртембергский Орден Фридриха, большой крест (1846)
- Прусский Орден Красного орла 1 ст. (01.01.1859)
- Прусский Орден Красного орла, большой крест — по случаю коронации Вильгельма I (18.10.1861)
- Прусская медаль в память коронации Вильгельма I (1862)
- Греческий Орден Спасителя, большой крест (28.02.1864)
- Вюртембергский Орден Короны 1 ст. (1872)
- Прусский Орден Чёрного орла (1873)
- Австро-Венгерский Орден Святого Стефана, большой крест (1875)[4]
- Сербский Орден Таковского креста 1 ст. (1878)
- Румынский Железный крест (1878)
- Алмазные знаки к прусскому Ордену Чёрного орла (21.04.1881)
Семья
 Жена (с 12.11.1830) — Любовь Васильевна Ярцева (1811—1867), фрейлина, дочь коллежского советника, шталмейстера Василия Ивановича Ярцева (1784—1827). По описанию современницы, «была высокой, белокурой, белолицей и очень красивой»[5]. Влюбленный в мадемуазель Ярцеву граф В. Ф. Адлерберг очень легко устроил её брак с Суворовым, по которому она умирала. Пушкин дважды в дневнике за 1834 год упоминал Суворову в связи с её любовной связью с графом Л. П. Витгенштейном (1799—1866), привлекшей внимание света[6]. Однокашница Ярцевой по Екатерининскому институту А. О. Смирнова-Россет, недолюбливая её, называла «конюшенной девкой» и вспоминала: «Суворов был прекрасный и честный малый, сделал эту глупость (женился), и что странно, несмотря на её связь с Витгенштейном, выполнял все её капризы и продолжал любить»[7]. В браке имела сына и двух дочерей:
Жена (с 12.11.1830) — Любовь Васильевна Ярцева (1811—1867), фрейлина, дочь коллежского советника, шталмейстера Василия Ивановича Ярцева (1784—1827). По описанию современницы, «была высокой, белокурой, белолицей и очень красивой»[5]. Влюбленный в мадемуазель Ярцеву граф В. Ф. Адлерберг очень легко устроил её брак с Суворовым, по которому она умирала. Пушкин дважды в дневнике за 1834 год упоминал Суворову в связи с её любовной связью с графом Л. П. Витгенштейном (1799—1866), привлекшей внимание света[6]. Однокашница Ярцевой по Екатерининскому институту А. О. Смирнова-Россет, недолюбливая её, называла «конюшенной девкой» и вспоминала: «Суворов был прекрасный и честный малый, сделал эту глупость (женился), и что странно, несмотря на её связь с Витгенштейном, выполнял все её капризы и продолжал любить»[7]. В браке имела сына и двух дочерей:

- Любовь (1831—1883), фрейлина, с 1858 года замужем за статским советником, камер-юнкером князем Алексеем Голицыным, сыном князя В. П. Голицына. В 1861 году они были разведены, брак был бездетным. В том же 1861 году Любовь Александровна вышла замуж за поручика, впоследствии полковника, флигель-адъютанта, военного агента в Вене Владимира Молоствова (1835—1877), сына генерал-лейтенанта, сенатора В. П. Молоствова. В этом браке родились 3 дочери и 4 сына, старший из которых унаследовал майоратные имения князей Суворовых, включая село Кончанское.
- Аркадий (1834—1893), флигель-адъютант императора Александра II, умерший бездетным. На нём окончился род светлейших князей Италийских, графов Суворовых-Рымникских. Был женат на графине Елизавете Ивановне Кушелевой-Безбородко (1839—1923), дочери золотопромышленника И. Ф. Базилевского.
- Александра (1844—1927), фрейлина, замужем за генерал-майором С. В. Козловым (1853—1906).
Напишите отзыв о статье "Суворов, Александр Аркадьевич"
Примечания
- ↑ Шульц П. А. [www.srcc.msu.su/uni-persona/site/research/zajonchk/tom2_1/V2P10370.htm Остзейский комитет в Петербурге в 1856-57 гг.] Из воспоминаний. — ГМ. — 1915. — № 1. — С. 124—145; № 2. — С. 146—170.
- ↑ Ордин К. Личный состав // Попечительский совет заведений общественного призрения в С.-Петербурге. Очерк деятельности за пятьдесят лет 1828—1878. — СПб.: Типография второго отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1878. — С. 3, 58.
- ↑ Звание «Почётный гражданин города Череповца» присвоено 23 июля (5 августа) 1881 года — за особенно оказанное внимание и содействие к процветанию города. [[www.kray.cherlib.ru/encyclopedia.aspx?id_poisk=31 Суворов-Рымнинский Александр Аркадьевич]. Краеведение : Информационный сайт о Череповце. Проверено 19 января 2013. [www.webcitation.org/6DodISFit Архивировано из первоисточника 20 января 2013].]
- ↑ [tornai.com/rendtagok.htm кавалеры ордена Святого Стефана]
- ↑ Фикельмон Д. Дневник 1829—1837. Весь пушкинский Петербург. — М., 2009.
- ↑ [pushkin.niv.ru/pushkin/text/zametki/dnevnik-pushkina-1834.htm#al202 Дневник 1833—1835 года.]
- ↑ А. О. Смирнова-Россет. Дневник. Воспоминания. — М.: Наука, 1989. — 789 с.
Литература
- [vivaldi.nlr.ru/bx000010345/view#page=53 Светл. князь Италийский гр. Суворов-Рымникский 1. Александр Аркадиевич] // Список генералам по старшинству. Исправлен по 1-е ноября 1881 года. — СПб.: Военная типография, 1881. — С. 21—23.
- Суворов, Александр Аркадьевич // Русский биографический словарь : в 25 томах. — СПб.—М., 1896—1918.
- Суворов, Александр Аркадьевич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
Ссылки
- [az-libr.ru/index.shtml?Persons&M54/699206b0/0001/79241470 Суворов-Рымникский Александр Аркадьевич]. Библиотека : Люди и Книги. Проверено 19 января 2013. [www.webcitation.org/6DodKocso Архивировано из первоисточника 20 января 2013].
- [www.regiment.ru/bio/S/310.htm# князь Суворов Александр Аркадьевич]. Русская императорская армия. Проверено 19 января 2013. [www.webcitation.org/6DodLettX Архивировано из первоисточника 20 января 2013].
| ||||||||||||||||||||
Отрывок, характеризующий Суворов, Александр Аркадьевич
Напротив, никогда, в самых лучших материальных условиях, войско не представляло более веселого, оживленного зрелища. Это происходило оттого, что каждый день выбрасывалось из войска все то, что начинало унывать или слабеть. Все, что было физически и нравственно слабого, давно уже осталось назади: оставался один цвет войска – по силе духа и тела.К осьмой роте, пригородившей плетень, собралось больше всего народа. Два фельдфебеля присели к ним, и костер их пылал ярче других. Они требовали за право сиденья под плетнем приношения дров.
– Эй, Макеев, что ж ты …. запропал или тебя волки съели? Неси дров то, – кричал один краснорожий рыжий солдат, щурившийся и мигавший от дыма, но не отодвигавшийся от огня. – Поди хоть ты, ворона, неси дров, – обратился этот солдат к другому. Рыжий был не унтер офицер и не ефрейтор, но был здоровый солдат, и потому повелевал теми, которые были слабее его. Худенький, маленький, с вострым носиком солдат, которого назвали вороной, покорно встал и пошел было исполнять приказание, но в это время в свет костра вступила уже тонкая красивая фигура молодого солдата, несшего беремя дров.
– Давай сюда. Во важно то!
Дрова наломали, надавили, поддули ртами и полами шинелей, и пламя зашипело и затрещало. Солдаты, придвинувшись, закурили трубки. Молодой, красивый солдат, который притащил дрова, подперся руками в бока и стал быстро и ловко топотать озябшими ногами на месте.
– Ах, маменька, холодная роса, да хороша, да в мушкатера… – припевал он, как будто икая на каждом слоге песни.
– Эй, подметки отлетят! – крикнул рыжий, заметив, что у плясуна болталась подметка. – Экой яд плясать!
Плясун остановился, оторвал болтавшуюся кожу и бросил в огонь.
– И то, брат, – сказал он; и, сев, достал из ранца обрывок французского синего сукна и стал обвертывать им ногу. – С пару зашлись, – прибавил он, вытягивая ноги к огню.
– Скоро новые отпустят. Говорят, перебьем до копца, тогда всем по двойному товару.
– А вишь, сукин сын Петров, отстал таки, – сказал фельдфебель.
– Я его давно замечал, – сказал другой.
– Да что, солдатенок…
– А в третьей роте, сказывали, за вчерашний день девять человек недосчитали.
– Да, вот суди, как ноги зазнобишь, куда пойдешь?
– Э, пустое болтать! – сказал фельдфебель.
– Али и тебе хочется того же? – сказал старый солдат, с упреком обращаясь к тому, который сказал, что ноги зазнобил.
– А ты что же думаешь? – вдруг приподнявшись из за костра, пискливым и дрожащим голосом заговорил востроносенький солдат, которого называли ворона. – Кто гладок, так похудает, а худому смерть. Вот хоть бы я. Мочи моей нет, – сказал он вдруг решительно, обращаясь к фельдфебелю, – вели в госпиталь отослать, ломота одолела; а то все одно отстанешь…
– Ну буде, буде, – спокойно сказал фельдфебель. Солдатик замолчал, и разговор продолжался.
– Нынче мало ли французов этих побрали; а сапог, прямо сказать, ни на одном настоящих нет, так, одна названье, – начал один из солдат новый разговор.
– Всё казаки поразули. Чистили для полковника избу, выносили их. Жалости смотреть, ребята, – сказал плясун. – Разворочали их: так живой один, веришь ли, лопочет что то по своему.
– А чистый народ, ребята, – сказал первый. – Белый, вот как береза белый, и бравые есть, скажи, благородные.
– А ты думаешь как? У него от всех званий набраны.
– А ничего не знают по нашему, – с улыбкой недоумения сказал плясун. – Я ему говорю: «Чьей короны?», а он свое лопочет. Чудесный народ!
– Ведь то мудрено, братцы мои, – продолжал тот, который удивлялся их белизне, – сказывали мужики под Можайским, как стали убирать битых, где страженья то была, так ведь что, говорит, почитай месяц лежали мертвые ихние то. Что ж, говорит, лежит, говорит, ихний то, как бумага белый, чистый, ни синь пороха не пахнет.
– Что ж, от холода, что ль? – спросил один.
– Эка ты умный! От холода! Жарко ведь было. Кабы от стужи, так и наши бы тоже не протухли. А то, говорит, подойдешь к нашему, весь, говорит, прогнил в червях. Так, говорит, платками обвяжемся, да, отворотя морду, и тащим; мочи нет. А ихний, говорит, как бумага белый; ни синь пороха не пахнет.
Все помолчали.
– Должно, от пищи, – сказал фельдфебель, – господскую пищу жрали.
Никто не возражал.
– Сказывал мужик то этот, под Можайским, где страженья то была, их с десяти деревень согнали, двадцать дён возили, не свозили всех, мертвых то. Волков этих что, говорит…
– Та страженья была настоящая, – сказал старый солдат. – Только и было чем помянуть; а то всё после того… Так, только народу мученье.
– И то, дядюшка. Позавчера набежали мы, так куда те, до себя не допущают. Живо ружья покидали. На коленки. Пардон – говорит. Так, только пример один. Сказывали, самого Полиона то Платов два раза брал. Слова не знает. Возьмет возьмет: вот на те, в руках прикинется птицей, улетит, да и улетит. И убить тоже нет положенья.
– Эка врать здоров ты, Киселев, посмотрю я на тебя.
– Какое врать, правда истинная.
– А кабы на мой обычай, я бы его, изловимши, да в землю бы закопал. Да осиновым колом. А то что народу загубил.
– Все одно конец сделаем, не будет ходить, – зевая, сказал старый солдат.
Разговор замолк, солдаты стали укладываться.
– Вишь, звезды то, страсть, так и горят! Скажи, бабы холсты разложили, – сказал солдат, любуясь на Млечный Путь.
– Это, ребята, к урожайному году.
– Дровец то еще надо будет.
– Спину погреешь, а брюха замерзла. Вот чуда.
– О, господи!
– Что толкаешься то, – про тебя одного огонь, что ли? Вишь… развалился.
Из за устанавливающегося молчания послышался храп некоторых заснувших; остальные поворачивались и грелись, изредка переговариваясь. От дальнего, шагов за сто, костра послышался дружный, веселый хохот.
– Вишь, грохочат в пятой роте, – сказал один солдат. – И народу что – страсть!
Один солдат поднялся и пошел к пятой роте.
– То то смеху, – сказал он, возвращаясь. – Два хранцуза пристали. Один мерзлый вовсе, а другой такой куражный, бяда! Песни играет.
– О о? пойти посмотреть… – Несколько солдат направились к пятой роте.
Пятая рота стояла подле самого леса. Огромный костер ярко горел посреди снега, освещая отягченные инеем ветви деревьев.
В середине ночи солдаты пятой роты услыхали в лесу шаги по снегу и хряск сучьев.
– Ребята, ведмедь, – сказал один солдат. Все подняли головы, прислушались, и из леса, в яркий свет костра, выступили две, держащиеся друг за друга, человеческие, странно одетые фигуры.
Это были два прятавшиеся в лесу француза. Хрипло говоря что то на непонятном солдатам языке, они подошли к костру. Один был повыше ростом, в офицерской шляпе, и казался совсем ослабевшим. Подойдя к костру, он хотел сесть, но упал на землю. Другой, маленький, коренастый, обвязанный платком по щекам солдат, был сильнее. Он поднял своего товарища и, указывая на свой рот, говорил что то. Солдаты окружили французов, подстелили больному шинель и обоим принесли каши и водки.
Ослабевший французский офицер был Рамбаль; повязанный платком был его денщик Морель.
Когда Морель выпил водки и доел котелок каши, он вдруг болезненно развеселился и начал не переставая говорить что то не понимавшим его солдатам. Рамбаль отказывался от еды и молча лежал на локте у костра, бессмысленными красными глазами глядя на русских солдат. Изредка он издавал протяжный стон и опять замолкал. Морель, показывая на плечи, внушал солдатам, что это был офицер и что его надо отогреть. Офицер русский, подошедший к костру, послал спросить у полковника, не возьмет ли он к себе отогреть французского офицера; и когда вернулись и сказали, что полковник велел привести офицера, Рамбалю передали, чтобы он шел. Он встал и хотел идти, но пошатнулся и упал бы, если бы подле стоящий солдат не поддержал его.
– Что? Не будешь? – насмешливо подмигнув, сказал один солдат, обращаясь к Рамбалю.
– Э, дурак! Что врешь нескладно! То то мужик, право, мужик, – послышались с разных сторон упреки пошутившему солдату. Рамбаля окружили, подняли двое на руки, перехватившись ими, и понесли в избу. Рамбаль обнял шеи солдат и, когда его понесли, жалобно заговорил:
– Oh, nies braves, oh, mes bons, mes bons amis! Voila des hommes! oh, mes braves, mes bons amis! [О молодцы! О мои добрые, добрые друзья! Вот люди! О мои добрые друзья!] – и, как ребенок, головой склонился на плечо одному солдату.
Между тем Морель сидел на лучшем месте, окруженный солдатами.
Морель, маленький коренастый француз, с воспаленными, слезившимися глазами, обвязанный по бабьи платком сверх фуражки, был одет в женскую шубенку. Он, видимо, захмелев, обнявши рукой солдата, сидевшего подле него, пел хриплым, перерывающимся голосом французскую песню. Солдаты держались за бока, глядя на него.
– Ну ка, ну ка, научи, как? Я живо перейму. Как?.. – говорил шутник песенник, которого обнимал Морель.
Vive Henri Quatre,
Vive ce roi vaillanti –
[Да здравствует Генрих Четвертый!
Да здравствует сей храбрый король!
и т. д. (французская песня) ]
пропел Морель, подмигивая глазом.
Сe diable a quatre…
– Виварика! Виф серувару! сидябляка… – повторил солдат, взмахнув рукой и действительно уловив напев.
– Вишь, ловко! Го го го го го!.. – поднялся с разных сторон грубый, радостный хохот. Морель, сморщившись, смеялся тоже.
– Ну, валяй еще, еще!
Qui eut le triple talent,
De boire, de battre,
Et d'etre un vert galant…
[Имевший тройной талант,
пить, драться
и быть любезником…]
– A ведь тоже складно. Ну, ну, Залетаев!..
– Кю… – с усилием выговорил Залетаев. – Кью ю ю… – вытянул он, старательно оттопырив губы, – летриптала, де бу де ба и детравагала, – пропел он.
– Ай, важно! Вот так хранцуз! ой… го го го го! – Что ж, еще есть хочешь?
– Дай ему каши то; ведь не скоро наестся с голоду то.
Опять ему дали каши; и Морель, посмеиваясь, принялся за третий котелок. Радостные улыбки стояли на всех лицах молодых солдат, смотревших на Мореля. Старые солдаты, считавшие неприличным заниматься такими пустяками, лежали с другой стороны костра, но изредка, приподнимаясь на локте, с улыбкой взглядывали на Мореля.
– Тоже люди, – сказал один из них, уворачиваясь в шинель. – И полынь на своем кореню растет.
– Оо! Господи, господи! Как звездно, страсть! К морозу… – И все затихло.
Звезды, как будто зная, что теперь никто не увидит их, разыгрались в черном небе. То вспыхивая, то потухая, то вздрагивая, они хлопотливо о чем то радостном, но таинственном перешептывались между собой.
Х
Войска французские равномерно таяли в математически правильной прогрессии. И тот переход через Березину, про который так много было писано, была только одна из промежуточных ступеней уничтожения французской армии, а вовсе не решительный эпизод кампании. Ежели про Березину так много писали и пишут, то со стороны французов это произошло только потому, что на Березинском прорванном мосту бедствия, претерпеваемые французской армией прежде равномерно, здесь вдруг сгруппировались в один момент и в одно трагическое зрелище, которое у всех осталось в памяти. Со стороны же русских так много говорили и писали про Березину только потому, что вдали от театра войны, в Петербурге, был составлен план (Пфулем же) поимки в стратегическую западню Наполеона на реке Березине. Все уверились, что все будет на деле точно так, как в плане, и потому настаивали на том, что именно Березинская переправа погубила французов. В сущности же, результаты Березинской переправы были гораздо менее гибельны для французов потерей орудий и пленных, чем Красное, как то показывают цифры.
Единственное значение Березинской переправы заключается в том, что эта переправа очевидно и несомненно доказала ложность всех планов отрезыванья и справедливость единственно возможного, требуемого и Кутузовым и всеми войсками (массой) образа действий, – только следования за неприятелем. Толпа французов бежала с постоянно усиливающейся силой быстроты, со всею энергией, направленной на достижение цели. Она бежала, как раненый зверь, и нельзя ей было стать на дороге. Это доказало не столько устройство переправы, сколько движение на мостах. Когда мосты были прорваны, безоружные солдаты, московские жители, женщины с детьми, бывшие в обозе французов, – все под влиянием силы инерции не сдавалось, а бежало вперед в лодки, в мерзлую воду.
Стремление это было разумно. Положение и бегущих и преследующих было одинаково дурно. Оставаясь со своими, каждый в бедствии надеялся на помощь товарища, на определенное, занимаемое им место между своими. Отдавшись же русским, он был в том же положении бедствия, но становился на низшую ступень в разделе удовлетворения потребностей жизни. Французам не нужно было иметь верных сведений о том, что половина пленных, с которыми не знали, что делать, несмотря на все желание русских спасти их, – гибли от холода и голода; они чувствовали, что это не могло быть иначе. Самые жалостливые русские начальники и охотники до французов, французы в русской службе не могли ничего сделать для пленных. Французов губило бедствие, в котором находилось русское войско. Нельзя было отнять хлеб и платье у голодных, нужных солдат, чтобы отдать не вредным, не ненавидимым, не виноватым, но просто ненужным французам. Некоторые и делали это; но это было только исключение.
Назади была верная погибель; впереди была надежда. Корабли были сожжены; не было другого спасения, кроме совокупного бегства, и на это совокупное бегство были устремлены все силы французов.
Чем дальше бежали французы, чем жальче были их остатки, в особенности после Березины, на которую, вследствие петербургского плана, возлагались особенные надежды, тем сильнее разгорались страсти русских начальников, обвинявших друг друга и в особенности Кутузова. Полагая, что неудача Березинского петербургского плана будет отнесена к нему, недовольство им, презрение к нему и подтрунивание над ним выражались сильнее и сильнее. Подтрунивание и презрение, само собой разумеется, выражалось в почтительной форме, в той форме, в которой Кутузов не мог и спросить, в чем и за что его обвиняют. С ним не говорили серьезно; докладывая ему и спрашивая его разрешения, делали вид исполнения печального обряда, а за спиной его подмигивали и на каждом шагу старались его обманывать.
Всеми этими людьми, именно потому, что они не могли понимать его, было признано, что со стариком говорить нечего; что он никогда не поймет всего глубокомыслия их планов; что он будет отвечать свои фразы (им казалось, что это только фразы) о золотом мосте, о том, что за границу нельзя прийти с толпой бродяг, и т. п. Это всё они уже слышали от него. И все, что он говорил: например, то, что надо подождать провиант, что люди без сапог, все это было так просто, а все, что они предлагали, было так сложно и умно, что очевидно было для них, что он был глуп и стар, а они были не властные, гениальные полководцы.
В особенности после соединения армий блестящего адмирала и героя Петербурга Витгенштейна это настроение и штабная сплетня дошли до высших пределов. Кутузов видел это и, вздыхая, пожимал только плечами. Только один раз, после Березины, он рассердился и написал Бенигсену, доносившему отдельно государю, следующее письмо:
«По причине болезненных ваших припадков, извольте, ваше высокопревосходительство, с получения сего, отправиться в Калугу, где и ожидайте дальнейшего повеления и назначения от его императорского величества».
Но вслед за отсылкой Бенигсена к армии приехал великий князь Константин Павлович, делавший начало кампании и удаленный из армии Кутузовым. Теперь великий князь, приехав к армии, сообщил Кутузову о неудовольствии государя императора за слабые успехи наших войск и за медленность движения. Государь император сам на днях намеревался прибыть к армии.
Старый человек, столь же опытный в придворном деле, как и в военном, тот Кутузов, который в августе того же года был выбран главнокомандующим против воли государя, тот, который удалил наследника и великого князя из армии, тот, который своей властью, в противность воле государя, предписал оставление Москвы, этот Кутузов теперь тотчас же понял, что время его кончено, что роль его сыграна и что этой мнимой власти у него уже нет больше. И не по одним придворным отношениям он понял это. С одной стороны, он видел, что военное дело, то, в котором он играл свою роль, – кончено, и чувствовал, что его призвание исполнено. С другой стороны, он в то же самое время стал чувствовать физическую усталость в своем старом теле и необходимость физического отдыха.
29 ноября Кутузов въехал в Вильно – в свою добрую Вильну, как он говорил. Два раза в свою службу Кутузов был в Вильне губернатором. В богатой уцелевшей Вильне, кроме удобств жизни, которых так давно уже он был лишен, Кутузов нашел старых друзей и воспоминания. И он, вдруг отвернувшись от всех военных и государственных забот, погрузился в ровную, привычную жизнь настолько, насколько ему давали покоя страсти, кипевшие вокруг него, как будто все, что совершалось теперь и имело совершиться в историческом мире, нисколько его не касалось.
Чичагов, один из самых страстных отрезывателей и опрокидывателей, Чичагов, который хотел сначала сделать диверсию в Грецию, а потом в Варшаву, но никак не хотел идти туда, куда ему было велено, Чичагов, известный своею смелостью речи с государем, Чичагов, считавший Кутузова собою облагодетельствованным, потому что, когда он был послан в 11 м году для заключения мира с Турцией помимо Кутузова, он, убедившись, что мир уже заключен, признал перед государем, что заслуга заключения мира принадлежит Кутузову; этот то Чичагов первый встретил Кутузова в Вильне у замка, в котором должен был остановиться Кутузов. Чичагов в флотском вицмундире, с кортиком, держа фуражку под мышкой, подал Кутузову строевой рапорт и ключи от города. То презрительно почтительное отношение молодежи к выжившему из ума старику выражалось в высшей степени во всем обращении Чичагова, знавшего уже обвинения, взводимые на Кутузова.
Разговаривая с Чичаговым, Кутузов, между прочим, сказал ему, что отбитые у него в Борисове экипажи с посудою целы и будут возвращены ему.
– C'est pour me dire que je n'ai pas sur quoi manger… Je puis au contraire vous fournir de tout dans le cas meme ou vous voudriez donner des diners, [Вы хотите мне сказать, что мне не на чем есть. Напротив, могу вам служить всем, даже если бы вы захотели давать обеды.] – вспыхнув, проговорил Чичагов, каждым словом своим желавший доказать свою правоту и потому предполагавший, что и Кутузов был озабочен этим самым. Кутузов улыбнулся своей тонкой, проницательной улыбкой и, пожав плечами, отвечал: – Ce n'est que pour vous dire ce que je vous dis. [Я хочу сказать только то, что говорю.]
В Вильне Кутузов, в противность воле государя, остановил большую часть войск. Кутузов, как говорили его приближенные, необыкновенно опустился и физически ослабел в это свое пребывание в Вильне. Он неохотно занимался делами по армии, предоставляя все своим генералам и, ожидая государя, предавался рассеянной жизни.
Выехав с своей свитой – графом Толстым, князем Волконским, Аракчеевым и другими, 7 го декабря из Петербурга, государь 11 го декабря приехал в Вильну и в дорожных санях прямо подъехал к замку. У замка, несмотря на сильный мороз, стояло человек сто генералов и штабных офицеров в полной парадной форме и почетный караул Семеновского полка.
Курьер, подскакавший к замку на потной тройке, впереди государя, прокричал: «Едет!» Коновницын бросился в сени доложить Кутузову, дожидавшемуся в маленькой швейцарской комнатке.
Через минуту толстая большая фигура старика, в полной парадной форме, со всеми регалиями, покрывавшими грудь, и подтянутым шарфом брюхом, перекачиваясь, вышла на крыльцо. Кутузов надел шляпу по фронту, взял в руки перчатки и бочком, с трудом переступая вниз ступеней, сошел с них и взял в руку приготовленный для подачи государю рапорт.
- Родившиеся 13 июня
- Родившиеся в 1804 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Санкт-Петербурге
- Умершие 12 февраля
- Умершие в 1882 году
- Умершие в Санкт-Петербурге
- Похороненные в Сергиевой Приморской пустыни
- Кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного
- Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
- Кавалеры ордена Святого Владимира 1 степени
- Кавалеры ордена Святого Владимира 2 степени
- Кавалеры ордена Святого Владимира 3 степени
- Кавалеры ордена Святого Владимира 4 степени
- Кавалеры ордена Святого Александра Невского
- Кавалеры ордена Белого орла (Российская империя)
- Кавалеры ордена Святой Анны 1 степени
- Кавалеры ордена Святой Анны 2 степени
- Кавалеры ордена Святого Станислава 1 степени
- Кавалеры золотого знака ордена Virtuti Militari
- Кавалеры ордена Чёрного орла
- Кавалеры ордена Красного орла Большой крест
- Кавалеры ордена Красного орла 1-й степени
- Кавалеры ордена Красного орла 3-й степени
- Кавалеры ордена Красного орла 4-й степени
- Кавалеры Большого креста ордена Вюртембергской короны
- Кавалеры ордена Фридриха
- Кавалеры Большого креста Королевского венгерского ордена Святого Стефана
- Командоры Австрийского ордена Леопольда
- Кавалеры Большого креста ордена Данеброг
- Кавалеры Высшего ордена Святого Благовещения
- Кавалеры Большого креста ордена Спасителя
- Кавалеры ордена Таковского креста
- Кавалеры креста «За переход через Дунай» (Румыния)
- Кавалеры ордена Льва и Солнца 2 степени
- Главы Санкт-Петербурга
- Суворовы
- Выпускники Гёттингенского университета
- Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
- Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
- Костромские губернаторы
- Прибалтийские генерал-губернаторы
- Конногвардейцы
- Генералы от инфантерии (Российская империя)
- Флигель-адъютанты (Россия)
- Генерал-майоры Свиты
- Генерал-адъютанты (Российская империя)
- Члены Государственного совета Российской империи
- Общественные деятели Российской империи
- Благотворители Российской империи
- Почётные граждане Череповца
- Почётные члены Императорской Академии художеств
- Почётные члены Санкт-Петербургской академии наук