Публий Корнелий Сципион Африканский
| Публий Корнелий Сципион Африканский Старший лат. Publius Cornelius Scipio Africanus Maior | ||
| ||
|---|---|---|
| 216 год до н. э. | ||
| ||
| 213 год до н. э. | ||
| ||
| 211-183 годы до н. э. | ||
| ||
| 211-206 годы до н. э. | ||
| ||
| 205 год до н. э. | ||
| ||
| 204-201 годы до н. э. | ||
| ||
| 199 год до н. э. | ||
| ||
| 199, 194 годы до н. э. | ||
| ||
| 194 год до н. э. | ||
| ||
| 193, 190, 189 годы до н. э. | ||
| Рождение: | 235 до н. э. Рим | |
| Смерть: | 183 до н. э. Литерн[en] | |
| Род: | Корнелии | |
| Отец: | Публий Корнелий Сципион | |
| Мать: | Помпония | |
| Супруга: | Эмилия Павла | |
| Дети: | Публий Корнелий Сципион Луций Корнелий Сципион Корнелия Корнелия | |
Пу́блий Корне́лий Сципио́н Африка́нский Ста́рший (лат. Publius Cornelius Scipio Africanus Maior; 235 год до н. э., Рим — 183 год до н. э., Литерн[en], Кампания) — римский военачальник и политический деятель, консул 205 и 194 годов до н. э. Начал военную карьеру в 218 году до н. э. во время Второй Пунической войны. По данным некоторых источников, был одним из командиров тех солдат, которые смогли уцелеть при Каннах в 216 году.
После гибели отца и дяди в боях с карфагенянами в Испании Сципион стал командующим в этом регионе с полномочиями проконсула (211 год до н. э.). Он взял Новый Карфаген (209 год), разбил Гасдрубала Баркида при Бекуле в 208 году, уничтожил армии Магона Баркида и Гасдрубала, сына Гисгона при Илипе (206 год). В результате уже к концу 206 года до н. э. римляне контролировали все карфагенские владения в Испании, что имело решающее влияние на исход войны.
Вернувшись в Рим, Сципион добился избрания консулом и разрешения на высадку в Африке. В 203 году он уничтожил армии Гасдрубала, сына Гисгона, и нумидийского царя Сифакса, а потом ещё раз разбил Гасдрубала на Великих равнинах и поставил под свой контроль всю Нумидию. Это заставило Ганнибала вернуться из Италии на родину. В решающей битве при Заме Сципион разгромил Ганнибала (202 год), после чего заключил мир, по которому Карфаген уступил Риму Испанию, потерял флот и право вести самостоятельную внешнюю политику.
В последующие годы Сципион, получивший агномен Африканский, был самым влиятельным человеком в Римской республике. Он стал цензором и принцепсом сената (199 год), его родственники и выдвиженцы регулярно занимали высшие должности. Когда началась Сирийская война, он стал легатом при своём брате Луции, получившем командование, и фактически возглавил военные действия (190 год). В битве при Магнесии противник Рима Антиох III был полностью разбит и запросил мира.
По возвращении с Востока Публий Корнелий и его брат подверглись судебному преследованию со стороны политических противников, возглавленных Марком Порцием Катоном Старшим. Сципион Африканский отказался защищаться по существу предъявленных ему обвинений в измене и казнокрадстве и удалился в добровольное изгнание. Уже через год (в 183 году до н. э.) он умер на своей вилле в Кампании.
Содержание
- 1 Источники
- 2 Биография
- 3 Литературная деятельность
- 4 Личность
- 5 Изображения
- 6 Память о Сципионе в античную эпоху
- 7 В историографии
- 8 В культуре
- 9 Примечания
- 10 Источники и литература
- 11 Ссылки
Источники
Самым ранним из дошедших до нас источников, рассказывающих о Сципионе Африканском, является «Всеобщая история» Полибия. Её автор принадлежал к окружению внука своего героя — Сципиона Эмилиана, а поэтому был знаком со вдовой Сципиона Африканского, его дочерьми, зятьями, шурином и ближайшим другом — Гаем Лелием. Рассказы всех этих людей он мог использовать в работе[1]; при этом главным источником для ахейского историка стали рассказы Лелия[2]. Полибий описывает жизнь Сципиона от начала его военной карьеры (218 год до н. э.)[3] до его судебного преследования в 180-х годах[4]. Но большинство книг «Всеобщей истории», рассказывающих о Публии Корнелии, сохранились не полностью.
Публий Корнелий занимает важное место в «Истории Рима от основания города» Тита Ливия, который находился под заметным влиянием Полибия, но при этом использовал и утраченные труды римских анналистов[5]. Основные этапы жизненного пути Сципиона описываются в книгах XXI—XXXIX.
Плутарх посвятил Сципиону Африканскому одно из своих «Сравнительных жизнеописаний», находившееся в паре с биографией Эпаминонда и написанное, возможно, раньше всех остальных[6]. Оба этих сочинения были утрачены, но важные сведения, касающиеся Публия Корнелия, содержатся в жизнеописаниях Марка Порция Катона Цензора, Квинта Фабия Максима и Тита Квинкция Фламинина.
Ещё один греческий историк II века н. э. Аппиан Александрийский рассказал о войнах Сципиона Африканского в ряде книг своей «Римской истории», составленной по географическому признаку. Это книги «Иберийско-римские войны», «Пунические войны» и «Сирийские дела». Описание ряда военных кампаний и отдельных битв нередко превращается у Аппиана в набор мало связанных между собой эпизодов, но при этом писатель часто даёт альтернативные версии событий, и это говорит, что он опирается на дополибиеву традицию[7].
Отдельные эпизоды биографии Сципиона рассказаны более или менее подробно в латинских сборниках исторических анекдотов, созданных Валерием Максимом и Псевдо-Аврелием Виктором, и в ряде общих обзоров римской истории, написанных как язычниками (Гай Веллей Патеркул, Луций Анней Флор, Евтропий), так и христианами (Павел Орозий).
В историографии Сципион Африканский неизбежно фигурирует во всех общих обзорах истории Римской республики (например, у Т. Моммзена[8] и С. Ковалёва[9]). В силу своей роли он является одной из главных фигур во всех трудах по истории Пунических войн (например, у И. Шифмана[10], С. Ланселя[11], Е. Родионова[12]), а также в ряде монографий и статей по истории античной Испании[13]. Внутриполитической борьбе в Риме, совпавшей с поздним этапом жизни Публия Корнелия, посвящены несколько научных трудов, в которых изучается по преимуществу биография главного оппонента Сципиона — Катона Старшего[14][15][16]. В монографии советского историка Н. Трухиной Сципион Африканский стал одним из главных героев наряду со Сципионом Эмилианом[17].
Преимущественно биографии Публии Корнелия посвящены книги российского исследователя Т. Бобровниковой[18], англичан Б. Г. Лиддел Гарта[19] и Х. Скалларда[20], американца Хейвуда[21].
Биография
Происхождение
Сципион принадлежал к одному из самых знатных и разветвлённых родов Рима, имевшему этрусское происхождение[22][23], — Корнелиям. Когномен Сципион (Scipio) античные писатели считали происшедшим от слова посох: «Корнелий, который [своего] тёзку — отца, лишённого зрения, направлял вместо посоха, был прозван Сципионом и передал это имя потомкам»[24]. Самого раннего носителя этого когномена звали Публий Корнелий Сципион Малугинский; отсюда делается предположение, что Корнелии Сципионы были ветвью Корнелиев Малугинских[25].
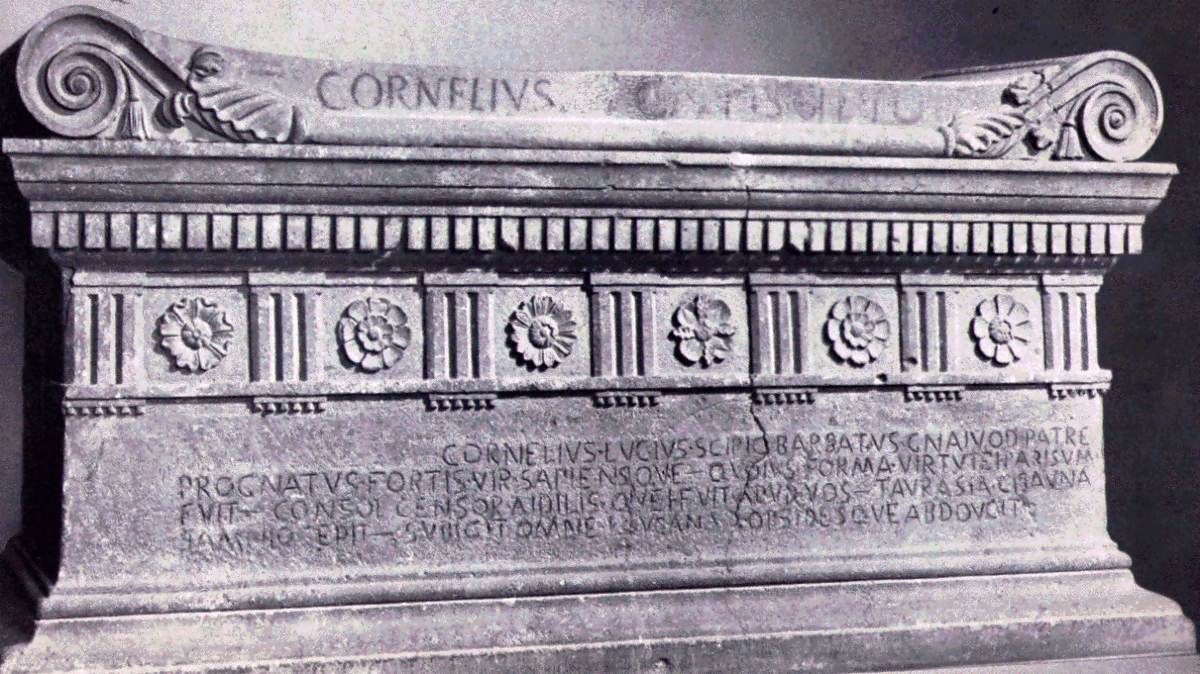 Представители этой ветви рода получали консульство в каждом поколении. Прадед Публия Луций Корнелий Сципион Барбат, консул 298 года до н. э.[26], сражался при Сентине; дед, тоже Луций, консул 259 года[27], во время Первой Пунической войны изгнал карфагенян с Корсики; дядя, Гней Корнелий Сципион Кальв, был консулом в 222 году[28] и одержал победу над инсубрами, а отец, первый Публий в этой ветви рода, достиг консульства в 218 году[29], когда его сыну было 16 лет.
Представители этой ветви рода получали консульство в каждом поколении. Прадед Публия Луций Корнелий Сципион Барбат, консул 298 года до н. э.[26], сражался при Сентине; дед, тоже Луций, консул 259 года[27], во время Первой Пунической войны изгнал карфагенян с Корсики; дядя, Гней Корнелий Сципион Кальв, был консулом в 222 году[28] и одержал победу над инсубрами, а отец, первый Публий в этой ветви рода, достиг консульства в 218 году[29], когда его сыну было 16 лет.
Сципионы поддерживали хорошие отношения с лидерами демократического движения — Гаем Фламинием и Гаем Теренцием Варроном[30][31]. Их причисляют к той аристократической группировке, которую возглавляли Эмилии и к которой относились также Ливии, Сервилии, Папирии, Ветурии, Лицинии. Враждебная им группировка включала Атилиев, Манлиев, Отацилиев, Манилиев, Огульниев, Леториев, Фульвиев и Фабиев; последние были ядром этой аристократической «фракции», к которой временами тяготели ещё Клавдии, Валерии, Сульпиции, Марции, Юнии[32].
При наличии политического влияния Сципионы были небогаты: так, известно, что одна из двоюродных сестёр Публия Корнелия после смерти отца получила от государства скромное приданое в 40 тысяч ассов[31]. В числе первых среди римлян Сципионы подверглись влиянию греческой культуры: уже саркофаг Сципиона Барбата (начало III века до н. э.) имел во внешнем облике общие черты с греческим храмом. Образование в эллинском духе сочеталось у этой ветви Корнелиев с воспитанием чисто римских добродетелей[31].
Мать Сципиона принадлежала к плебейскому роду Помпониев. Два его представителя, Маний и Марк, были консулами в 233 и 231 годах до н. э. соответственно, вскоре после рождения Публия Корнелия, который мог приходиться внуком одному из них или племянником им обоим[33].
Публий Корнелий был одним из двух детей. Полибий называет его младшим после Луция[34], но это опровергают данные других источников[35][36][37] и ономастики[38]. К тому же Луций Корнелий проходил cursus honorum с существенным отставанием[39].
Ранние годы
Рождение Публия Корнелия источники датируют 235 годом до н. э.[2][40][41][30] Правда, Полибий в одном месте своего труда пишет, что Сципион начал войну в Испании в возрасте двадцати семи лет[42], но здесь речь может идти о первых реальных успехах, относящихся к 209 году до н. э., что даёт дату, близкую к первой, — 236 год[43].
Плиний Старший утверждает, что рождение Публия Корнелия стоило жизни его матери[44]. О смерти Помпонии при родах сообщает и Силий Италик[45]. В действительности здесь явная ошибка: Публий, скорее всего, был не последним из детей Помпонии, которая к тому же упоминается в связи с эдилитетом сына[46]. Н. Трухина относит к Сципиону слова Плиния Старшего «первый из Цезарей, прозванный так от разрезанного чрева его матери»[44], предполагая, что Плиний перепутал слова «пышноволосый» («Цезарь») и «иссечённый» («Цезон»)[47]. Сципион же действительно отличался прекрасными длинными волосами[48].
О детстве Публия Корнелия ничего не известно[49]. Его юность была беспутной[50]; Авл Геллий цитирует Невия, рассказавшего об одной пикантной истории:
Того, кто много славных дел своей рукою совершил,
Чьи подвиги ещё живут, кому дивятся все народы,
Того отец в одном плаще сам вывел от подруги.— Авл Геллий. Аттические ночи. VII, 8, 5.[51]
В 218 году до н. э., когда Рим объявил войну Карфагену, отец Публия Корнелия был одним из консулов. По итогам жеребьёвки ему досталось командование в Испании: здесь Сципион должен был воевать с Ганнибалом[52]. На кораблях римская армия двинулась на запад; в её составе был и Публий Корнелий-младший, которому было тогда семнадцать лет и для которого это была первая кампания[2].
Высадившись в устье Родана, римляне узнали, что Ганнибал тоже приближается к этой реке в своём походе через Галлию. Не сумев принудить противника к сражению, консул снова погрузил армию на корабли и с частью сил (остальные были отправлены в Испанию) вернулся в Пизу, чтобы противостоять карфагенянам в Цизальпийской Галлии, если они смогут перейти Альпы.
В конце 218 года произошло первое относительно крупное сражение этой войны — битва при Тицине. Здесь сражались только кавалерия и легковооружённая пехота, и римляне потерпели поражение. Во время схватки, увидев, что его отец подвергся нападению сразу нескольких вражеских конников, Публий Корнелий-младший в одиночку бросился на помощь. Враги бежали, а Сципион таким образом заслужил дубовый венок, вручавшийся за спасение гражданина на поле боя (corona civica)[53]; правда, он отказался от этой почётной награды, сказав, что «деяние само содержит в себе награду»[54]. По словам Ливия, Целий Антипатр утверждал, что консула в этом бою спас какой-то раб-лигур[55], но этот анналист опирался на труд Фабия Пиктора, враждебного Сципионам[56].
Некоторое время после этого источники ничего не сообщают о Публии Корнелии-младшем. Ливий вкладывает в его уста слова о том, что он присутствовал при самых страшных поражениях римского оружия[57]; это могли быть сражения при Треббии, у Тразименского озера и при Каннах. После первой из этих битв отец Сципиона отправился в Испанию, и сыновья его больше уже не увидели[58]. Об участии Публия Корнелия в битве при Каннах сообщает Ливий, тогда как Полибий, опиравшийся на рассказы друзей Сципиона, об этом молчит, и некоторые историки считают это молчание решающим аргументом[38]. Х. Скаллард видит убедительное доказательство того, что Сципион сражался при Каннах, в монете с его изображением, отчеканенной в расположенном неподалёку от места битвы Канузии[59].
Согласно ливианской версии, Сципион был при Каннах военным трибуном во Втором легионе[60][26]. Возможно, уже к этому времени он был женат на Эмилии Терции и соответственно приходился зятем одному из консулов Луцию Эмилию Павлу, который в этой битве погиб. Второй консул, Гай Теренций Варрон, был спасён в бою Публием Корнелием, если верить одному позднему источнику[61].
После битвы Сципион оказался в числе уцелевших, собравшихся в Канузии, и здесь был выбран одним из двух командиров — наряду с Аппием Клавдием Пульхром[62]. Часть беглецов во главе с Марком Цецилием Метеллом, поддавшись панике, решила уплыть из Италии и поступить на службу к какому-нибудь правителю. Но Сципион, узнав об этих планах, ворвался в помещение, где собирались заговорщики, с обнажённым мечом, заставил паникёров поклясться в верности Риму и взял их под стражу[63][64][65].
Узнав о том, что консул Варрон спасся, Сципион и Пульхр наладили с ним связь. Вскоре Марк Теренций привёл свой отряд в Канузий и принял командование[66]. Позже, отправляясь в Рим по вызову сената, он оставил Сципиона своим заместителем[67].
В последующие годы Публий Корнелий был избран курульным эдилом. Согласно Полибию, он выдвинул свою кандидатуру только для того, чтобы поддержать старшего брата, не имевшего в одиночку никаких шансов; в результате были избраны оба[46]. В действительности Луций Корнелий (вне зависимости от того, старшим или младшим из братьев он был) стал эдилом только в 195 году до н. э.[68], а коллегой Публия был его сородич Марк Корнелий Цетег. Классический справочник Томаса Броутона датирует эдилитет Сципиона 213 годом до н. э., другие историки — 212[69][70][71][72] или 211 годом[73]. В любом случае Публий Корнелий не достиг ещё необходимого для этой магистратуры возраста, но народным трибунам, пытавшимся воспрепятствовать его избранию, он заявил: «Если все граждане хотят избрать меня эдилом, то мне достаточно лет»[74].
В 212 году до н. э. Публий Корнелий участвовал в осаде Капуи[75]. Не позже, чем в 211 году[76], он стал членом жреческой коллегии салиев, в которой состоял, по крайней мере, до 190 года до н. э. В том же 211 году он собирался отправиться в Испанию, где воевали его отец и дядя, в составе армии претора Гая Клавдия Нерона, но, находясь в Путеолах[77], узнал, что и Публий-старший, и Гней были разгромлены карфагенянами и погибли. Это трагическое известие радикально изменило ход его карьеры.
Командование в Испании
В 211 году до н. э., после взятия Капуи, римляне начали рассматривать испанский театр военных действий в качестве приоритетного. Главной задачей римского командования стало лишить Ганнибала помощи с Пиренейского полуострова, богатого людьми и драгоценными металлами; для этого решено было отправить в Испанию нового проконсула[78].
Выбор был предоставлен народному собранию. Поскольку ситуация в Испании после разгрома двух римских армий была слишком сложной, никто не предложил свою кандидатуру. Когда уже «всех охватил ужас, угрюмое молчание повисло над собранием», на возвышение поднялся Сципион, произнёсший речь об отце и дяде и заявивший, что станет достойным мстителем врагу как за них, так и за родину[79]. Народ тут же избрал его проконсулом. Правда, сенаторы назвали слова Публия Корнелия юношеской похвальбой, но он в ответ пообещал уступить командование любому, кто превосходит его годами и заслугами. Когда никто не вызвался, назначение было утверждено[80]. Новому проконсулу было тогда всего 24 года[81][82][83].
Существует гипотеза, согласно которой Сципион получил своё назначение по инициативе сената, в котором была сильна «фракция» Корнелиев. «Отцы» добились того, чтобы Сципион стал единственным кандидатом[84][85][86]. Аргументами «против» являются явная враждебность сената по отношению к Публию Корнелию в последующие годы и принципиальная невозможность убедить всех римских аристократов, чтобы они не претендовали на почётную должность[86][87][88].
В конце лета 210 года Сципион отбыл морем в свою провинцию. С ним были 10 тысяч пехоты и одна тысяча конницы, к которым он присоединил 13-тысячную армию пропретора Нерона, уже находившуюся на Пиренеях. Этим скромным силам на полуострове противостояли три карфагенские армии во главе с братьями Ганнибала Гасдрубалом и Магоном, а также с Гасдрубалом, сыном Гисгона. Объединение даже двух из них грозило войску Сципиона неминуемой гибелью. Но положение римлян улучшали обширность театра военных действий, разобщённость карфагенян и недовольство кельтиберов пунийской властью[89].
Стратегия Публия Корнелия коренным образом отличалась от стратегии его предшественников в этом регионе. Сципион сделал районом постоянного базирования римской армии греческие города к северу от реки Ибер, предпринимая отсюда масштабные, но кратковременные рейды на юг и юго-запад. При вербовке вспомогательных войск он отдавал предпочтение иберийцам с севера, в которых поддерживал надежды на свободный союз; при этом туземные части никогда не играли важную роль в его армии. Действуя против карфагенских полководцев, он использовал их разобщённость. В результате всего за четыре кампании Публий Корнелий поставил под контроль Рима обширную страну, что стало уникальным свершением для той эпохи[90].
Разгром карфагенских армий
 Первую зимовку в Тарраконе на севере Испании Сципион использовал для того, чтобы снискать популярность у своей армии и завязать первые контакты с кельтиберами. Весной 209 года он создал у своих подчинённых уверенность в том, что на эту кампанию запланирован разгром поодиночке всех трёх карфагенских армий, и выступил на юг. Только Гай Лелий, возглавивший флот, знал, что истинная цель похода — Новый Карфаген.
Первую зимовку в Тарраконе на севере Испании Сципион использовал для того, чтобы снискать популярность у своей армии и завязать первые контакты с кельтиберами. Весной 209 года он создал у своих подчинённых уверенность в том, что на эту кампанию запланирован разгром поодиночке всех трёх карфагенских армий, и выступил на юг. Только Гай Лелий, возглавивший флот, знал, что истинная цель похода — Новый Карфаген.
Этот город, обладавший удобной гаванью, был главной базой карфагенского владычества в Испании. Между тем защищал его относительно небольшой гарнизон, а карфагенские армии находились на расстоянии минимум десяти дневных переходов. Римские войско и флот появились под Новым Карфагеном одновременно. Сципион отбил вылазку карфагенян и начал штурм города; при этом он, лично не участвуя в схватке, появлялся в самых ответственных местах в сопровождении трёх щитоносцев. Защитники смогли отбить первый штурм, но вскоре лагуна, закрывавшая подступы к городу с запада, сильно обмелела, и римские солдаты смогли перейти её вброд и ворваться в город. Остатки гарнизона капитулировали[91][92][93].
В результате этой победы Сципион захватил не только крайне важный опорный пункт, но ещё и огромные материальные ценности: только драгоценных металлов во взятом городе было на 600 талантов[94]; римляне захватили много зерна, 70 кораблей, большое количество военного снаряжения[95][96]. В их руках оказались триста знатных иберийских заложников. Источники сообщают в связи с этим о «великодушии Сципиона», который получил в дар от своих солдат прекрасную пленницу, но отдал её жениху. Тот, благодарный проконсулу, привёл в его армию большой конный отряд[97].
Больше в 209 году военные действия не велись. До начала следующей кампании Сципион смог благодаря обладанию заложниками заключить союз с рядом испанских племён, включая илергетов, чья измена Риму когда-то стоила жизни его отцу[98]. В этой ситуации Гасдрубал Баркид решил дать римлянам большое сражение, пока у него были на это силы; планам Публия Корнелия это вполне соответствовало[99][98].
Встреча двух армий произошла при Бекуле. Карфагеняне заняли сильную позицию на высоком холме, так что Сципион два дня не решался начать сражение. Наконец, боясь появления других карфагенских военачальников, Публий Корнелий одновременной атакой с трёх сторон (сам он командовал левым флангом) обратил противника в бегство, нанеся ему потери до 20 тысяч человек убитыми и пленными[100][101]. Римляне заняли лагерь противника, и сразу после этого появились Магон и Гасдрубал, сын Гисгона; оценив диспозицию, карфагеняне ушли, не вступив в бой[102].
 После этой победы иберы стали называть Сципиона царём, но тот объяснил, что предпочитает считать себя человеком с царственной душой[103][104], а называть его лучше императором. Вероятно, это применение временного почётного наименования на постоянной основе может говорить об экстраординарном положении Публия Корнелия в Испании[105].
После этой победы иберы стали называть Сципиона царём, но тот объяснил, что предпочитает считать себя человеком с царственной душой[103][104], а называть его лучше императором. Вероятно, это применение временного почётного наименования на постоянной основе может говорить об экстраординарном положении Публия Корнелия в Испании[105].
Гасдрубал после этого поражения двинулся в Италию, на соединение со старшим братом, а Публий Корнелий не стал его преследовать, сосредоточившись на борьбе с двумя оставшимися в Испании вражескими армиями, к которым, правда, присоединилось войско Ганнона; таким образом, битва при Бекуле не улучшила положение римлян[106]. Моммзен считал даже, что победа эта была сомнительной и что Сципион не справился со своей задачей, став виновником крайне опасного положения, в котором оказался Рим. Публию Корнелию, по мнению германского историка, просто повезло, когда консулы 207 года смогли уничтожить армию Гасдрубала вместе с командующим на реке Метавр[107].
В 207 году Сципион отправил пропретора Марка Юния Силана с 10-тысячным корпусом против Ганнона и Магона. Силан практически полностью уничтожил разрозненные силы противника. После этого сам Публий Корнелий выступил против Гасдрубала, сына Гисгона, но тот, не желая вступать в сражение, рассредоточил свою армию по ряду сильных крепостей. Сципион, признав эту идею превосходной, отступил. Своего брата Луция он отправил взять стратегически важный город Оронгий и, когда эта миссия удалась, постарался преувеличить значение этой победы (в первую очередь ради брата). Затем Сципион снова отправился в Тарракон на зимовку[108][109][110].
Следующий год, 206 до н. э., стал решающим для судеб Испании. Гасдрубал, сын Гисгона, и Магон Баркид объединились, чтобы дать римлянам генеральное сражение; их армия насчитывала от 54[111] до 74[112] тысяч воинов. Сципион смог противопоставить этой внушительной силе 43 тысячи человек, существенную часть которых, правда, составляли иберы[113].
В сражении при Илипе Публий Корнелий осуществил сложный замысел. Несколько дней подряд он в одно и то же время выводил из лагеря войско, построенное в определённом порядке (легионеры в центре, иберы на флангах), но битву не начинал. Наконец, в решающий день он вывел армию раньше обычного и построенную по-новому: иберы в центре, а на флангах — римские легионы. Последние пошли на сближение с противником быстрее, чем центр. В результате лучшие части римлян атаковали наименее боеспособные части карфагенской армии (иберов и балеарцев), а ливийская пехота, занимавшая середину карфагенского боевого порядка, вынуждена была бездействовать, ожидая приближения иберов, сражавшихся за римлян. Тем не менее упорная схватка шла до полудня, пока у воинов карфагенской стороны, оставшихся в этот день без завтрака, не начали иссякать силы[114]. При этом Аппиан утверждает, будто на решающую атаку, принёсшую успех, римлян сподвиг личный пример проконсула[115].
Это описание, составленное в основном Полибием, не вполне ясно: так, историк ничего не сообщает о действиях сильной пунийской конницы; полное бездействие ливийской пехоты во время полномасштабного сражения на флангах выглядит не совсем правдоподобно. К тому же источники не сообщают о потерях римлян и о попытках Сципиона взять на следующий день лагерь, в котором укрылся противник. Возможно, победа далась римской армии высокой ценой[116]. Но в любом случае Публий Корнелий одержал полную победу. Карфагеняне ночью бежали из лагеря, но римляне их настигли и учинили резню, в которой спаслись только шесть тысяч воинов, организовавших оборону на высоком холме. Поскольку держаться здесь долго было нельзя, осаждённые начали переходить на сторону противника, и в конце концов Магон и Гасдрубал морем бежали в Гадес с горсткой людей. Теперь у карфагенян не осталось на Пиренейском полуострове каких-либо вооружённых сил, кроме гарнизона Гадеса[117].
Нумидийцы и иберы
Сам Сципион рассматривал победу при Илипе как перелом во всей войне. На поздравления своих подчинённых после очередной победы он ответил: «До сих пор карфагеняне воевали против римлян, теперь судьба дозволяет римлянам идти войной на карфагенян»[118]. Проконсул начал думать над переносом боевых действий в Африку. Он направил Лелия к царю масайсилиев Сифаксу, который раньше был союзником Рима, но перешёл на другую сторону. Когда посол получил предварительный положительный ответ, Сципион сам отправился к царю. Источники рассказывают, что две римские пентеры едва не погибли при случайной встрече с карфагенскими военными кораблями. В один день с Публием Корнелием к Сифаксу прибыл Гасдрубал, сын Гисгона, и враги возлежали рядом на пиру. Позже Гадрубал признался, что в дружеской беседе Сципион показался ему ещё опаснее, чем на поле битвы[119][120]. Публий Корнелий заключил с царём союзный договор, условия которого неизвестны[121].
Тем временем в Испании шла война с иберами, ранее изменившими союзу с Римом. Сципион возглавил осаду упорно оборонявшегося города Илитургис и довёл её до победы; всё население города в наказание было перебито. После этого крепость Кастулон сдалась без боя, и Публий Корнелий вернулся в Новый Карфаген организовывать поминальные игры в честь отца и дяди, тогда как Луций Марций подавлял последние очаги сопротивления[122].
Вскоре Сципион заболел, причём настолько серьёзно, что распространились даже слухи о его смерти. Это вызвало восстания недавно покорившихся иберов и мятеж части римской армии, расквартированной в Сукроне. Выздоровев, Публий Корнелий заманил мятежников в Новый Карфаген, где они были окружены войсками, сохранившими верность Риму. Главари бунтовщиков были немедленно казнены, а остальные покорились и получили прощение. Затем Сципион разбил в двух сражениях иберов. Их вожди Индибил и Мандоний тоже были помилованы[123][124].
В том же году Магон Баркид отправился из Испании в Лигурию, чтобы затем двинуться на соединение с братом, а жители Гадеса сразу после этого сдали город римлянам. В результате на территории Испании не осталось ни одного карфагенского воина. Ганнибал уже не мог больше рассчитывать на помощь со стороны Пиренеев, и это предрешило исход всей войны[125].
Последним успехом Сципиона в Испании стал его тайный союз с нумидийским царевичем Массиниссой, который возглавлял лёгкую конницу в составе карфагенских войск. Ещё при Бекуле римляне взяли в плен племянника Массиниссы Массиву. Сципион дал пленнику свободу, и это событие стало началом нового этапа в римско-нумидийских отношениях[126]. Перед отъездом в Италию Публий Корнелий встретился с царевичем, предприняв для этого далёкую поездку из Тарракона на юг. Источники сообщают о большой симпатии, которую почувствовали друг к другу участники встречи, и о благоговении Массиниссы перед молодым, но уже прославленным полководцем. Царевич поклялся служить Риму и лично Сципиону и выразил надежду на скорейший перенос войны в Африку[127][105].
Покидая Испанию, Публий Корнелий пошёл на большие уступки местным племенам, поскольку торопился в Рим до начала консульских выборов и хотел оставить провинцию полностью замиренной. Он не оставил гарнизоны в землях покорённых племён, не потребовал их разоружения и даже не взял заложников. Следствием этого стало восстание уже при преемниках Сципиона[128].
В историографии отмечают, что Публий Корнелий установил римское влияние в Испании исключительно за счёт установления личных отношений союза и дружбы с вождями отдельных местных племён и невмешательства римлян во внутренние дела общин. На начальном этапе и в условиях войны с Карфагеном это был единственно возможный вариант замирения обширного региона с крайне разнородным населением. Но в результате сенат фактически не контролировал Римскую Испанию, и все выгоды от обладания этими территориями получали до установления провинциального правления в 197 году до н. э. только Корнелии и их клиенты[129].
Консульство
В конце 206 года до н. э. Сципион вернулся в Италию и отчитался перед сенатом о своих успехах: он разбил четыре неприятельские армии и очистил от врага провинцию. Тем не менее «отцы» отказали ему в триумфе, сославшись на то, что победитель занимал экстраординарную магистратуру[125][130]; его заслуги были почтены только гекатомбой — принесением в жертву ста быков. В историографии это связывают с наличием в сенате сильной оппозиции Сципиону, которую возглавляли Квинт Фабий Максим и Квинт Фульвий Флакк[131][132].
В противоположность сенаторам народ встретил Сципиона с восторгом. Публий Корнелий стал всеобщим героем: целые толпы собирались у его дома и сопровождали его на Форум. От Сципиона ждали, что именно он, победив врага в Испании, перенесёт войну в Африку и добьётся, наконец, мира. В результате на выборах консулов на 205 год он одержал безоговорочную победу[133][134]. Его коллега Публий Лициний Красс Див, будучи верховным понтификом, не мог покидать Италию и поэтому получил в качестве провинции Бруттий, а Сципиону без жеребьёвки досталась Сицилия, рассматривавшаяся как плацдарм для высадки в Африке[135].
Идея такой высадки не могла не встретить сопротивление в сенате, а поэтому Публий Корнелий ещё до обсуждения попытался надавить на «отцов», дав им понять, что в случае отказа обратится к народному собранию. Тем не менее Квинт Фабий заявил, что в первую очередь надо разбить Ганнибала в Италии и что военные действия в Африке вообще сопряжены с непреодолимыми трудностями. Квинт Фульвий Флакк подверг критике демагогическую позицию Сципиона[136]. Г. Скаллард предположил, что противодействие этих политиков планам Публия Корнелия было связано с разными взглядами на цели войны: Фабий и Фульвий могли иметь в виду только оборону и вытеснение Ганнибала из Италии, тогда как Сципион добивался полного разгрома Карфагена[137]. Другие историки настаивают на отсутствии принципиальных разногласий и на обычной борьбе за должности и почести[138][132].
Народные трибуны потребовали от Публия Корнелия сделать окончательный выбор инстанции, которой он предоставит решение вопроса; тот выбрал сенат, и «отцы» всё-таки одобрили заморскую экспедицию, но не разрешили Сципиону провести воинский набор. Консул должен был вести на Карфаген только добровольцев и те подразделения, которые после поражения при Каннах были лишены права на возвращение в Италию до конца войны; на 205 год до н. э. они составляли два легиона[139][140][141].
Публий Корнелий набрал в Италии семь тысяч человек; это были в основном марсы, умбры, пелигны и сабиняне. Этрурия дала ему много продовольствия, лес для строительства флота, оружие и воинское снаряжение. Один только город Арретий дал три тысячи шлемов и столько же щитов, а также множество других необходимых для армии вещей[142]. С добровольцами консул переправился на Сицилию. Здесь он добился поддержки местного населения, вернув грекам имущество, утраченное во время военных действий[143][144]. Источники рассказывают, как Сципион снабдил триста своих отборных людей лошадьми, взяв последних у сицилийских аристократов в качестве откупа от военной службы[145][146].
Гай Лелий предпринял разведку боем — напал на африканское побережье и не только захватил добычу, но ещё и встретился с Массиниссой, который передал через него Сципиону просьбу высадиться поскорее и обещание предоставить вспомогательные конные отряды. Этот набег продемонстрировал уязвимость африканских владений Карфагена и наличие в этом регионе союзников Рима. Правда, Сифакс позже прислал письмо с требованием не высаживаться в Африке и с сообщением, что он поддерживает карфагенян, но содержание этого письма Сципион от всех скрыл[147].
Положение Сципиона и перспективы готовившейся экспедиции стали ещё более благоприятными, когда Публий Семпроний Тудитан (товарищ Публия Корнелия по Каннам) заключил мир с Македонией. Кроме того, жрецы-децемвиры «выяснили», что изгнать Ганнибала из Италии поможет Великая Матерь богов, которую поэтому «переселили» в Рим. Сторонники Сципиона использовали это для придания миссии Публия Сципиона сакрального характера. В апреле 204 года священный камень, считавшийся воплощением богини, привезли в Италию, где её встретил специально избранный «лучший муж в государстве» — Публий Корнелий Сципион Назика, двоюродный брат на тот момент уже проконсула[148][132].
Серьёзная угроза для похода и всей карьеры Сципиона возникла из-за города Локры в Бруттии, который войска Публия Корнелия отбили у Ганнибала. Размещённый в городе гарнизон во главе с легатом Квинтом Племинием начал такие бесчинства, что локрийцы обратились в римский сенат с жалобой. «Отцы» во главе с Квинтом Фабием начали расследование, по итогам которого Сципион мог даже лишиться властных полномочий, но в ходе ожесточённых дебатов последнее слово осталось всё же за союзниками Публия Корнелия во главе с Квинтом Цецилием Метеллом[149]. Квинт Племиний был признан основным виновником случившегося и отправился в тюрьму, где вскоре умер. В Сиракузы направили специальную сенатскую комиссию, которую возглавил один из Помпониев — или дядя, или двоюродный брат Сципиона[150]. Правда, были в ней ещё двое плебейских трибунов и плебейский эдил, которые должны были в случае необходимости арестовать проконсула, а если он уже отплыл в Африку — приказать ему возвращаться. Но комиссия осталась очень довольна уровнем подготовки экспедиции, и Публий Корнелий получил окончательное разрешение отправляться в заморскую экспедицию[151][152].
Африканская экспедиция
Кампании 204—203 годов до н. э.
 Сципион отплыл от берегов Сицилии летом 204 года до н. э. уже в качестве проконсула[153] с армией, насчитывавшей от 15 до 35 тысяч солдат[154]. Высадка произошла недалеко от Утики[155]. Римляне, к которым присоединился Массинисса, разбили два карфагенских отряда, заняли несколько городов и попытались взять Утику, но её защитники отбили все штурмы. Вскоре подошли внушительные силы карфагенян и союзных с ними нумидийцев во главе с Гасдрубалом, сыном Гисгона, и Сифаксом (под их командованием было более 80 тысяч воинов), и Сципиону пришлось отступить на выступавшую в море голую косу. Там римская армия и зазимовала[156][157][158].
Сципион отплыл от берегов Сицилии летом 204 года до н. э. уже в качестве проконсула[153] с армией, насчитывавшей от 15 до 35 тысяч солдат[154]. Высадка произошла недалеко от Утики[155]. Римляне, к которым присоединился Массинисса, разбили два карфагенских отряда, заняли несколько городов и попытались взять Утику, но её защитники отбили все штурмы. Вскоре подошли внушительные силы карфагенян и союзных с ними нумидийцев во главе с Гасдрубалом, сыном Гисгона, и Сифаксом (под их командованием было более 80 тысяч воинов), и Сципиону пришлось отступить на выступавшую в море голую косу. Там римская армия и зазимовала[156][157][158].
В течение зимы Сципион вёл активные переговоры с Сифаксом и Гасдрубалом, притворно предлагая им мир. Его настоящей целью было усыпить бдительность противника и провести тщательную разведку; решающую роль при разработке плана нападения на вражеские лагеря сыграло известие о том, что карфагенские и нумидийские воины живут в жилищах, сделанных из дерева и тростника[159][160].
Весной 203 года до н. э., в одну из ночей, Сципион вывел из лагеря большую часть своих воинов. Половина римского войска во главе с Гаем Лелием выступила к лагерю Сифакса, вторая половина во главе с самим проконсулом — к лагерю Гасдрубала. Сначала Лелий поджёг нумидийские шалаши, а когда карфагеняне, увидев пожар, вышли из своих жилищ, чтобы помочь своим союзникам или просто посмотреть на это зрелище, воины Сципиона напали на них и подожгли и второй лагерь. Противник понёс ужасающие потери: по данным Ливия, от огромной армии осталось не более двух тысяч пехотинцев и пятисот всадников. Из римлян же почти никто не погиб[161].
В течение следующего месяца Сципион осаждал Утику. Гасдрубал и Сифакс собрали ещё одну армию в 30 тысяч воинов и сконцентрировали её на Великих Равнинах. Здесь Сципион атаковал врага. Его конница быстро обратила в бегство новобранцев, стоявших на флангах противника, и после этого сопротивление продолжал только четырёхтысячный отряд кельтиберов, практически полностью уничтоженный[162]. Одержав эту победу, Сципион разделил свою армию на две части. Сам он двинулся на Карфаген и без боя занял Тунет, так что от вражеской столицы римлян отделяли только три мили. Карфагеняне в ответ попытались уничтожить римский флот, стоявший у Утики; Публий Корнелий организовал оборону, так что римляне смогли отразить атаки, потеряв шестьдесят транспортных кораблей, но ни одного боевого[163][164].
Тем временем другая часть римской армии во главе с Гаем Лелием, подкреплённая конницей Массиниссы, двинулась вглубь Нумидии в погоню за Сифаксом. Царь масайсилиев собрал ещё одну армию, но потерпел поражение и был взят в плен. Союзники заняли его столицу и захватили его жену Софонисбу (дочь Гасдрубала, сына Гисгона), которую античные авторы считают виновницей перехода Сифакса на сторону Карфагена. Массинисса, когда-то помолвленный с Софонисбой, тут же на ней женился. Сципион, чтобы исключить вероятность союза Массиниссы с врагами Рима, приказал ему выдать жену как часть добычи; в результате Софонисба покончила с собой. Публий Корнелий уже на следующий день провозгласил Массиниссу царём Нумидии[165][166][167]. Сифакс же некоторое время находился при особе Сципиона, и поздние авторы сравнивали его положение с положением Крёза при Кире Великом[168]. Но вскоре Публий Корнелий отослал пленного царя в Италию, и тот умер в заключении.
Укрепив таким образом свои позиции в Африке, Сципион снова расположился лагерем под Тунетом. Карфагеняне сразу после битвы на Великих Равнинах направили Ганнибалу приказ вернуться из Италии, а теперь, чтобы протянуть время, предложили проконсулу начать переговоры о мире. Тот выдвинул условия: вывод войск из Италии и Галлии, отказ от Испании, выдача пленных, перебежчиков и беглых рабов, уменьшение военного флота до 20 кораблей, выплата контрибуции. Карфагеняне эти условия приняли и направили посольство в Рим для заключения мирного договора[169][170].
О дальнейших событиях два основных источника — Ливий и Аппиан — рассказывают по-разному. Согласно Ливию, римский сенат понял, что карфагеняне просто тянут время, и приказал Сципиону продолжать войну[171]; согласно Аппиану, сенат передал Публию Корнелию право вынести решение, и тот согласился заключить мир. Стороны обменялись послами[172], но тем временем карфагеняне напали на римскую эскадру, пострадавшую от бури, а потом ещё и оскорбили посланников Сципиона, так что перемирие было разорвано[173]. Примерно в те же дни в Африку вернулся Ганнибал. Военные действия возобновились уже в следующем, 202 году до н. э.
Зама
 Единственным событием последнего года войны, о котором сообщают все основные источники, стала битва при Заме. Правда, у Фронтина есть сообщение об одной военной хитрости Сципиона. Вскоре после прибытия в Африку Ганнибала проконсул предпринял ряд обманных манёвров; карфагенский полководец собрал гарнизоны нескольких окрестных городов и попытался навязать врагу генеральное сражение, но Сципион уклонился от боя, а тем временем Массинисса занял города, оставшиеся без защиты[174]. В историографии это сообщение считается малодостоверным[175].
Единственным событием последнего года войны, о котором сообщают все основные источники, стала битва при Заме. Правда, у Фронтина есть сообщение об одной военной хитрости Сципиона. Вскоре после прибытия в Африку Ганнибала проконсул предпринял ряд обманных манёвров; карфагенский полководец собрал гарнизоны нескольких окрестных городов и попытался навязать врагу генеральное сражение, но Сципион уклонился от боя, а тем временем Массинисса занял города, оставшиеся без защиты[174]. В историографии это сообщение считается малодостоверным[175].
Накануне решающей битвы Сципион и Ганнибал встретились по инициативе последнего. Карфагенский полководец предложил мир на условиях отказа его города от Испании, Сицилии, Сардинии и Корсики. Публий Корнелий возразил на это, что римляне уже контролируют все эти территории и что договор должен быть заключён на более жёстких условиях, учитывая ещё и недавнее оскорбление послов. Встреча закончилась безрезультатно[176][177][178].
Решающее сражение Второй Пунической войны произошло, если верить Ливию, незадолго до римских Сатурналий[179], приходившихся на 17 декабря, но при этом источники не сообщают о каких-либо более ранних событиях этого года, так что сражение могло произойти и в начале лета[180][181].
Вероятно, пехота у противников была примерно равной численности — около тридцати тысяч человек с каждой стороны. При этом у римлян был серьёзный перевес в коннице, а у Ганнибала — восемьдесят слонов. Для того, чтобы более эффективно с ними бороться, Сципион выстроил свои манипулы не в шахматном порядке, как обычно, а прямыми рядами, рассчитывая пропустить слонов по образовавшимся таким образом прямым коридорам. В остальном боевые порядки были традиционными: впереди гастаты, за ними принципы и триарии; по флангам стояла конница во главе с Лелием и Массиниссой. Ганнибал выстроил свою пехоту тоже в три линии, поставив впереди наименее опытные части, а позади — своих ветеранов[182][181].
Битва началась с атаки слонов. Они не смогли нанести заметный урон римским порядкам и в основном были уничтожены велитами, а часть их даже помяла собственную конницу на левом фланге. Римская кавалерия разбила конные части противника и пустилась их преследовать, оставив поле боя на значительное время.
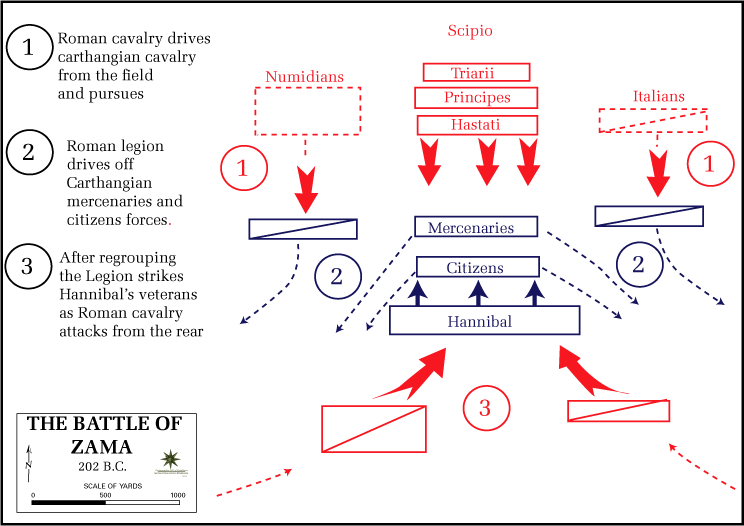 После этого сошлись в битве пехотные порядки. Римские гастаты разбили первую боевую линию карфагенян, но та в своём отступлении не была пропущена второй линией, и её остаткам пришлось уходить на фланги. Карфагеняне остановили натиск гастатов и начали теснить их. Тогда Сципион провёл перестроение: гастаты немного отступили, а принципы и триарии выдвинулись на фланги, после чего атака была возобновлена. Вероятно, Ганнибал также двинул в бой свою третью линию, удлинив фланги. В этот момент битва достигла максимального ожесточения; возможно, карфагеняне даже брали верх и одержали бы победу, если бы конница Лелия и Массиниссы появилась на поле боя немного позже[183]. Но она всё-таки «каким-то чудом вовремя подоспела к делу»[184] и ударила в тыл пехоте Ганнибала.
После этого сошлись в битве пехотные порядки. Римские гастаты разбили первую боевую линию карфагенян, но та в своём отступлении не была пропущена второй линией, и её остаткам пришлось уходить на фланги. Карфагеняне остановили натиск гастатов и начали теснить их. Тогда Сципион провёл перестроение: гастаты немного отступили, а принципы и триарии выдвинулись на фланги, после чего атака была возобновлена. Вероятно, Ганнибал также двинул в бой свою третью линию, удлинив фланги. В этот момент битва достигла максимального ожесточения; возможно, карфагеняне даже брали верх и одержали бы победу, если бы конница Лелия и Массиниссы появилась на поле боя немного позже[183]. Но она всё-таки «каким-то чудом вовремя подоспела к делу»[184] и ударила в тыл пехоте Ганнибала.
Победа Сципиона была полной: при потерях убитыми от десяти[184] до двадцати пяти[185] тысяч человек карфагенская армия перестала существовать, так что сам Ганнибал, если верить Ливию, заявил совету в Карфагене, что проиграл не только сражение, но и всю войну[186][187].
Конец войны
После победы при Заме Сципион двинулся на Карфаген, причём сам он возглавил флот, а армию вёл пропретор Гней Октавий. Уже на подходе к городской гавани его встретило посольство, предложившее мир; Публий Корнелий назначил местом для переговоров Тунет. В последующие дни Сципион разгромил сына Сифакса Вермину (Ливий сообщает о 15 тысячах убитых[188]). В результате Карфаген потерял последнего союзника, и его положение стало ещё более плачевным. Но Публий Корнелий со своей стороны хотел поскорее заключить мир, пока в Африку не прибыл консул Тиберий Клавдий Нерон, рассчитывавший присвоить окончательную победу в войне. Позже Сципион заявлял, что именно Нерон и Лентул, тоже претендовавший на командование, помешали ему разрушить Карфаген[189][190]. Но в историографии рассказ об этом подвергают сомнению, так как искренние сожаления Публия Корнелия по такому поводу противоречили бы тем принципам внешней политики, которых он придерживался[191].
Проконсул выдвинул следующие условия: Карфаген сохранял за собой все владения в Африке и избавлялся от необходимости менять свои законы и содержать римские гарнизоны; но он терял право на самостоятельную внешнюю политику и должен был выдать весь свой военный флот, за исключением десяти трирем, заплатить контрибуцию в десять тысяч талантов серебром и вернуть Массиниссе все его наследственные владения, причём указать, что подлежит «возвращению», должен был сам нумидийский царь[192][193].
Карфагеняне приняли эти условия после бурного обсуждения в совете. Важная заслуга в этом принадлежала Ганнибалу, собственноручно стащившего с трибуны одного из сторонников продолжения войны. Карфагенское посольство отправилось в Рим, а летом 201 года до н. э. вернулось в Африку, где Сципион утвердил заключённый мирный договор[194].
Проконсул сжёг карфагенский флот прямо перед входом в городскую гавань, получил четыре тысячи освобождённых пленных, организовал казни выданных перебежчиков (италиков обезглавили, а римлян распяли), а потом вернулся в Рим. Здесь его ждал восторженный приём. Для того, чтобы продлить час своего торжества, Публий Корнелий ехал в Рим по суше от самого Регия и на всём пути его встречали ликующие толпы. Сципион отпраздновал великолепный триумф и получил агномен Африканский[195]; он стал первым римским полководцем, получившим своё прозвание в честь завоёванной страны. Согласно Полибию, его называли даже Сципионом Великим[196].
Между войнами (201—191 годы до н. э.)
По окончании войны Сципион стал самым влиятельным человеком Рима. Писатели времён принципата даже утверждали, будто ему предложили вечную диктатуру или вечный консулат, но Сципион отказался; эти рассказы, правда, не заслуживают доверия[190]. Ветераны армии Публия Корнелия в соответствии с сенатским постановлением получали по два югера земли за каждый год службы в Испании и Африке, и специальная аграрная комиссия, занимавшаяся наделением землёй, была сформирована из сторонников Сципиона. Равным образом большинство ведущих магистратур в течение большей части 190-х годов доставалось представителям «фракции» Публия Корнелия — как аристократам, так и «новым людям», сделавшим военную карьеру под его командованием. К числу последних принадлежали Гай Лелий, Квинт Минуций Ферм, Секст Дигитий. Сципион пользовался любовью простого народа и армии, большим весом в правящих кругах. К тому же он вернулся с войны очень богатым человеком[197]. Всё это дало ему «исключительное и в какой-то степени выходящее за рамки республиканских политических традиций влияние»[198].
В 199 году Публий Корнелий был избран цензором вместе с Публием Элием Петом, который поставил своего коллегу во главе списка сената. Цензоры не исключили ни одного человека из сената или из всаднического сословия и даже не вынесли ни одного порицания[199]. По истечении полномочий Сципион зажил частной жизнью, сосредоточившись на интеллектуальных занятиях, но при этом сохраняя влияние на государственные дела.
В 195 году до н. э. положение Сципиона пошатнулось. Публий Корнелий выступил в сенате против вмешательства во внутренние дела Карфагена, а именно — против требования о выдаче Ганнибала[200]. Но к нему не прислушались, и в Карфаген отправилось посольство, в составе которого был Гней Сервилий Цепион — один из военачальников, пытавшихся в последние годы Второй Пунической войны получить командование в Африке. Результатом стало бегство Ганнибала на Восток[201][202].
Ещё одним ударом по Сципиону стало избрание консулами на 195 год видного представителя «фракции» Фабиев Луция Валерия Флакка и его подопечного, «нового человека» Марка Порция Катона. С последним Сципион конфликтовал ещё во время Второй Пунической войны: Катон был квестором в ходе африканской экспедиции и резко осудил расточительность командующего, развращавшую, по его мнению, солдат[203][204]. В конце концов Сципион отправил Катона обратно в Италию, и тот «ссорился с ним потом всю жизнь»[205].
Избрание Марка Порция консулом стало важной победой политических противников Публия Корнелия, которые на этом не остановились: Катон получил в управление Ближнюю Испанию, хотя до этого весь регион контролировали Корнелии и их сторонники. Сципион благодаря усилению восточной угрозы в лице царя Антиоха III был избран консулом на следующий, 194 год до н. э. (его коллегой стал Тиберий Семпроний Лонг, чей отец двадцатью четырьмя годами ранее был коллегой отца Сципиона). В дальнейшем он, согласно Корнелию Непоту[206] и Плутарху[207], добивался наместничества в Испании, а согласно Ливию[208] — наместничества в Македонии, но в обоих случаях потерпел неудачу. В историографии есть мнения как о том, что обе версии правдивы, так и о том, что они исключают друг друга: Сципион мог полностью сосредоточиться на идее войны на богатом Востоке с очень сильным противником, а мог искать любого командования для того, чтобы обновить свою славу полководца. Но сенат сделал провинцией для обоих консулов Италию[209].
Катон с большой жестокостью подавил восстание в своей провинции, а по возвращении, несмотря на противодействие Публия Корнелия, добился от сената триумфа и подтверждения всех его распоряжений. В речах Марка Порция этого периода, вероятно, содержится скрытая полемика со Сципионом, которого оратор обвиняет в ведении войны ради добычи и славы[210]. Публий Корнелий же использовал своё консульство для организации семи колоний на побережье Южной Италии — возможно, для укрепления границ на случай высадки здесь Антиоха и Ганнибала[211]. Ещё одним его начинанием стало выделение сенаторам особых мест на играх, вызвавшее недовольство плебса и пошатнувшее популярность Сципиона[212].
В 193 году Сципион вместе с ещё двумя нобилями отправился с дипломатической миссией в Африку, чтобы рассудить территориальный спор между Карфагеном и Нумидией. Послы, «рассмотрев дело и выслушав спорящих, не сочли правыми или виноватыми ни тех, ни других и оставили всё как было», поскольку Риму в тот момент была выгодна нестабильность в Африке[213]. Таким образом, Публий Корнелий положил начало политике стравливания Нумидии с Карфагеном, ставшей традицией для Рима на последующие сорок лет[214].
Вернувшись в Рим, Сципион попытался укрепить свои позиции, поддержав на консульских выборах две кандидатуры — своего двоюродного брата Публия Корнелия Сципиона Назику, только что вернувшегося с победой из Испании, и своего лучшего друга Гая Лелия. Но оба они проиграли, несмотря на старания их покровителя. Ливий называет причиной тому зависть и «пресыщение великим человеком»[215]. К тому же у Рима появились новые герои — Тит Квинкций Фламинин, победивший Македонию (его брат Луций победил на этих выборах), Марцелл, разбивший галлов.
К концу того же года (193 до н. э.) относится очередное римское посольство к Антиоху, возглавленное Публием Виллием Таппулом[216]. Тит Ливий[217], а следом за ним Аппиан[218], Плутарх[219] и Зонара[220] сообщают со ссылкой на несохранившееся сочинение Гая Ацилия, что в составе этого посольства был и Сципион. Царь в это время «был занят войною в Писидии»[221], а римляне воспользовались вынужденным пребыванием в Эфесе, чтобы наладить контакты с Ганнибалом. Их целью было выяснить намерения Баркида и, возможно, добиться, чтобы Антиох меньше ему доверял. Сохранился рассказ об одной из встреч двух старых противников:
Рассказывают, что в Эфесе они встретились ещё раз, и когда они вместе прогуливались, Ганнибал шёл впереди, хотя почётное место более приличествовало Сципиону как победителю, но Сципион смолчал и шёл как ни в чём не бывало. А потом он заговорил о полководцах, и Ганнибал объявил, что лучшим из полководцев был Александр, за ним Пирр, а третьим назвал себя. И тут Сципион, тихо улыбнувшись, спросил: «А что бы ты сказал, если бы я не победил тебя?» — на что Ганнибал ответил: «Тогда бы не третьим, а первым считал я себя среди полководцев»
— Плутарх. Фламинин, 21.[219]
Предотвратить войну римлянам не удалось, но доверие Антиоха к Ганнибалу всё же уменьшилось[222].
Антиохова война
Открытое военное противостояние между Римом и Селевкидской державой началось уже в 192 году до н. э. Следствием этого стало избрание консулом на 191 год кузена Сципиона Африканского — Назики[223]. Второй консул, Маний Ацилий Глабрион, разбил Антиоха при Фермопилах и заставил бежать в Азию, но основные силы царя всё ещё были нетронуты и внушали римлянам страх. Поэтому на консульских выборах 191 года победили кандидаты Сципиона — Гай Лелий и Луций Корнелий Сципион[224] (почему сам Публий Корнелий не стал баллотироваться, неизвестно[225]).

Ход дальнейших событий не вполне ясен. Источники утверждают, что оба консула претендовали на Грецию в качестве провинции и что решающим фактором стало обещание Сципиона Африканского стать легатом при своём не слишком опытном и не слишком способном брате. Существуют три версии случившегося. Согласно Ливию, Лелий, имевший более сильную поддержку в сенате, предложил не проводить жеребьёвку, а предоставить решение сенаторам. Именно тогда Публий Сципион сделал своё заявление, и сенат решил дело в пользу братьев[226]. Согласно Валерию Максиму, жеребьёвка всё же проводилась, и заветный жребий выпал Гаю, но Сципион Африканский, хотя и «теснейшим образом связанный с Лелием», дал своё обещание для того, чтобы убедить сенат забрать Грецию у его друга и отдать брату[37]. Наконец, согласно одной из филиппик Цицерона, жребий выпал Луцию, но в сенате возникла оппозиция такому назначению, поскольку Луций Сципион считался малоспособным человеком. Тогда-то Публий и счёл необходимым «оградить семью от этого бесчестья»[227].
В историографии подвергают эти сообщения сомнению: Лелий был обязан всеми своими успехами покровительству Сципиона, он не мог иметь серьёзной поддержки в сенате, его дружба со Сципионом была очень близкой и никогда не подвергалась сомнению. Возможно, он просто отказался от Греции в пользу своего коллеги[227].
Братья Сципионы набрали в Италии восемь тысяч пехотинцев и 300 всадников; кроме того, не менее четырёх тысячи ветеранов Второй Пунической войны добровольцами вступили в армию, как только узнали, что в походе примет участие Сципион Африканский[228]. Во главе 13-тысячного войска Публий и Луций Корнелии высадились в Аполлонии и двинулись через Эпир в Фессалию. К возглавлявшему авангард Публию обратились с просьбой о мире союзники Антиоха этолийцы; Сципион их обнадёжил, но его брат-консул заявил послам, что те должны или капитулировать, или выплатить контрибуцию в тысячу талантов. В конце концов этолийцы получили шестимесячное перемирие, и на этом боевые действия в Греции закончились[229][230].
Присоединив к своим силам два легиона Глабриона, осаждавшие до этого Амфиссу, Сципионы двинулись к Геллеспонту. Филипп V Македонский, чьё царство ослабело после недавнего разгрома, «провёл их через Фракию и Македонию по тяжёлой дороге на собственные средства, доставляя продовольствие, прокладывая дороги и на труднопроходимых реках наводя мосты и разбивая нападающих фракийцев, пока не довёл их до Геллеспонта»[231]. Тем временем флоты союзников Рима — Пергама и Родоса — одержали серию побед над адмиралами Антиоха, так что царь продолжил отступление, а римская армия смогла без помех переправиться в Азию. Правда, Публий Корнелий задержался на месяц на европейском берегу из-за своих обязанностей салия[232].
Антиох, не ожидавший такого развития событий, предложил римлянам мир на условиях его ухода из Ионии и Эолиды, но те потребовали отказа от всех земель до Тавра и выплаты контрибуции. Царский посол Гераклид попытался достичь тайной договорённости с Публием Корнелием: последнему было обещано, что его сын Луций, ранее попавший в плен при не вполне ясных обстоятельствах, будет отпущен без выкупа, и что сам Сципион получит столько денег, сколько пожелает[233]. Но Сципион ограничился благодарностью за освобождение сына и советом «согласиться на всякие условия и ни в каком случае не воевать против римлян»:
«Являться с предложением мира на равных условиях теперь, когда царь не помешал нашим войскам вступить в Азию, дал себя не только взнуздать, но и оседлать, значит наверное потерпеть неудачу и обмануться в ожидании».
— Полибий. Всеобщая история XXI, 15.[234]
Получив такой ответ, Антиох рискнул дать римлянам большое сражение. Решающая битва этой войны произошла зимой 190/189 годов до н. э. у города Магнесия. Ливий говорит о 60-тысячной армии царя[235], Аппиан — о 70-тысячной[236]; правда, эти данные могут быть преувеличением[237]. У Сципионов было 30 тысяч воинов, включая сильные вспомогательные отряды пергамцев и ахейцев, а также африканские слоны, которые, впрочем, были оставлены в резерве: они были явно слабее, чем индийские слоны в армии Антиоха[238].
Сражение началось с большого успеха римлян. Стоявшая на их правом фланге конница во главе с царём Пергама Эвменом II обратила в бегство боевые колесницы противника, а потом разгромила весь левый фланг Антиоха. Занимавшая центр царской армии фаланга оказалась под ударом со всех сторон и несла потери, но не могла атаковать. В то же время сам царь, командовавший конницей на правом фланге, одерживал победу на своём участке: встретив слабое сопротивление, он прорвался до римского лагеря, но взять его не смог. Когда римляне перебросили сюда подкрепления, Антиох, узнавший о положении дел в центре и на левом фланге, бежал с поля боя[239][240]. Ливий сообщает о якобы 53 тысячах убитых, из которых римлян и пергамцев было всего 349 человек[241].
Согласно Ливию[242] и Аппиану[243], Публий Корнелий во время этой битвы был болен и находился в Элее, назначив советником брату Гнея Домиция Агенобарба. Но Т. Бобровникова подвергает это сомнению, ссылаясь на упоминавшийся ранее отказ римского командования предпринимать что-либо без Сципиона Африканского, на свидетельство Фронтина о том, что именно Публий Корнелий выбрал место для битвы, и на выступление Назики, текст которого приводит тот же Ливий:
«Чтобы величие и блеск такого легата не затмили там славы консула, как нарочно, случилось, что в тот самый день, когда Луций Сципион при Магнесии победил Антиоха в открытом бою, Публий Сципион был болен и находился в Элее на расстоянии нескольких дней пути».
— Тит Ливий. История Рима от основания города ХХХVIII, 58, 9.[244]
Таким образом, Публий Корнелий мог формально самоустраниться, продолжая при этом руководить[245]. Правда, Б. Лиддел Гарт пишет, что, судя по тому, как шло сражение, римлянам «явно не хватало тактического мастерства Сципиона Африканского»[246].
 Сразу после разгрома Антиох попросил мира. Условия царским послам огласил Публий Корнелий, потребовавший того же, что и сразу после высадки в Азии: отказа Антиоха от земель за Тавром, выплаты контрибуции в пятнадцать тысяч талантов и выдачи ряда врагов Рима, включая Ганнибала. Царь был вынужден согласиться. Окончательный договор был подписан уже в 188 году в Апамее. Сципионы же совершили поездку по Эгеиде, посетив самые знаменитые города на западе Малой Азии, Крит и Делос[247], а потом вернулись в Рим. Здесь Луций Корнелий добился агномена Азиатский, чтобы сравняться с братом, и постарался организовать более великолепный триумф, чем тот, что был отпразднован после мира с Карфагеном[248].
Сразу после разгрома Антиох попросил мира. Условия царским послам огласил Публий Корнелий, потребовавший того же, что и сразу после высадки в Азии: отказа Антиоха от земель за Тавром, выплаты контрибуции в пятнадцать тысяч талантов и выдачи ряда врагов Рима, включая Ганнибала. Царь был вынужден согласиться. Окончательный договор был подписан уже в 188 году в Апамее. Сципионы же совершили поездку по Эгеиде, посетив самые знаменитые города на западе Малой Азии, Крит и Делос[247], а потом вернулись в Рим. Здесь Луций Корнелий добился агномена Азиатский, чтобы сравняться с братом, и постарался организовать более великолепный триумф, чем тот, что был отпразднован после мира с Карфагеном[248].
Судебные процессы
Сципион Африканский отсутствовал в Риме почти два года (лето 190 — весна 188 годов до н. э.). За это время его враг Катон успел выступить с обвинениями против Квинта Минуция Терма и Мания Ацилия Глабриона, принадлежавших к «фракции» Корнелиев: первый был обвинён в жестоком обращении с союзниками и во лжи насчёт побед в войне, второй — в присвоении части добычи. Тот факт, что обвинительных судебных приговоров не было, может говорить о неустойчивом равновесии между противоборствующими политическими группировками; при этом группировка Катона продолжала усиливаться — во многом благодаря отсутствию Сципионов[249]. Вероятно, именно Марка Порция и его сторонников имеет в виду Ливий[250], когда пишет в связи с отчётом Луция Корнелия о своих победах, что иные утверждали, «будто эта война больше наделала шуму, чем потребовала трудов, — ведь она решилась одним сражением, и цветок славы за эту победу был уже сорван при Фермопилах»[251].
Уже в 187 году до н. э. начались судебные процессы против братьев Сципионов. Источники не дают единой достоверной картины этих событий: единственный сохранившийся полноценный рассказ о процессах принадлежит Ливию, опиравшемуся на Валерия Анциата, который в целом не заслуживает доверия из-за особенностей его стиля. Другие писатели (Полибий, Авл Геллий, Валерий Максим) сосредоточились на описании отдельных ярких эпизодов, в значительной степени противоречащих версии Анциата[252][250]. Большинство исследователей считают второй вариант традиции более достоверным[198].
«Первым актом сципионовской драмы»[253] стал запрос народных трибунов Петилиев (или только одного Петилия — Квинта[254]) о судьбе 500 талантов, которые Луций Корнелий Сципион получил от Антиоха в качестве первой части контрибуции. Согласно Ливию[255], некое расплывчатое обвинение на эту тему было адресовано Публию Корнелию, но Валерий Максим сообщает[256], что трибуны потребовали отчёта об этих деньгах у Луция Корнелия; в историографии отдают предпочтение второму варианту[257][258][259][253]. При этом источники сходятся во мнении, что Петилии действовали по наущению Катона[260][261][262].
Полибий упоминает сумму не в 500 талантов, а в три тысячи[263], явно имея в виду деньги, которые Антиох должен был выплатить после ратификации мира и которые, видимо, попали в руки Гнея Манлия Вульсона. Последний, вернувшийся с Востока незадолго до выступления Петилиев, едва не лишился триумфа из-за обвинений собственных легатов. Исходя из этого, в историографии делаются предположения, что именно легаты Вульсона могли стать инициаторами разбирательства о «деньгах Антиоха», в котором Гней Манлий мог быть вначале даже основным фигурантом; последнего Катон тоже мог считать своим врагом[264][253].
Как только трибуны выступили против Сципиона Азиатского, в дело вмешался его брат. Ответ Сципиона Африканского на подозрения в финансовой нечистоплотности стал полной неожиданностью для всех:
…Кто-то в сенате потребовал от него отчёта в употреблении денег, которые он получил от Антиоха перед заключением мира на уплату жалованья войску. Публий отвечал, что отчёт у него есть, но что он не обязан отчитываться перед кем бы то ни было. Когда противник настаивал и требовал представить счета, Публий попросил брата принести их. Книга была доставлена. Тогда Публий протянул её вперёд и на глазах у всех изорвал, предложив своему противнику восстановить отчёт по отрывкам, а прочих спросил, почему они так доискиваются отчёта о том, каким образом и кем израсходованы три тысячи талантов, между тем не спрашивают, каким образом и через кого поступили к ним те пятнадцать тысяч талантов, которые получены ими от Антиоха, равно как и о том, каким образом они сделались обладателями Азии, Ливии, а также Иберии. Все сенаторы оцепенели от этих слов, и требовавший отчёта замолк.
— Полибий. Всеобщая история XXIII, 14.[4]
Этот рассказ Полибия повторяют Авл Геллий[265] и Валерий Максим[256].
Положение братьев Корнелиев вследствие этого поступка Публия только ухудшилось: Луций потерял возможность оправдаться, а конфликт между братьями и их политическими противниками продолжал углубляться[266]. Вероятно, уже демонстративное уничтожение счётной книги говорит о том, что сенат был настроен против Сципионов, и последние не рассчитывали на беспристрастное рассмотрение дела[267].
Данные о последующих событиях расходятся: согласно Анциату и Ливию, Петилии добились назначения сенатом комиссии для расследования дела о «деньгах Антиоха», которую возглавил один из преторов — Квинт Теренций Куллеон. Согласно Авлу Геллию, этим делом занимался народный трибун Гай Минуций Авгурин. Оба автора пишут о присуждении Сципиону Азиатскому крупного денежного штрафа; при этом Авл Геллий утверждает, что Публий обратился к прочим восьми трибунам с просьбой защитить его брата от насилия (Минуций требовал выставить поручителей, угрожая тюрьмой), но те фактически ответили ему отказом, и только последний, десятый трибун — Тиберий Семпроний Гракх — наложил вето на решение своего коллеги, хотя и был «из-за многочисленных разногласий по государственным вопросам злейшим врагом Публия Сципиона Африканского»[268]. В историографии ведётся дискуссия о том, какая из двух версий ближе к истине[269].
В дальнейшем Луцию пришлось выплачивать штраф. Ливий сообщает, что Публий Корнелий был направлен сенатом в Этрурию в качестве легата[270], но российский историк В. Квашнин предположил, что у Сципиона была другая миссия, неправильно интерпретированная Анциатом: возможно, он собирал деньги для уплаты штрафа с местной клиентелы Корнелиев и Помпониев[271]. Сомнительной считают информацию об этом назначении и другие историки[272].
Следующие несколько лет были наполнены закулисной борьбой. Чтобы улучшить своё положение, Сципионы поддержали Гнея Манлия Вульсона, добившегося триумфа, и провели от имени Луция Корнелия игры. Но Катон был заинтересован в окончательном разгроме сципионовой группировки, поскольку это должно было помочь ему в завоевании цензорской должности. На этот раз он нанёс удар непосредственно по Публию Корнелию: народный трибун Марк Невий обвинил последнего во взяточничестве и измене (184 год до н. э.)[273]. Невий «заявил, что Сципион получил взятку от царя Антиоха за то, что мир между ним и римским народом был заключен на снисходительных условиях, и предъявил некоторые другие обвинения»[274].
Судя по сообщениям Авла Геллия и других авторов, обвинения Невия были не слишком конкретными и не подкреплялись какими-либо убедительными доказательствами. В этой ситуации суд должен был превратиться в выяснение того, кто из противоборствующих сторон — Сципион Африканский или Катон — имеет больший общественный вес; Сципион, вероятно, был уверен в том, что его заслуг достаточно, чтобы продемонстрировать всю абсурдность обвинения[275].
В суд Публий Корнелий явился, вопреки римским обычаям, в праздничной одежде, в сопровождении большой толпы друзей и клиентов. На рострах он возложил себе на голову венок триумфатора и произнёс речь, в которой ничего не сказал по сути дела; основной темой стала годовщина битвы при Заме, пришедшаяся на этот день (одни историки считают это случайным совпадением[257], другие видят здесь результат содействия Сципиону претора Публия Корнелия Цетега[276]). Сципион сказал:
Я вспоминаю, квириты, что сегодняшний день — это день, в который я одержал верх на земле Африки в великой битве над пунийцем Ганнибалом, злейшим врагом вашей державы, и добыл вам мир и замечательную победу. Так не будем же неблагодарны к богам; я думаю, мы оставим этого бездельника [Невия] и отправимся прямо на Капитолий, где воздадим благодарность Юпитеру Всеблагому и Величайшему.
— Авл Геллий. Аттические ночи IV, 18, 3-4.[277]
С этими словами Публий Корнелий двинулся к Капитолию. «Вслед за Сципионом отвернулось от обвинителей и двинулось за ним всё собрание, так что наконец даже писцы и посыльные оставили трибунов. С ними не осталось никого, кроме рабов-служителей и глашатая, который с ростр выкликал обвиняемого»[278]. Таким образом, судебное заседание было сорвано, но сразу после него Сципион Африканский покинул Рим. Это можно расценивать как признание им поражения[279] или даже как признак того, что реакция народного собрания на заявление Сципиона о завоёванной им победе была не столь восторженной, как это описывает традиция[280]. Публий Корнелий удалился в своё поместье под Литерном, вероятно, опасаясь возобновления судебного процесса, и здесь провёл последний год своей жизни.
Последний год жизни
Сципион поселился на своей вилле в северной части Кампании, недалеко от города Литерн. Больше его в суд не вызывали (возможно, процесс не возобновили под давлением общественного мнения[257]), так что Публий Корнелий мог жить спокойно. Валерий Максим пишет, что однажды на вилле появилась банда разбойников; Сципион готовился организовывать отпор непрошеным гостям, но те бросили оружие и, подойдя к дверям, объяснили хозяину, «что пришли к нему не с тем, чтобы лишить его жизни, но удивляться его храбрости». Тогда Публий Корнелий приказал впустить разбойников. Они вошли с большим почтением, поцеловали Сципиону руку и оставили дары[281].
Если верить Сенеке, Публий Корнелий в изгнании своими руками возделывал землю[282]. Луций Анней посетил однажды виллу Сципиона и оставил своё описание:
Я видел усадьбу, сложенную из прямоугольных глыб, стену, окружающую лес, башни, возведённые с обеих сторон усадьбы как защитные укрепленья, водохранилище, выкопанное под всеми постройками и посадками, так что запаса хватило бы хоть на целое войско; видел и баньку, тесную и тёмную, по обыкновению древних.
— Сенека. Нравственные письма к Луцилию, 85, 4.[283]
Валерий Максим сообщает, что в последние годы жизни Публий Корнелий находился в связи с рабыней. Его жена знала об этом, но терпеливо переносила измену[284]. Тем временем здоровье Сципиона ухудшалось, и в 183 году до н. э., в возрасте пятидесяти двух лет, он скончался — если верить некоторым источникам, в один год с Ганнибалом («как будто судьба пожелала соединить кончины двух величайших мужей») и ещё одним выдающимся полководцем, ахейцем Филопеменом[285].
Сципион завещал не хоронить его в Риме. Поэтому его тело упокоилось не в родовой усыпальнице у Капенских ворот, а в Литерне. На надгробной плите, согласно воле Публия Корнелия, было начертано: «Неблагодарное отечество, да оставит тебя и прах мой»[286].
Литературная деятельность
Сципион написал письмо царю Македонии Филиппу V, где подробно рассказал о взятии Нового Карфагена (царь интересовался этим событием во время встречи в 190 году). Известно, что это письмо читал Полибий, который мог найти или черновик в фамильном архиве Сципионов, или подлинник в архиве Антигонидов[287].
До времён Тита Ливия сохранилась речь Сципиона, в заголовке которой «названо имя народного трибуна Марка Невия, но в самой речи имя обвинителя не упоминается: он называет его то плутом, то пустомелей». Правда, Ливий не был уверен полностью, что речь действительно принадлежала Публию Корнелию[288]. Во времена Авла Геллия существовал текст речи Сципиона против Невия, подлинность которого тоже оспаривалась[289]. При этом Цицерон недвусмысленно заявляет, что Сципион ничего не написал, так что не осталось «ни писаных произведений его ума, ни плодов его досуга, ни даров его уединения»[290]. В другом трактате Цицерон цитирует слова Сципиона «Что за невежа Невий!», называя их «суровыми»[291].
Личность
Внешний вид и общая характеристика
Сципион был очень красив[292]; по словам Элиана, он считался самым красивым среди римлян, занимая то же положение, что Алкивиад у греков[293]. Публий Корнелий носил длинные волосы, которые очень ему шли[48]. Подражая ему, римские аристократы начали носить перстни с геммами[294].
Людей, окружавших Сципиона, восхищали его проницательный ум, осторожность и трудолюбие; эти качества подчёркивает в своём герое Полибий, предостерегавший от того, чтобы считать Публия Корнелия баловнем судьбы[295]. Сципион отличался особым умением выставлять напоказ свои достоинства[296], а его приветливость, щедрость и великодушие снискали ему огромную популярность у народа и армии[90]. В то же время Публий Корнелий не отличался умеренностью и скромностью: «Как человек благородного воспитания и вкуса, Сципион не любил помпу и лесть, но рассчитывал на признание своего величия. Хороший тон нарушали вспышки крутого высокомерия»[297]. Известен его ответ коринфянам, захотевшим поставить ему статую рядом с изваяниями других полководцев: «Я не охотник до конного строя»[298].
Сципион очень любил женщин[299][284]. Отличался большой симпатией к греческой культуре. Во время своего пребывания в Сиракузах в 205 году он посещал театры и палестры, окружил себя греческими интеллектуалами, ходил в эллинской одежде[203][300]. В эпизоде накануне битвы при Заме, когда Публий Корнелий приказал показать пойманным карфагенским лазутчикам свою армию, а затем отпустил их к Ганнибалу[301][302], исследователи видят попытку «воспроизвести» соответствующее место из Геродота[303][304]. Знакомство Сципиона с греческой культурой и историей видно и из того факта, что лучшими полководцами он считал правителей Сиракуз Дионисия Старшего и Агафокла, сражавшихся с карфагенянами[305].
Обобщающую характеристику личности Сципиона Африканского дал Моммзен:
В этой привлекательной личности героя было какое-то особое очарование; она была окружена ослепительным ореолом того радостного и уверенного в самом себе воодушевления, которое распространял вокруг себя Сципион частью из убеждений, частью искусственно. У него было достаточно пылкой фантазии, чтобы согревать сердца, и достаточно расчётливости, чтобы во всём подчиняться требованиям благоразумия; ...он стоял выше народа и столь же вне его; это был человек слова, непоколебимого, как утес, с царственным складом ума, который считал за унижение для себя принятие обыкновенного царского титула, но вместе с тем не понимал, что конституция республики связывала также и его; он был так уверен в своём величии, что не знал ни зависти, ни ненависти, снисходительно признавал чужие заслуги и прощал чужие ошибки; он был отличным военачальником и тонким дипломатом без того отталкивающего отпечатка, которым обыкновенно отличаются обе эти профессии; с эллинским образованием он соединял чувства настоящего римского патриота, был искусным оратором и приятным в обхождении человеком и потому привлекал к себе сердца…
— Моммзен Т. История Рима. Ростов н/Д., 1997. Т. 1. С. 497.[306]
«Сципионова легенда»
В античной традиции существует целый комплекс свидетельств о наличии особой связи между Сципионом и богами: «Все его планы складывались при участии божественного вдохновения»[3]. Существует предположение, что ядро так называемой «Сципионовой легенды» сформировалось ещё при жизни её героя благодаря определённым особенностям его поведения и высказываний[307]. При этом Полибий и Ливий высказывали уверенность в том, что Публий Корнелий, не чувствуя какое-либо «божественное вдохновение», целенаправленно его симулировал ради своей карьеры и лучшего контроля над войском и союзниками: «Он убедил толпу, что действует, повинуясь сновидениям и ниспосланным с неба знамениям», и умело укреплял связанную с его личностью веру в чудесное[308][3]. Т. Бобровникова уверена, что Полибий и Ливий ошибаются, и ссылается в подтверждение этого на религиозность римского общества той эпохи в целом и семейства Сципионов в частности[309].
Вторая точка зрения восходит к Варрону, считавшему, что Сципион был искренне верующим человеком, и давшему его видениям и голосам толкование в духе пифагорейства и платонизма[310].
«Легенда» начинается с сообщений о чудесном рождении Публия Корнелия. Источники утверждают, что его мать долго не могла забеременеть, но потом на её ложе увидели огромного змея, а на десятый месяц после этого родился мальчик[311][312]. Этого змея, который однажды появился в постели младенца и обвил его своим телом, не нанеся никакого вреда, вероятно, позже[313] отождествили с Юпитером[314][315], причём Валерий Максим связывал появление таких слухов с привычкой Сципиона перед важными делами проводить много времени в храме Юпитера Капитолийского[316].
Об этих визитах в храм, совершавшихся, как правило, ночью, сообщают и другие писатели: «Сципион Африканский имел обыкновение на исходе ночи, прежде чем рассветёт, приходить на Капитолий, приказывал открыть святилище Юпитера и там надолго оставался в одиночестве, словно бы советуясь с Юпитером о государственных делах». При этом свирепые капитолийские собаки на него не лаяли[317][318].
Полибий рассказывает о двух вещих снах, которые Сципион, по словам греческого историка, выдумал. В первом из них, рассказанном Помпонии, Публий Корнелий якобы увидел, как его и брата выбирают эдилами[46]. Содержание второго он рассказал своим солдатам в 209 году под Новым Карфагеном: Нептун в этом сне явился проконсулу и пообещал ему свою помощь при штурме. В обоих случаях Полибий даёт рациональное обоснование выдумкам Сципиона: последний хотел баллотироваться в эдилы вместе с Луцием, чтобы помочь ему занять должность, но был ещё слишком юн и стремился как-то убедить мать в обоснованности такого шага; в Испании же он знал о регулярном отливе, открывающем доступ к уязвимой части укреплений Нового Карфагена, и хотел воодушевить солдат, выдав это за проявление поддержки бога. В историографии первый рассказ считается явным вымыслом[319][320]; второй сюжет является предметом научной дискуссии[321].
В связи с осадой Нового Карфагена Аппиан излагает свою версию: Сципион заявил, что его помощник — бог, только когда во время схватки море неожиданно для всех, включая проконсула, начало отступать от стен. После этого сам Публий Корнелий начал думать, что ему отдаёт прямые указания бог, и распространять о себе такие слухи[322]. Позже Сципион неоднократно заявлял, что ему даёт советы «божественный голос»[323].
Согласно Стацию, в народе верили, что Юпитер присылал Сципиону вещие сны[324].
Сципион как полководец
Для полководческой деятельности Сципиона были характерны понимание морального фактора и ценности личных наблюдений[325]; ни один римский полководец до Публия Корнелия не уделял столько внимания сбору предварительных разведданных[326]. Публий Корнелий никогда не испытывал чувство ревности по отношению к своим подчинённым (Л. Гарт противопоставляет его в этом отношении Наполеону[327]) и умел вызывать любовь к себе как у рядовых, так и у военачальников. Даже по отношению к солдатам, потерпевшим поражение, он не выступал с порицаниями[328].
Ещё во время военных действий на Пиренейском полуострове между Сципионом и его армией выработались особые отношения. Публий Корнелий стал командующим как преемник своего отца и дяди, и экстраординарность его положения подчёркивалась применением к нему на постоянной основе наименования «император», которое в принципе могло быть только временным. Сципион завоевал популярность у солдат неизменными победами над противником, а поддерживал её путём «покровительства материальным интересам армии». В результате солдат Сципиона обвиняли в распущенности, утверждая, что они прошли в Испании «школу своеволия». Античные писатели, относившиеся к Публию Корнелию с большой симпатией, вкладывали эти обвинения в уста его политических противников, в большинстве случаев замалчивая определённые особенности сципионовской армии. Сохранилась информация только о наиболее масштабных инцидентах — о мятеже легионеров в Сукроне и об истории, случившейся в Локрах[329].
С побеждёнными Сципион обходился очень умеренно. Так, в Испании он старался выглядеть как защитник местного населения от карфагенян. Исследователи проводят параллели с политикой Ганнибала по отношению к италикам[330].
Сообщения о военных преобразованиях, проведённых Публием Корнелием в Испании, разнятся. Х. Скаллард и Т. Бобровникова пишут о «великой военной реформе», предполагавшей, в частности, отказ от устаревшего на тот момент деления армии на три линии в пользу маневренных манипулов, а также тренировки по новой системе: теперь солдат готовили к ведению боя любого типа[331]. В то же время С. Ковалёв говорит только о принятии на вооружение испанского меча, которым можно было и рубить, и колоть[332], а С. Лансель считает, что никаких принципиальных изменений римская военная машина в эти годы не претерпела[333].
Семья
Женой Сципиона была Эмилия Павла, дочь Луция Эмилия Павла, погибшего при Каннах. В этом браке родились четверо детей:
- Публий Корнелий Сципион, из-за слабого здоровья отказавшийся от политической карьеры, историк и член жреческой коллегии авгуров; его пасынком был Публий Корнелий Сципион Эмилиан;
- Луций Корнелий Сципион, достигший в своей карьере только претуры в 174 году до н. э. (Валерий Максим назвал его Гнеем[334]);
- Корнелия Старшая, жена своего троюродного брата Публия Корнелия Сципиона Назики Коркула, консула 162 и 155 годов до н. э.;
- Корнелия Младшая, жена Тиберия Семпрония Гракха, консула 177 года до н. э.
Дочери Публия Корнелия, которые, по выражению Ювенала, «в приданом числили триумфы»[335], были обручены со своими будущими мужьями, вероятно, ещё при жизни отца, но в брак вступили после его смерти[336].
Изображения
Существует четыре вида монет, на которых предположительно изображён Сципион Африканский. Это золотой из Капуи, бронзовая монета из Канузия[59], серебряный шекель из Нового Карфагена и римский денарий, отчеканенный Гнеем Корнелием Бласионом в 105 году до н. э.[337] Т. Бобровникова ставит под сомнение гипотезы относительно капуанской и римской монет[338].
Ещё Винкельман был уверен, что изображением Сципиона Африканского является базальтовый бюст, найденный в Литерне и хранившийся после этого в Палаццо Роспильози. Скульптор изобразил пожилого человека с лысой или бритой головой и со шрамом в виде креста справа; аналогичный шрам есть на трёх похожих бюстах (на Капитолии, в Палаццо Барберини и на Вилле Альбани). Ещё один похожий бюст в Палаццо Консерваторе такого отличия не имеет[339]. Шрам считали признаком храбрости, проявленной Сципионом, в частности, при Тицине[340]. Но сейчас считается, что все эти бюсты — изображения какого-то жреца[338] (может быть, Исиды[341][342]). Есть предположение, что скульптурным портретом Публия Корнелия является «Голова в кожаном шлеме», хранящаяся в Эрбахе[342].
Память о Сципионе в античную эпоху
После смерти Публия Корнелия римляне всё же воздали ему почести: единственный из граждан, он был удостоен «капитолийского атрия». Его восковая маска (imago) хранилась в храме Юпитера Всеблагого и Величайшего, и родственники выносили её оттуда при совершении погребальных обрядов[343]. Члены семьи Сципиона хранили и передавали друг другу по наследству перстень с его портретом, а его младшая дочь называла отца богом[286]. В фамильной гробнице появилась статуя Публия Корнелия вместе со статуями его брата и Квинта Энния.
К 168 году до н. э., когда в Рим прибыл Полибий, Сципион «был едва ли не самым знаменитым человеком прошлого времени»[3]. Уже существовала обширная литература о нём — на латинском и греческом языках[1]. В историографии высказывалось предположение, что многие тексты были созданы не просто при жизни Публия Корнелия, но даже в первые годы после Второй Пунической войны, так что, например, Филипп V Македонский к 190 году до н. э. уже читал их и поэтому очень интересовался личностью и биографией Сципиона[344]. В этих сочинениях, судя по их критике Полибием, господствовала «Сципионова легенда»: их авторы писали, что Публий Корнелий был «баловнем судьбы, предприятия коего удаются большей частью вопреки всяким расчётам, случайно», и что «Публий поднял родное государство на такую высоту силою сновидений и вещих голосов»[3].
Квинт Энний мог написать поэму «Сципион» или сразу после смерти заглавного героя, или даже сразу после битвы при Заме. В прологе к этому сочинению он пишет, что должным образом воспеть Публия Корнелия смог бы только Гомер; тем не менее Валерий Максим сообщает, что Сципион был доволен тем, как Энний «своим разумом его дела прославил»[345]. В поэме Африкан говорит:
Если кому и позволено в небо
К бессмертным подняться,
Мне одному отворятся великие неба ворота.— Лактанций. Божественные установления. I, 18, 11.[346]
Эннию принадлежит и книга диалогов под тем же названием — «Сципион»: она могла быть издана после смерти главного героя, а поэма — при жизни[1]. Существует гипотеза, что поэт пытался ввести в Риме культ героев по греческому образцу, и в том числе — культ Публия Корнелия[347].
Когда Полибий начал работу над своей «Всеобщей историей», посвящённой завоеванию Римом Средиземноморья, Сципион в силу его заслуг стал одним из главных героев этого труда. Источниками для ахейского историка стали в том числе рассказы членов семьи и ближайших друзей Публия Корнелия[1]. Полибий дал Сципиону самую высокую оценку. Считая, что «легенда» приуменьшает заслуги его героя, ахейский историк постарался её развенчать, изобразив Сципиона как мудреца, который прибегал к выдумкам о «божественном вдохновении», чтобы воодушевить толпу и добиться необходимых результатов в политике и на войне[348]. Он привёл два примера — с эдилитетом и взятием Нового Карфагена[349]; правда, в историографии доказано, что оба эти эпизода содержат грубые фактические и логические ошибки. Образ Сципиона-мистификатора, по мнению некоторых учёных, не соответствует римской действительности III—II веков до н. э.[350]
Признавая, что судьба вознесла Сципиона ещё юным на недостижимую высоту, Полибий был уверен, что тот мог бы получить царскую власть в любой части света, но сознательно отказался от этого «высшего блага», ставя на первое место «отечество и долг перед ним»[103].
В римской анналистике существовало течение, враждебное Сципиону из-за своей ориентации на Фабия Пиктора как источник; к этому течению принадлежал, в частности, Луций Целий Антипатр[56]. Возможно, к антисципионовской традиции (восходящей, например, к Катону) относится сообщение о том, как Публий Корнелий хотел каким-то образом отблагодарить Антиоха III за освобождение сына на поле битвы[351]. При этом Сципион всегда находился в центре внимания анналистов, из-за чего события могли фиксироваться историками в искажённом виде: так, в истории с «деньгами царя Антиоха» братья Корнелии могли быть не единственными фигурантами[352], и их товарищ по несчастью Гней Манлий Вульсон мог играть даже ключевую роль, но «тот, кто видел в Сципионе героя и в его жизни находил великую драму, мог охотно отказаться от фигуры Вольсона, который не должен был разделить со Сципионом последний акт этой драмы»[280].
Цицерон считал, что на небо вознеслись всего три человека — Геракл, Ромул и Сципион[353]. В последней книге своего трактата «О государстве» Цицерон описывает сон, в котором ещё молодой Сципион Эмилиан увидел своего приёмного деда, и тот рассказал внуку о его грядущей судьбе, о небесных сферах, о жизни и смерти[354].
Ещё в середине I века до н. э. существовало поверье, что будто бы потомкам Сципиона суждено всегда побеждать в Африке. Из-за этого Гай Юлий Цезарь во время войны с помпеянцами в этой провинции (в 46 году до н. э.) накануне каждого сражения назначал формальным главнокомандующим «какого-то Сципиона»[355].
Цезарианская пропаганда, ища обоснование беспрецедентной власти Гая Юлия, а позже Октавиана Августа, пустила в ход выдумку[198] о том, что Сципиону после его победы над Ганнибалом предлагали пожизненное консульство или диктатуру[356]. Информация об этом содержалась в тексте речи, приписывавшейся Тиберию Семпронию Гракху, которая была популярна во времена Августа; правда, уже тогда многие сомневались в подлинности этого текста[190].
Авл Геллий упоминает писавших о Сципионе Гая Оппия и Гая Юлия Гигина — современников Цезаря и Августа[35]. Первый из них опубликовал сочинение «О жизни Сципиона Африканского Старшего» (De vita Prioris Africani), а второй, видимо, рассказал о Публии Корнелии в своём труде «О жизни и делах знаменитых мужей». От обеих работ остались только незначительные фрагменты[357]. Написаны были эти сочинения «явно в мистических тонах»[358] и рассказывали, помимо всего прочего, о чудесном рождении Сципиона, о ночных посещениях им капитолийского храма Юпитера и об одном эпизоде испанской войны, когда проконсул предсказал день взятия труднодоступной крепости[35].
Публий Корнелий стал одним из важных персонажей «Истории Рима от основания города», созданной Титом Ливием во времена Августа. Ливий в значительной степени опирался на Полибия, но в его сочинении есть и новые по сравнению с «Всеобщей историей» эпизоды из биографии Публия Корнелия. В частности, Сципион здесь стал одним из спасителей остатков римской армии после каннской катастрофы, «судьбой назначенный быть вождём в этой войне»[359]. Ливий относился к Сципиону с большой симпатией: он признаёт, что ему было бы приятнее думать, что Публий-старший при Тицине был спасён именно сыном[360], называет Сципиона «человеком удивительным… по своим истинным достоинствам»[361].
Для Сенеки Сципион был образцом старинной воздержанности и республиканских добродетелей: в изображении Сенеки Публий Корнелий проявил «необычайную скромность и верность долгу», уйдя в добровольное изгнание, чтобы не угрожать свободе сограждан. «Ведь дело дошло до того, что либо Сципион ущемил бы свободу, либо свобода — волю Сципиона». Посетив усадьбу, в которой Публий Корнелий провёл последний год своей жизни, Сенека восхищался скромностью жилья и умеренностью его владельца, который мылся в тесной баньке не чаще, чем раз в восемь дней[362].
Поэт эпохи Домициана Силий Италик сделал Сципиона одним из главных героев поэмы «Пуника». Здесь Публий Корнелий во время своего пребывания в Кампании (211 год до н. э.) спускается в Аид, где встречает тень матери, открывшей ему тайну рождения от змея, а также тени отца и дяди, которые предвещают ему победы и славу. В дальнейшем Сципион проходит через испытание, подобное гераклову: когда он отдыхает под лавровым деревом, ему являются две женщины, Доблесть и Наслаждение, и он выбирает спутницей своей жизни первую из них[363].
В историографии
Т. Моммзен не считал Сципиона самым выдающимся римским полководцем во Второй Пунической войне: на эту роль, по его мнению, мог претендовать, скорее, Марк Клавдий Марцелл[364]. По мнению С. Ковалёва, в Сципионе Ганнибал встретил достойного противника, «хотя и не равного ему по гениальности»[365].
В историографии преобладает мнение, что Рим победил Карфаген в Пунических войнах в силу объективных причин[366][367]. В противоположность этому Т. Бобровникова заявляет, что Сципион, разбив Ганнибала, спас Рим и таким образом предопределил ход истории всего западного мира[368].
Важными темами в историографии стали мотивы противостояния между Сципионом и Катоном и тесно связанная с этим проблема сципионовской концепции внешней политики. Ещё Моммзен видел в Публии Корнелии демагога, который искал поддержки против враждебного ему сената у народа, подкупая последний «доставками хлеба», у легионеров и у своих клиентов «высшего и низшего разряда»[369]. Катон противопоставлялся Сципиону как член «партии реформы», как последний политик, выступавший против завоеваний за пределами Италии, и как «представитель оппозиции римского среднего сословия, противостоявший новому эллинско-космополитическому нобилитету». При этом Моммзен считает попытки Катона избавиться от представителей враждебной группировки с помощью судебных обвинений, связанных с военной отчётностью, в целом неудачными[370].
Позже появились прямо противоположные гипотезы. У С. Ковалёва Сципион — типичный представитель старого нобилитета, опиравшегося на свои владения в Италии и на местных клиентов, ведших натуральное хозяйство, а поэтому не заинтересованного в масштабной агрессии. В силу этого договоры, закончившие войны с Карфагеном, с Македонией и с Антиохом, «поражают своей относительной умеренностью». Катон же был из числа «крепких землевладельцев», связанных с рынком и использовавших рабский труд; потому он был за полное уничтожение внешних конкурентов (политических, экономических и торговых) и за заморские завоевания. Вокруг него сплотились демократические силы, которые положили конец правлению малочисленной группировки нобилей во главе со Сципионом[371].
С. Утченко выступал с тех же позиций, считая, что в борьбе между Сципионом и Катоном первый отстаивал интересы олигархии, а второй выступал как «представитель плебейской аристократии и идеолог новых торгово-ростовщических слоёв господствующего класса»[372].
Для Г. Кнабе Сципион и Катон символизировали два типа отношения римлян к окружающему миру — «специфически римский космополитизм» и «антично-полисный шовинизм» соответственно. Публий Корнелий расширял влияние Рима в Средиземноморье, заключая союзы, добиваясь дружбы с правителями и общинами и распространяя институт клиентелы; при этом он относился к чужим традициям с уважением. Марк Порций же считал остальной мир «варварской пустыней, делившейся на уже покорённую и ограбленную часть и часть, ещё не покорённую и потому ещё не ограбленную». Сципион выражал интересы свободного крестьянства и древней полисной демократии, а Катон — интересы нобилитета и зависящей от него черни[373]. Р. Хейвуд и Х. Скаллард полагают, что в основе разногласий между Публием Корнелием и Марком Порцием лежали филэллинство первого и эллинофобия второго[374].
Отношение Сципиона и Катона к родному полису взял за основной критерий Б. Ляпустин. Об аристократических фамилиях Рима конца II — начала I веков до н. э. он пишет следующее:
«Одни в рамках и традициях староримской морали ориентировались на проверенную вековым опытом ценность предков — бережливость, с обязательным подчинением интересов фамилии интересам гражданской общины. Другие стремились к самостоятельности, освобождению от контроля со стороны общины, опираясь при этом на богатство, удовлетворяя, прежде всего, свои потребности и интересы за счёт остальных членов общины»[375]. Вторую из этих «групп фамилий», по мнению исследователя, возглавил Сципион[376].
Эгоизм этой части нобилитета, по мнению В. Квашнина, мог проявляться, в частности, в эксплуатации заморских владений. Сципион, утверждая свою власть в Испании за счёт личных союзов с местными племенами и городами, налаживал эксплуатацию страны исключительно в интересах своей семьи. Только в 190-е годы здесь была установлена власть сената, и, соответственно, регион превратился из владения gens Cornelia в провинцию Римской республики[129].
Д. Кинаст и А. Эстин уверены, что борьба Сципиона и Катона не была постоянной и основанной на каких-либо идейных разногласиях[374]. Схожего мнения придерживается Э. Грюэн, считающий, что обвинения, выдвинутые против Сципионов, не имели каких-либо личных мотивов: это была часть политической кампании, направленной на ограничение полномочий полководцев в провинциях; в результате её положение Сципионов не ухудшилось[377].
Борьба против Сципионов могла представлять собой восстановление «олигархического равновесия» вследствие оживления политической борьбы после Второй Пунической войны. При этом оно произошло бы даже и без Катона[378]. Несмотря на победу последнего, долгое практически непрерывное командование Сципиона (210—201 годы), вероятно, стало зародышем, из которого развилась военная диктатура I века до н. э.[332][379]
В культуре
Литература
Сципион стал главным героем поэмы Франческо Петрарки «Африка». Для автора Публий Корнелий был идеальным героем, сочетавшим в себе доблесть, учтивость, хороший вкус и молодость[380]. Сципион действует также в повести А. Немировского «Слоны Ганнибала»[381] и в романе французской писательницы Мари-Франс Бризеланс «Массинисса»[382].
Живопись
Сюжет «Великодушие Сципиона» пользовался успехом в живописи, особенно в эпоху классицизма. Его изображали Батони, Бернардино Фунгаи, Беллини, делль’Абатте, Рейнольдс, Пуссен, ван Дейк. На этом примере разрабатывалась одна из важнейших проблем в эстетике классицизма — соотношение долга и личных чувств. «Сципион — образ справедливого и мудрого правителя, поступками которого движет сознание долга, его воля торжествует над страстями. Его поступок как бы иллюстрирует высказывание древних: „Гораздо проще разрушить город, чем победить самого себя“. Покорив [Новый] Карфаген, Сципион одерживает после этого ещё большую победу — победу над своими страстями»[383].
 Сципиона изобразил Рафаэль в своей аллегорической картине «Сон рыцаря», написанной на материале «Пуники» Силия Италика[384].
Сципиона изобразил Рафаэль в своей аллегорической картине «Сон рыцаря», написанной на материале «Пуники» Силия Италика[384].
Встречу Сципиона и Ганнибала накануне битвы при Заме изобразил Джулио Романо; по картинам последнего позже была создана целая серия гобеленов[177].
Кино
Сципион стал видным персонажем ряда художественных и документальных фильмов:
- «Кабирия» (1914 год, Италия, режиссёр Джованни Пастроне). Здесь изображены отдельные эпизоды африканской кампании. Сципиона играет Луиджи Геллини.
- «Сципион Африканский» (Scipione l'Africano[en]) (1937 год, Италия, режиссёр Кармине Галлоне). Этот фильм был снят в связи с завоеванием Эфиопии и гражданской войной в Испании.
- «Scipione detto anche l’africano»[en] (1971 год, Италия, режиссёр — Луиджи Магни). Это комедия по мотивам противостояния Сципиона и Катона. В главной роли — Марчелло Мастроянни.
- «Ганнибал — Величайший полководец» (2006 год, Великобритания). Сципиона играет Шаун Дунгвал.
В фильме «Гладиатор» (2000 год) в дебютном для главного героя Максимуса бою на арене Колизея происходит инсценировка битвы при Заме: гладиаторы играют роль карфагенян, а колесницы символизируют армию Сципиона.
Музыка
Сципион Африканский стал главным героем ряда опер:
- «Публий Корнелий Сципион» Карло Франческо Поллароло (1712 год);
- «Публий Корнелий Сципион» Леонардо Винчи (1722 год);
- «Сципион» Георга Фридриха Генделя (1726 год)[385].
Публий Корнелий упоминается в первых строчках гимна Италии — песни, написанной в 1847 году (автор текста — Гоффредо Мамели, автор музыки — Микеле Новаро) и ставшей гимном в 1946 году:
Братья Италии,
Италия пробудилась,
Шлемом Сципиона
Она увенчала голову.— Гимн Италии. Русская версия и история.[386]
Сюжет о Софонисбе
История трагической гибели Софонисбы, в которой важную роль сыграл Сципион Африканский, стала одним из излюбленных сюжетов европейского искусства XVI—XVIII веков, в первую очередь — эпохи классицизма. На этот сюжет был написан ряд трагедий, включая произведения Пьера Корнеля и Вольтера, а также множество опер.
Напишите отзыв о статье "Публий Корнелий Сципион Африканский"
Примечания
- ↑ 1 2 3 4 Бобровникова Т., 2008, с. 78.
- ↑ 1 2 3 Полибий, 2004, Х, 3.
- ↑ 1 2 3 4 5 Полибий, 2004, Х, 2.
- ↑ 1 2 Полибий, 2004, ХХIII, 14.
- ↑ История римской литературы, 1959, с. 483.
- ↑ Jones C., 1966, р. 68.
- ↑ Бобровникова Т., 2008, с. 83.
- ↑ Моммзен Т. История Рима. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — Т. 2. — 640 с. — ISBN 5-222-00047-8.
- ↑ Ковалёв С. История Рима. — М.: Полигон, 2002. — 864 с. — ISBN 5-89173-171-1.
- ↑ Кораблёв И. Ганнибал. — М.: Наука, 1981. — 360 с.
- ↑ Лансель С. Ганнибал. — М.: Молодая гвардия, 2002. — 368 с. — ISBN 5-235-02483-4.
- ↑ Родионов Е. Пунические войны. — СПб.: СПбГУ, 2005. — 626 с. — ISBN 5-288-03650-0.
- ↑ Sumner G. Proconsuls and «Provinciae» in Spain, 218/7 — 196/5 B.C. // Arethusa. — 1970. — Т. 3.1. — С. 85—102.
- ↑ Квашнин В. Государственная и правовая деятельность Марка Порция Катона Старшего. — Вологда: Русь, 2004. — 132 с.
- ↑ Astin A. Cato Cenzor. — Oxford, 1978. — 392 с.
- ↑ Kienast D. Cato der Zensor. Seine Persönlichkeit und seine Zeit. — Heidelberg: Quelle & Meyer, 1954. — 170 с.
- ↑ Трухина Н. Политика и политики «золотого века» Римской республики. — М.: Издательство МГУ, 1986. — 184 с.
- ↑ Бобровникова Т. Сципион Африканский. — М.: Молодая гвардия, 2009. — 384 с. — ISBN 978-5-235-03238-5.
- ↑ Лиддел Гарт Б. Сципион Африканский. Победитель Ганнибала. — М.: Центрполиграф, 2003. — 286 с. — ISBN 5-9524-0551-7.
- ↑ Scullard H. Scipio Africanus. Soldier and Politician. — Bristole, 1970.
- ↑ Haywood R. Studies on Scipio Africanus. — Baltimore, 1933.
- ↑ Hauwood R., 1933, р.22.
- ↑ Бобровникова Т., 2009, с. 346—347.
- ↑ Макробий, 2013, I, 6, 26.
- ↑ Cornelii Scipiones, 1900, s. 1426.
- ↑ 1 2 Broughton T., 1951, р. 174.
- ↑ Broughton T., 1951, р. 206.
- ↑ Broughton T., 1951, р. 232.
- ↑ Broughton T., 1951, р. 237.
- ↑ 1 2 Родионов Е., 2005, с. 428.
- ↑ 1 2 3 Трухина Н., 1986, с. 64.
- ↑ Кораблёв И., 1981, с. 18.
- ↑ Трухина Н., 1986, с. 63.
- ↑ Полибий, 2004, Х, 4, 1.
- ↑ 1 2 3 Авл Геллий, 2007, VI, 1.
- ↑ Цицерон, 1993, XI филиппика, 17.
- ↑ 1 2 Валерий Максим, 2007, V, 5, 1.
- ↑ 1 2 Бобровникова Т., 2009, с. 347.
- ↑ Scullard H., 1970, р. 27—28.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXVI, 18.
- ↑ Валерий Максим, 2007, III, 7, 3.
- ↑ Полибий, 2004, Х, 6.
- ↑ Бобровникова Т., 2009, с. 346.
- ↑ 1 2 Плиний Старший, VII, 7.
- ↑ Силий Италик, I, 634-635.
- ↑ 1 2 3 Полибий, 2004, Х, 4-5.
- ↑ Трухина Н., 1986, с. 65.
- ↑ 1 2 Тит Ливий, 1994, XXVIII, 35, 6.
- ↑ Лиддел Гарт Б., 2003, с. 14.
- ↑ Валерий Максим, 1772, VIII, 8.
- ↑ Авл Геллий, 2007, VII, 8, 5.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 184.
- ↑ Валерий Максим, 2007, V, 4, 2.
- ↑ Плиний Старший, ХVI, 14.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXI, 46, 10.
- ↑ 1 2 Родионов Е., 2005, с. 430.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXVI, 41, 11.
- ↑ Бобровникова Т., 2009, с. 46—47.
- ↑ 1 2 Scullard H., 1970, р. 30.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXII, 53, 2.
- ↑ Трухина Н., 1986, с. 66.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXII, 53, 1-4.
- ↑ Валерий Максим, 2007, V, 6, 7.
- ↑ Фронтин, IV, 7, 39.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 290.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 290—291.
- ↑ Аппиан, 2002, Война с Ганнибалом, 26.
- ↑ Broughton T., 1951, р. 340.
- ↑ Cornelius 336, 1900, s. 1463.
- ↑ Трухина Н., 1986, с. 67.
- ↑ Лансель С., 2002, с. 220.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 431.
- ↑ Бобровникова Т., 2009, с. 55.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXV, 2.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 431—432.
- ↑ Broughton T., 1951, р. 263.
- ↑ Силий Италик, XIII, 385.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 427.
- ↑ Аппиан, 2002, Иберийско-римские войны, 68-69.
- ↑ Broughton T., 1951, р. 280.
- ↑ Бобровникова Т., 2009, с. 58—59.
- ↑ Родионов Е., 2005, с.427.
- ↑ Scullard H., 1951, р. 240.
- ↑ Моммзен Т., 1997, с. 496.
- ↑ Scullard H., 1951, р. 66.
- ↑ 1 2 Лансель С., 2002, с. 221.
- ↑ Кораблёв И., 1981, с. 243—244.
- ↑ Бобровникова Т., 2009, с. 349.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 432.
- ↑ 1 2 Трухина Н., 1986, с. 69.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 451—452.
- ↑ Лансель С., 2002, с. 223.
- ↑ Бобровникова Т., 2009, с. 68—69.
- ↑ Полибий, 2004, Х, 19.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 452.
- ↑ Лансель С., 2002, с. 224.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXVI, 50.
- ↑ 1 2 Лансель С., 2002, с. 225.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 461.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 462—463.
- ↑ Бобровникова Т., 2009, с. 99—100.
- ↑ Бобровникова Т., 2009, с. 100.
- ↑ 1 2 Полибий, 2004, Х, 40.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXVI, 19.
- ↑ 1 2 Трухина Н., 1986, с. 75.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 463—464.
- ↑ Моммзен Т., 1997, с. 499.
- ↑ Бобровникова Т., 2009, с. 102.
- ↑ Лансель С., 2002, с. 238.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 476—477.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXVIII, 12, 13-14.
- ↑ Полибий, 2004, ХI, 20, 2.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 479.
- ↑ Полибий, 2004, ХI, 22-24.
- ↑ Аппиан, 2002, Иберийско-римские войны, 27.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 482—483.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 484.
- ↑ Полибий, 2004, ХI, 24а.
- ↑ Полибий, 2004, ХI, 24.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXVIII, 17-18.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 487.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 488.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 492—493.
- ↑ Бобровникова Т., 2009, с. 113—114.
- ↑ 1 2 Родионов Е., 2005, с. 496.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXVII, 19.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXVIII, 35.
- ↑ Трухина Н., 1986, с. 77.
- ↑ 1 2 Квашнин В., 2004, с. 46—47.
- ↑ Бобровникова Т., 2009, с. 117—118.
- ↑ Кораблёв И., 1981, с. 243.
- ↑ 1 2 3 Квашнин В., 2004, с. 27.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 498.
- ↑ Broughton T., 1951, р. 301.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXVIII, 38, 6-12.
- ↑ Трухина Н., 1986, с. 77-78.
- ↑ Scullard H., 1970, р. 161—166; 168.
- ↑ Кораблёв И., 1981, с. 245—246.
- ↑ Бобровникова Т., 2009, с. 129.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 499—500.
- ↑ Лансель С., 2002, с. 255.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 500.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXIХ, 1, 15-18.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 501.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXIХ, 1, 1-11.
- ↑ Аппиан, 2002, Пунические войны, 8.
- ↑ Трухина Н., 1986, с. 80.
- ↑ Трухина Н., 1986, с. 78—79.
- ↑ Трухина Н., 1986, с. 106.
- ↑ Квашнин В., 2004, с. 28.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 510—511.
- ↑ Трухина Н., 1986, с. 79—80.
- ↑ Broughton T., 1951, р. 308.
- ↑ Лансель С., 2002, с. 257.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 513.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 514.
- ↑ Лансель С., 2002, с. 259—260.
- ↑ Бобровникова Т., 2009, с. 149—150.
- ↑ Лансель С., 2002, с. 261.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 516—517.
- ↑ Трухина Н., 1986, с. 81.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 520.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 521—522.
- ↑ Бобровникова Т., 2009, с. 154—155.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 522—525.
- ↑ Лансель С., 2002, с. 263—265.
- ↑ Бобровникова Т., 2009, с. 155—158.
- ↑ Трухина Н., 1986, с. 82.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 525.
- ↑ Лансель С., 2002, с. 265—267.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXХ, 22-23.
- ↑ Аппиан, 2002, Пунические войны, 31-32.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 530—532.
- ↑ Фронтин, III, 6, 1.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 534.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 536.
- ↑ 1 2 Лансель С., 2002, с. 274.
- ↑ Бобровникова Т., 2009, с. 162—163.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXХ, 36, 8.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 534—535.
- ↑ 1 2 Лансель С., 2002, с. 275.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 537.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 539.
- ↑ 1 2 Полибий, 2004, ХV, 14.
- ↑ Аппиан, 2002, Пунические войны, 48.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXХ, 35, 10.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 541.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXХ, 36, 7-8.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXХ, 44.
- ↑ 1 2 3 Трухина Н., 1986, с. 85.
- ↑ Cornelius 176, 1900, s. 1358.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 542.
- ↑ Лансель С., 2002, с. 278.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 544.
- ↑ Cornelius 336, 1900, s. 1468.
- ↑ Полибий, 2004, ХХХII, 12-13.
- ↑ Трухина Н., 1986, с. 86—87.
- ↑ 1 2 3 Васильев А., 2015, с. 228.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXХII, 7, 3.
- ↑ Квашнин В., 2004, с. 55.
- ↑ Кораблёв И., 1981, с. 276—277.
- ↑ Трухина Н., 1986, с. 88.
- ↑ 1 2 Плутарх, 2004, Катон Старший, 3.
- ↑ Бобровникова Т., 2009, с. 133.
- ↑ Корнелий Непот, Марк Порций Катон, 1.
- ↑ Корнелий Непот, Марк Порций Катон, 2.
- ↑ Плутарх, 2004, Катон Старший, 11.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXXIV, 43, 3-9.
- ↑ Квашнин В., 2004, с. 53—54.
- ↑ Квашнин В., 2004, с. 51—52.
- ↑ Бобровникова Т., 2009, с. 256.
- ↑ Трухина Н., 1986, с. 88—89.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXXIV, 62, 16.
- ↑ Трухина Н., 1986, с. 89.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXXV, 10.
- ↑ Broughton T., 1951, р. 348—349.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXXV, 14, 5-12.
- ↑ Аппиан, 2002, Сирийские дела, 9-11.
- ↑ 1 2 Плутарх, 2004, Фламинин, 21.
- ↑ Зонара, 1869, IX, 18.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXXV, 14, 1.
- ↑ Лансель С., 2002, с. 307.
- ↑ Лиддел Гарт Б., 2003, с. 223.
- ↑ Broughton T., 1951, р. 356.
- ↑ Лиддел Гарт Б., 2003, с. 226—227.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXXVII, 1.
- ↑ 1 2 Бобровникова Т., 2009, с. 366.
- ↑ Лиддел Гарт Б., 2003, с. 228—229.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXXVII, 6-7.
- ↑ Бобровникова Т., 2009, с. 264—265.
- ↑ Аппиан, 2002, Войны в Македонии, 5.
- ↑ Лиддел Гарт Б., 2003, с. 234.
- ↑ Бобровникова Т., 2009, с. 268.
- ↑ Полибий, 2004, ХХI, 15.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXXVII, 40.
- ↑ Аппиан, 2002, Сирийские дела, 32.
- ↑ Бенгтсон Г., 1982, с. 241.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXXVII, 39, 13.
- ↑ Бенгтсон Г., 1982, с. 242.
- ↑ Трухина Н., 1986, с. 92.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXXVII, 44, 1-2.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXXVII, 37, 6.
- ↑ Аппиан, 2002, Сирийские дела, 30.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXXVIII, 58, 9.
- ↑ Бобровникова Т., 2009, с. 367—368.
- ↑ Лиддел Гарт Б., 2003, с. 238.
- ↑ Бобровникова Т., 2009, с. 271.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXXVII, 58-59.
- ↑ Квашнин В., 2004, с. 64.
- ↑ 1 2 Квашнин В., 2004, с. 65.
- ↑ Тит Ливий, 1994, ХХХVII, 58, 7.
- ↑ Бобровникова Т., 2009, с. 376.
- ↑ 1 2 3 Васильев А., 2015, с. 230.
- ↑ Квашнин В., 2004, с. 66.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXVIII, 51, 1.
- ↑ 1 2 Валерий Максим, 2007, III, 7, 1.
- ↑ 1 2 3 Трухина Н., 1986, с. 94.
- ↑ Квашнин В., 2004, с. 66—67.
- ↑ Бобровникова Т., 2009, с. 378.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXVIII, 54, 2.
- ↑ Плутарх, 2004, Катон Старший, 15.
- ↑ Авл Геллий., 2007, IV, 18, 7.
- ↑ Полибий, 2004, XXIII, 14.
- ↑ Квашнин В., 2004, с. 68—71.
- ↑ Авл Геллий., 2007, IV, 18, 9-12.
- ↑ Васильев А., 2015, с.232.
- ↑ Квашнин В., 2004, с. 71.
- ↑ Авл Геллий., 2007, VI, 19.
- ↑ Васильев А., 2015, с. 233—235.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXVIII, 56, 8.
- ↑ Квашнин В., 2004, с. 75.
- ↑ Васильев А., 2015, с. 233.
- ↑ Квашнин В., 2004, с. 78—80.
- ↑ Авл Геллий., 2007, IV, 18, 1-2.
- ↑ Квашнин В., 2004, с. 81.
- ↑ Квашнин В., 2004, с. 81—82.
- ↑ Авл Геллий, 2007, IV, 18, 3-4.
- ↑ Тит Ливий, 1994, ХХХVIII, 51, 12.
- ↑ Квашнин В., 2004, с. 83—84.
- ↑ 1 2 Kienast D., 1954, s. 67.
- ↑ Валерий Максим, 1772, II, 10, 2.
- ↑ Сенека, 1986, Нравственные письма к Луцилию, 85, 5.
- ↑ Сенека, 1986, Нравственные письма к Луцилию, 85, 4.
- ↑ 1 2 Валерий Максим, 1772, VI, 7, 1.
- ↑ Тит Ливий, 1994, Периохи, ХХХIX.
- ↑ 1 2 Трухина Н., 1986, с. 95.
- ↑ Бобровникова Т., 2009, с. 266.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXХVIII, 56, 5-6.
- ↑ Авл Геллий, 2007, IV, 18, 6.
- ↑ Цицерон, 1974, Об обязанностях III, 4.
- ↑ Цицерон, 1994, Об ораторе II, 249.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXVIII, 35, 6-7.
- ↑ Элиан, 1994, XII, 14.
- ↑ Плиний Старший, ХХХVII, 85.
- ↑ Полибий, 2004, Х, 2-5.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXVI, 19, 3.
- ↑ Трухина Н., 1986, с. 87.
- ↑ Цицерон, 1994, Об ораторе II, 262.
- ↑ Полибий, 2004, Х, 18.
- ↑ Трухина Н., 1986, с. 78.
- ↑ Полибий, 2004, ХV, 5.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXХ, 29, 1-4.
- ↑ Родионов Е., 2005, с.535.
- ↑ Лансель С., 2002, с. 272—273.
- ↑ Полибий, 2004, ХV, 35.
- ↑ Моммзен Т., 1997, с. 497.
- ↑ Бобровникова Т., 2008, с. 93.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXVI, 19, 4-8.
- ↑ Бобровникова Т., 2008, с. 81—82.
- ↑ Бобровникова Т., 2008, с. 86; 93.
- ↑ Авл Геллий, 2007, VI, 1, 1-4.
- ↑ Тит Ливий, 1994, XXVIII, 58, 7.
- ↑ Бобровникова Т., 2008, с. 89.
- ↑ Аврелий Виктор, 1997, 49, 1.
- ↑ Дион Кассий, ХVI, 57, 39.
- ↑ Валерий Максим, 1772, I, 2, 2.
- ↑ Авл Геллий, 2007, VI, 1, 6.
- ↑ Аврелий Виктор, 1997, 49, 3.
- ↑ Scullard H., 1970, р. 27-28.
- ↑ Бобровникова Т., 2008, с. 80.
- ↑ Бобровникова Т., 2009, с. 77—82.
- ↑ Аппиан, 2002, Иберийско-римские войны, 21-23.
- ↑ Аппиан, 2002, Иберийско-римские войны, 26.
- ↑ Стаций, Сильвии, III, 292-293.
- ↑ Лиддел Гарт Б., 2003, с. 29.
- ↑ Родионов Е., 2005, с. 454.
- ↑ Лиддел Гарт Б., 2003, с. 30.
- ↑ Лиддел Гарт Б., 2003, с. 30—31.
- ↑ Трухина Н., 1986, с. 76—78.
- ↑ Лансель С., 2002, с. 454.
- ↑ Бобровникова Т., 2009, с. 95—96.
- ↑ 1 2 Ковалёв С., 2002, с. 309.
- ↑ Лансель С., 2002, с. 331.
- ↑ Валерий Максим, 2007, IV, 5, 3.
- ↑ Ювенал, VI, 167-169.
- ↑ Трухина Н., 1986, с. 96.
- ↑ Scullard H., 1970, р. 22.
- ↑ 1 2 Бобровникова Т., 2009, с. 348.
- ↑ Винкельман И., 2000, с. 263—264.
- ↑ Хафнер Г., 1984, с. 248-249.
- ↑ Винкельман И., 2000, с.619.
- ↑ 1 2 Хафнер Г., 1984, с. 249.
- ↑ Валерий Максим, 1772, VIII, 15, 1.
- ↑ Hauwood R., 1933, р. 10.
- ↑ Валерий Максим, 1772, VIII, 14, 1.
- ↑ Лактанций, I, 18, 11.
- ↑ Hauwood R., 1933, р. 18.
- ↑ Бобровникова Т., 2008, с. 78—79.
- ↑ Полибий, 2004, Х, 4-5; 11.
- ↑ Бобровникова Т., 2008, с. 80—82.
- ↑ Бобровникова Т., 2009, с. 366—367.
- ↑ Квашнин В., 2004, с. 68—69.
- ↑ Цицерон, 1966, О государстве, фр.6.
- ↑ Цицерон, 1966, О государстве VI, 9-29.
- ↑ Плутарх, 1994, Цезарь, 52.
- ↑ Тит Ливий, 1994, ХХХVIII, 56, 12-13.
- ↑ Авл Геллий, 2007, VI, прим.2, 3.
- ↑ Бобровникова Т., 2008, с. 86.
- ↑ Тит Ливий, 1994, ХХII, 53, 6.
- ↑ Тит Ливий, 1994, ХХI, 46, 10.
- ↑ Тит Ливий, 1994, ХХVI, 19, 3.
- ↑ Сенека, 1986, Письма к Луцилию о нравственности, 86.
- ↑ Трухина Н., 1986, с. 65, 67-68.
- ↑ Моммзен Т., 1997, с. 483.
- ↑ Ковалёв С., 2002, с. 306.
- ↑ Ковалёв С., 2002, с. 307.
- ↑ Кораблёв И., 1981, с. 22—23.
- ↑ Бобровникова Т., 2009, с. 335.
- ↑ Моммзен Т., 1997, с. 645.
- ↑ Моммзен Т., 1997, с. 635—637.
- ↑ Ковалёв С., 2002, с. 326—327.
- ↑ Утченко С., 1952, с. 52.
- ↑ Кнабе Г., 1981, с. 128—129.
- ↑ 1 2 Трухина Н., 1986, с. 103.
- ↑ Ляпустин Б., 1991, с. 60.
- ↑ Ляпустин Б., 1991, с. 58.
- ↑ Васильев А., 2015, с. 236.
- ↑ Васильев А., 2015, с. 237—238.
- ↑ Васильев А., 2014, с. 165.
- ↑ Об "Африке" Петрарки, 1992, с. 221.
- ↑ Немировский А. И. Слоны Ганнибала. — М.: Астрель, 2010. — 352 с. — ISBN 978-5-17-056602-0.
- ↑ Briselance M.-F. Massinissa, Alger, Espace Libre, 2009. ISBN 978-9961-874-51-6.
- ↑ [www.arts-museum.ru/data/fonds/europe_and_america/j/2001_3000/6458_Velikodushie_Scipiona/index.php Никола Пуссен. Великодушие Сципиона // ГМИИ]
- ↑ Холл Д., 1996, с. 548.
- ↑ [www.belcanto.ru/handel.html Георг Фридрих Гендель на belcanto.ru]
- ↑ [russianhymn.narod.ru/italy/italy.html Гимн Италии. Русская версия и история]
Источники и литература
Источники
- Секст Аврелий Виктор. О знаменитых людях // Римские историки IV века. — М.: Росспэн, 1997. — С. 179-224. — ISBN 5-86004-072-5.
- Луций Анней Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Трагедии. — М.: Художественная литература, 1986. — 544 с.
- Луций Анней Флор. Эпитомы // Малые римские историки. — М.: Ладомир, 1996. — С. 99-190. — ISBN 5-86218-125-3.
- Аппиан Александрийский. Римская история. — СПб.: Алетейя, 2002. — 288 с. — ISBN 5-89329-676-1.
- Валерий Максим. Достопамятные деяния и изречения. — СПб.: Издательство СПбГУ, 2007. — 308 с. — ISBN 978-5-288-04267-6.
- Валерий Максим. Достопамятные деяния и изречения. — СПб., 1772. — Т. 2. — 520 с.
- Авл Геллий. Аттические ночи. Книги 1 - 10. — СПб.: Издательский центр "Гуманитарная академия", 2007. — 480 с. — ISBN 978-5-93762-027-9.
- Иоанн Зонара. Epitome historiarum. — Leipzig, 1869. — Т. 2.
- [ancientrome.ru/antlitr/nepot/cato-f.htm Корнелий Непот. Марк Порций Катон.]. Сайт «История Древнего Рима». Проверено 5 мая 2016.
- Тит Ливий. История Рима от основания города. — М., 1989. — Т. 2. — 528 с. — ISBN 5-02-008995-8.
- Тит Ливий. История Рима от основания города. — М.: Наука, 1989. — Т. 3. — 576 с. — ISBN 5-02-008995-8.
- Макробий. Сатурналии. — М.: Кругъ, 2013. — 810 с. — ISBN 978-5-7396-0257-2.
- Павел Орозий. История против язычников. — СПб.: Издательство Олега Абышко, 2004. — 544 с. — ISBN 5-7435-0214-5.
- Плиний Старший. [books.google.de/books?id=Sp9AAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false Естественная история]. Проверено 4 мая 2016.
- Полибий. Всеобщая история. — М., 2004. — Т. 1. — 768 с. — ISBN 5-17-024958-6.
- [www.xlegio.ru/sources/frontinus/book-4.html Фронтин. Военные хитрости]. Сайт «ХLegio». Проверено 4 мая 2016.
- [www.thelatinlibrary.com/cicero/phil11.shtml Цицерон. ХI филиппика]. Сайт «Latin Library». Проверено 4 мая 2016.
- Цицерон. О государстве // Диалоги. — М.: Наука, 1966. — С. 7—88.
- Цицерон. Об обязанностях // О старости. О дружбе. Об обязанностях. — М.: Наука, 1974. — С. 58—158.
- Цицерон. Об ораторе // Три трактата об ораторском искусстве. — М.: Ладомир, 1994. — С. 75—272. — ISBN 5-86218-097-4.
Литература
- Бенгтсон Г. Правители эпохи эллинизма. — М.: Наука, 1982. — 391 с.
- Бобровникова Т. Сципион Африканский. — М.: Молодая гвардия, 2009. — 384 с. — ISBN 978-5-235-03238-5.
- Бобровникова Т. «Сципионова легенда» в античной исторической традиции // Вестник древней истории. — 2008. — № 4. — С. 77—93.
- Васильев А. [www.spbiiran.nw.ru/wp-content/uploads/2014/10/%D0%94%D0%98%D0%A1%D0%A1_%D0%90%D0%92_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2.pdf Магистратская власть в Риме в республиканскую эпоху: традиции и инновации]. — СПб., 2014. — 215 с.
- Васильев А. Судебные процессы над братьями Сципионами в 80-е годы II в. до н. э. // Политическая интрига и судебный процесс в античном мире. — 2015. — С. 227-238.
- Квашнин В. Государственная и правовая деятельность Марка Порция Катона Старшего. — Вологда: Русь, 2004. — 132 с.
- Кнабе Г. Корнелий Тацит. Время. Жизнь. Книги. — М.: Наука, 1981. — 208 с.
- Ковалёв С. История Рима. — М.: Полигон, 2002. — 864 с. — ISBN 5-89173-171-1.
- Кораблёв И. Ганнибал. — М.: Наука, 1981. — 360 с.
- Лансель С. Ганнибал. — М.: Молодая гвардия, 2002. — 368 с. — ISBN 5-235-02483-4.
- Лиддел Гарт Б. Сципион Африканский. Победитель Ганнибала. — М.: Центрполиграф, 2003. — 286 с. — ISBN 5-9524-0551-7.
- Ляпустин Б. Экономическое развитие Рима в свете закона Оппия о роскоши // Из истории античного мира. — 1991. — С. 50—61.
- Мишулин А. Античная Испания. — М.: Издательство АН СССР, 1959. — 363 с.
- Моммзен Т. История Рима. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. — Т. 2. — 640 с. — ISBN 5-222-00047-8.
- Рабинович Е. Об «Африке» Петрарки // Петрарка. Африка. — 1992. — С. 211—240.
- Родионов Е. Пунические войны. — СПб.: СПбГУ, 2005. — 626 с. — ISBN 5-288-03650-0.
- Трухина Н. Политика и политики «золотого века» Римской республики. — М.: Издательство МГУ, 1986. — 184 с.
- Холл Д. Словарь сюжетов и символов в искусстве. — М.: Крон-Пресс, 1996. — 656 с. — ISBN 5-232-00326-7.
- Astin A. Cato Cenzor. — Oxford, 1978. — 392 с.
- Broughton T. Magistrates of the Roman Republic. — New York, 1951. — Vol. I. — P. 600.
- Haywood R. Studies on Scipio Africanus. — Baltimore, 1933.
- Henze W. Cornelius 336 // RE. — 1900. — Bd. VII. — Kol. 1462—1471.</span>
- Jones C. Towards a Chronology of Plutarch’s Works // The Journal of Roman Studies. — 1966. — Т. 56. — С. 61—74.
- Kienast D. Cato der Zensor. Seine Persönlichkeit und seine Zeit. — Heidelberg: Quelle & Meyer, 1954. — 170 с.
- Münzer F. Cornelii Scipiones // RE. — 1900. — Bd. VII. — Kol. 1426—1427.</span>
- Münzer F. Cornelius 176 // RE. — 1900. — Т. VII. — С. 1358—1361.
- Scullard H. Scipio Africanus. Soldier and Politician. — Bristole, 1970.
- Sumner G. Proconsuls and «Provinciae» in Spain, 218/7 — 196/5 B.C. // Arethusa. — 1970. — Т. 3.1. — С. 85—102.
Ссылки
- [ancientrome.ru/genealogy/person.htm?p=486 Публий Корнелий Сципион Африканский] (рус.). — биография на сайте [ancientrome.ru ancientrome.ru].
- [quod.lib.umich.edu/m/moa/ACL3129.0003.001/751?rgn=full+text;view=image Публий Корнелий Сципион Африканский] (англ.). — в Smith's Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology.
| Эта статья входит в число избранных статей русскоязычного раздела Википедии. |
| ||||||
| ||||||
| Статья содержит короткие («гарвардские») ссылки на публикации, не указанные или неправильно описанные в библиографическом разделе. Список неработающих ссылок: Авл Геллий., 2007, Винкельман И., 2000, Дион Кассий, История римской литературы, 1959, Корнелий Непот, Лактанций, Плутарх, 1994, Плутарх, 2004, Силий Италик, Стаций, Тит Ливий, 1994, Утченко С., 1952, Хафнер Г., 1984, Цицерон, 1993, Элиан, 1994, Ювенал, Cornelii Scipiones, 1900, Hauwood R., 1933, Scullard H., 1951 Пожалуйста, исправьте ссылки согласно инструкции к шаблону {{sfn}} и дополните библиографический раздел корректными описаниями цитируемых публикаций, следуя руководствам ВП:Сноски и ВП:Ссылки на источники.
|
Отрывок, характеризующий Публий Корнелий Сципион Африканский
Солдаты, бывшие на дворе, услыхав выстрел, вошли в сени, спрашивая, что случилось, и изъявляя готовность наказать виновных; но офицер строго остановил их.– On vous demandera quand on aura besoin de vous, [Когда будет нужно, вас позовут,] – сказал он. Солдаты вышли. Денщик, успевший между тем побывать в кухне, подошел к офицеру.
– Capitaine, ils ont de la soupe et du gigot de mouton dans la cuisine, – сказал он. – Faut il vous l'apporter? [Капитан у них в кухне есть суп и жареная баранина. Прикажете принести?]
– Oui, et le vin, [Да, и вино,] – сказал капитан.
Французский офицер вместе с Пьером вошли в дом. Пьер счел своим долгом опять уверить капитана, что он был не француз, и хотел уйти, но французский офицер и слышать не хотел об этом. Он был до такой степени учтив, любезен, добродушен и истинно благодарен за спасение своей жизни, что Пьер не имел духа отказать ему и присел вместе с ним в зале, в первой комнате, в которую они вошли. На утверждение Пьера, что он не француз, капитан, очевидно не понимая, как можно было отказываться от такого лестного звания, пожал плечами и сказал, что ежели он непременно хочет слыть за русского, то пускай это так будет, но что он, несмотря на то, все так же навеки связан с ним чувством благодарности за спасение жизни.
Ежели бы этот человек был одарен хоть сколько нибудь способностью понимать чувства других и догадывался бы об ощущениях Пьера, Пьер, вероятно, ушел бы от него; но оживленная непроницаемость этого человека ко всему тому, что не было он сам, победила Пьера.
– Francais ou prince russe incognito, [Француз или русский князь инкогнито,] – сказал француз, оглядев хотя и грязное, но тонкое белье Пьера и перстень на руке. – Je vous dois la vie je vous offre mon amitie. Un Francais n'oublie jamais ni une insulte ni un service. Je vous offre mon amitie. Je ne vous dis que ca. [Я обязан вам жизнью, и я предлагаю вам дружбу. Француз никогда не забывает ни оскорбления, ни услуги. Я предлагаю вам мою дружбу. Больше я ничего не говорю.]
В звуках голоса, в выражении лица, в жестах этого офицера было столько добродушия и благородства (во французском смысле), что Пьер, отвечая бессознательной улыбкой на улыбку француза, пожал протянутую руку.
– Capitaine Ramball du treizieme leger, decore pour l'affaire du Sept, [Капитан Рамбаль, тринадцатого легкого полка, кавалер Почетного легиона за дело седьмого сентября,] – отрекомендовался он с самодовольной, неудержимой улыбкой, которая морщила его губы под усами. – Voudrez vous bien me dire a present, a qui' j'ai l'honneur de parler aussi agreablement au lieu de rester a l'ambulance avec la balle de ce fou dans le corps. [Будете ли вы так добры сказать мне теперь, с кем я имею честь разговаривать так приятно, вместо того, чтобы быть на перевязочном пункте с пулей этого сумасшедшего в теле?]
Пьер отвечал, что не может сказать своего имени, и, покраснев, начал было, пытаясь выдумать имя, говорить о причинах, по которым он не может сказать этого, но француз поспешно перебил его.
– De grace, – сказал он. – Je comprends vos raisons, vous etes officier… officier superieur, peut etre. Vous avez porte les armes contre nous. Ce n'est pas mon affaire. Je vous dois la vie. Cela me suffit. Je suis tout a vous. Vous etes gentilhomme? [Полноте, пожалуйста. Я понимаю вас, вы офицер… штаб офицер, может быть. Вы служили против нас. Это не мое дело. Я обязан вам жизнью. Мне этого довольно, и я весь ваш. Вы дворянин?] – прибавил он с оттенком вопроса. Пьер наклонил голову. – Votre nom de bapteme, s'il vous plait? Je ne demande pas davantage. Monsieur Pierre, dites vous… Parfait. C'est tout ce que je desire savoir. [Ваше имя? я больше ничего не спрашиваю. Господин Пьер, вы сказали? Прекрасно. Это все, что мне нужно.]
Когда принесены были жареная баранина, яичница, самовар, водка и вино из русского погреба, которое с собой привезли французы, Рамбаль попросил Пьера принять участие в этом обеде и тотчас сам, жадно и быстро, как здоровый и голодный человек, принялся есть, быстро пережевывая своими сильными зубами, беспрестанно причмокивая и приговаривая excellent, exquis! [чудесно, превосходно!] Лицо его раскраснелось и покрылось потом. Пьер был голоден и с удовольствием принял участие в обеде. Морель, денщик, принес кастрюлю с теплой водой и поставил в нее бутылку красного вина. Кроме того, он принес бутылку с квасом, которую он для пробы взял в кухне. Напиток этот был уже известен французам и получил название. Они называли квас limonade de cochon (свиной лимонад), и Морель хвалил этот limonade de cochon, который он нашел в кухне. Но так как у капитана было вино, добытое при переходе через Москву, то он предоставил квас Морелю и взялся за бутылку бордо. Он завернул бутылку по горлышко в салфетку и налил себе и Пьеру вина. Утоленный голод и вино еще более оживили капитана, и он не переставая разговаривал во время обеда.
– Oui, mon cher monsieur Pierre, je vous dois une fiere chandelle de m'avoir sauve… de cet enrage… J'en ai assez, voyez vous, de balles dans le corps. En voila une (on показал на бок) a Wagram et de deux a Smolensk, – он показал шрам, который был на щеке. – Et cette jambe, comme vous voyez, qui ne veut pas marcher. C'est a la grande bataille du 7 a la Moskowa que j'ai recu ca. Sacre dieu, c'etait beau. Il fallait voir ca, c'etait un deluge de feu. Vous nous avez taille une rude besogne; vous pouvez vous en vanter, nom d'un petit bonhomme. Et, ma parole, malgre l'atoux que j'y ai gagne, je serais pret a recommencer. Je plains ceux qui n'ont pas vu ca. [Да, мой любезный господин Пьер, я обязан поставить за вас добрую свечку за то, что вы спасли меня от этого бешеного. С меня, видите ли, довольно тех пуль, которые у меня в теле. Вот одна под Ваграмом, другая под Смоленском. А эта нога, вы видите, которая не хочет двигаться. Это при большом сражении 7 го под Москвою. О! это было чудесно! Надо было видеть, это был потоп огня. Задали вы нам трудную работу, можете похвалиться. И ей богу, несмотря на этот козырь (он указал на крест), я был бы готов начать все снова. Жалею тех, которые не видали этого.]
– J'y ai ete, [Я был там,] – сказал Пьер.
– Bah, vraiment! Eh bien, tant mieux, – сказал француз. – Vous etes de fiers ennemis, tout de meme. La grande redoute a ete tenace, nom d'une pipe. Et vous nous l'avez fait cranement payer. J'y suis alle trois fois, tel que vous me voyez. Trois fois nous etions sur les canons et trois fois on nous a culbute et comme des capucins de cartes. Oh!! c'etait beau, monsieur Pierre. Vos grenadiers ont ete superbes, tonnerre de Dieu. Je les ai vu six fois de suite serrer les rangs, et marcher comme a une revue. Les beaux hommes! Notre roi de Naples, qui s'y connait a crie: bravo! Ah, ah! soldat comme nous autres! – сказал он, улыбаясь, поело минутного молчания. – Tant mieux, tant mieux, monsieur Pierre. Terribles en bataille… galants… – он подмигнул с улыбкой, – avec les belles, voila les Francais, monsieur Pierre, n'est ce pas? [Ба, в самом деле? Тем лучше. Вы лихие враги, надо признаться. Хорошо держался большой редут, черт возьми. И дорого же вы заставили нас поплатиться. Я там три раза был, как вы меня видите. Три раза мы были на пушках, три раза нас опрокидывали, как карточных солдатиков. Ваши гренадеры были великолепны, ей богу. Я видел, как их ряды шесть раз смыкались и как они выступали точно на парад. Чудный народ! Наш Неаполитанский король, который в этих делах собаку съел, кричал им: браво! – Га, га, так вы наш брат солдат! – Тем лучше, тем лучше, господин Пьер. Страшны в сражениях, любезны с красавицами, вот французы, господин Пьер. Не правда ли?]
До такой степени капитан был наивно и добродушно весел, и целен, и доволен собой, что Пьер чуть чуть сам не подмигнул, весело глядя на него. Вероятно, слово «galant» навело капитана на мысль о положении Москвы.
– A propos, dites, donc, est ce vrai que toutes les femmes ont quitte Moscou? Une drole d'idee! Qu'avaient elles a craindre? [Кстати, скажите, пожалуйста, правда ли, что все женщины уехали из Москвы? Странная мысль, чего они боялись?]
– Est ce que les dames francaises ne quitteraient pas Paris si les Russes y entraient? [Разве французские дамы не уехали бы из Парижа, если бы русские вошли в него?] – сказал Пьер.
– Ah, ah, ah!.. – Француз весело, сангвинически расхохотался, трепля по плечу Пьера. – Ah! elle est forte celle la, – проговорил он. – Paris? Mais Paris Paris… [Ха, ха, ха!.. А вот сказал штуку. Париж?.. Но Париж… Париж…]
– Paris la capitale du monde… [Париж – столица мира…] – сказал Пьер, доканчивая его речь.
Капитан посмотрел на Пьера. Он имел привычку в середине разговора остановиться и поглядеть пристально смеющимися, ласковыми глазами.
– Eh bien, si vous ne m'aviez pas dit que vous etes Russe, j'aurai parie que vous etes Parisien. Vous avez ce je ne sais, quoi, ce… [Ну, если б вы мне не сказали, что вы русский, я бы побился об заклад, что вы парижанин. В вас что то есть, эта…] – и, сказав этот комплимент, он опять молча посмотрел.
– J'ai ete a Paris, j'y ai passe des annees, [Я был в Париже, я провел там целые годы,] – сказал Пьер.
– Oh ca se voit bien. Paris!.. Un homme qui ne connait pas Paris, est un sauvage. Un Parisien, ca se sent a deux lieux. Paris, s'est Talma, la Duschenois, Potier, la Sorbonne, les boulevards, – и заметив, что заключение слабее предыдущего, он поспешно прибавил: – Il n'y a qu'un Paris au monde. Vous avez ete a Paris et vous etes reste Busse. Eh bien, je ne vous en estime pas moins. [О, это видно. Париж!.. Человек, который не знает Парижа, – дикарь. Парижанина узнаешь за две мили. Париж – это Тальма, Дюшенуа, Потье, Сорбонна, бульвары… Во всем мире один Париж. Вы были в Париже и остались русским. Ну что же, я вас за то не менее уважаю.]
Под влиянием выпитого вина и после дней, проведенных в уединении с своими мрачными мыслями, Пьер испытывал невольное удовольствие в разговоре с этим веселым и добродушным человеком.
– Pour en revenir a vos dames, on les dit bien belles. Quelle fichue idee d'aller s'enterrer dans les steppes, quand l'armee francaise est a Moscou. Quelle chance elles ont manque celles la. Vos moujiks c'est autre chose, mais voua autres gens civilises vous devriez nous connaitre mieux que ca. Nous avons pris Vienne, Berlin, Madrid, Naples, Rome, Varsovie, toutes les capitales du monde… On nous craint, mais on nous aime. Nous sommes bons a connaitre. Et puis l'Empereur! [Но воротимся к вашим дамам: говорят, что они очень красивы. Что за дурацкая мысль поехать зарыться в степи, когда французская армия в Москве! Они пропустили чудесный случай. Ваши мужики, я понимаю, но вы – люди образованные – должны бы были знать нас лучше этого. Мы брали Вену, Берлин, Мадрид, Неаполь, Рим, Варшаву, все столицы мира. Нас боятся, но нас любят. Не вредно знать нас поближе. И потом император…] – начал он, но Пьер перебил его.
– L'Empereur, – повторил Пьер, и лицо его вдруг привяло грустное и сконфуженное выражение. – Est ce que l'Empereur?.. [Император… Что император?..]
– L'Empereur? C'est la generosite, la clemence, la justice, l'ordre, le genie, voila l'Empereur! C'est moi, Ram ball, qui vous le dit. Tel que vous me voyez, j'etais son ennemi il y a encore huit ans. Mon pere a ete comte emigre… Mais il m'a vaincu, cet homme. Il m'a empoigne. Je n'ai pas pu resister au spectacle de grandeur et de gloire dont il couvrait la France. Quand j'ai compris ce qu'il voulait, quand j'ai vu qu'il nous faisait une litiere de lauriers, voyez vous, je me suis dit: voila un souverain, et je me suis donne a lui. Eh voila! Oh, oui, mon cher, c'est le plus grand homme des siecles passes et a venir. [Император? Это великодушие, милосердие, справедливость, порядок, гений – вот что такое император! Это я, Рамбаль, говорю вам. Таким, каким вы меня видите, я был его врагом тому назад восемь лет. Мой отец был граф и эмигрант. Но он победил меня, этот человек. Он завладел мною. Я не мог устоять перед зрелищем величия и славы, которым он покрывал Францию. Когда я понял, чего он хотел, когда я увидал, что он готовит для нас ложе лавров, я сказал себе: вот государь, и я отдался ему. И вот! О да, мой милый, это самый великий человек прошедших и будущих веков.]
– Est il a Moscou? [Что, он в Москве?] – замявшись и с преступным лицом сказал Пьер.
Француз посмотрел на преступное лицо Пьера и усмехнулся.
– Non, il fera son entree demain, [Нет, он сделает свой въезд завтра,] – сказал он и продолжал свои рассказы.
Разговор их был прерван криком нескольких голосов у ворот и приходом Мореля, который пришел объявить капитану, что приехали виртембергские гусары и хотят ставить лошадей на тот же двор, на котором стояли лошади капитана. Затруднение происходило преимущественно оттого, что гусары не понимали того, что им говорили.
Капитан велел позвать к себе старшего унтер офицера в строгим голосом спросил у него, к какому полку он принадлежит, кто их начальник и на каком основании он позволяет себе занимать квартиру, которая уже занята. На первые два вопроса немец, плохо понимавший по французски, назвал свой полк и своего начальника; но на последний вопрос он, не поняв его, вставляя ломаные французские слова в немецкую речь, отвечал, что он квартиргер полка и что ему ведено от начальника занимать все дома подряд, Пьер, знавший по немецки, перевел капитану то, что говорил немец, и ответ капитана передал по немецки виртембергскому гусару. Поняв то, что ему говорили, немец сдался и увел своих людей. Капитан вышел на крыльцо, громким голосом отдавая какие то приказания.
Когда он вернулся назад в комнату, Пьер сидел на том же месте, где он сидел прежде, опустив руки на голову. Лицо его выражало страдание. Он действительно страдал в эту минуту. Когда капитан вышел и Пьер остался один, он вдруг опомнился и сознал то положение, в котором находился. Не то, что Москва была взята, и не то, что эти счастливые победители хозяйничали в ней и покровительствовали ему, – как ни тяжело чувствовал это Пьер, не это мучило его в настоящую минуту. Его мучило сознание своей слабости. Несколько стаканов выпитого вина, разговор с этим добродушным человеком уничтожили сосредоточенно мрачное расположение духа, в котором жил Пьер эти последние дни и которое было необходимо для исполнения его намерения. Пистолет, и кинжал, и армяк были готовы, Наполеон въезжал завтра. Пьер точно так же считал полезным и достойным убить злодея; но он чувствовал, что теперь он не сделает этого. Почему? – он не знал, но предчувствовал как будто, что он не исполнит своего намерения. Он боролся против сознания своей слабости, но смутно чувствовал, что ему не одолеть ее, что прежний мрачный строй мыслей о мщенье, убийстве и самопожертвовании разлетелся, как прах, при прикосновении первого человека.
Капитан, слегка прихрамывая и насвистывая что то, вошел в комнату.
Забавлявшая прежде Пьера болтовня француза теперь показалась ему противна. И насвистываемая песенка, и походка, и жест покручиванья усов – все казалось теперь оскорбительным Пьеру.
«Я сейчас уйду, я ни слова больше не скажу с ним», – думал Пьер. Он думал это, а между тем сидел все на том же месте. Какое то странное чувство слабости приковало его к своему месту: он хотел и не мог встать и уйти.
Капитан, напротив, казался очень весел. Он прошелся два раза по комнате. Глаза его блестели, и усы слегка подергивались, как будто он улыбался сам с собой какой то забавной выдумке.
– Charmant, – сказал он вдруг, – le colonel de ces Wurtembourgeois! C'est un Allemand; mais brave garcon, s'il en fut. Mais Allemand. [Прелестно, полковник этих вюртембергцев! Он немец; но славный малый, несмотря на это. Но немец.]
Он сел против Пьера.
– A propos, vous savez donc l'allemand, vous? [Кстати, вы, стало быть, знаете по немецки?]
Пьер смотрел на него молча.
– Comment dites vous asile en allemand? [Как по немецки убежище?]
– Asile? – повторил Пьер. – Asile en allemand – Unterkunft. [Убежище? Убежище – по немецки – Unterkunft.]
– Comment dites vous? [Как вы говорите?] – недоверчиво и быстро переспросил капитан.
– Unterkunft, – повторил Пьер.
– Onterkoff, – сказал капитан и несколько секунд смеющимися глазами смотрел на Пьера. – Les Allemands sont de fieres betes. N'est ce pas, monsieur Pierre? [Экие дурни эти немцы. Не правда ли, мосье Пьер?] – заключил он.
– Eh bien, encore une bouteille de ce Bordeau Moscovite, n'est ce pas? Morel, va nous chauffer encore une pelilo bouteille. Morel! [Ну, еще бутылочку этого московского Бордо, не правда ли? Морель согреет нам еще бутылочку. Морель!] – весело крикнул капитан.
Морель подал свечи и бутылку вина. Капитан посмотрел на Пьера при освещении, и его, видимо, поразило расстроенное лицо его собеседника. Рамбаль с искренним огорчением и участием в лице подошел к Пьеру и нагнулся над ним.
– Eh bien, nous sommes tristes, [Что же это, мы грустны?] – сказал он, трогая Пьера за руку. – Vous aurai je fait de la peine? Non, vrai, avez vous quelque chose contre moi, – переспрашивал он. – Peut etre rapport a la situation? [Может, я огорчил вас? Нет, в самом деле, не имеете ли вы что нибудь против меня? Может быть, касательно положения?]
Пьер ничего не отвечал, но ласково смотрел в глаза французу. Это выражение участия было приятно ему.
– Parole d'honneur, sans parler de ce que je vous dois, j'ai de l'amitie pour vous. Puis je faire quelque chose pour vous? Disposez de moi. C'est a la vie et a la mort. C'est la main sur le c?ur que je vous le dis, [Честное слово, не говоря уже про то, чем я вам обязан, я чувствую к вам дружбу. Не могу ли я сделать для вас что нибудь? Располагайте мною. Это на жизнь и на смерть. Я говорю вам это, кладя руку на сердце,] – сказал он, ударяя себя в грудь.
– Merci, – сказал Пьер. Капитан посмотрел пристально на Пьера так же, как он смотрел, когда узнал, как убежище называлось по немецки, и лицо его вдруг просияло.
– Ah! dans ce cas je bois a notre amitie! [А, в таком случае пью за вашу дружбу!] – весело крикнул он, наливая два стакана вина. Пьер взял налитой стакан и выпил его. Рамбаль выпил свой, пожал еще раз руку Пьера и в задумчиво меланхолической позе облокотился на стол.
– Oui, mon cher ami, voila les caprices de la fortune, – начал он. – Qui m'aurait dit que je serai soldat et capitaine de dragons au service de Bonaparte, comme nous l'appellions jadis. Et cependant me voila a Moscou avec lui. Il faut vous dire, mon cher, – продолжал он грустным я мерным голосом человека, который сбирается рассказывать длинную историю, – que notre nom est l'un des plus anciens de la France. [Да, мой друг, вот колесо фортуны. Кто сказал бы мне, что я буду солдатом и капитаном драгунов на службе у Бонапарта, как мы его, бывало, называли. Однако же вот я в Москве с ним. Надо вам сказать, мой милый… что имя наше одно из самых древних во Франции.]
И с легкой и наивной откровенностью француза капитан рассказал Пьеру историю своих предков, свое детство, отрочество и возмужалость, все свои родственныеимущественные, семейные отношения. «Ma pauvre mere [„Моя бедная мать“.] играла, разумеется, важную роль в этом рассказе.
– Mais tout ca ce n'est que la mise en scene de la vie, le fond c'est l'amour? L'amour! N'est ce pas, monsieur; Pierre? – сказал он, оживляясь. – Encore un verre. [Но все это есть только вступление в жизнь, сущность же ее – это любовь. Любовь! Не правда ли, мосье Пьер? Еще стаканчик.]
Пьер опять выпил и налил себе третий.
– Oh! les femmes, les femmes! [О! женщины, женщины!] – и капитан, замаслившимися глазами глядя на Пьера, начал говорить о любви и о своих любовных похождениях. Их было очень много, чему легко было поверить, глядя на самодовольное, красивое лицо офицера и на восторженное оживление, с которым он говорил о женщинах. Несмотря на то, что все любовные истории Рамбаля имели тот характер пакостности, в котором французы видят исключительную прелесть и поэзию любви, капитан рассказывал свои истории с таким искренним убеждением, что он один испытал и познал все прелести любви, и так заманчиво описывал женщин, что Пьер с любопытством слушал его.
Очевидно было, что l'amour, которую так любил француз, была ни та низшего и простого рода любовь, которую Пьер испытывал когда то к своей жене, ни та раздуваемая им самим романтическая любовь, которую он испытывал к Наташе (оба рода этой любви Рамбаль одинаково презирал – одна была l'amour des charretiers, другая l'amour des nigauds) [любовь извозчиков, другая – любовь дурней.]; l'amour, которой поклонялся француз, заключалась преимущественно в неестественности отношений к женщине и в комбинация уродливостей, которые придавали главную прелесть чувству.
Так капитан рассказал трогательную историю своей любви к одной обворожительной тридцатипятилетней маркизе и в одно и то же время к прелестному невинному, семнадцатилетнему ребенку, дочери обворожительной маркизы. Борьба великодушия между матерью и дочерью, окончившаяся тем, что мать, жертвуя собой, предложила свою дочь в жены своему любовнику, еще и теперь, хотя уж давно прошедшее воспоминание, волновала капитана. Потом он рассказал один эпизод, в котором муж играл роль любовника, а он (любовник) роль мужа, и несколько комических эпизодов из souvenirs d'Allemagne, где asile значит Unterkunft, где les maris mangent de la choux croute и где les jeunes filles sont trop blondes. [воспоминаний о Германии, где мужья едят капустный суп и где молодые девушки слишком белокуры.]
Наконец последний эпизод в Польше, еще свежий в памяти капитана, который он рассказывал с быстрыми жестами и разгоревшимся лицом, состоял в том, что он спас жизнь одному поляку (вообще в рассказах капитана эпизод спасения жизни встречался беспрестанно) и поляк этот вверил ему свою обворожительную жену (Parisienne de c?ur [парижанку сердцем]), в то время как сам поступил во французскую службу. Капитан был счастлив, обворожительная полька хотела бежать с ним; но, движимый великодушием, капитан возвратил мужу жену, при этом сказав ему: «Je vous ai sauve la vie et je sauve votre honneur!» [Я спас вашу жизнь и спасаю вашу честь!] Повторив эти слова, капитан протер глаза и встряхнулся, как бы отгоняя от себя охватившую его слабость при этом трогательном воспоминании.
Слушая рассказы капитана, как это часто бывает в позднюю вечернюю пору и под влиянием вина, Пьер следил за всем тем, что говорил капитан, понимал все и вместе с тем следил за рядом личных воспоминаний, вдруг почему то представших его воображению. Когда он слушал эти рассказы любви, его собственная любовь к Наташе неожиданно вдруг вспомнилась ему, и, перебирая в своем воображении картины этой любви, он мысленно сравнивал их с рассказами Рамбаля. Следя за рассказом о борьбе долга с любовью, Пьер видел пред собою все малейшие подробности своей последней встречи с предметом своей любви у Сухаревой башни. Тогда эта встреча не произвела на него влияния; он даже ни разу не вспомнил о ней. Но теперь ему казалось, что встреча эта имела что то очень значительное и поэтическое.
«Петр Кирилыч, идите сюда, я узнала», – слышал он теперь сказанные сю слова, видел пред собой ее глаза, улыбку, дорожный чепчик, выбившуюся прядь волос… и что то трогательное, умиляющее представлялось ему во всем этом.
Окончив свой рассказ об обворожительной польке, капитан обратился к Пьеру с вопросом, испытывал ли он подобное чувство самопожертвования для любви и зависти к законному мужу.
Вызванный этим вопросом, Пьер поднял голову и почувствовал необходимость высказать занимавшие его мысли; он стал объяснять, как он несколько иначе понимает любовь к женщине. Он сказал, что он во всю свою жизнь любил и любит только одну женщину и что эта женщина никогда не может принадлежать ему.
– Tiens! [Вишь ты!] – сказал капитан.
Потом Пьер объяснил, что он любил эту женщину с самых юных лет; но не смел думать о ней, потому что она была слишком молода, а он был незаконный сын без имени. Потом же, когда он получил имя и богатство, он не смел думать о ней, потому что слишком любил ее, слишком высоко ставил ее над всем миром и потому, тем более, над самим собою. Дойдя до этого места своего рассказа, Пьер обратился к капитану с вопросом: понимает ли он это?
Капитан сделал жест, выражающий то, что ежели бы он не понимал, то он все таки просит продолжать.
– L'amour platonique, les nuages… [Платоническая любовь, облака…] – пробормотал он. Выпитое ли вино, или потребность откровенности, или мысль, что этот человек не знает и не узнает никого из действующих лиц его истории, или все вместе развязало язык Пьеру. И он шамкающим ртом и маслеными глазами, глядя куда то вдаль, рассказал всю свою историю: и свою женитьбу, и историю любви Наташи к его лучшему другу, и ее измену, и все свои несложные отношения к ней. Вызываемый вопросами Рамбаля, он рассказал и то, что скрывал сначала, – свое положение в свете и даже открыл ему свое имя.
Более всего из рассказа Пьера поразило капитана то, что Пьер был очень богат, что он имел два дворца в Москве и что он бросил все и не уехал из Москвы, а остался в городе, скрывая свое имя и звание.
Уже поздно ночью они вместе вышли на улицу. Ночь была теплая и светлая. Налево от дома светлело зарево первого начавшегося в Москве, на Петровке, пожара. Направо стоял высоко молодой серп месяца, и в противоположной от месяца стороне висела та светлая комета, которая связывалась в душе Пьера с его любовью. У ворот стояли Герасим, кухарка и два француза. Слышны были их смех и разговор на непонятном друг для друга языке. Они смотрели на зарево, видневшееся в городе.
Ничего страшного не было в небольшом отдаленном пожаре в огромном городе.
Глядя на высокое звездное небо, на месяц, на комету и на зарево, Пьер испытывал радостное умиление. «Ну, вот как хорошо. Ну, чего еще надо?!» – подумал он. И вдруг, когда он вспомнил свое намерение, голова его закружилась, с ним сделалось дурно, так что он прислонился к забору, чтобы не упасть.
Не простившись с своим новым другом, Пьер нетвердыми шагами отошел от ворот и, вернувшись в свою комнату, лег на диван и тотчас же заснул.
На зарево первого занявшегося 2 го сентября пожара с разных дорог с разными чувствами смотрели убегавшие и уезжавшие жители и отступавшие войска.
Поезд Ростовых в эту ночь стоял в Мытищах, в двадцати верстах от Москвы. 1 го сентября они выехали так поздно, дорога так была загромождена повозками и войсками, столько вещей было забыто, за которыми были посылаемы люди, что в эту ночь было решено ночевать в пяти верстах за Москвою. На другое утро тронулись поздно, и опять было столько остановок, что доехали только до Больших Мытищ. В десять часов господа Ростовы и раненые, ехавшие с ними, все разместились по дворам и избам большого села. Люди, кучера Ростовых и денщики раненых, убрав господ, поужинали, задали корму лошадям и вышли на крыльцо.
В соседней избе лежал раненый адъютант Раевского, с разбитой кистью руки, и страшная боль, которую он чувствовал, заставляла его жалобно, не переставая, стонать, и стоны эти страшно звучали в осенней темноте ночи. В первую ночь адъютант этот ночевал на том же дворе, на котором стояли Ростовы. Графиня говорила, что она не могла сомкнуть глаз от этого стона, и в Мытищах перешла в худшую избу только для того, чтобы быть подальше от этого раненого.
Один из людей в темноте ночи, из за высокого кузова стоявшей у подъезда кареты, заметил другое небольшое зарево пожара. Одно зарево давно уже видно было, и все знали, что это горели Малые Мытищи, зажженные мамоновскими казаками.
– А ведь это, братцы, другой пожар, – сказал денщик.
Все обратили внимание на зарево.
– Да ведь, сказывали, Малые Мытищи мамоновские казаки зажгли.
– Они! Нет, это не Мытищи, это дале.
– Глянь ка, точно в Москве.
Двое из людей сошли с крыльца, зашли за карету и присели на подножку.
– Это левей! Как же, Мытищи вон где, а это вовсе в другой стороне.
Несколько людей присоединились к первым.
– Вишь, полыхает, – сказал один, – это, господа, в Москве пожар: либо в Сущевской, либо в Рогожской.
Никто не ответил на это замечание. И довольно долго все эти люди молча смотрели на далекое разгоравшееся пламя нового пожара.
Старик, графский камердинер (как его называли), Данило Терентьич подошел к толпе и крикнул Мишку.
– Ты чего не видал, шалава… Граф спросит, а никого нет; иди платье собери.
– Да я только за водой бежал, – сказал Мишка.
– А вы как думаете, Данило Терентьич, ведь это будто в Москве зарево? – сказал один из лакеев.
Данило Терентьич ничего не отвечал, и долго опять все молчали. Зарево расходилось и колыхалось дальше и дальше.
– Помилуй бог!.. ветер да сушь… – опять сказал голос.
– Глянь ко, как пошло. О господи! аж галки видно. Господи, помилуй нас грешных!
– Потушат небось.
– Кому тушить то? – послышался голос Данилы Терентьича, молчавшего до сих пор. Голос его был спокоен и медлителен. – Москва и есть, братцы, – сказал он, – она матушка белока… – Голос его оборвался, и он вдруг старчески всхлипнул. И как будто только этого ждали все, чтобы понять то значение, которое имело для них это видневшееся зарево. Послышались вздохи, слова молитвы и всхлипывание старого графского камердинера.
Камердинер, вернувшись, доложил графу, что горит Москва. Граф надел халат и вышел посмотреть. С ним вместе вышла и не раздевавшаяся еще Соня, и madame Schoss. Наташа и графиня одни оставались в комнате. (Пети не было больше с семейством; он пошел вперед с своим полком, шедшим к Троице.)
Графиня заплакала, услыхавши весть о пожаре Москвы. Наташа, бледная, с остановившимися глазами, сидевшая под образами на лавке (на том самом месте, на которое она села приехавши), не обратила никакого внимания на слова отца. Она прислушивалась к неумолкаемому стону адъютанта, слышному через три дома.
– Ах, какой ужас! – сказала, со двора возвративись, иззябшая и испуганная Соня. – Я думаю, вся Москва сгорит, ужасное зарево! Наташа, посмотри теперь, отсюда из окошка видно, – сказала она сестре, видимо, желая чем нибудь развлечь ее. Но Наташа посмотрела на нее, как бы не понимая того, что у ней спрашивали, и опять уставилась глазами в угол печи. Наташа находилась в этом состоянии столбняка с нынешнего утра, с того самого времени, как Соня, к удивлению и досаде графини, непонятно для чего, нашла нужным объявить Наташе о ране князя Андрея и о его присутствии с ними в поезде. Графиня рассердилась на Соню, как она редко сердилась. Соня плакала и просила прощенья и теперь, как бы стараясь загладить свою вину, не переставая ухаживала за сестрой.
– Посмотри, Наташа, как ужасно горит, – сказала Соня.
– Что горит? – спросила Наташа. – Ах, да, Москва.
И как бы для того, чтобы не обидеть Сони отказом и отделаться от нее, она подвинула голову к окну, поглядела так, что, очевидно, не могла ничего видеть, и опять села в свое прежнее положение.
– Да ты не видела?
– Нет, право, я видела, – умоляющим о спокойствии голосом сказала она.
И графине и Соне понятно было, что Москва, пожар Москвы, что бы то ни было, конечно, не могло иметь значения для Наташи.
Граф опять пошел за перегородку и лег. Графиня подошла к Наташе, дотронулась перевернутой рукой до ее головы, как это она делала, когда дочь ее бывала больна, потом дотронулась до ее лба губами, как бы для того, чтобы узнать, есть ли жар, и поцеловала ее.
– Ты озябла. Ты вся дрожишь. Ты бы ложилась, – сказала она.
– Ложиться? Да, хорошо, я лягу. Я сейчас лягу, – сказала Наташа.
С тех пор как Наташе в нынешнее утро сказали о том, что князь Андрей тяжело ранен и едет с ними, она только в первую минуту много спрашивала о том, куда? как? опасно ли он ранен? и можно ли ей видеть его? Но после того как ей сказали, что видеть его ей нельзя, что он ранен тяжело, но что жизнь его не в опасности, она, очевидно, не поверив тому, что ей говорили, но убедившись, что сколько бы она ни говорила, ей будут отвечать одно и то же, перестала спрашивать и говорить. Всю дорогу с большими глазами, которые так знала и которых выражения так боялась графиня, Наташа сидела неподвижно в углу кареты и так же сидела теперь на лавке, на которую села. Что то она задумывала, что то она решала или уже решила в своем уме теперь, – это знала графиня, но что это такое было, она не знала, и это то страшило и мучило ее.
– Наташа, разденься, голубушка, ложись на мою постель. (Только графине одной была постелена постель на кровати; m me Schoss и обе барышни должны были спать на полу на сене.)
– Нет, мама, я лягу тут, на полу, – сердито сказала Наташа, подошла к окну и отворила его. Стон адъютанта из открытого окна послышался явственнее. Она высунула голову в сырой воздух ночи, и графиня видела, как тонкие плечи ее тряслись от рыданий и бились о раму. Наташа знала, что стонал не князь Андрей. Она знала, что князь Андрей лежал в той же связи, где они были, в другой избе через сени; но этот страшный неумолкавший стон заставил зарыдать ее. Графиня переглянулась с Соней.
– Ложись, голубушка, ложись, мой дружок, – сказала графиня, слегка дотрогиваясь рукой до плеча Наташи. – Ну, ложись же.
– Ах, да… Я сейчас, сейчас лягу, – сказала Наташа, поспешно раздеваясь и обрывая завязки юбок. Скинув платье и надев кофту, она, подвернув ноги, села на приготовленную на полу постель и, перекинув через плечо наперед свою недлинную тонкую косу, стала переплетать ее. Тонкие длинные привычные пальцы быстро, ловко разбирали, плели, завязывали косу. Голова Наташи привычным жестом поворачивалась то в одну, то в другую сторону, но глаза, лихорадочно открытые, неподвижно смотрели прямо. Когда ночной костюм был окончен, Наташа тихо опустилась на простыню, постланную на сено с края от двери.
– Наташа, ты в середину ляг, – сказала Соня.
– Нет, я тут, – проговорила Наташа. – Да ложитесь же, – прибавила она с досадой. И она зарылась лицом в подушку.
Графиня, m me Schoss и Соня поспешно разделись и легли. Одна лампадка осталась в комнате. Но на дворе светлело от пожара Малых Мытищ за две версты, и гудели пьяные крики народа в кабаке, который разбили мамоновские казаки, на перекоске, на улице, и все слышался неумолкаемый стон адъютанта.
Долго прислушивалась Наташа к внутренним и внешним звукам, доносившимся до нее, и не шевелилась. Она слышала сначала молитву и вздохи матери, трещание под ней ее кровати, знакомый с свистом храп m me Schoss, тихое дыханье Сони. Потом графиня окликнула Наташу. Наташа не отвечала ей.
– Кажется, спит, мама, – тихо отвечала Соня. Графиня, помолчав немного, окликнула еще раз, но уже никто ей не откликнулся.
Скоро после этого Наташа услышала ровное дыхание матери. Наташа не шевелилась, несмотря на то, что ее маленькая босая нога, выбившись из под одеяла, зябла на голом полу.
Как бы празднуя победу над всеми, в щели закричал сверчок. Пропел петух далеко, откликнулись близкие. В кабаке затихли крики, только слышался тот же стой адъютанта. Наташа приподнялась.
– Соня? ты спишь? Мама? – прошептала она. Никто не ответил. Наташа медленно и осторожно встала, перекрестилась и ступила осторожно узкой и гибкой босой ступней на грязный холодный пол. Скрипнула половица. Она, быстро перебирая ногами, пробежала, как котенок, несколько шагов и взялась за холодную скобку двери.
Ей казалось, что то тяжелое, равномерно ударяя, стучит во все стены избы: это билось ее замиравшее от страха, от ужаса и любви разрывающееся сердце.
Она отворила дверь, перешагнула порог и ступила на сырую, холодную землю сеней. Обхвативший холод освежил ее. Она ощупала босой ногой спящего человека, перешагнула через него и отворила дверь в избу, где лежал князь Андрей. В избе этой было темно. В заднем углу у кровати, на которой лежало что то, на лавке стояла нагоревшая большим грибом сальная свечка.
Наташа с утра еще, когда ей сказали про рану и присутствие князя Андрея, решила, что она должна видеть его. Она не знала, для чего это должно было, но она знала, что свидание будет мучительно, и тем более она была убеждена, что оно было необходимо.
Весь день она жила только надеждой того, что ночью она уввдит его. Но теперь, когда наступила эта минута, на нее нашел ужас того, что она увидит. Как он был изуродован? Что оставалось от него? Такой ли он был, какой был этот неумолкавший стон адъютанта? Да, он был такой. Он был в ее воображении олицетворение этого ужасного стона. Когда она увидала неясную массу в углу и приняла его поднятые под одеялом колени за его плечи, она представила себе какое то ужасное тело и в ужасе остановилась. Но непреодолимая сила влекла ее вперед. Она осторожно ступила один шаг, другой и очутилась на середине небольшой загроможденной избы. В избе под образами лежал на лавках другой человек (это был Тимохин), и на полу лежали еще два какие то человека (это были доктор и камердинер).
Камердинер приподнялся и прошептал что то. Тимохин, страдая от боли в раненой ноге, не спал и во все глаза смотрел на странное явление девушки в бедой рубашке, кофте и вечном чепчике. Сонные и испуганные слова камердинера; «Чего вам, зачем?» – только заставили скорее Наташу подойти и тому, что лежало в углу. Как ни страшно, ни непохоже на человеческое было это тело, она должна была его видеть. Она миновала камердинера: нагоревший гриб свечки свалился, и она ясно увидала лежащего с выпростанными руками на одеяле князя Андрея, такого, каким она его всегда видела.
Он был таков же, как всегда; но воспаленный цвет его лица, блестящие глаза, устремленные восторженно на нее, а в особенности нежная детская шея, выступавшая из отложенного воротника рубашки, давали ему особый, невинный, ребяческий вид, которого, однако, она никогда не видала в князе Андрее. Она подошла к нему и быстрым, гибким, молодым движением стала на колени.
Он улыбнулся и протянул ей руку.
Для князя Андрея прошло семь дней с того времени, как он очнулся на перевязочном пункте Бородинского поля. Все это время он находился почти в постояниом беспамятстве. Горячечное состояние и воспаление кишок, которые были повреждены, по мнению доктора, ехавшего с раненым, должны были унести его. Но на седьмой день он с удовольствием съел ломоть хлеба с чаем, и доктор заметил, что общий жар уменьшился. Князь Андрей поутру пришел в сознание. Первую ночь после выезда из Москвы было довольно тепло, и князь Андрей был оставлен для ночлега в коляске; но в Мытищах раненый сам потребовал, чтобы его вынесли и чтобы ему дали чаю. Боль, причиненная ему переноской в избу, заставила князя Андрея громко стонать и потерять опять сознание. Когда его уложили на походной кровати, он долго лежал с закрытыми глазами без движения. Потом он открыл их и тихо прошептал: «Что же чаю?» Памятливость эта к мелким подробностям жизни поразила доктора. Он пощупал пульс и, к удивлению и неудовольствию своему, заметил, что пульс был лучше. К неудовольствию своему это заметил доктор потому, что он по опыту своему был убежден, что жить князь Андрей не может и что ежели он не умрет теперь, то он только с большими страданиями умрет несколько времени после. С князем Андреем везли присоединившегося к ним в Москве майора его полка Тимохина с красным носиком, раненного в ногу в том же Бородинском сражении. При них ехал доктор, камердинер князя, его кучер и два денщика.
Князю Андрею дали чаю. Он жадно пил, лихорадочными глазами глядя вперед себя на дверь, как бы стараясь что то понять и припомнить.
– Не хочу больше. Тимохин тут? – спросил он. Тимохин подполз к нему по лавке.
– Я здесь, ваше сиятельство.
– Как рана?
– Моя то с? Ничего. Вот вы то? – Князь Андрей опять задумался, как будто припоминая что то.
– Нельзя ли достать книгу? – сказал он.
– Какую книгу?
– Евангелие! У меня нет.
Доктор обещался достать и стал расспрашивать князя о том, что он чувствует. Князь Андрей неохотно, но разумно отвечал на все вопросы доктора и потом сказал, что ему надо бы подложить валик, а то неловко и очень больно. Доктор и камердинер подняли шинель, которою он был накрыт, и, морщась от тяжкого запаха гнилого мяса, распространявшегося от раны, стали рассматривать это страшное место. Доктор чем то очень остался недоволен, что то иначе переделал, перевернул раненого так, что тот опять застонал и от боли во время поворачивания опять потерял сознание и стал бредить. Он все говорил о том, чтобы ему достали поскорее эту книгу и подложили бы ее туда.
– И что это вам стоит! – говорил он. – У меня ее нет, – достаньте, пожалуйста, подложите на минуточку, – говорил он жалким голосом.
Доктор вышел в сени, чтобы умыть руки.
– Ах, бессовестные, право, – говорил доктор камердинеру, лившему ему воду на руки. – Только на минуту не досмотрел. Ведь вы его прямо на рану положили. Ведь это такая боль, что я удивляюсь, как он терпит.
– Мы, кажется, подложили, господи Иисусе Христе, – говорил камердинер.
В первый раз князь Андрей понял, где он был и что с ним было, и вспомнил то, что он был ранен и как в ту минуту, когда коляска остановилась в Мытищах, он попросился в избу. Спутавшись опять от боли, он опомнился другой раз в избе, когда пил чай, и тут опять, повторив в своем воспоминании все, что с ним было, он живее всего представил себе ту минуту на перевязочном пункте, когда, при виде страданий нелюбимого им человека, ему пришли эти новые, сулившие ему счастие мысли. И мысли эти, хотя и неясно и неопределенно, теперь опять овладели его душой. Он вспомнил, что у него было теперь новое счастье и что это счастье имело что то такое общее с Евангелием. Потому то он попросил Евангелие. Но дурное положение, которое дали его ране, новое переворачиванье опять смешали его мысли, и он в третий раз очнулся к жизни уже в совершенной тишине ночи. Все спали вокруг него. Сверчок кричал через сени, на улице кто то кричал и пел, тараканы шелестели по столу и образам, в осенняя толстая муха билась у него по изголовью и около сальной свечи, нагоревшей большим грибом и стоявшей подле него.
Душа его была не в нормальном состоянии. Здоровый человек обыкновенно мыслит, ощущает и вспоминает одновременно о бесчисленном количестве предметов, но имеет власть и силу, избрав один ряд мыслей или явлений, на этом ряде явлений остановить все свое внимание. Здоровый человек в минуту глубочайшего размышления отрывается, чтобы сказать учтивое слово вошедшему человеку, и опять возвращается к своим мыслям. Душа же князя Андрея была не в нормальном состоянии в этом отношении. Все силы его души были деятельнее, яснее, чем когда нибудь, но они действовали вне его воли. Самые разнообразные мысли и представления одновременно владели им. Иногда мысль его вдруг начинала работать, и с такой силой, ясностью и глубиною, с какою никогда она не была в силах действовать в здоровом состоянии; но вдруг, посредине своей работы, она обрывалась, заменялась каким нибудь неожиданным представлением, и не было сил возвратиться к ней.
«Да, мне открылась новое счастье, неотъемлемое от человека, – думал он, лежа в полутемной тихой избе и глядя вперед лихорадочно раскрытыми, остановившимися глазами. Счастье, находящееся вне материальных сил, вне материальных внешних влияний на человека, счастье одной души, счастье любви! Понять его может всякий человек, но сознать и предписать его мот только один бог. Но как же бог предписал этот закон? Почему сын?.. И вдруг ход мыслей этих оборвался, и князь Андрей услыхал (не зная, в бреду или в действительности он слышит это), услыхал какой то тихий, шепчущий голос, неумолкаемо в такт твердивший: „И пити пити питии“ потом „и ти тии“ опять „и пити пити питии“ опять „и ти ти“. Вместе с этим, под звук этой шепчущей музыки, князь Андрей чувствовал, что над лицом его, над самой серединой воздвигалось какое то странное воздушное здание из тонких иголок или лучинок. Он чувствовал (хотя это и тяжело ему было), что ему надо было старательна держать равновесие, для того чтобы воздвигавшееся здание это не завалилось; но оно все таки заваливалось и опять медленно воздвигалось при звуках равномерно шепчущей музыки. „Тянется! тянется! растягивается и все тянется“, – говорил себе князь Андрей. Вместе с прислушаньем к шепоту и с ощущением этого тянущегося и воздвигающегося здания из иголок князь Андрей видел урывками и красный, окруженный кругом свет свечки и слышал шуршанъе тараканов и шуршанье мухи, бившейся на подушку и на лицо его. И всякий раз, как муха прикасалась к егв лицу, она производила жгучее ощущение; но вместе с тем его удивляло то, что, ударяясь в самую область воздвигавшегося на лице его здания, муха не разрушала его. Но, кроме этого, было еще одно важное. Это было белое у двери, это была статуя сфинкса, которая тоже давила его.
«Но, может быть, это моя рубашка на столе, – думал князь Андрей, – а это мои ноги, а это дверь; но отчего же все тянется и выдвигается и пити пити пити и ти ти – и пити пити пити… – Довольно, перестань, пожалуйста, оставь, – тяжело просил кого то князь Андрей. И вдруг опять выплывала мысль и чувство с необыкновенной ясностью и силой.
«Да, любовь, – думал он опять с совершенной ясностью), но не та любовь, которая любит за что нибудь, для чего нибудь или почему нибудь, но та любовь, которую я испытал в первый раз, когда, умирая, я увидал своего врага и все таки полюбил его. Я испытал то чувство любви, которая есть самая сущность души и для которой не нужно предмета. Я и теперь испытываю это блаженное чувство. Любить ближних, любить врагов своих. Все любить – любить бога во всех проявлениях. Любить человека дорогого можно человеческой любовью; но только врага можно любить любовью божеской. И от этого то я испытал такую радость, когда я почувствовал, что люблю того человека. Что с ним? Жив ли он… Любя человеческой любовью, можно от любви перейти к ненависти; но божеская любовь не может измениться. Ничто, ни смерть, ничто не может разрушить ее. Она есть сущность души. А сколь многих людей я ненавидел в своей жизни. И из всех людей никого больше не любил я и не ненавидел, как ее». И он живо представил себе Наташу не так, как он представлял себе ее прежде, с одною ее прелестью, радостной для себя; но в первый раз представил себе ее душу. И он понял ее чувство, ее страданья, стыд, раскаянье. Он теперь в первый раз поняд всю жестокость своего отказа, видел жестокость своего разрыва с нею. «Ежели бы мне было возможно только еще один раз увидать ее. Один раз, глядя в эти глаза, сказать…»
И пити пити пити и ти ти, и пити пити – бум, ударилась муха… И внимание его вдруг перенеслось в другой мир действительности и бреда, в котором что то происходило особенное. Все так же в этом мире все воздвигалось, не разрушаясь, здание, все так же тянулось что то, так же с красным кругом горела свечка, та же рубашка сфинкс лежала у двери; но, кроме всего этого, что то скрипнуло, пахнуло свежим ветром, и новый белый сфинкс, стоячий, явился пред дверью. И в голове этого сфинкса было бледное лицо и блестящие глаза той самой Наташи, о которой он сейчас думал.
«О, как тяжел этот неперестающий бред!» – подумал князь Андрей, стараясь изгнать это лицо из своего воображения. Но лицо это стояло пред ним с силою действительности, и лицо это приближалось. Князь Андрей хотел вернуться к прежнему миру чистой мысли, но он не мог, и бред втягивал его в свою область. Тихий шепчущий голос продолжал свой мерный лепет, что то давило, тянулось, и странное лицо стояло перед ним. Князь Андрей собрал все свои силы, чтобы опомниться; он пошевелился, и вдруг в ушах его зазвенело, в глазах помутилось, и он, как человек, окунувшийся в воду, потерял сознание. Когда он очнулся, Наташа, та самая живая Наташа, которую изо всех людей в мире ему более всего хотелось любить той новой, чистой божеской любовью, которая была теперь открыта ему, стояла перед ним на коленях. Он понял, что это была живая, настоящая Наташа, и не удивился, но тихо обрадовался. Наташа, стоя на коленях, испуганно, но прикованно (она не могла двинуться) глядела на него, удерживая рыдания. Лицо ее было бледно и неподвижно. Только в нижней части его трепетало что то.
Князь Андрей облегчительно вздохнул, улыбнулся и протянул руку.
– Вы? – сказал он. – Как счастливо!
Наташа быстрым, но осторожным движением подвинулась к нему на коленях и, взяв осторожно его руку, нагнулась над ней лицом и стала целовать ее, чуть дотрогиваясь губами.
– Простите! – сказала она шепотом, подняв голову и взглядывая на него. – Простите меня!
– Я вас люблю, – сказал князь Андрей.
– Простите…
– Что простить? – спросил князь Андрей.
– Простите меня за то, что я сделала, – чуть слышным, прерывным шепотом проговорила Наташа и чаще стала, чуть дотрогиваясь губами, целовать руку.
– Я люблю тебя больше, лучше, чем прежде, – сказал князь Андрей, поднимая рукой ее лицо так, чтобы он мог глядеть в ее глаза.
Глаза эти, налитые счастливыми слезами, робко, сострадательно и радостно любовно смотрели на него. Худое и бледное лицо Наташи с распухшими губами было более чем некрасиво, оно было страшно. Но князь Андрей не видел этого лица, он видел сияющие глаза, которые были прекрасны. Сзади их послышался говор.
Петр камердинер, теперь совсем очнувшийся от сна, разбудил доктора. Тимохин, не спавший все время от боли в ноге, давно уже видел все, что делалось, и, старательно закрывая простыней свое неодетое тело, ежился на лавке.
– Это что такое? – сказал доктор, приподнявшись с своего ложа. – Извольте идти, сударыня.
В это же время в дверь стучалась девушка, посланная графиней, хватившейся дочери.
Как сомнамбулка, которую разбудили в середине ее сна, Наташа вышла из комнаты и, вернувшись в свою избу, рыдая упала на свою постель.
С этого дня, во время всего дальнейшего путешествия Ростовых, на всех отдыхах и ночлегах, Наташа не отходила от раненого Болконского, и доктор должен был признаться, что он не ожидал от девицы ни такой твердости, ни такого искусства ходить за раненым.
Как ни страшна казалась для графини мысль, что князь Андрей мог (весьма вероятно, по словам доктора) умереть во время дороги на руках ее дочери, она не могла противиться Наташе. Хотя вследствие теперь установившегося сближения между раненым князем Андреем и Наташей приходило в голову, что в случае выздоровления прежние отношения жениха и невесты будут возобновлены, никто, еще менее Наташа и князь Андрей, не говорил об этом: нерешенный, висящий вопрос жизни или смерти не только над Болконским, но над Россией заслонял все другие предположения.
Пьер проснулся 3 го сентября поздно. Голова его болела, платье, в котором он спал не раздеваясь, тяготило его тело, и на душе было смутное сознание чего то постыдного, совершенного накануне; это постыдное был вчерашний разговор с капитаном Рамбалем.
Часы показывали одиннадцать, но на дворе казалось особенно пасмурно. Пьер встал, протер глаза и, увидав пистолет с вырезным ложем, который Герасим положил опять на письменный стол, Пьер вспомнил то, где он находился и что ему предстояло именно в нынешний день.
«Уж не опоздал ли я? – подумал Пьер. – Нет, вероятно, он сделает свой въезд в Москву не ранее двенадцати». Пьер не позволял себе размышлять о том, что ему предстояло, но торопился поскорее действовать.
Оправив на себе платье, Пьер взял в руки пистолет и сбирался уже идти. Но тут ему в первый раз пришла мысль о том, каким образом, не в руке же, по улице нести ему это оружие. Даже и под широким кафтаном трудно было спрятать большой пистолет. Ни за поясом, ни под мышкой нельзя было поместить его незаметным. Кроме того, пистолет был разряжен, а Пьер не успел зарядить его. «Все равно, кинжал», – сказал себе Пьер, хотя он не раз, обсуживая исполнение своего намерения, решал сам с собою, что главная ошибка студента в 1809 году состояла в том, что он хотел убить Наполеона кинжалом. Но, как будто главная цель Пьера состояла не в том, чтобы исполнить задуманное дело, а в том, чтобы показать самому себе, что не отрекается от своего намерения и делает все для исполнения его, Пьер поспешно взял купленный им у Сухаревой башни вместе с пистолетом тупой зазубренный кинжал в зеленых ножнах и спрятал его под жилет.
Подпоясав кафтан и надвинув шапку, Пьер, стараясь не шуметь и не встретить капитана, прошел по коридору и вышел на улицу.
Тот пожар, на который так равнодушно смотрел он накануне вечером, за ночь значительно увеличился. Москва горела уже с разных сторон. Горели в одно и то же время Каретный ряд, Замоскворечье, Гостиный двор, Поварская, барки на Москве реке и дровяной рынок у Дорогомиловского моста.
Путь Пьера лежал через переулки на Поварскую и оттуда на Арбат, к Николе Явленному, у которого он в воображении своем давно определил место, на котором должно быть совершено его дело. У большей части домов были заперты ворота и ставни. Улицы и переулки были пустынны. В воздухе пахло гарью и дымом. Изредка встречались русские с беспокойно робкими лицами и французы с негородским, лагерным видом, шедшие по серединам улиц. И те и другие с удивлением смотрели на Пьера. Кроме большого роста и толщины, кроме странного мрачно сосредоточенного и страдальческого выражения лица и всей фигуры, русские присматривались к Пьеру, потому что не понимали, к какому сословию мог принадлежать этот человек. Французы же с удивлением провожали его глазами, в особенности потому, что Пьер, противно всем другим русским, испуганно или любопытна смотревшим на французов, не обращал на них никакого внимания. У ворот одного дома три француза, толковавшие что то не понимавшим их русским людям, остановили Пьера, спрашивая, не знает ли он по французски?
Пьер отрицательно покачал головой и пошел дальше. В другом переулке на него крикнул часовой, стоявший у зеленого ящика, и Пьер только на повторенный грозный крик и звук ружья, взятого часовым на руку, понял, что он должен был обойти другой стороной улицы. Он ничего не слышал и не видел вокруг себя. Он, как что то страшное и чуждое ему, с поспешностью и ужасом нес в себе свое намерение, боясь – наученный опытом прошлой ночи – как нибудь растерять его. Но Пьеру не суждено было донести в целости свое настроение до того места, куда он направлялся. Кроме того, ежели бы даже он и не был ничем задержан на пути, намерение его не могло быть исполнено уже потому, что Наполеон тому назад более четырех часов проехал из Дорогомиловского предместья через Арбат в Кремль и теперь в самом мрачном расположении духа сидел в царском кабинете кремлевского дворца и отдавал подробные, обстоятельные приказания о мерах, которые немедленно должны были бытт, приняты для тушения пожара, предупреждения мародерства и успокоения жителей. Но Пьер не знал этого; он, весь поглощенный предстоящим, мучился, как мучаются люди, упрямо предпринявшие дело невозможное – не по трудностям, но по несвойственности дела с своей природой; он мучился страхом того, что он ослабеет в решительную минуту и, вследствие того, потеряет уважение к себе.
Он хотя ничего не видел и не слышал вокруг себя, но инстинктом соображал дорогу и не ошибался переулками, выводившими его на Поварскую.
По мере того как Пьер приближался к Поварской, дым становился сильнее и сильнее, становилось даже тепло от огня пожара. Изредка взвивались огненные языка из за крыш домов. Больше народу встречалось на улицах, и народ этот был тревожнее. Но Пьер, хотя и чувствовал, что что то такое необыкновенное творилось вокруг него, не отдавал себе отчета о том, что он подходил к пожару. Проходя по тропинке, шедшей по большому незастроенному месту, примыкавшему одной стороной к Поварской, другой к садам дома князя Грузинского, Пьер вдруг услыхал подле самого себя отчаянный плач женщины. Он остановился, как бы пробудившись от сна, и поднял голову.
В стороне от тропинки, на засохшей пыльной траве, были свалены кучей домашние пожитки: перины, самовар, образа и сундуки. На земле подле сундуков сидела немолодая худая женщина, с длинными высунувшимися верхними зубами, одетая в черный салоп и чепчик. Женщина эта, качаясь и приговаривая что то, надрываясь плакала. Две девочки, от десяти до двенадцати лет, одетые в грязные коротенькие платьица и салопчики, с выражением недоумения на бледных, испуганных лицах, смотрели на мать. Меньшой мальчик, лет семи, в чуйке и в чужом огромном картузе, плакал на руках старухи няньки. Босоногая грязная девка сидела на сундуке и, распустив белесую косу, обдергивала опаленные волосы, принюхиваясь к ним. Муж, невысокий сутуловатый человек в вицмундире, с колесообразными бакенбардочками и гладкими височками, видневшимися из под прямо надетого картуза, с неподвижным лицом раздвигал сундуки, поставленные один на другом, и вытаскивал из под них какие то одеяния.
Женщина почти бросилась к ногам Пьера, когда она увидала его.
– Батюшки родимые, христиане православные, спасите, помогите, голубчик!.. кто нибудь помогите, – выговаривала она сквозь рыдания. – Девочку!.. Дочь!.. Дочь мою меньшую оставили!.. Сгорела! О о оо! для того я тебя леле… О о оо!
– Полно, Марья Николаевна, – тихим голосом обратился муж к жене, очевидно, для того только, чтобы оправдаться пред посторонним человеком. – Должно, сестрица унесла, а то больше где же быть? – прибавил он.
– Истукан! Злодей! – злобно закричала женщина, вдруг прекратив плач. – Сердца в тебе нет, свое детище не жалеешь. Другой бы из огня достал. А это истукан, а не человек, не отец. Вы благородный человек, – скороговоркой, всхлипывая, обратилась женщина к Пьеру. – Загорелось рядом, – бросило к нам. Девка закричала: горит! Бросились собирать. В чем были, в том и выскочили… Вот что захватили… Божье благословенье да приданую постель, а то все пропало. Хвать детей, Катечки нет. О, господи! О о о! – и опять она зарыдала. – Дитятко мое милое, сгорело! сгорело!
– Да где, где же она осталась? – сказал Пьер. По выражению оживившегося лица его женщина поняла, что этот человек мог помочь ей.
– Батюшка! Отец! – закричала она, хватая его за ноги. – Благодетель, хоть сердце мое успокой… Аниска, иди, мерзкая, проводи, – крикнула она на девку, сердито раскрывая рот и этим движением еще больше выказывая свои длинные зубы.
– Проводи, проводи, я… я… сделаю я, – запыхавшимся голосом поспешно сказал Пьер.
Грязная девка вышла из за сундука, прибрала косу и, вздохнув, пошла тупыми босыми ногами вперед по тропинке. Пьер как бы вдруг очнулся к жизни после тяжелого обморока. Он выше поднял голову, глаза его засветились блеском жизни, и он быстрыми шагами пошел за девкой, обогнал ее и вышел на Поварскую. Вся улица была застлана тучей черного дыма. Языки пламени кое где вырывались из этой тучи. Народ большой толпой теснился перед пожаром. В середине улицы стоял французский генерал и говорил что то окружавшим его. Пьер, сопутствуемый девкой, подошел было к тому месту, где стоял генерал; но французские солдаты остановили его.
– On ne passe pas, [Тут не проходят,] – крикнул ему голос.
– Сюда, дяденька! – проговорила девка. – Мы переулком, через Никулиных пройдем.
Пьер повернулся назад и пошел, изредка подпрыгивая, чтобы поспевать за нею. Девка перебежала улицу, повернула налево в переулок и, пройдя три дома, завернула направо в ворота.
– Вот тут сейчас, – сказала девка, и, пробежав двор, она отворила калитку в тесовом заборе и, остановившись, указала Пьеру на небольшой деревянный флигель, горевший светло и жарко. Одна сторона его обрушилась, другая горела, и пламя ярко выбивалось из под отверстий окон и из под крыши.
Когда Пьер вошел в калитку, его обдало жаром, и он невольно остановился.
– Который, который ваш дом? – спросил он.
– О о ох! – завыла девка, указывая на флигель. – Он самый, она самая наша фатера была. Сгорела, сокровище ты мое, Катечка, барышня моя ненаглядная, о ох! – завыла Аниска при виде пожара, почувствовавши необходимость выказать и свои чувства.
Пьер сунулся к флигелю, но жар был так силен, что он невольна описал дугу вокруг флигеля и очутился подле большого дома, который еще горел только с одной стороны с крыши и около которого кишела толпа французов. Пьер сначала не понял, что делали эти французы, таскавшие что то; но, увидав перед собою француза, который бил тупым тесаком мужика, отнимая у него лисью шубу, Пьер понял смутно, что тут грабили, но ему некогда было останавливаться на этой мысли.
Звук треска и гула заваливающихся стен и потолков, свиста и шипенья пламени и оживленных криков народа, вид колеблющихся, то насупливающихся густых черных, то взмывающих светлеющих облаков дыма с блестками искр и где сплошного, сноповидного, красного, где чешуйчато золотого, перебирающегося по стенам пламени, ощущение жара и дыма и быстроты движения произвели на Пьера свое обычное возбуждающее действие пожаров. Действие это было в особенности сильно на Пьера, потому что Пьер вдруг при виде этого пожара почувствовал себя освобожденным от тяготивших его мыслей. Он чувствовал себя молодым, веселым, ловким и решительным. Он обежал флигелек со стороны дома и хотел уже бежать в ту часть его, которая еще стояла, когда над самой головой его послышался крик нескольких голосов и вслед за тем треск и звон чего то тяжелого, упавшего подле него.
Пьер оглянулся и увидал в окнах дома французов, выкинувших ящик комода, наполненный какими то металлическими вещами. Другие французские солдаты, стоявшие внизу, подошли к ящику.
– Eh bien, qu'est ce qu'il veut celui la, [Этому что еще надо,] – крикнул один из французов на Пьера.
– Un enfant dans cette maison. N'avez vous pas vu un enfant? [Ребенка в этом доме. Не видали ли вы ребенка?] – сказал Пьер.
– Tiens, qu'est ce qu'il chante celui la? Va te promener, [Этот что еще толкует? Убирайся к черту,] – послышались голоса, и один из солдат, видимо, боясь, чтобы Пьер не вздумал отнимать у них серебро и бронзы, которые были в ящике, угрожающе надвинулся на него.
– Un enfant? – закричал сверху француз. – J'ai entendu piailler quelque chose au jardin. Peut etre c'est sou moutard au bonhomme. Faut etre humain, voyez vous… [Ребенок? Я слышал, что то пищало в саду. Может быть, это его ребенок. Что ж, надо по человечеству. Мы все люди…]
– Ou est il? Ou est il? [Где он? Где он?] – спрашивал Пьер.
– Par ici! Par ici! [Сюда, сюда!] – кричал ему француз из окна, показывая на сад, бывший за домом. – Attendez, je vais descendre. [Погодите, я сейчас сойду.]
И действительно, через минуту француз, черноглазый малый с каким то пятном на щеке, в одной рубашке выскочил из окна нижнего этажа и, хлопнув Пьера по плечу, побежал с ним в сад.
– Depechez vous, vous autres, – крикнул он своим товарищам, – commence a faire chaud. [Эй, вы, живее, припекать начинает.]
Выбежав за дом на усыпанную песком дорожку, француз дернул за руку Пьера и указал ему на круг. Под скамейкой лежала трехлетняя девочка в розовом платьице.
– Voila votre moutard. Ah, une petite, tant mieux, – сказал француз. – Au revoir, mon gros. Faut etre humain. Nous sommes tous mortels, voyez vous, [Вот ваш ребенок. А, девочка, тем лучше. До свидания, толстяк. Что ж, надо по человечеству. Все люди,] – и француз с пятном на щеке побежал назад к своим товарищам.
Пьер, задыхаясь от радости, подбежал к девочке и хотел взять ее на руки. Но, увидав чужого человека, золотушно болезненная, похожая на мать, неприятная на вид девочка закричала и бросилась бежать. Пьер, однако, схватил ее и поднял на руки; она завизжала отчаянно злобным голосом и своими маленькими ручонками стала отрывать от себя руки Пьера и сопливым ртом кусать их. Пьера охватило чувство ужаса и гадливости, подобное тому, которое он испытывал при прикосновении к какому нибудь маленькому животному. Но он сделал усилие над собою, чтобы не бросить ребенка, и побежал с ним назад к большому дому. Но пройти уже нельзя было назад той же дорогой; девки Аниски уже не было, и Пьер с чувством жалости и отвращения, прижимая к себе как можно нежнее страдальчески всхлипывавшую и мокрую девочку, побежал через сад искать другого выхода.
Когда Пьер, обежав дворами и переулками, вышел назад с своей ношей к саду Грузинского, на углу Поварской, он в первую минуту не узнал того места, с которого он пошел за ребенком: так оно было загромождено народом и вытащенными из домов пожитками. Кроме русских семей с своим добром, спасавшихся здесь от пожара, тут же было и несколько французских солдат в различных одеяниях. Пьер не обратил на них внимания. Он спешил найти семейство чиновника, с тем чтобы отдать дочь матери и идти опять спасать еще кого то. Пьеру казалось, что ему что то еще многое и поскорее нужно сделать. Разгоревшись от жара и беготни, Пьер в эту минуту еще сильнее, чем прежде, испытывал то чувство молодости, оживления и решительности, которое охватило его в то время, как он побежал спасать ребенка. Девочка затихла теперь и, держась ручонками за кафтан Пьера, сидела на его руке и, как дикий зверек, оглядывалась вокруг себя. Пьер изредка поглядывал на нее и слегка улыбался. Ему казалось, что он видел что то трогательно невинное и ангельское в этом испуганном и болезненном личике.
На прежнем месте ни чиновника, ни его жены уже не было. Пьер быстрыми шагами ходил между народом, оглядывая разные лица, попадавшиеся ему. Невольно он заметил грузинское или армянское семейство, состоявшее из красивого, с восточным типом лица, очень старого человека, одетого в новый крытый тулуп и новые сапоги, старухи такого же типа и молодой женщины. Очень молодая женщина эта показалась Пьеру совершенством восточной красоты, с ее резкими, дугами очерченными черными бровями и длинным, необыкновенно нежно румяным и красивым лицом без всякого выражения. Среди раскиданных пожитков, в толпе на площади, она, в своем богатом атласном салопе и ярко лиловом платке, накрывавшем ее голову, напоминала нежное тепличное растение, выброшенное на снег. Она сидела на узлах несколько позади старухи и неподвижно большими черными продолговатыми, с длинными ресницами, глазами смотрела в землю. Видимо, она знала свою красоту и боялась за нее. Лицо это поразило Пьера, и он, в своей поспешности, проходя вдоль забора, несколько раз оглянулся на нее. Дойдя до забора и все таки не найдя тех, кого ему было нужно, Пьер остановился, оглядываясь.
Фигура Пьера с ребенком на руках теперь была еще более замечательна, чем прежде, и около него собралось несколько человек русских мужчин и женщин.
– Или потерял кого, милый человек? Сами вы из благородных, что ли? Чей ребенок то? – спрашивали у него.
Пьер отвечал, что ребенок принадлежал женщине и черном салопе, которая сидела с детьми на этом месте, и спрашивал, не знает ли кто ее и куда она перешла.
– Ведь это Анферовы должны быть, – сказал старый дьякон, обращаясь к рябой бабе. – Господи помилуй, господи помилуй, – прибавил он привычным басом.
– Где Анферовы! – сказала баба. – Анферовы еще с утра уехали. А это либо Марьи Николавны, либо Ивановы.
– Он говорит – женщина, а Марья Николавна – барыня, – сказал дворовый человек.
– Да вы знаете ее, зубы длинные, худая, – говорил Пьер.
– И есть Марья Николавна. Они ушли в сад, как тут волки то эти налетели, – сказала баба, указывая на французских солдат.
– О, господи помилуй, – прибавил опять дьякон.
– Вы пройдите вот туда то, они там. Она и есть. Все убивалась, плакала, – сказала опять баба. – Она и есть. Вот сюда то.
Но Пьер не слушал бабу. Он уже несколько секунд, не спуская глаз, смотрел на то, что делалось в нескольких шагах от него. Он смотрел на армянское семейство и двух французских солдат, подошедших к армянам. Один из этих солдат, маленький вертлявый человечек, был одет в синюю шинель, подпоясанную веревкой. На голове его был колпак, и ноги были босые. Другой, который особенно поразил Пьера, был длинный, сутуловатый, белокурый, худой человек с медлительными движениями и идиотическим выражением лица. Этот был одет в фризовый капот, в синие штаны и большие рваные ботфорты. Маленький француз, без сапог, в синей шипели, подойдя к армянам, тотчас же, сказав что то, взялся за ноги старика, и старик тотчас же поспешно стал снимать сапоги. Другой, в капоте, остановился против красавицы армянки и молча, неподвижно, держа руки в карманах, смотрел на нее.
– Возьми, возьми ребенка, – проговорил Пьер, подавая девочку и повелительно и поспешно обращаясь к бабе. – Ты отдай им, отдай! – закричал он почти на бабу, сажая закричавшую девочку на землю, и опять оглянулся на французов и на армянское семейство. Старик уже сидел босой. Маленький француз снял с него последний сапог и похлопывал сапогами один о другой. Старик, всхлипывая, говорил что то, но Пьер только мельком видел это; все внимание его было обращено на француза в капоте, который в это время, медлительно раскачиваясь, подвинулся к молодой женщине и, вынув руки из карманов, взялся за ее шею.
Красавица армянка продолжала сидеть в том же неподвижном положении, с опущенными длинными ресницами, и как будто не видала и не чувствовала того, что делал с нею солдат.
Пока Пьер пробежал те несколько шагов, которые отделяли его от французов, длинный мародер в капоте уж рвал с шеи армянки ожерелье, которое было на ней, и молодая женщина, хватаясь руками за шею, кричала пронзительным голосом.
– Laissez cette femme! [Оставьте эту женщину!] – бешеным голосом прохрипел Пьер, схватывая длинного, сутоловатого солдата за плечи и отбрасывая его. Солдат упал, приподнялся и побежал прочь. Но товарищ его, бросив сапоги, вынул тесак и грозно надвинулся на Пьера.
– Voyons, pas de betises! [Ну, ну! Не дури!] – крикнул он.
Пьер был в том восторге бешенства, в котором он ничего не помнил и в котором силы его удесятерялись. Он бросился на босого француза и, прежде чем тот успел вынуть свой тесак, уже сбил его с ног и молотил по нем кулаками. Послышался одобрительный крик окружавшей толпы, в то же время из за угла показался конный разъезд французских уланов. Уланы рысью подъехали к Пьеру и французу и окружили их. Пьер ничего не помнил из того, что было дальше. Он помнил, что он бил кого то, его били и что под конец он почувствовал, что руки его связаны, что толпа французских солдат стоит вокруг него и обыскивает его платье.
– Il a un poignard, lieutenant, [Поручик, у него кинжал,] – были первые слова, которые понял Пьер.
– Ah, une arme! [А, оружие!] – сказал офицер и обратился к босому солдату, который был взят с Пьером.
– C'est bon, vous direz tout cela au conseil de guerre, [Хорошо, хорошо, на суде все расскажешь,] – сказал офицер. И вслед за тем повернулся к Пьеру: – Parlez vous francais vous? [Говоришь ли по французски?]
Пьер оглядывался вокруг себя налившимися кровью глазами и не отвечал. Вероятно, лицо его показалось очень страшно, потому что офицер что то шепотом сказал, и еще четыре улана отделились от команды и стали по обеим сторонам Пьера.
– Parlez vous francais? – повторил ему вопрос офицер, держась вдали от него. – Faites venir l'interprete. [Позовите переводчика.] – Из за рядов выехал маленький человечек в штатском русском платье. Пьер по одеянию и говору его тотчас же узнал в нем француза одного из московских магазинов.
– Il n'a pas l'air d'un homme du peuple, [Он не похож на простолюдина,] – сказал переводчик, оглядев Пьера.
– Oh, oh! ca m'a bien l'air d'un des incendiaires, – смазал офицер. – Demandez lui ce qu'il est? [О, о! он очень похож на поджигателя. Спросите его, кто он?] – прибавил он.
– Ти кто? – спросил переводчик. – Ти должно отвечать начальство, – сказал он.
– Je ne vous dirai pas qui je suis. Je suis votre prisonnier. Emmenez moi, [Я не скажу вам, кто я. Я ваш пленный. Уводите меня,] – вдруг по французски сказал Пьер.
– Ah, Ah! – проговорил офицер, нахмурившись. – Marchons! [A! A! Ну, марш!]
Около улан собралась толпа. Ближе всех к Пьеру стояла рябая баба с девочкою; когда объезд тронулся, она подвинулась вперед.
– Куда же это ведут тебя, голубчик ты мой? – сказала она. – Девочку то, девочку то куда я дену, коли она не ихняя! – говорила баба.
– Qu'est ce qu'elle veut cette femme? [Чего ей нужно?] – спросил офицер.
Пьер был как пьяный. Восторженное состояние его еще усилилось при виде девочки, которую он спас.
– Ce qu'elle dit? – проговорил он. – Elle m'apporte ma fille que je viens de sauver des flammes, – проговорил он. – Adieu! [Чего ей нужно? Она несет дочь мою, которую я спас из огня. Прощай!] – и он, сам не зная, как вырвалась у него эта бесцельная ложь, решительным, торжественным шагом пошел между французами.
Разъезд французов был один из тех, которые были посланы по распоряжению Дюронеля по разным улицам Москвы для пресечения мародерства и в особенности для поимки поджигателей, которые, по общему, в тот день проявившемуся, мнению у французов высших чинов, были причиною пожаров. Объехав несколько улиц, разъезд забрал еще человек пять подозрительных русских, одного лавочника, двух семинаристов, мужика и дворового человека и нескольких мародеров. Но из всех подозрительных людей подозрительнее всех казался Пьер. Когда их всех привели на ночлег в большой дом на Зубовском валу, в котором была учреждена гауптвахта, то Пьера под строгим караулом поместили отдельно.
В Петербурге в это время в высших кругах, с большим жаром чем когда нибудь, шла сложная борьба партий Румянцева, французов, Марии Феодоровны, цесаревича и других, заглушаемая, как всегда, трубением придворных трутней. Но спокойная, роскошная, озабоченная только призраками, отражениями жизни, петербургская жизнь шла по старому; и из за хода этой жизни надо было делать большие усилия, чтобы сознавать опасность и то трудное положение, в котором находился русский народ. Те же были выходы, балы, тот же французский театр, те же интересы дворов, те же интересы службы и интриги. Только в самых высших кругах делались усилия для того, чтобы напоминать трудность настоящего положения. Рассказывалось шепотом о том, как противоположно одна другой поступили, в столь трудных обстоятельствах, обе императрицы. Императрица Мария Феодоровна, озабоченная благосостоянием подведомственных ей богоугодных и воспитательных учреждений, сделала распоряжение об отправке всех институтов в Казань, и вещи этих заведений уже были уложены. Императрица же Елизавета Алексеевна на вопрос о том, какие ей угодно сделать распоряжения, с свойственным ей русским патриотизмом изволила ответить, что о государственных учреждениях она не может делать распоряжений, так как это касается государя; о том же, что лично зависит от нее, она изволила сказать, что она последняя выедет из Петербурга.
У Анны Павловны 26 го августа, в самый день Бородинского сражения, был вечер, цветком которого должно было быть чтение письма преосвященного, написанного при посылке государю образа преподобного угодника Сергия. Письмо это почиталось образцом патриотического духовного красноречия. Прочесть его должен был сам князь Василий, славившийся своим искусством чтения. (Он же читывал и у императрицы.) Искусство чтения считалось в том, чтобы громко, певуче, между отчаянным завыванием и нежным ропотом переливать слова, совершенно независимо от их значения, так что совершенно случайно на одно слово попадало завывание, на другие – ропот. Чтение это, как и все вечера Анны Павловны, имело политическое значение. На этом вечере должно было быть несколько важных лиц, которых надо было устыдить за их поездки во французский театр и воодушевить к патриотическому настроению. Уже довольно много собралось народа, но Анна Павловна еще не видела в гостиной всех тех, кого нужно было, и потому, не приступая еще к чтению, заводила общие разговоры.
Новостью дня в этот день в Петербурге была болезнь графини Безуховой. Графиня несколько дней тому назад неожиданно заболела, пропустила несколько собраний, которых она была украшением, и слышно было, что она никого не принимает и что вместо знаменитых петербургских докторов, обыкновенно лечивших ее, она вверилась какому то итальянскому доктору, лечившему ее каким то новым и необыкновенным способом.
Все очень хорошо знали, что болезнь прелестной графини происходила от неудобства выходить замуж сразу за двух мужей и что лечение итальянца состояло в устранении этого неудобства; но в присутствии Анны Павловны не только никто не смел думать об этом, но как будто никто и не знал этого.
– On dit que la pauvre comtesse est tres mal. Le medecin dit que c'est l'angine pectorale. [Говорят, что бедная графиня очень плоха. Доктор сказал, что это грудная болезнь.]
– L'angine? Oh, c'est une maladie terrible! [Грудная болезнь? О, это ужасная болезнь!]
– On dit que les rivaux se sont reconcilies grace a l'angine… [Говорят, что соперники примирились благодаря этой болезни.]
Слово angine повторялось с большим удовольствием.
– Le vieux comte est touchant a ce qu'on dit. Il a pleure comme un enfant quand le medecin lui a dit que le cas etait dangereux. [Старый граф очень трогателен, говорят. Он заплакал, как дитя, когда доктор сказал, что случай опасный.]
– Oh, ce serait une perte terrible. C'est une femme ravissante. [О, это была бы большая потеря. Такая прелестная женщина.]
– Vous parlez de la pauvre comtesse, – сказала, подходя, Анна Павловна. – J'ai envoye savoir de ses nouvelles. On m'a dit qu'elle allait un peu mieux. Oh, sans doute, c'est la plus charmante femme du monde, – сказала Анна Павловна с улыбкой над своей восторженностью. – Nous appartenons a des camps differents, mais cela ne m'empeche pas de l'estimer, comme elle le merite. Elle est bien malheureuse, [Вы говорите про бедную графиню… Я посылала узнавать о ее здоровье. Мне сказали, что ей немного лучше. О, без сомнения, это прелестнейшая женщина в мире. Мы принадлежим к различным лагерям, но это не мешает мне уважать ее по ее заслугам. Она так несчастна.] – прибавила Анна Павловна.
Полагая, что этими словами Анна Павловна слегка приподнимала завесу тайны над болезнью графини, один неосторожный молодой человек позволил себе выразить удивление в том, что не призваны известные врачи, а лечит графиню шарлатан, который может дать опасные средства.
– Vos informations peuvent etre meilleures que les miennes, – вдруг ядовито напустилась Анна Павловна на неопытного молодого человека. – Mais je sais de bonne source que ce medecin est un homme tres savant et tres habile. C'est le medecin intime de la Reine d'Espagne. [Ваши известия могут быть вернее моих… но я из хороших источников знаю, что этот доктор очень ученый и искусный человек. Это лейб медик королевы испанской.] – И таким образом уничтожив молодого человека, Анна Павловна обратилась к Билибину, который в другом кружке, подобрав кожу и, видимо, сбираясь распустить ее, чтобы сказать un mot, говорил об австрийцах.
– Je trouve que c'est charmant! [Я нахожу, что это прелестно!] – говорил он про дипломатическую бумагу, при которой отосланы были в Вену австрийские знамена, взятые Витгенштейном, le heros de Petropol [героем Петрополя] (как его называли в Петербурге).
– Как, как это? – обратилась к нему Анна Павловна, возбуждая молчание для услышания mot, которое она уже знала.
И Билибин повторил следующие подлинные слова дипломатической депеши, им составленной:
– L'Empereur renvoie les drapeaux Autrichiens, – сказал Билибин, – drapeaux amis et egares qu'il a trouve hors de la route, [Император отсылает австрийские знамена, дружеские и заблудшиеся знамена, которые он нашел вне настоящей дороги.] – докончил Билибин, распуская кожу.
– Charmant, charmant, [Прелестно, прелестно,] – сказал князь Василий.
– C'est la route de Varsovie peut etre, [Это варшавская дорога, может быть.] – громко и неожиданно сказал князь Ипполит. Все оглянулись на него, не понимая того, что он хотел сказать этим. Князь Ипполит тоже с веселым удивлением оглядывался вокруг себя. Он так же, как и другие, не понимал того, что значили сказанные им слова. Он во время своей дипломатической карьеры не раз замечал, что таким образом сказанные вдруг слова оказывались очень остроумны, и он на всякий случай сказал эти слова, первые пришедшие ему на язык. «Может, выйдет очень хорошо, – думал он, – а ежели не выйдет, они там сумеют это устроить». Действительно, в то время как воцарилось неловкое молчание, вошло то недостаточно патриотическое лицо, которого ждала для обращения Анна Павловна, и она, улыбаясь и погрозив пальцем Ипполиту, пригласила князя Василия к столу, и, поднося ему две свечи и рукопись, попросила его начать. Все замолкло.
– Всемилостивейший государь император! – строго провозгласил князь Василий и оглянул публику, как будто спрашивая, не имеет ли кто сказать что нибудь против этого. Но никто ничего не сказал. – «Первопрестольный град Москва, Новый Иерусалим, приемлет Христа своего, – вдруг ударил он на слове своего, – яко мать во объятия усердных сынов своих, и сквозь возникающую мглу, провидя блистательную славу твоея державы, поет в восторге: «Осанна, благословен грядый!» – Князь Василий плачущим голосом произнес эти последние слова.
Билибин рассматривал внимательно свои ногти, и многие, видимо, робели, как бы спрашивая, в чем же они виноваты? Анна Павловна шепотом повторяла уже вперед, как старушка молитву причастия: «Пусть дерзкий и наглый Голиаф…» – прошептала она.
Князь Василий продолжал:
– «Пусть дерзкий и наглый Голиаф от пределов Франции обносит на краях России смертоносные ужасы; кроткая вера, сия праща российского Давида, сразит внезапно главу кровожаждущей его гордыни. Се образ преподобного Сергия, древнего ревнителя о благе нашего отечества, приносится вашему императорскому величеству. Болезную, что слабеющие мои силы препятствуют мне насладиться любезнейшим вашим лицезрением. Теплые воссылаю к небесам молитвы, да всесильный возвеличит род правых и исполнит во благих желания вашего величества».
– Quelle force! Quel style! [Какая сила! Какой слог!] – послышались похвалы чтецу и сочинителю. Воодушевленные этой речью, гости Анны Павловны долго еще говорили о положении отечества и делали различные предположения об исходе сражения, которое на днях должно было быть дано.
– Vous verrez, [Вы увидите.] – сказала Анна Павловна, – что завтра, в день рождения государя, мы получим известие. У меня есть хорошее предчувствие.
Предчувствие Анны Павловны действительно оправдалось. На другой день, во время молебствия во дворце по случаю дня рождения государя, князь Волконский был вызван из церкви и получил конверт от князя Кутузова. Это было донесение Кутузова, писанное в день сражения из Татариновой. Кутузов писал, что русские не отступили ни на шаг, что французы потеряли гораздо более нашего, что он доносит второпях с поля сражения, не успев еще собрать последних сведений. Стало быть, это была победа. И тотчас же, не выходя из храма, была воздана творцу благодарность за его помощь и за победу.
Предчувствие Анны Павловны оправдалось, и в городе все утро царствовало радостно праздничное настроение духа. Все признавали победу совершенною, и некоторые уже говорили о пленении самого Наполеона, о низложении его и избрании новой главы для Франции.
Вдали от дела и среди условий придворной жизни весьма трудно, чтобы события отражались во всей их полноте и силе. Невольно события общие группируются около одного какого нибудь частного случая. Так теперь главная радость придворных заключалась столько же в том, что мы победили, сколько и в том, что известие об этой победе пришлось именно в день рождения государя. Это было как удавшийся сюрприз. В известии Кутузова сказано было тоже о потерях русских, и в числе их названы Тучков, Багратион, Кутайсов. Тоже и печальная сторона события невольно в здешнем, петербургском мире сгруппировалась около одного события – смерти Кутайсова. Его все знали, государь любил его, он был молод и интересен. В этот день все встречались с словами:
– Как удивительно случилось. В самый молебен. А какая потеря Кутайсов! Ах, как жаль!
– Что я вам говорил про Кутузова? – говорил теперь князь Василий с гордостью пророка. – Я говорил всегда, что он один способен победить Наполеона.
Но на другой день не получалось известия из армии, и общий голос стал тревожен. Придворные страдали за страдания неизвестности, в которой находился государь.
– Каково положение государя! – говорили придворные и уже не превозносили, как третьего дня, а теперь осуждали Кутузова, бывшего причиной беспокойства государя. Князь Василий в этот день уже не хвастался более своим protege Кутузовым, а хранил молчание, когда речь заходила о главнокомандующем. Кроме того, к вечеру этого дня как будто все соединилось для того, чтобы повергнуть в тревогу и беспокойство петербургских жителей: присоединилась еще одна страшная новость. Графиня Елена Безухова скоропостижно умерла от этой страшной болезни, которую так приятно было выговаривать. Официально в больших обществах все говорили, что графиня Безухова умерла от страшного припадка angine pectorale [грудной ангины], но в интимных кружках рассказывали подробности о том, как le medecin intime de la Reine d'Espagne [лейб медик королевы испанской] предписал Элен небольшие дозы какого то лекарства для произведения известного действия; но как Элен, мучимая тем, что старый граф подозревал ее, и тем, что муж, которому она писала (этот несчастный развратный Пьер), не отвечал ей, вдруг приняла огромную дозу выписанного ей лекарства и умерла в мучениях, прежде чем могли подать помощь. Рассказывали, что князь Василий и старый граф взялись было за итальянца; но итальянец показал такие записки от несчастной покойницы, что его тотчас же отпустили.
Общий разговор сосредоточился около трех печальных событий: неизвестности государя, погибели Кутайсова и смерти Элен.
На третий день после донесения Кутузова в Петербург приехал помещик из Москвы, и по всему городу распространилось известие о сдаче Москвы французам. Это было ужасно! Каково было положение государя! Кутузов был изменник, и князь Василий во время visites de condoleance [визитов соболезнования] по случаю смерти его дочери, которые ему делали, говорил о прежде восхваляемом им Кутузове (ему простительно было в печали забыть то, что он говорил прежде), он говорил, что нельзя было ожидать ничего другого от слепого и развратного старика.
– Я удивляюсь только, как можно было поручить такому человеку судьбу России.
Пока известие это было еще неофициально, в нем можно было еще сомневаться, но на другой день пришло от графа Растопчина следующее донесение:
«Адъютант князя Кутузова привез мне письмо, в коем он требует от меня полицейских офицеров для сопровождения армии на Рязанскую дорогу. Он говорит, что с сожалением оставляет Москву. Государь! поступок Кутузова решает жребий столицы и Вашей империи. Россия содрогнется, узнав об уступлении города, где сосредоточивается величие России, где прах Ваших предков. Я последую за армией. Я все вывез, мне остается плакать об участи моего отечества».
Получив это донесение, государь послал с князем Волконским следующий рескрипт Кутузову:
«Князь Михаил Иларионович! С 29 августа не имею я никаких донесений от вас. Между тем от 1 го сентября получил я через Ярославль, от московского главнокомандующего, печальное известие, что вы решились с армиею оставить Москву. Вы сами можете вообразить действие, какое произвело на меня это известие, а молчание ваше усугубляет мое удивление. Я отправляю с сим генерал адъютанта князя Волконского, дабы узнать от вас о положении армии и о побудивших вас причинах к столь печальной решимости».
Девять дней после оставления Москвы в Петербург приехал посланный от Кутузова с официальным известием об оставлении Москвы. Посланный этот был француз Мишо, не знавший по русски, но quoique etranger, Busse de c?ur et d'ame, [впрочем, хотя иностранец, но русский в глубине души,] как он сам говорил про себя.
Государь тотчас же принял посланного в своем кабинете, во дворце Каменного острова. Мишо, который никогда не видал Москвы до кампании и который не знал по русски, чувствовал себя все таки растроганным, когда он явился перед notre tres gracieux souverain [нашим всемилостивейшим повелителем] (как он писал) с известием о пожаре Москвы, dont les flammes eclairaient sa route [пламя которой освещало его путь].
Хотя источник chagrin [горя] г на Мишо и должен был быть другой, чем тот, из которого вытекало горе русских людей, Мишо имел такое печальное лицо, когда он был введен в кабинет государя, что государь тотчас же спросил у него:
– M'apportez vous de tristes nouvelles, colonel? [Какие известия привезли вы мне? Дурные, полковник?]
– Bien tristes, sire, – отвечал Мишо, со вздохом опуская глаза, – l'abandon de Moscou. [Очень дурные, ваше величество, оставление Москвы.]
– Aurait on livre mon ancienne capitale sans se battre? [Неужели предали мою древнюю столицу без битвы?] – вдруг вспыхнув, быстро проговорил государь.
Мишо почтительно передал то, что ему приказано было передать от Кутузова, – именно то, что под Москвою драться не было возможности и что, так как оставался один выбор – потерять армию и Москву или одну Москву, то фельдмаршал должен был выбрать последнее.
Государь выслушал молча, не глядя на Мишо.
– L'ennemi est il en ville? [Неприятель вошел в город?] – спросил он.
– Oui, sire, et elle est en cendres a l'heure qu'il est. Je l'ai laissee toute en flammes, [Да, ваше величество, и он обращен в пожарище в настоящее время. Я оставил его в пламени.] – решительно сказал Мишо; но, взглянув на государя, Мишо ужаснулся тому, что он сделал. Государь тяжело и часто стал дышать, нижняя губа его задрожала, и прекрасные голубые глаза мгновенно увлажились слезами.
Но это продолжалось только одну минуту. Государь вдруг нахмурился, как бы осуждая самого себя за свою слабость. И, приподняв голову, твердым голосом обратился к Мишо.
– Je vois, colonel, par tout ce qui nous arrive, – сказал он, – que la providence exige de grands sacrifices de nous… Je suis pret a me soumettre a toutes ses volontes; mais dites moi, Michaud, comment avez vous laisse l'armee, en voyant ainsi, sans coup ferir abandonner mon ancienne capitale? N'avez vous pas apercu du decouragement?.. [Я вижу, полковник, по всему, что происходит, что провидение требует от нас больших жертв… Я готов покориться его воле; но скажите мне, Мишо, как оставили вы армию, покидавшую без битвы мою древнюю столицу? Не заметили ли вы в ней упадка духа?]
Увидав успокоение своего tres gracieux souverain, Мишо тоже успокоился, но на прямой существенный вопрос государя, требовавший и прямого ответа, он не успел еще приготовить ответа.
– Sire, me permettrez vous de vous parler franchement en loyal militaire? [Государь, позволите ли вы мне говорить откровенно, как подобает настоящему воину?] – сказал он, чтобы выиграть время.
– Colonel, je l'exige toujours, – сказал государь. – Ne me cachez rien, je veux savoir absolument ce qu'il en est. [Полковник, я всегда этого требую… Не скрывайте ничего, я непременно хочу знать всю истину.]
– Sire! – сказал Мишо с тонкой, чуть заметной улыбкой на губах, успев приготовить свой ответ в форме легкого и почтительного jeu de mots [игры слов]. – Sire! j'ai laisse toute l'armee depuis les chefs jusqu'au dernier soldat, sans exception, dans une crainte epouvantable, effrayante… [Государь! Я оставил всю армию, начиная с начальников и до последнего солдата, без исключения, в великом, отчаянном страхе…]
– Comment ca? – строго нахмурившись, перебил государь. – Mes Russes se laisseront ils abattre par le malheur… Jamais!.. [Как так? Мои русские могут ли пасть духом перед неудачей… Никогда!..]
Этого только и ждал Мишо для вставления своей игры слов.
– Sire, – сказал он с почтительной игривостью выражения, – ils craignent seulement que Votre Majeste par bonte de c?ur ne se laisse persuader de faire la paix. Ils brulent de combattre, – говорил уполномоченный русского народа, – et de prouver a Votre Majeste par le sacrifice de leur vie, combien ils lui sont devoues… [Государь, они боятся только того, чтобы ваше величество по доброте души своей не решились заключить мир. Они горят нетерпением снова драться и доказать вашему величеству жертвой своей жизни, насколько они вам преданы…]
– Ah! – успокоенно и с ласковым блеском глаз сказал государь, ударяя по плечу Мишо. – Vous me tranquillisez, colonel. [А! Вы меня успокоиваете, полковник.]
Государь, опустив голову, молчал несколько времени.
– Eh bien, retournez a l'armee, [Ну, так возвращайтесь к армии.] – сказал он, выпрямляясь во весь рост и с ласковым и величественным жестом обращаясь к Мишо, – et dites a nos braves, dites a tous mes bons sujets partout ou vous passerez, que quand je n'aurais plus aucun soldat, je me mettrai moi meme, a la tete de ma chere noblesse, de mes bons paysans et j'userai ainsi jusqu'a la derniere ressource de mon empire. Il m'en offre encore plus que mes ennemis ne pensent, – говорил государь, все более и более воодушевляясь. – Mais si jamais il fut ecrit dans les decrets de la divine providence, – сказал он, подняв свои прекрасные, кроткие и блестящие чувством глаза к небу, – que ma dinastie dut cesser de rogner sur le trone de mes ancetres, alors, apres avoir epuise tous les moyens qui sont en mon pouvoir, je me laisserai croitre la barbe jusqu'ici (государь показал рукой на половину груди), et j'irai manger des pommes de terre avec le dernier de mes paysans plutot, que de signer la honte de ma patrie et de ma chere nation, dont je sais apprecier les sacrifices!.. [Скажите храбрецам нашим, скажите всем моим подданным, везде, где вы проедете, что, когда у меня не будет больше ни одного солдата, я сам стану во главе моих любезных дворян и добрых мужиков и истощу таким образом последние средства моего государства. Они больше, нежели думают мои враги… Но если бы предназначено было божественным провидением, чтобы династия наша перестала царствовать на престоле моих предков, тогда, истощив все средства, которые в моих руках, я отпущу бороду до сих пор и скорее пойду есть один картофель с последним из моих крестьян, нежели решусь подписать позор моей родины и моего дорогого народа, жертвы которого я умею ценить!..] Сказав эти слова взволнованным голосом, государь вдруг повернулся, как бы желая скрыть от Мишо выступившие ему на глаза слезы, и прошел в глубь своего кабинета. Постояв там несколько мгновений, он большими шагами вернулся к Мишо и сильным жестом сжал его руку пониже локтя. Прекрасное, кроткое лицо государя раскраснелось, и глаза горели блеском решимости и гнева.
– Colonel Michaud, n'oubliez pas ce que je vous dis ici; peut etre qu'un jour nous nous le rappellerons avec plaisir… Napoleon ou moi, – сказал государь, дотрогиваясь до груди. – Nous ne pouvons plus regner ensemble. J'ai appris a le connaitre, il ne me trompera plus… [Полковник Мишо, не забудьте, что я вам сказал здесь; может быть, мы когда нибудь вспомним об этом с удовольствием… Наполеон или я… Мы больше не можем царствовать вместе. Я узнал его теперь, и он меня больше не обманет…] – И государь, нахмурившись, замолчал. Услышав эти слова, увидав выражение твердой решимости в глазах государя, Мишо – quoique etranger, mais Russe de c?ur et d'ame – почувствовал себя в эту торжественную минуту – entousiasme par tout ce qu'il venait d'entendre [хотя иностранец, но русский в глубине души… восхищенным всем тем, что он услышал] (как он говорил впоследствии), и он в следующих выражениях изобразил как свои чувства, так и чувства русского народа, которого он считал себя уполномоченным.
– Sire! – сказал он. – Votre Majeste signe dans ce moment la gloire de la nation et le salut de l'Europe! [Государь! Ваше величество подписывает в эту минуту славу народа и спасение Европы!]
Государь наклонением головы отпустил Мишо.
В то время как Россия была до половины завоевана, и жители Москвы бежали в дальние губернии, и ополченье за ополченьем поднималось на защиту отечества, невольно представляется нам, не жившим в то время, что все русские люди от мала до велика были заняты только тем, чтобы жертвовать собою, спасать отечество или плакать над его погибелью. Рассказы, описания того времени все без исключения говорят только о самопожертвовании, любви к отечеству, отчаянье, горе и геройстве русских. В действительности же это так не было. Нам кажется это так только потому, что мы видим из прошедшего один общий исторический интерес того времени и не видим всех тех личных, человеческих интересов, которые были у людей того времени. А между тем в действительности те личные интересы настоящего до такой степени значительнее общих интересов, что из за них никогда не чувствуется (вовсе не заметен даже) интерес общий. Большая часть людей того времени не обращали никакого внимания на общий ход дел, а руководились только личными интересами настоящего. И эти то люди были самыми полезными деятелями того времени.
Те же, которые пытались понять общий ход дел и с самопожертвованием и геройством хотели участвовать в нем, были самые бесполезные члены общества; они видели все навыворот, и все, что они делали для пользы, оказывалось бесполезным вздором, как полки Пьера, Мамонова, грабившие русские деревни, как корпия, щипанная барынями и никогда не доходившая до раненых, и т. п. Даже те, которые, любя поумничать и выразить свои чувства, толковали о настоящем положении России, невольно носили в речах своих отпечаток или притворства и лжи, или бесполезного осуждения и злобы на людей, обвиняемых за то, в чем никто не мог быть виноват. В исторических событиях очевиднее всего запрещение вкушения плода древа познания. Только одна бессознательная деятельность приносит плоды, и человек, играющий роль в историческом событии, никогда не понимает его значения. Ежели он пытается понять его, он поражается бесплодностью.
Значение совершавшегося тогда в России события тем незаметнее было, чем ближе было в нем участие человека. В Петербурге и губернских городах, отдаленных от Москвы, дамы и мужчины в ополченских мундирах оплакивали Россию и столицу и говорили о самопожертвовании и т. п.; но в армии, которая отступала за Москву, почти не говорили и не думали о Москве, и, глядя на ее пожарище, никто не клялся отомстить французам, а думали о следующей трети жалованья, о следующей стоянке, о Матрешке маркитантше и тому подобное…
Николай Ростов без всякой цели самопожертвования, а случайно, так как война застала его на службе, принимал близкое и продолжительное участие в защите отечества и потому без отчаяния и мрачных умозаключений смотрел на то, что совершалось тогда в России. Ежели бы у него спросили, что он думает о теперешнем положении России, он бы сказал, что ему думать нечего, что на то есть Кутузов и другие, а что он слышал, что комплектуются полки, и что, должно быть, драться еще долго будут, и что при теперешних обстоятельствах ему не мудрено года через два получить полк.
По тому, что он так смотрел на дело, он не только без сокрушения о том, что лишается участия в последней борьбе, принял известие о назначении его в командировку за ремонтом для дивизии в Воронеж, но и с величайшим удовольствием, которое он не скрывал и которое весьма хорошо понимали его товарищи.
За несколько дней до Бородинского сражения Николай получил деньги, бумаги и, послав вперед гусар, на почтовых поехал в Воронеж.
Только тот, кто испытал это, то есть пробыл несколько месяцев не переставая в атмосфере военной, боевой жизни, может понять то наслаждение, которое испытывал Николай, когда он выбрался из того района, до которого достигали войска своими фуражировками, подвозами провианта, гошпиталями; когда он, без солдат, фур, грязных следов присутствия лагеря, увидал деревни с мужиками и бабами, помещичьи дома, поля с пасущимся скотом, станционные дома с заснувшими смотрителями. Он почувствовал такую радость, как будто в первый раз все это видел. В особенности то, что долго удивляло и радовало его, – это были женщины, молодые, здоровые, за каждой из которых не было десятка ухаживающих офицеров, и женщины, которые рады и польщены были тем, что проезжий офицер шутит с ними.
В самом веселом расположении духа Николай ночью приехал в Воронеж в гостиницу, заказал себе все то, чего он долго лишен был в армии, и на другой день, чисто начисто выбрившись и надев давно не надеванную парадную форму, поехал являться к начальству.
Начальник ополчения был статский генерал, старый человек, который, видимо, забавлялся своим военным званием и чином. Он сердито (думая, что в этом военное свойство) принял Николая и значительно, как бы имея на то право и как бы обсуживая общий ход дела, одобряя и не одобряя, расспрашивал его. Николай был так весел, что ему только забавно было это.
От начальника ополчения он поехал к губернатору. Губернатор был маленький живой человечек, весьма ласковый и простой. Он указал Николаю на те заводы, в которых он мог достать лошадей, рекомендовал ему барышника в городе и помещика за двадцать верст от города, у которых были лучшие лошади, и обещал всякое содействие.
– Вы графа Ильи Андреевича сын? Моя жена очень дружна была с вашей матушкой. По четвергам у меня собираются; нынче четверг, милости прошу ко мне запросто, – сказал губернатор, отпуская его.
Прямо от губернатора Николай взял перекладную и, посадив с собою вахмистра, поскакал за двадцать верст на завод к помещику. Все в это первое время пребывания его в Воронеже было для Николая весело и легко, и все, как это бывает, когда человек сам хорошо расположен, все ладилось и спорилось.
Помещик, к которому приехал Николай, был старый кавалерист холостяк, лошадиный знаток, охотник, владетель коверной, столетней запеканки, старого венгерского и чудных лошадей.
Николай в два слова купил за шесть тысяч семнадцать жеребцов на подбор (как он говорил) для казового конца своего ремонта. Пообедав и выпив немножко лишнего венгерского, Ростов, расцеловавшись с помещиком, с которым он уже сошелся на «ты», по отвратительной дороге, в самом веселом расположении духа, поскакал назад, беспрестанно погоняя ямщика, с тем чтобы поспеть на вечер к губернатору.
Переодевшись, надушившись и облив голову холодной подои, Николай хотя несколько поздно, но с готовой фразой: vaut mieux tard que jamais, [лучше поздно, чем никогда,] явился к губернатору.
Это был не бал, и не сказано было, что будут танцевать; но все знали, что Катерина Петровна будет играть на клавикордах вальсы и экосезы и что будут танцевать, и все, рассчитывая на это, съехались по бальному.
Губернская жизнь в 1812 году была точно такая же, как и всегда, только с тою разницею, что в городе было оживленнее по случаю прибытия многих богатых семей из Москвы и что, как и во всем, что происходило в то время в России, была заметна какая то особенная размашистость – море по колено, трын трава в жизни, да еще в том, что тот пошлый разговор, который необходим между людьми и который прежде велся о погоде и об общих знакомых, теперь велся о Москве, о войске и Наполеоне.
Общество, собранное у губернатора, было лучшее общество Воронежа.
Дам было очень много, было несколько московских знакомых Николая; но мужчин не было никого, кто бы сколько нибудь мог соперничать с георгиевским кавалером, ремонтером гусаром и вместе с тем добродушным и благовоспитанным графом Ростовым. В числе мужчин был один пленный итальянец – офицер французской армии, и Николай чувствовал, что присутствие этого пленного еще более возвышало значение его – русского героя. Это был как будто трофей. Николай чувствовал это, и ему казалось, что все так же смотрели на итальянца, и Николай обласкал этого офицера с достоинством и воздержностью.
Как только вошел Николай в своей гусарской форме, распространяя вокруг себя запах духов и вина, и сам сказал и слышал несколько раз сказанные ему слова: vaut mieux tard que jamais, его обступили; все взгляды обратились на него, и он сразу почувствовал, что вступил в подобающее ему в губернии и всегда приятное, но теперь, после долгого лишения, опьянившее его удовольствием положение всеобщего любимца. Не только на станциях, постоялых дворах и в коверной помещика были льстившиеся его вниманием служанки; но здесь, на вечере губернатора, было (как показалось Николаю) неисчерпаемое количество молоденьких дам и хорошеньких девиц, которые с нетерпением только ждали того, чтобы Николай обратил на них внимание. Дамы и девицы кокетничали с ним, и старушки с первого дня уже захлопотали о том, как бы женить и остепенить этого молодца повесу гусара. В числе этих последних была сама жена губернатора, которая приняла Ростова, как близкого родственника, и называла его «Nicolas» и «ты».
Катерина Петровна действительно стала играть вальсы и экосезы, и начались танцы, в которых Николай еще более пленил своей ловкостью все губернское общество. Он удивил даже всех своей особенной, развязной манерой в танцах. Николай сам был несколько удивлен своей манерой танцевать в этот вечер. Он никогда так не танцевал в Москве и счел бы даже неприличным и mauvais genre [дурным тоном] такую слишком развязную манеру танца; но здесь он чувствовал потребность удивить их всех чем нибудь необыкновенным, чем нибудь таким, что они должны были принять за обыкновенное в столицах, но неизвестное еще им в провинции.
Во весь вечер Николай обращал больше всего внимания на голубоглазую, полную и миловидную блондинку, жену одного из губернских чиновников. С тем наивным убеждением развеселившихся молодых людей, что чужие жены сотворены для них, Ростов не отходил от этой дамы и дружески, несколько заговорщически, обращался с ее мужем, как будто они хотя и не говорили этого, но знали, как славно они сойдутся – то есть Николай с женой этого мужа. Муж, однако, казалось, не разделял этого убеждения и старался мрачно обращаться с Ростовым. Но добродушная наивность Николая была так безгранична, что иногда муж невольно поддавался веселому настроению духа Николая. К концу вечера, однако, по мере того как лицо жены становилось все румянее и оживленнее, лицо ее мужа становилось все грустнее и бледнее, как будто доля оживления была одна на обоих, и по мере того как она увеличивалась в жене, она уменьшалась в муже.
Николай, с несходящей улыбкой на лице, несколько изогнувшись на кресле, сидел, близко наклоняясь над блондинкой и говоря ей мифологические комплименты.
Переменяя бойко положение ног в натянутых рейтузах, распространяя от себя запах духов и любуясь и своей дамой, и собою, и красивыми формами своих ног под натянутыми кичкирами, Николай говорил блондинке, что он хочет здесь, в Воронеже, похитить одну даму.
– Какую же?
– Прелестную, божественную. Глаза у ней (Николай посмотрел на собеседницу) голубые, рот – кораллы, белизна… – он глядел на плечи, – стан – Дианы…
Муж подошел к ним и мрачно спросил у жены, о чем она говорит.
– А! Никита Иваныч, – сказал Николай, учтиво вставая. И, как бы желая, чтобы Никита Иваныч принял участие в его шутках, он начал и ему сообщать свое намерение похитить одну блондинку.
Муж улыбался угрюмо, жена весело. Добрая губернаторша с неодобрительным видом подошла к ним.
– Анна Игнатьевна хочет тебя видеть, Nicolas, – сказала она, таким голосом выговаривая слова: Анна Игнатьевна, что Ростову сейчас стало понятно, что Анна Игнатьевна очень важная дама. – Пойдем, Nicolas. Ведь ты позволил мне так называть тебя?
– О да, ma tante. Кто же это?
– Анна Игнатьевна Мальвинцева. Она слышала о тебе от своей племянницы, как ты спас ее… Угадаешь?..
– Мало ли я их там спасал! – сказал Николай.
– Ее племянницу, княжну Болконскую. Она здесь, в Воронеже, с теткой. Ого! как покраснел! Что, или?..
– И не думал, полноте, ma tante.
– Ну хорошо, хорошо. О! какой ты!
Губернаторша подводила его к высокой и очень толстой старухе в голубом токе, только что кончившей свою карточную партию с самыми важными лицами в городе. Это была Мальвинцева, тетка княжны Марьи по матери, богатая бездетная вдова, жившая всегда в Воронеже. Она стояла, рассчитываясь за карты, когда Ростов подошел к ней. Она строго и важно прищурилась, взглянула на него и продолжала бранить генерала, выигравшего у нее.
– Очень рада, мой милый, – сказала она, протянув ему руку. – Милости прошу ко мне.
Поговорив о княжне Марье и покойнике ее отце, которого, видимо, не любила Мальвинцева, и расспросив о том, что Николай знал о князе Андрее, который тоже, видимо, не пользовался ее милостями, важная старуха отпустила его, повторив приглашение быть у нее.
Николай обещал и опять покраснел, когда откланивался Мальвинцевой. При упоминании о княжне Марье Ростов испытывал непонятное для него самого чувство застенчивости, даже страха.
Отходя от Мальвинцевой, Ростов хотел вернуться к танцам, но маленькая губернаторша положила свою пухленькую ручку на рукав Николая и, сказав, что ей нужно поговорить с ним, повела его в диванную, из которой бывшие в ней вышли тотчас же, чтобы не мешать губернаторше.
– Знаешь, mon cher, – сказала губернаторша с серьезным выражением маленького доброго лица, – вот это тебе точно партия; хочешь, я тебя сосватаю?
– Кого, ma tante? – спросил Николай.
– Княжну сосватаю. Катерина Петровна говорит, что Лили, а по моему, нет, – княжна. Хочешь? Я уверена, твоя maman благодарить будет. Право, какая девушка, прелесть! И она совсем не так дурна.
– Совсем нет, – как бы обидевшись, сказал Николай. – Я, ma tante, как следует солдату, никуда не напрашиваюсь и ни от чего не отказываюсь, – сказал Ростов прежде, чем он успел подумать о том, что он говорит.
– Так помни же: это не шутка.
– Какая шутка!
– Да, да, – как бы сама с собою говоря, сказала губернаторша. – А вот что еще, mon cher, entre autres. Vous etes trop assidu aupres de l'autre, la blonde. [мой друг. Ты слишком ухаживаешь за той, за белокурой.] Муж уж жалок, право…
– Ах нет, мы с ним друзья, – в простоте душевной сказал Николай: ему и в голову не приходило, чтобы такое веселое для него препровождение времени могло бы быть для кого нибудь не весело.
«Что я за глупость сказал, однако, губернаторше! – вдруг за ужином вспомнилось Николаю. – Она точно сватать начнет, а Соня?..» И, прощаясь с губернаторшей, когда она, улыбаясь, еще раз сказала ему: «Ну, так помни же», – он отвел ее в сторону:
– Но вот что, по правде вам сказать, ma tante…
– Что, что, мой друг; пойдем вот тут сядем.
Николай вдруг почувствовал желание и необходимость рассказать все свои задушевные мысли (такие, которые и не рассказал бы матери, сестре, другу) этой почти чужой женщине. Николаю потом, когда он вспоминал об этом порыве ничем не вызванной, необъяснимой откровенности, которая имела, однако, для него очень важные последствия, казалось (как это и кажется всегда людям), что так, глупый стих нашел; а между тем этот порыв откровенности, вместе с другими мелкими событиями, имел для него и для всей семьи огромные последствия.
– Вот что, ma tante. Maman меня давно женить хочет на богатой, но мне мысль одна эта противна, жениться из за денег.
– О да, понимаю, – сказала губернаторша.
– Но княжна Болконская, это другое дело; во первых, я вам правду скажу, она мне очень нравится, она по сердцу мне, и потом, после того как я ее встретил в таком положении, так странно, мне часто в голову приходило что это судьба. Особенно подумайте: maman давно об этом думала, но прежде мне ее не случалось встречать, как то все так случалось: не встречались. И во время, когда Наташа была невестой ее брата, ведь тогда мне бы нельзя было думать жениться на ней. Надо же, чтобы я ее встретил именно тогда, когда Наташина свадьба расстроилась, ну и потом всё… Да, вот что. Я никому не говорил этого и не скажу. А вам только.
Губернаторша пожала его благодарно за локоть.
– Вы знаете Софи, кузину? Я люблю ее, я обещал жениться и женюсь на ней… Поэтому вы видите, что про это не может быть и речи, – нескладно и краснея говорил Николай.
– Mon cher, mon cher, как же ты судишь? Да ведь у Софи ничего нет, а ты сам говорил, что дела твоего папа очень плохи. А твоя maman? Это убьет ее, раз. Потом Софи, ежели она девушка с сердцем, какая жизнь для нее будет? Мать в отчаянии, дела расстроены… Нет, mon cher, ты и Софи должны понять это.
Николай молчал. Ему приятно было слышать эти выводы.
– Все таки, ma tante, этого не может быть, – со вздохом сказал он, помолчав немного. – Да пойдет ли еще за меня княжна? и опять, она теперь в трауре. Разве можно об этом думать?
– Да разве ты думаешь, что я тебя сейчас и женю. Il y a maniere et maniere, [На все есть манера.] – сказала губернаторша.
– Какая вы сваха, ma tante… – сказал Nicolas, целуя ее пухлую ручку.
Приехав в Москву после своей встречи с Ростовым, княжна Марья нашла там своего племянника с гувернером и письмо от князя Андрея, который предписывал им их маршрут в Воронеж, к тетушке Мальвинцевой. Заботы о переезде, беспокойство о брате, устройство жизни в новом доме, новые лица, воспитание племянника – все это заглушило в душе княжны Марьи то чувство как будто искушения, которое мучило ее во время болезни и после кончины ее отца и в особенности после встречи с Ростовым. Она была печальна. Впечатление потери отца, соединявшееся в ее душе с погибелью России, теперь, после месяца, прошедшего с тех пор в условиях покойной жизни, все сильнее и сильнее чувствовалось ей. Она была тревожна: мысль об опасностях, которым подвергался ее брат – единственный близкий человек, оставшийся у нее, мучила ее беспрестанно. Она была озабочена воспитанием племянника, для которого она чувствовала себя постоянно неспособной; но в глубине души ее было согласие с самой собою, вытекавшее из сознания того, что она задавила в себе поднявшиеся было, связанные с появлением Ростова, личные мечтания и надежды.
Когда на другой день после своего вечера губернаторша приехала к Мальвинцевой и, переговорив с теткой о своих планах (сделав оговорку о том, что, хотя при теперешних обстоятельствах нельзя и думать о формальном сватовстве, все таки можно свести молодых людей, дать им узнать друг друга), и когда, получив одобрение тетки, губернаторша при княжне Марье заговорила о Ростове, хваля его и рассказывая, как он покраснел при упоминании о княжне, – княжна Марья испытала не радостное, но болезненное чувство: внутреннее согласие ее не существовало более, и опять поднялись желания, сомнения, упреки и надежды.
В те два дня, которые прошли со времени этого известия и до посещения Ростова, княжна Марья не переставая думала о том, как ей должно держать себя в отношении Ростова. То она решала, что она не выйдет в гостиную, когда он приедет к тетке, что ей, в ее глубоком трауре, неприлично принимать гостей; то она думала, что это будет грубо после того, что он сделал для нее; то ей приходило в голову, что ее тетка и губернаторша имеют какие то виды на нее и Ростова (их взгляды и слова иногда, казалось, подтверждали это предположение); то она говорила себе, что только она с своей порочностью могла думать это про них: не могли они не помнить, что в ее положении, когда еще она не сняла плерезы, такое сватовство было бы оскорбительно и ей, и памяти ее отца. Предполагая, что она выйдет к нему, княжна Марья придумывала те слова, которые он скажет ей и которые она скажет ему; и то слова эти казались ей незаслуженно холодными, то имеющими слишком большое значение. Больше же всего она при свидании с ним боялась за смущение, которое, она чувствовала, должно было овладеть ею и выдать ее, как скоро она его увидит.
Но когда, в воскресенье после обедни, лакей доложил в гостиной, что приехал граф Ростов, княжна не выказала смущения; только легкий румянец выступил ей на щеки, и глаза осветились новым, лучистым светом.
– Вы его видели, тетушка? – сказала княжна Марья спокойным голосом, сама не зная, как это она могла быть так наружно спокойна и естественна.
Когда Ростов вошел в комнату, княжна опустила на мгновенье голову, как бы предоставляя время гостю поздороваться с теткой, и потом, в самое то время, как Николай обратился к ней, она подняла голову и блестящими глазами встретила его взгляд. Полным достоинства и грации движением она с радостной улыбкой приподнялась, протянула ему свою тонкую, нежную руку и заговорила голосом, в котором в первый раз звучали новые, женские грудные звуки. M lle Bourienne, бывшая в гостиной, с недоумевающим удивлением смотрела на княжну Марью. Самая искусная кокетка, она сама не могла бы лучше маневрировать при встрече с человеком, которому надо было понравиться.
«Или ей черное так к лицу, или действительно она так похорошела, и я не заметила. И главное – этот такт и грация!» – думала m lle Bourienne.
Ежели бы княжна Марья в состоянии была думать в эту минуту, она еще более, чем m lle Bourienne, удивилась бы перемене, происшедшей в ней. С той минуты как она увидала это милое, любимое лицо, какая то новая сила жизни овладела ею и заставляла ее, помимо ее воли, говорить и действовать. Лицо ее, с того времени как вошел Ростов, вдруг преобразилось. Как вдруг с неожиданной поражающей красотой выступает на стенках расписного и резного фонаря та сложная искусная художественная работа, казавшаяся прежде грубою, темною и бессмысленною, когда зажигается свет внутри: так вдруг преобразилось лицо княжны Марьи. В первый раз вся та чистая духовная внутренняя работа, которою она жила до сих пор, выступила наружу. Вся ее внутренняя, недовольная собой работа, ее страдания, стремление к добру, покорность, любовь, самопожертвование – все это светилось теперь в этих лучистых глазах, в тонкой улыбке, в каждой черте ее нежного лица.
Ростов увидал все это так же ясно, как будто он знал всю ее жизнь. Он чувствовал, что существо, бывшее перед ним, было совсем другое, лучшее, чем все те, которые он встречал до сих пор, и лучшее, главное, чем он сам.
Разговор был самый простой и незначительный. Они говорили о войне, невольно, как и все, преувеличивая свою печаль об этом событии, говорили о последней встрече, причем Николай старался отклонять разговор на другой предмет, говорили о доброй губернаторше, о родных Николая и княжны Марьи.
Княжна Марья не говорила о брате, отвлекая разговор на другой предмет, как только тетка ее заговаривала об Андрее. Видно было, что о несчастиях России она могла говорить притворно, но брат ее был предмет, слишком близкий ее сердцу, и она не хотела и не могла слегка говорить о нем. Николай заметил это, как он вообще с несвойственной ему проницательной наблюдательностью замечал все оттенки характера княжны Марьи, которые все только подтверждали его убеждение, что она была совсем особенное и необыкновенное существо. Николай, точно так же, как и княжна Марья, краснел и смущался, когда ему говорили про княжну и даже когда он думал о ней, но в ее присутствии чувствовал себя совершенно свободным и говорил совсем не то, что он приготавливал, а то, что мгновенно и всегда кстати приходило ему в голову.
Во время короткого визита Николая, как и всегда, где есть дети, в минуту молчания Николай прибег к маленькому сыну князя Андрея, лаская его и спрашивая, хочет ли он быть гусаром? Он взял на руки мальчика, весело стал вертеть его и оглянулся на княжну Марью. Умиленный, счастливый и робкий взгляд следил за любимым ею мальчиком на руках любимого человека. Николай заметил и этот взгляд и, как бы поняв его значение, покраснел от удовольствия и добродушно весело стал целовать мальчика.
Княжна Марья не выезжала по случаю траура, а Николай не считал приличным бывать у них; но губернаторша все таки продолжала свое дело сватовства и, передав Николаю то лестное, что сказала про него княжна Марья, и обратно, настаивала на том, чтобы Ростов объяснился с княжной Марьей. Для этого объяснения она устроила свиданье между молодыми людьми у архиерея перед обедней.
Хотя Ростов и сказал губернаторше, что он не будет иметь никакого объяснения с княжной Марьей, но он обещался приехать.
Как в Тильзите Ростов не позволил себе усомниться в том, хорошо ли то, что признано всеми хорошим, точно так же и теперь, после короткой, но искренней борьбы между попыткой устроить свою жизнь по своему разуму и смиренным подчинением обстоятельствам, он выбрал последнее и предоставил себя той власти, которая его (он чувствовал) непреодолимо влекла куда то. Он знал, что, обещав Соне, высказать свои чувства княжне Марье было бы то, что он называл подлость. И он знал, что подлости никогда не сделает. Но он знал тоже (и не то, что знал, а в глубине души чувствовал), что, отдаваясь теперь во власть обстоятельств и людей, руководивших им, он не только не делает ничего дурного, но делает что то очень, очень важное, такое важное, чего он еще никогда не делал в жизни.
После его свиданья с княжной Марьей, хотя образ жизни его наружно оставался тот же, но все прежние удовольствия потеряли для него свою прелесть, и он часто думал о княжне Марье; но он никогда не думал о ней так, как он без исключения думал о всех барышнях, встречавшихся ему в свете, не так, как он долго и когда то с восторгом думал о Соне. О всех барышнях, как и почти всякий честный молодой человек, он думал как о будущей жене, примеривал в своем воображении к ним все условия супружеской жизни: белый капот, жена за самоваром, женина карета, ребятишки, maman и papa, их отношения с ней и т. д., и т. д., и эти представления будущего доставляли ему удовольствие; но когда он думал о княжне Марье, на которой его сватали, он никогда не мог ничего представить себе из будущей супружеской жизни. Ежели он и пытался, то все выходило нескладно и фальшиво. Ему только становилось жутко.
