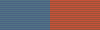Сэмюэл, Герберт Луис
| Герберт Луис Сэмюэл Herbert Louis Samuel<tr><td colspan="2" style="text-align: center; border-top: solid darkgray 1px;">  </td></tr> </td></tr>
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 1937 — 1963 | ||||
| Предшественник: | Титул учреждён | |||
| Преемник: | Эдвин Сэмюэл | |||
| ||||
| 14 февраля 1910 — 11 февраля 1914 | ||||
| Глава правительства: | Г. Г. Асквит | |||
| Монарх: | Георг V | |||
| Предшественник: | Сидней Бакстон | |||
| Преемник: | Чарльз Хобхауз | |||
| ||||
| 25 мая 1915 — 10 января 1916 | ||||
| Глава правительства: | Г. Г. Асквит | |||
| Монарх: | Георг V | |||
| Предшественник: | Чарльз Хобхауз | |||
| Преемник: | Джозеф Пиз | |||
| ||||
| 12 января 1916 — 7 декабря 1916 | ||||
| Глава правительства: | Г. Г. Асквит | |||
| Монарх: | Георг V | |||
| Предшественник: | Джон Саймон | |||
| Преемник: | Джордж Кейв | |||
| ||||
| 1 июля 1920 — 30 июня 1925 | ||||
| Монарх: | Георг V | |||
| Предшественник: | Должность учреждена | |||
| Преемник: | Герберт Онслоу Пламер | |||
| ||||
| 26 августа 1931 — 1 октября 1932 | ||||
| Глава правительства: | Джеймс Рамсей Макдональд | |||
| Монарх: | Георг V | |||
| Предшественник: | Джон Клайнс | |||
| Преемник: | Джон Гилмор | |||
| Рождение: | 6 ноября 1870 Ливерпуль, Великобритания | |||
| Смерть: | 5 февраля 1963 (92 года) Лондон | |||
| Место погребения: | Уиллесден, Брент, Лондон | |||
| Отец: | Эдвин Луис (Менахем) Сэмюэл | |||
| Мать: | Клара Сэмюэл | |||
| Супруга: | Беатрис Мириам Франклин | |||
| Дети: | Эдвин Герберт Филипп Эллис Герберт Годфри Герберт Нэнси Аделаида | |||
| Партия: | Либеральная партия | |||
| Награды: |
| |||
Герберт Луис Сэмюэл GCB OM PC, 1-й виконт Сэмюэл (англ. Herbert Louis Samuel, 1st Viscout Samuel; 6 ноября 1870 — 5 февраля 1963, Лондон) — британский политический деятель, первый Верховный комиссар Палестины.
Содержание
Биография
Детство и юность
Герберт Луис Сэмюэл родился в конце 1870 года в семье Эдвина (Менахема) и Клары Сэмюэл. Его отец и дядя возглавляли одну из крупнейших британских финансовых компаний Samuel and Montegu и приходились родственниками баронам Ротшильдам[1]. Вскоре после рождения Герберта семья, в которой в общей сложности было пятеро детей, перебралась в Лондон, где Герберт рос в кругу состоятельных британских евреев. Когда ему было семь лет, умер его отец, и воспитанием мальчика занималась мать — ультраортодоксальная еврейка. Позже влияние на взгляды Герберта начал оказывать его дядя Сэмюэл Монтегю — также верующий еврей, однако значительно менее жёсткого толка, и деятель Либеральной партии. Учёба в Баллиол-колледже Оксфордского университета, оконченном в 1893 году, окончательно сформировала взгляды молодого Сэмюэла как левого либерала, мало интересующегося религией, зато со значительными политическими амбициями. Уже в 18 лет он стал членом Либеральной партии.
С середины 1890-х годов Герберт Сэмюэл активно занялся политикой. В 1895 и 1900 годах он баллотировался в Палату общин от Южного Оксфордшира, но дважды подряд проиграл выборы. В промежутке между кампаниями в 1897 году он женился на Беатрис Франклин — ещё одной представительнице замкнутого общества влиятельных британских евреев.
В 1902 году вышла книга Сэмюэла «Либерализм», где он попытался сформулировать основные идеи своей партии. В частности, он писал:Государство обязано обеспечить всем своим гражданам и всем, на чью жизнь оно может влиять, максимальные возможности для лучшей жизни[1].Оригинальный текст (англ.)It is the duty of the State to secure to all its members, and all others whom it can influence, the fullest possible opportunity to lead the best life
Теоретическая работа Сэмюэла не осталась незамеченной лидерами британских либералов. С поддержкой Либеральной партии он выиграл выборы 1902 года и стал членом парламента от графства Кливленд, где его основным электоратом были шахтёры и заводские рабочие.
Политическая карьера в преддверии и в течение Первой мировой войны
Вскоре после избрания в парламент Сэмюэл составил себе репутацию талантливого оратора. Не будучи харизматичным, он при этом обладал даром убеждения, умел обосновать свою позицию логически и отличался вниманием к деталям[1]. Эти способности стали для него пропуском на административные должности в правительствах, формируемых Либеральной партией.
В 1905 году Сэмюэл был назначен заместителем министра внутренних дел. Его сферой деятельности стала подготовка социальных реформ, и он в частности отвечал за законопроекты о помощи нуждающимся детям, защите прав рабочих, регуляции иммиграции и реформе пенитециарной системы для малолетних преступников (так называемый Детский закон). В 1908 году Сэмюэл был включён в состав Тайного совета[2], а в 1909 году стал членом кабинета Асквита, получив один из наименее важных постов министерского уровня — канцлера герцогства Ланкастерского. Это назначение сделало его первым в истории членом правительственного кабинета Великобритании еврейского вероисповедания[1][3]. В 1910 году он получил более ответственное министерское назначение, став Генерал-почтмейстером. Во время пребывания Сэмюэла на этом посту он провёл ряд реформ почтового ведомства, направленных на увеличение его эффективности. В этот период в Великобритании впервые появляется авиапочта и осуществляется национализация телефонной связи, перешедшей в ведение почтового ведомства. В 1913 году его имя оказалось в центре коррупционного скандала после того, как он, вместе с рядом других ведущих политиков (включая Генерального прокурора Руфуса Айзекса), приобрёл акции компании Marconi накануне получения ею выгодного правительственного заказа и через некоторое время прибыльно их продал. В результате последовавшего судебного процесса все обвинения против него были сняты[4].
В 1914 году Сэмюэл был назначен секретарём Совета местного управления; в его ведении оказались вопросы налогообложения, социального законодательства и здравоохранения. На этом посту он встретил мировую войну, в ходе которой также был сначала возвращён на пост Генерал-почтмейстера, а позже возглавлял Хоум-офис. Среди проектов, осуществлённых им в этот период, было создание системы приёма и адаптации беженцев. К этому же времени относится и начало его увлечения идеями сионизма. Он поставил вопрос о создании еврейского государства в Палестине сначала перед Дэвидом Ллойд-Джорджем, а затем перед министром иностранных дел Греем, получив от обоих положительные отзывы. В 1915 году Сэмюэл распространил среди членов кабинета меморандум, предлагающий введение британского протектората над Палестиной, целью которого стало бы поощрение еврейского заселения этого региона, формирование еврейского большинства среди его населения и в итоге учреждение еврейского самоуправления под эгидой Великобритании. Проект на этом этапе был отклонён ввиду противодействия премьер-министра Асквита[3]. Усилия Сэмюэла и других видных сионистских деятелей тем не менее привели в 1917 году к созданию документа, известного как Декларация Бальфура и выражающего положительное отношение британского правительства к учреждению в Палестине «национального дома для еврейского народа»[1].
На посту Верховного комиссара Палестины
После поражения либералов на очередных выборах Сэмюэл потерял свой министерский пост, но продолжал занимать важные должности в почтовом ведомстве и Хоум-офисе вплоть до 1920 года. В 1920 году он был возведён в рыцарское звание, став рыцарем Большого креста ордена Британской империи, и был назначен первым Верховным комиссаром Палестины, ответственным за управление территорией, на которую Великобритания получила мандат от Лиги Наций. Будучи горячим сторонником создания в Палестине еврейского государства и личным другом председателя Всемирной сионистской организации Хаима Вейцмана, Сэмюэл в то же время был решительным противником насилия в том числе и против арабского населения Палестины и убеждённым апологетом решения трений путём переговоров.
 Сэмюэл прибыл в Палестину 30 июля 1920 года. К этому моменту на правительственном уровне было принято решение о выделении из мандатной территории эмирата Трансиордания, и Верховному комиссару пришлось немедленно заниматься не только урегулированием вопросов границ с французскими мандатными территориями в Сирии и Ливане, но и обеспечением стабильности режимов в Трансиордании и Ираке. В первые же месяцы на посту он также столкнулся с нехваткой средств, необходимых для еврейской колонизации земель Палестины (эти фонды предполагалось пополнять за счёт пожертвований от богатых евреев за рубежом), а несколько позже, в 1921 году, — с ожесточённым сопротивлением еврейской иммиграции и колонизации со стороны палестинских арабов. В мае 1921 года в ходе вспыхнувших в Яффе беспорядков погибли около сотни евреев и арабов, что вскоре повлекло за собой стратегическое решение об ограничении еврейской иммиграции, объём которой был поставлен в соответствие с «экономической ёмкостью» страны. Для решения вопросов сосуществования арабского и еврейского населения при Верховном комиссаре был создан совещательный совет, в который, помимо десяти мандатных чиновников, входили представители трёх секторов населения: мусульманского, христианского (по три человека) и еврейского (четыре человека). После двух лет работы, однако, мусульманские представители отказались от дальнейшего сотрудничества. Еврейская поддержка Сэмюэла также растаяла, когда он согласился на ограничение въезда новых иммигрантов, а назначение им в качестве Иерусалимского муфтия одного из наиболее влиятельных националистов — Хаджа Амина аль-Хусейни — вместо решения проблем противостояния привело к их углублению. В Верховном комиссаре разочаровались не только радикальные еврейские националисты во главе с Жаботинским, но и руководство сионистов-социалистов. При этом, несмотря на напряжённость, Сэмюэлу удалось предотвратить до момента передачи полномочий в 1925 году повторение яффских погромов, а еврейское население Палестины выросло с 55 тысяч человек в 1919 году до 108 тысяч в 1925 году. Британские власти официально признали ряд еврейских структур в Палестине — в частности, Верховный раввинат, — а одним из трёх официальных языков мандатной Палестины стал иврит. Значительные успехи были также достигнуты в судебной сфере, образовании и здравоохранении, в работе санитарных служб и связи[3].
Сэмюэл прибыл в Палестину 30 июля 1920 года. К этому моменту на правительственном уровне было принято решение о выделении из мандатной территории эмирата Трансиордания, и Верховному комиссару пришлось немедленно заниматься не только урегулированием вопросов границ с французскими мандатными территориями в Сирии и Ливане, но и обеспечением стабильности режимов в Трансиордании и Ираке. В первые же месяцы на посту он также столкнулся с нехваткой средств, необходимых для еврейской колонизации земель Палестины (эти фонды предполагалось пополнять за счёт пожертвований от богатых евреев за рубежом), а несколько позже, в 1921 году, — с ожесточённым сопротивлением еврейской иммиграции и колонизации со стороны палестинских арабов. В мае 1921 года в ходе вспыхнувших в Яффе беспорядков погибли около сотни евреев и арабов, что вскоре повлекло за собой стратегическое решение об ограничении еврейской иммиграции, объём которой был поставлен в соответствие с «экономической ёмкостью» страны. Для решения вопросов сосуществования арабского и еврейского населения при Верховном комиссаре был создан совещательный совет, в который, помимо десяти мандатных чиновников, входили представители трёх секторов населения: мусульманского, христианского (по три человека) и еврейского (четыре человека). После двух лет работы, однако, мусульманские представители отказались от дальнейшего сотрудничества. Еврейская поддержка Сэмюэла также растаяла, когда он согласился на ограничение въезда новых иммигрантов, а назначение им в качестве Иерусалимского муфтия одного из наиболее влиятельных националистов — Хаджа Амина аль-Хусейни — вместо решения проблем противостояния привело к их углублению. В Верховном комиссаре разочаровались не только радикальные еврейские националисты во главе с Жаботинским, но и руководство сионистов-социалистов. При этом, несмотря на напряжённость, Сэмюэлу удалось предотвратить до момента передачи полномочий в 1925 году повторение яффских погромов, а еврейское население Палестины выросло с 55 тысяч человек в 1919 году до 108 тысяч в 1925 году. Британские власти официально признали ряд еврейских структур в Палестине — в частности, Верховный раввинат, — а одним из трёх официальных языков мандатной Палестины стал иврит. Значительные успехи были также достигнуты в судебной сфере, образовании и здравоохранении, в работе санитарных служб и связи[3].
Дальнейшая карьера
 Вернувшись на родину, Сэмюэл рассчитывал посвятить своё время философии и творчеству, но обстоятельства заставили его немедленно включиться в политический процесс в качестве посредника между рабочими угольной промышленности, шахтовладельцами и правительством. В июле 1926 года он был возведён в достоинство рыцаря Большого креста ордена Бани за роль, сыгранную в разрешении кризиса в угольной промышленности и прекращении всеобщей забастовки[5].
Вернувшись на родину, Сэмюэл рассчитывал посвятить своё время философии и творчеству, но обстоятельства заставили его немедленно включиться в политический процесс в качестве посредника между рабочими угольной промышленности, шахтовладельцами и правительством. В июле 1926 года он был возведён в достоинство рыцаря Большого креста ордена Бани за роль, сыгранную в разрешении кризиса в угольной промышленности и прекращении всеобщей забастовки[5].
Поддерживая тесные контакты с лейбористским руководством (в частности, Беатрисой и Сиднеем Веббом[6]), в конце десятилетия Сэмюэл тем не менее вернулся в парламент как депутат от Либеральной партии. В последующее десятилетие он оставался одним из лидеров партии, занимая по ходу ряд правительственных должностей (в частности, пост министра внутренних дел в 1931—1932 годах в кабинете Дж. Р. Макдональда, из которого вышел из-за несогласия с протекционистской линией правительства[6]). До поражения на выборах 1935 года, не занимая министерских постов, он оставался лидером либеральной фракции в Палате общин. В 1937 году ему был пожалован титул виконта, и в 1944—1955 годах он был лидером поредевшей либеральной фракции в Палате лордов.
Помимо правительственных и парламентских постов, Сэмюэл занимал ряд высоких общественных должностей. В частности, оставаясь сторонником сионизма, он в 1936 году был назначен председателем правления Палестинской электрической компании, входил в попечительский совет Еврейского университета в Иерусалиме. После ухода из активной политики он написал несколько философских работ:
- «Практическая этика» (1935)
- «Философия на каждый день: убеждение и действие» (1937)
- «Человек-творец» (1949)
- «Физические очерки» (1951)
- «В поисках реальности» (1957)
В 1945 году вышли также его мемуары. Герберт Сэмюэл скончался в Лондоне в феврале 1963 года, на 93-м году жизни. Титул виконта Самуэля унаследовал его старший сын Эдвин.
Оценки деятельности
Сэмюэл, противоречивый политик, пытавшийся объединить в проводимой линии британские имперские интересы, либерализм и симпатии к сионизму, был при жизни отмечен высокими британскими наградами, включавшими орден Бани и орден Заслуг. В то же время исследователи деятельности этого идеолога и практика «нового либерализма» после смерти удостаивают его достаточно разных оценок, в основном не столь восторженных. Так, его социальная политика в метрополии получила от одного из комментаторов в Sunday Times такую оценку:Если его и помнят сегодня, то только благодаря вороху реформаторских парламентских биллей,... в которых ему никогда не удавалось поднять взгляд намного выше уровня социальной инженерии. Ему не хватало обязательного атрибута успешного радикального политика — чувства возмущения[2].Оригинальный текст (англ.)If he is remembered at all today, it is probably for leaving behind him a pile of reforming acts of parliament... never quite able to raise his eyes above the level of being a social engineer. He lacked the one attribute necessary to any successful radical politician, a sense of outrage.
В традиционной сионистской историографии осторожная политика Сэмюэла в Палестине рассматривается как отступление от принципов Декларации Бальфура и заискивание перед радикальными арабскими элементами. В то же время в работах израильских «новых историков» и арабских исследованиях, посвящённых британскому мандату в Палестине, он изображается радикальным сионистом, последовательно поддерживавшим евреев и ущемлявшим интересы арабского населения, для вида заигрывая с его вождями. В действительности, как пишет биограф Сэмюэла Бернард Вассерстейн, ни та, ни другая сторона не представляют в своих публикациях полной картины и не отражают политических и идеологических противоречий в деятельности первого Верховного комиссара Палестины[7].
Напишите отзыв о статье "Сэмюэл, Герберт Луис"
Примечания
- ↑ 1 2 3 4 5 [www.highbeam.com/doc/1G2-3447800058.html Herbert Louis Samuel]. Middle East Conflict Reference Library (January 1, 2006). Проверено 29 октября 2012. [www.webcitation.org/6DFpe20yw Архивировано из первоисточника 28 декабря 2012].
- ↑ 1 2 Stanley Martin. Men of affairs // [books.google.ca/books?id=zWVscq9SdgYC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false The Order of Merit, 1902-2002: One Hundred Years of Honour]. — London, New York: I. B. Tauris & Co., 2007. — P. 392. — ISBN 978-1-86064-848-9.
- ↑ 1 2 3 [www.eleven.co.il/article/13991 Сэмюэл Герберт Луи] — статья из Электронной еврейской энциклопедии
- ↑ Stephanie Chasin. [books.google.ca/books?id=Aabj_oBCsrMC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false Citizens of Empire: Jews in the Service of the British Empire, 1906—1940]. — University of California, 2008. — P. 86—88. — ISBN 1109022271.
- ↑ [trove.nla.gov.au/ndp/del/article/54860803 Honoured by the King]. The Register (Adelaide) (5 July 1926). — «The distinction of Knight Grand Cross of the Bath has been conferred upon Sir Herbert Samuel, who was Chairman of the Coal Commission, and who formulated a scheme which formed a basis of the discussion to settle the recent strike.» Проверено 30 октября 2012. [www.webcitation.org/6DFpehVIr Архивировано из первоисточника 28 декабря 2012].
- ↑ 1 2 Keith Laybourn. Samuel, sir Herbert // [books.google.ca/books?id=IolLcc5htJoC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false British Political Leaders: A Biographical Dictionary]. — Santa-Barbara, CA: ABC-CLIO, 2001. — P. 291-293. — ISBN 1-57607-570-2.
- ↑ Renton, James. [www.questia.com/read/1P3-1023187501/a-broken-trust-herbert-samuel-zionism-and-the-palestinians A Broken Trust; Herbert Samuel, Zionism and the Palestinians, by Sahar Huneidi] // Shofar. — 2003. — Vol. 21, № 3. — P. 197—200. — DOI:10.1353/sho.2003.0029.
Литература
- Keith Laybourn. Samuel, sir Herbert // [books.google.ca/books?id=IolLcc5htJoC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false British Political Leaders: A Biographical Dictionary]. — Santa-Barbara, CA: ABC-CLIO, 2001. — P. 291-293. — ISBN 1-57607-570-2.
- McTague, John J. [www.questia.com/read/1P3-68432732/modern-history-and-politics-ploughing-sand-british Modern History and Politics: Ploughing Sand: British Rule in Palestine 1917-1948] // The Middle East Journal. — Vol. 55, № 1.
- Bernard Wasserstein. Herbert Samuel: A Political Life. — Clarendon Press, 1992. — 444 p. — ISBN 978-0-19-822648-2.
Ссылки
- [www.eleven.co.il/article/13991 Сэмюэл Герберт Луи] — статья из Электронной еврейской энциклопедии
- [www.highbeam.com/doc/1G2-3447800058.html Herbert Louis Samuel]. Middle East Conflict Reference Library (January 1, 2006). Проверено 29 октября 2012. [www.webcitation.org/6DFpe20yw Архивировано из первоисточника 28 декабря 2012].
- [histfam.familysearch.org/getperson.php?personID=I446639&tree=JewsBritish Сэр Герберт Луис Сэмюэл] на сайте FamilySearch.org (англ.)
Отрывок, характеризующий Сэмюэл, Герберт Луис
Когда человек видит умирающее животное, ужас охватывает его: то, что есть он сам, – сущность его, в его глазах очевидно уничтожается – перестает быть. Но когда умирающее есть человек, и человек любимый – ощущаемый, тогда, кроме ужаса перед уничтожением жизни, чувствуется разрыв и духовная рана, которая, так же как и рана физическая, иногда убивает, иногда залечивается, но всегда болит и боится внешнего раздражающего прикосновения.
После смерти князя Андрея Наташа и княжна Марья одинаково чувствовали это. Они, нравственно согнувшись и зажмурившись от грозного, нависшего над ними облака смерти, не смели взглянуть в лицо жизни. Они осторожно берегли свои открытые раны от оскорбительных, болезненных прикосновений. Все: быстро проехавший экипаж по улице, напоминание об обеде, вопрос девушки о платье, которое надо приготовить; еще хуже, слово неискреннего, слабого участия болезненно раздражало рану, казалось оскорблением и нарушало ту необходимую тишину, в которой они обе старались прислушиваться к незамолкшему еще в их воображении страшному, строгому хору, и мешало вглядываться в те таинственные бесконечные дали, которые на мгновение открылись перед ними.
Только вдвоем им было не оскорбительно и не больно. Они мало говорили между собой. Ежели они говорили, то о самых незначительных предметах. И та и другая одинаково избегали упоминания о чем нибудь, имеющем отношение к будущему.
Признавать возможность будущего казалось им оскорблением его памяти. Еще осторожнее они обходили в своих разговорах все то, что могло иметь отношение к умершему. Им казалось, что то, что они пережили и перечувствовали, не могло быть выражено словами. Им казалось, что всякое упоминание словами о подробностях его жизни нарушало величие и святыню совершившегося в их глазах таинства.
Беспрестанные воздержания речи, постоянное старательное обхождение всего того, что могло навести на слово о нем: эти остановки с разных сторон на границе того, чего нельзя было говорить, еще чище и яснее выставляли перед их воображением то, что они чувствовали.
Но чистая, полная печаль так же невозможна, как чистая и полная радость. Княжна Марья, по своему положению одной независимой хозяйки своей судьбы, опекунши и воспитательницы племянника, первая была вызвана жизнью из того мира печали, в котором она жила первые две недели. Она получила письма от родных, на которые надо было отвечать; комната, в которую поместили Николеньку, была сыра, и он стал кашлять. Алпатыч приехал в Ярославль с отчетами о делах и с предложениями и советами переехать в Москву в Вздвиженский дом, который остался цел и требовал только небольших починок. Жизнь не останавливалась, и надо было жить. Как ни тяжело было княжне Марье выйти из того мира уединенного созерцания, в котором она жила до сих пор, как ни жалко и как будто совестно было покинуть Наташу одну, – заботы жизни требовали ее участия, и она невольно отдалась им. Она поверяла счеты с Алпатычем, советовалась с Десалем о племяннике и делала распоряжения и приготовления для своего переезда в Москву.
Наташа оставалась одна и с тех пор, как княжна Марья стала заниматься приготовлениями к отъезду, избегала и ее.
Княжна Марья предложила графине отпустить с собой Наташу в Москву, и мать и отец радостно согласились на это предложение, с каждым днем замечая упадок физических сил дочери и полагая для нее полезным и перемену места, и помощь московских врачей.
– Я никуда не поеду, – отвечала Наташа, когда ей сделали это предложение, – только, пожалуйста, оставьте меня, – сказала она и выбежала из комнаты, с трудом удерживая слезы не столько горя, сколько досады и озлобления.
После того как она почувствовала себя покинутой княжной Марьей и одинокой в своем горе, Наташа большую часть времени, одна в своей комнате, сидела с ногами в углу дивана, и, что нибудь разрывая или переминая своими тонкими, напряженными пальцами, упорным, неподвижным взглядом смотрела на то, на чем останавливались глаза. Уединение это изнуряло, мучило ее; но оно было для нее необходимо. Как только кто нибудь входил к ней, она быстро вставала, изменяла положение и выражение взгляда и бралась за книгу или шитье, очевидно с нетерпением ожидая ухода того, кто помешал ей.
Ей все казалось, что она вот вот сейчас поймет, проникнет то, на что с страшным, непосильным ей вопросом устремлен был ее душевный взгляд.
В конце декабря, в черном шерстяном платье, с небрежно связанной пучком косой, худая и бледная, Наташа сидела с ногами в углу дивана, напряженно комкая и распуская концы пояса, и смотрела на угол двери.
Она смотрела туда, куда ушел он, на ту сторону жизни. И та сторона жизни, о которой она прежде никогда не думала, которая прежде ей казалась такою далекою, невероятною, теперь была ей ближе и роднее, понятнее, чем эта сторона жизни, в которой все было или пустота и разрушение, или страдание и оскорбление.
Она смотрела туда, где она знала, что был он; но она не могла его видеть иначе, как таким, каким он был здесь. Она видела его опять таким же, каким он был в Мытищах, у Троицы, в Ярославле.
Она видела его лицо, слышала его голос и повторяла его слова и свои слова, сказанные ему, и иногда придумывала за себя и за него новые слова, которые тогда могли бы быть сказаны.
Вот он лежит на кресле в своей бархатной шубке, облокотив голову на худую, бледную руку. Грудь его страшно низка и плечи подняты. Губы твердо сжаты, глаза блестят, и на бледном лбу вспрыгивает и исчезает морщина. Одна нога его чуть заметно быстро дрожит. Наташа знает, что он борется с мучительной болью. «Что такое эта боль? Зачем боль? Что он чувствует? Как у него болит!» – думает Наташа. Он заметил ее вниманье, поднял глаза и, не улыбаясь, стал говорить.
«Одно ужасно, – сказал он, – это связать себя навеки с страдающим человеком. Это вечное мученье». И он испытующим взглядом – Наташа видела теперь этот взгляд – посмотрел на нее. Наташа, как и всегда, ответила тогда прежде, чем успела подумать о том, что она отвечает; она сказала: «Это не может так продолжаться, этого не будет, вы будете здоровы – совсем».
Она теперь сначала видела его и переживала теперь все то, что она чувствовала тогда. Она вспомнила продолжительный, грустный, строгий взгляд его при этих словах и поняла значение упрека и отчаяния этого продолжительного взгляда.
«Я согласилась, – говорила себе теперь Наташа, – что было бы ужасно, если б он остался всегда страдающим. Я сказала это тогда так только потому, что для него это было бы ужасно, а он понял это иначе. Он подумал, что это для меня ужасно бы было. Он тогда еще хотел жить – боялся смерти. И я так грубо, глупо сказала ему. Я не думала этого. Я думала совсем другое. Если бы я сказала то, что думала, я бы сказала: пускай бы он умирал, все время умирал бы перед моими глазами, я была бы счастлива в сравнении с тем, что я теперь. Теперь… Ничего, никого нет. Знал ли он это? Нет. Не знал и никогда не узнает. И теперь никогда, никогда уже нельзя поправить этого». И опять он говорил ей те же слова, но теперь в воображении своем Наташа отвечала ему иначе. Она останавливала его и говорила: «Ужасно для вас, но не для меня. Вы знайте, что мне без вас нет ничего в жизни, и страдать с вами для меня лучшее счастие». И он брал ее руку и жал ее так, как он жал ее в тот страшный вечер, за четыре дня перед смертью. И в воображении своем она говорила ему еще другие нежные, любовные речи, которые она могла бы сказать тогда, которые она говорила теперь. «Я люблю тебя… тебя… люблю, люблю…» – говорила она, судорожно сжимая руки, стискивая зубы с ожесточенным усилием.
И сладкое горе охватывало ее, и слезы уже выступали в глаза, но вдруг она спрашивала себя: кому она говорит это? Где он и кто он теперь? И опять все застилалось сухим, жестким недоумением, и опять, напряженно сдвинув брови, она вглядывалась туда, где он был. И вот, вот, ей казалось, она проникает тайну… Но в ту минуту, как уж ей открывалось, казалось, непонятное, громкий стук ручки замка двери болезненно поразил ее слух. Быстро и неосторожно, с испуганным, незанятым ею выражением лица, в комнату вошла горничная Дуняша.
– Пожалуйте к папаше, скорее, – сказала Дуняша с особенным и оживленным выражением. – Несчастье, о Петре Ильиче… письмо, – всхлипнув, проговорила она.
Кроме общего чувства отчуждения от всех людей, Наташа в это время испытывала особенное чувство отчуждения от лиц своей семьи. Все свои: отец, мать, Соня, были ей так близки, привычны, так будничны, что все их слова, чувства казались ей оскорблением того мира, в котором она жила последнее время, и она не только была равнодушна, но враждебно смотрела на них. Она слышала слова Дуняши о Петре Ильиче, о несчастии, но не поняла их.
«Какое там у них несчастие, какое может быть несчастие? У них все свое старое, привычное и покойное», – мысленно сказала себе Наташа.
Когда она вошла в залу, отец быстро выходил из комнаты графини. Лицо его было сморщено и мокро от слез. Он, видимо, выбежал из той комнаты, чтобы дать волю давившим его рыданиям. Увидав Наташу, он отчаянно взмахнул руками и разразился болезненно судорожными всхлипываниями, исказившими его круглое, мягкое лицо.
– Пе… Петя… Поди, поди, она… она… зовет… – И он, рыдая, как дитя, быстро семеня ослабевшими ногами, подошел к стулу и упал почти на него, закрыв лицо руками.
Вдруг как электрический ток пробежал по всему существу Наташи. Что то страшно больно ударило ее в сердце. Она почувствовала страшную боль; ей показалось, что что то отрывается в ней и что она умирает. Но вслед за болью она почувствовала мгновенно освобождение от запрета жизни, лежавшего на ней. Увидав отца и услыхав из за двери страшный, грубый крик матери, она мгновенно забыла себя и свое горе. Она подбежала к отцу, но он, бессильно махая рукой, указывал на дверь матери. Княжна Марья, бледная, с дрожащей нижней челюстью, вышла из двери и взяла Наташу за руку, говоря ей что то. Наташа не видела, не слышала ее. Она быстрыми шагами вошла в дверь, остановилась на мгновение, как бы в борьбе с самой собой, и подбежала к матери.
Графиня лежала на кресле, странно неловко вытягиваясь, и билась головой об стену. Соня и девушки держали ее за руки.
– Наташу, Наташу!.. – кричала графиня. – Неправда, неправда… Он лжет… Наташу! – кричала она, отталкивая от себя окружающих. – Подите прочь все, неправда! Убили!.. ха ха ха ха!.. неправда!
Наташа стала коленом на кресло, нагнулась над матерью, обняла ее, с неожиданной силой подняла, повернула к себе ее лицо и прижалась к ней.
– Маменька!.. голубчик!.. Я тут, друг мой. Маменька, – шептала она ей, не замолкая ни на секунду.
Она не выпускала матери, нежно боролась с ней, требовала подушки, воды, расстегивала и разрывала платье на матери.
– Друг мой, голубушка… маменька, душенька, – не переставая шептала она, целуя ее голову, руки, лицо и чувствуя, как неудержимо, ручьями, щекоча ей нос и щеки, текли ее слезы.
Графиня сжала руку дочери, закрыла глаза и затихла на мгновение. Вдруг она с непривычной быстротой поднялась, бессмысленно оглянулась и, увидав Наташу, стала из всех сил сжимать ее голову. Потом она повернула к себе ее морщившееся от боли лицо и долго вглядывалась в него.
– Наташа, ты меня любишь, – сказала она тихим, доверчивым шепотом. – Наташа, ты не обманешь меня? Ты мне скажешь всю правду?
Наташа смотрела на нее налитыми слезами глазами, и в лице ее была только мольба о прощении и любви.
– Друг мой, маменька, – повторяла она, напрягая все силы своей любви на то, чтобы как нибудь снять с нее на себя излишек давившего ее горя.
И опять в бессильной борьбе с действительностью мать, отказываясь верить в то, что она могла жить, когда был убит цветущий жизнью ее любимый мальчик, спасалась от действительности в мире безумия.
Наташа не помнила, как прошел этот день, ночь, следующий день, следующая ночь. Она не спала и не отходила от матери. Любовь Наташи, упорная, терпеливая, не как объяснение, не как утешение, а как призыв к жизни, всякую секунду как будто со всех сторон обнимала графиню. На третью ночь графиня затихла на несколько минут, и Наташа закрыла глаза, облокотив голову на ручку кресла. Кровать скрипнула. Наташа открыла глаза. Графиня сидела на кровати и тихо говорила.
– Как я рада, что ты приехал. Ты устал, хочешь чаю? – Наташа подошла к ней. – Ты похорошел и возмужал, – продолжала графиня, взяв дочь за руку.
– Маменька, что вы говорите!..
– Наташа, его нет, нет больше! – И, обняв дочь, в первый раз графиня начала плакать.
Княжна Марья отложила свой отъезд. Соня, граф старались заменить Наташу, но не могли. Они видели, что она одна могла удерживать мать от безумного отчаяния. Три недели Наташа безвыходно жила при матери, спала на кресле в ее комнате, поила, кормила ее и не переставая говорила с ней, – говорила, потому что один нежный, ласкающий голос ее успокоивал графиню.
Душевная рана матери не могла залечиться. Смерть Пети оторвала половину ее жизни. Через месяц после известия о смерти Пети, заставшего ее свежей и бодрой пятидесятилетней женщиной, она вышла из своей комнаты полумертвой и не принимающею участия в жизни – старухой. Но та же рана, которая наполовину убила графиню, эта новая рана вызвала Наташу к жизни.
Душевная рана, происходящая от разрыва духовного тела, точно так же, как и рана физическая, как ни странно это кажется, после того как глубокая рана зажила и кажется сошедшейся своими краями, рана душевная, как и физическая, заживает только изнутри выпирающею силой жизни.
Так же зажила рана Наташи. Она думала, что жизнь ее кончена. Но вдруг любовь к матери показала ей, что сущность ее жизни – любовь – еще жива в ней. Проснулась любовь, и проснулась жизнь.
Последние дни князя Андрея связали Наташу с княжной Марьей. Новое несчастье еще более сблизило их. Княжна Марья отложила свой отъезд и последние три недели, как за больным ребенком, ухаживала за Наташей. Последние недели, проведенные Наташей в комнате матери, надорвали ее физические силы.
Однажды княжна Марья, в середине дня, заметив, что Наташа дрожит в лихорадочном ознобе, увела ее к себе и уложила на своей постели. Наташа легла, но когда княжна Марья, опустив сторы, хотела выйти, Наташа подозвала ее к себе.
– Мне не хочется спать. Мари, посиди со мной.
– Ты устала – постарайся заснуть.
– Нет, нет. Зачем ты увела меня? Она спросит.
– Ей гораздо лучше. Она нынче так хорошо говорила, – сказала княжна Марья.
Наташа лежала в постели и в полутьме комнаты рассматривала лицо княжны Марьи.
«Похожа она на него? – думала Наташа. – Да, похожа и не похожа. Но она особенная, чужая, совсем новая, неизвестная. И она любит меня. Что у ней на душе? Все доброе. Но как? Как она думает? Как она на меня смотрит? Да, она прекрасная».
– Маша, – сказала она, робко притянув к себе ее руку. – Маша, ты не думай, что я дурная. Нет? Маша, голубушка. Как я тебя люблю. Будем совсем, совсем друзьями.
И Наташа, обнимая, стала целовать руки и лицо княжны Марьи. Княжна Марья стыдилась и радовалась этому выражению чувств Наташи.
С этого дня между княжной Марьей и Наташей установилась та страстная и нежная дружба, которая бывает только между женщинами. Они беспрестанно целовались, говорили друг другу нежные слова и большую часть времени проводили вместе. Если одна выходила, то другаябыла беспокойна и спешила присоединиться к ней. Они вдвоем чувствовали большее согласие между собой, чем порознь, каждая сама с собою. Между ними установилось чувство сильнейшее, чем дружба: это было исключительное чувство возможности жизни только в присутствии друг друга.
Иногда они молчали целые часы; иногда, уже лежа в постелях, они начинали говорить и говорили до утра. Они говорили большей частию о дальнем прошедшем. Княжна Марья рассказывала про свое детство, про свою мать, про своего отца, про свои мечтания; и Наташа, прежде с спокойным непониманием отворачивавшаяся от этой жизни, преданности, покорности, от поэзии христианского самоотвержения, теперь, чувствуя себя связанной любовью с княжной Марьей, полюбила и прошедшее княжны Марьи и поняла непонятную ей прежде сторону жизни. Она не думала прилагать к своей жизни покорность и самоотвержение, потому что она привыкла искать других радостей, но она поняла и полюбила в другой эту прежде непонятную ей добродетель. Для княжны Марьи, слушавшей рассказы о детстве и первой молодости Наташи, тоже открывалась прежде непонятная сторона жизни, вера в жизнь, в наслаждения жизни.
Они всё точно так же никогда не говорили про него с тем, чтобы не нарушать словами, как им казалось, той высоты чувства, которая была в них, а это умолчание о нем делало то, что понемногу, не веря этому, они забывали его.
Наташа похудела, побледнела и физически так стала слаба, что все постоянно говорили о ее здоровье, и ей это приятно было. Но иногда на нее неожиданно находил не только страх смерти, но страх болезни, слабости, потери красоты, и невольно она иногда внимательно разглядывала свою голую руку, удивляясь на ее худобу, или заглядывалась по утрам в зеркало на свое вытянувшееся, жалкое, как ей казалось, лицо. Ей казалось, что это так должно быть, и вместе с тем становилось страшно и грустно.
Один раз она скоро взошла наверх и тяжело запыхалась. Тотчас же невольно она придумала себе дело внизу и оттуда вбежала опять наверх, пробуя силы и наблюдая за собой.
Другой раз она позвала Дуняшу, и голос ее задребезжал. Она еще раз кликнула ее, несмотря на то, что она слышала ее шаги, – кликнула тем грудным голосом, которым она певала, и прислушалась к нему.
Она не знала этого, не поверила бы, но под казавшимся ей непроницаемым слоем ила, застлавшим ее душу, уже пробивались тонкие, нежные молодые иглы травы, которые должны были укорениться и так застлать своими жизненными побегами задавившее ее горе, что его скоро будет не видно и не заметно. Рана заживала изнутри. В конце января княжна Марья уехала в Москву, и граф настоял на том, чтобы Наташа ехала с нею, с тем чтобы посоветоваться с докторами.
- Родившиеся 6 ноября
- Родившиеся в 1870 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Ливерпуле
- Умершие 5 февраля
- Умершие в 1963 году
- Умершие в Лондоне
- Похороненные в Лондоне
- Рыцари Большого креста ордена Бани
- Кавалеры британского ордена Заслуг
- Рыцари Большого Креста ордена Британской империи
- Министры внутренних дел Великобритании
- Канцлеры герцогства Ланкастерского
- Верховные комиссары Палестины