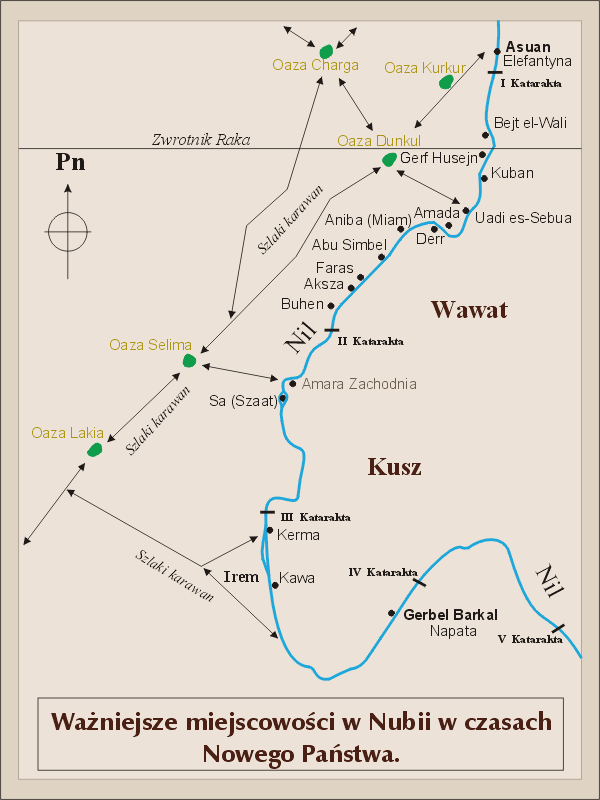Тутмос III
| Фараон Египта | |||||||||
| |||||||||
 Мраморный бюст фараона Тутмоса III | |||||||||
| Хронология |
| ||||||||
| | |||||||||
Ту́тмос III — фараон Древнего Египта из XVIII династии. Правил в XV веке до н. э. Сын Тутмоса II от наложницы Исиды.
Имя «Тутмос» (Thutmosis или Thutmoses) является древнегреческим вариантом произношения египетского имени Джехутимесу — «бог Тот рождён» (иногда переводится как «рождённый Тотом»). В качестве тронного Тутмос III использовал имя Менхеперра, которое передаётся в «Амарнских письменах» как «Манахбирия», или «Манахпирра».
Главная супруга Тутмоса III — Меритра Хатшепсут, их старший сын Аменхотеп стал впоследствии фараоном. Известны также 3 второстепенные жены Тутмоса III: Менхет, Менуи и Мерти. Их вещи были найдены в захоронении, почти не тронутом грабителями.
Содержание
- 1 Приход к власти и время соправительства с Хатшепсут
- 2 Имя
- 3 Памятники, повествующие о войнах Тутмоса в Азии
- 4 Первый поход Тутмоса
- 5 Дальнейшие военные кампании Тутмоса
- 6 Завоевания в Нубии
- 7 Значение походов Тутмоса
- 8 Внутренняя политика
- 9 Гробница
- 10 Итоги правления
- 11 Родословие Тутмоса III
- 12 Примечания
- 13 Фильмы
- 14 Литература
- 15 Ссылки
Приход к власти и время соправительства с Хатшепсут
Наследование в период XVIII династии осуществлялось по материнской линии, так что по рождению Тутмос III не мог претендовать на престол. Законная линия престолонаследия восходила к Хатшепсут — дочери Тутмоса I и сестре и, видимо, жене Тутмоса II.
Однако, не имеющий явных прав на престол, Тутмос III на одном из праздников в честь Амона был провозглашён фараоном оракулом Амона, якобы по воле бога. Видимо, это произошло из-за отсутствия других претендентов мужского пола на престол.
На 3-м году своего правления Тутмос воздвиг на месте древнего кирпичного храма Сенусерта III в Семне, южнее вторых порогов, новый храм из прекрасного нубийского песчаника, в котором он заботливо восстановил древнюю пограничную плиту Среднего царства, и возобновил декрет Сенусерта, обеспечивающий приношения храму путём постоянного дохода. При этом он ни одним словом не обмолвился в своей царской титулатуре, стоящей в начале дарственной надписи, о каком-либо соправительстве с Хатшепсут. Однако затем честолюбивая вдова Тутмоса II, вероятно, при активной поддержке фиванского жречества захватила всю реальную власть в свои руки и провозгласила себя фараоном (видимо, это произошло в конце 4-го года правления Тутмоса III).
После этого Тутмос практически полностью был отстранён от управления страной и почти не упоминается в документах до самой кончины царицы, случившейся в конце 20-го года формального правления Тутмоса.
Имя
| Тип имени | Иероглифическое написание | Транслитерация — Русскоязычная огласовка — Перевод | ||||||||||||||||||||||
|
Имена Тутмоса III до 21-го года правления | ||||||||||||||||||||||||
| «Хорово имя» (как Хор) |
|
|
kȝ-nḫt-ḫˁj-m-Wȝst — Ка-нехет-хаи-ме-Уасет — «Могущественный бык, появившийся в Фивах» | |||||||||||||||||||||
| «Небти имя» (как Господин двойного венца) |
|
|
wȝḥ-nsyt — Уах-несит — «С постоянной царской властью» | |||||||||||||||||||||
| «Золотое имя» (как Золотой Хор) |
|
|
ḏsr-ḫˁw — Джосер-хау — «Великолепный в появлениях» | |||||||||||||||||||||
| «Тронное имя» (как царь Верхнего и Нижнего Египта) |
|
|
mn-ḫpr-Rˁ — Мен-хепер-Ра — «Крепкое проявление Ра» | |||||||||||||||||||||
|
идентично предыдущему | |||||||||||||||||||||||
|
mn-ḫpr-kȝ-Rˁ — Мен-хепер-ка-Ра — «Крепкое проявление Души-Ка Ра» | |||||||||||||||||||||||
| «Личное имя» (как сын Ра) |
|
|
Ḏḥwtj msj(w) — Джехути-месу — «Рождённый Тотом» | |||||||||||||||||||||
|
идентично предыдущему | |||||||||||||||||||||||
|
Имена Тутмоса III после 21-го года правления | ||||||||||||||||||||||||
| «Хорово имя» (как Хор) |
|
|
kȝ-nḫt-ḫˁj-m-Wȝst — Ка-нехет-хаи-ме-Уасет — «Могущественный бык, появившийся в Фивах» | |||||||||||||||||||||
|
mry-Rˁ qȝj-ḥḏt | |||||||||||||||||||||||
|
qȝj-ḥḏt mrj-Rˁ | |||||||||||||||||||||||
|
mry-Rˁ | |||||||||||||||||||||||
|
kȝ-nḫt mrj-Rˁ — ка-нехет мери-Ра — «Могущественный бык, любимый Ра» | |||||||||||||||||||||||
|
идентично предыдущему | |||||||||||||||||||||||
|
kȝ-nḫt ḫˁj-m-Mȝˁt — ка-нехет хаи-ем-Маат — «Могущественный бык, явивший справедливость» | |||||||||||||||||||||||
|
идентично предыдущему | |||||||||||||||||||||||
|
идентично предыдущему | |||||||||||||||||||||||
| «Небти имя» (как Господин двойного венца) |
|
|
wȝḥ-nsyt-mj-Rˁ-m-pt — | |||||||||||||||||||||
|
sḫˁj-Mȝˁt mrj-tȝwj — | |||||||||||||||||||||||
|
ˁȝ-šfjt-m-tȝw-nb(w) — | |||||||||||||||||||||||
|
šzp-ˁnḫ-n-Jtm ḫpr-m-Ḫprj ḥtp-bȝw-Jwnw-ḥr-Mȝˁt.f — | |||||||||||||||||||||||
| «Золотое имя» (как Золотой Хор) |
|
|
ḏsr-ḫˁw sḫm-pḥtj — | |||||||||||||||||||||
|
sḫm-pḥtj ḏsr-ḫˁw — | |||||||||||||||||||||||
|
hrw-ḥr-nḫtw-ḥwj-ḥqȝw-ḫȝswt-pḥw-sw — | |||||||||||||||||||||||
|
hrw-ḥr-nḫtw — | |||||||||||||||||||||||
|
ˁȝ-ḫpš ḥwj-pḏt-9 — | |||||||||||||||||||||||
|
sˁr-Mȝˁt sḥtp-Rˁ — | |||||||||||||||||||||||
| «Тронное имя» (как царь Верхнего и Нижнего Египта) |
|
|
mn-ḫpr-Rˁ — Мен-хепер-Ра — «Крепкое проявление Ра» | |||||||||||||||||||||
|
mn-ḫpr-Rˁ jwˁ-Rˁ — | |||||||||||||||||||||||
|
mn-ḫpr-Rˁ jrj.n-Rˁ | |||||||||||||||||||||||
|
mn-ḫpr-Rˁ mrj.n-Rˁ | |||||||||||||||||||||||
|
mn-ḫpr-Rˁ stp.n-Rˁ | |||||||||||||||||||||||
|
mn-ḫpr-Rˁ sˁȝ.n-Rˁ | |||||||||||||||||||||||
|
mn-ḫpr-Rˁ nb-ḫpš | |||||||||||||||||||||||
|
mn-ḫpr-Rˁ nḫt-ḫpš | |||||||||||||||||||||||
|
mn-ḫpr-Rˁ tjt-Rˁ | |||||||||||||||||||||||
| «Личное имя» (как сын Ра) |
|
|
Ḏḥwtj-msj(w) — Джехути-месу — «Рождённый Тотом» | |||||||||||||||||||||
|
идентично предыдущему | |||||||||||||||||||||||
|
идентично предыдущему | |||||||||||||||||||||||
|
Ḏḥwtj-msj(w) nfr-ḫpr — | |||||||||||||||||||||||
|
Ḏḥwtj-msj(w) nfr-ḫprw — | |||||||||||||||||||||||
|
Ḏḥwtj-msj(w) zmȝ-ḫpr — | |||||||||||||||||||||||
|
Ḏḥwtj-msj(w) ḥqȝ-Mȝˁt — | |||||||||||||||||||||||
|
Ḏḥwtj-msj(w) ḥqȝ-Jwnw — | |||||||||||||||||||||||
|
Ḏḥwtj-msj(w) ḥqȝ-nṯrj — | |||||||||||||||||||||||
|
Ḏḥwtj-msj(w) ḥqȝ-Wȝst — | |||||||||||||||||||||||
|
Ḏḥwtj-msj(w) zȝ-Jtm-n-ḫt.f msj-nbt-Jwnt — | |||||||||||||||||||||||
Памятники, повествующие о войнах Тутмоса в Азии
После смерти Хатшепсут не осталось более прямых потомков фараона Яхмоса I, как по мужской, так и по женской линии, и Тутмос продолжил править без всяких препятствий уже единолично. Яростно преследуя память своей мачехи, он приказал уничтожить все её статуи, стесать её имя со стен храмов. Не было пощады и людям из окружения покойной царицы, и ранее умершим, как Сенмут, гробница которого была разрушена, и ещё живым[1]. Политическая жизнь страны резко изменилась. Опираясь, прежде всего, на войско и новую служилую знать, Тутмос приступил к активным завоеваниям. Молодой фараон был не только необычайно воинственным, но и очень сильным воином; он утверждал, что прострелил насквозь мишень из кованой меди толщиной в 3 пальца, так что стрела выходила сзади на 3 ладони.
О его сирийских победах рассказывают анналы, начертанные на стенах в Карнакском храме Амона и представляющие извлечения из подробных летописей, помещенных в храмовую библиотеку, о чём говорится определенно следующим образом:
«Все, что сделал его величество относительно города, относительно этого негодного врага-князя и его жалкого войска — увековечено в дневных записях под именем (соответствующего дня), под именем соответствующего похода. Этого слишком много, чтобы увековечить письмом в этой надписи — оно уже увековечено на кожаном свитке в храме Амона доныне».
По счастливой случайности, нам известен даже автор этих «анналов», что вообще до крайности редко в египетской литературе. В Шейх-абд-эль-Курна есть гробница вельможи, современника Тутмоса III, «царского писца» Танини (Чанини), который изображен на стенах её записывающим рекрутов, скот, подати и т. п. Он носит почетные титулы и говорит между прочим: «я следовал за благим богом, царём правды. Я видел победы; царя, одержанные им во всех странах, когда он пленял князей финикийских и уводил их в Египет, когда он грабил все города их и срезал деревья их, и никакая страна не могла устоять против него. Я увековечил победы, одержанные им во всех странах, на письме, сообразно совершенному…» Конечно, не может подлежать сомнению, что перед нами действительный автор летописи царских походов, может быть, не всех и не с самого их начала, так как встречаются упоминания о том, что он ещё при Тутмосе IV исполнял важные поручения.
- Сами анналы утрачены ещё в древности. То, чем мы располагаем, — это извлечение, сделанное из этих летописей, записанное на внутренней части стен перед святилищем храма Амона, и обходных коридоров, окружающих святилище. Все эти стены давно разрушены, разобраны, растасканы; из длинных надписей остались только отрывки на кусках стен, но тем не менее их достаточно, чтобы восстановить величественную летопись побед Тутмоса и составить общее понятие о тех обширных расстояниях, которые он прошёл со своим войском. Тексты Зала Анналов в Карнакском храме — это уникальный источник по военным действиям египтян в Азии эпохи Тутмоса III.
- Также сохранилась стела Джебель-Баркала — воспоминания Тутмоса III о своей первой азиатской кампании, когда египтяне достигли берегов «великой реки Нахарины», то есть Евфрата.
- Заслуживает внимания биография Аменемхеба по прозвищу Маху — красочное жизнеописание солдата войск Тутмоса III, участвовавшего в нескольких битвах и спасшего царя во время охоты на слонов.
В то время Сирию и Палестину населял великий союз народов единого происхождения, которых памятники называют общим именем «речену». Народы эти управлялись царьками, сидевшими в укреплённых городах. Между царьками особенно видную роль играл царь города Кинза (этот город более известен под своим египетским названием — Кадеш). Ему как вождю повиновались другие князья и их народы «от страны рек Нахарины (Месопотамии) до вод египетских».
К этому союзу народов речену присоединились и финикийцы, которые жили в приморской полосе, называемой египтянами Джахи; главным городом их был Арвад. К тому же союзу, видимо примкнули и хетты.
Первый поход Тутмоса
В конце 22-го года правления Тутмоса 19 апреля египетское войско, возглавляемое фараоном, из пограничной крепости Чару (греч. Силэ) выступило в свой первый за долгое время поход. Через 9 дней (28 апреля) Тутмос в Газе (Аззату) отметил свою 23-летнюю годовщину вступления на престол[1]. На 24-й день похода (14 мая) египетское войско достигло подножия хребта Кармель. По египетским сведениям, вся страна до крайнего севера была охвачена «восстанием на (то есть против) его величество». По ту сторону гор, в Ездраелонской долине, у города Мегиддо, египтян поджидало союзное войско сирийцев. «Триста тридцать» сиро-палестинских властителей, каждый со своим воинством решились совместно преградить здесь дорогу египетскому царю. Главой союза был властитель Кадеша на Оронте, сумевший поднять на борьбу с Египтом едва ли не всю Сирию-Палестину.
Наперекор уговорам своих сподвижников избрать обходный путь, Тутмос, не желая прослыть у врагов трусом, вышел к войскам противника, по наиболее трудной, но зато самой короткой дороге, прямо через ущелье, где при желании легко можно было уничтожить всё войско египтян. Это ущелье было такое узкое, что воины и кони вынуждены были двигаться по нему в колонну по одному, друг за другом, причём сам Тутмос возглавлял своих воинов. Неприятель, никак не ожидавший такой быстроты продвижения египтян, не успел перекрыть горные теснины и всё войско фараона беспрепятственно вышло на равнину перед городом. Столь странное поведение сирийцев объясняется, возможно, боязнью покинуть лагерь у города, за стены которого можно было укрыться в случае поражения.
В сражении, происшедшем на 26-й день похода (15 мая) коалиция мятежников была разбита, и вражеские воины и их полководцы бежали под охрану стен Мегиддо, побросав своих коней, свои колесницы и своё оружие[1]. Однако ворота города, в страхе перед египетскими воинами, оказались заперты и жители города были вынуждены поднимать своих беглецов на стены с помощью связанных одежд и верёвок. Хотя и царь Мегиддо и царь Кадеша смогли таким образом спастись, в плен попал сын царя Кадеша. Египтяне, однако, не смогли воспользоваться выгодным моментом и взять город с ходу, так как занялись собиранием брошенного противником снаряжения и оружия и грабежом покинутого им лагеря[1]. Египтяне захватили 3400 пленных, более 900 колесниц, более 2000 лошадей, царское имущество и множество скота.
Богатая добыча, захваченная египтянами в брошенном лагере, не произвела на фараона никакого впечатления — он обратился к своим солдатам с воодушевляющей речью, в которой доказал жизненную необходимость взятия Мегиддо: «Если бы вы вслед за этим взяли город, то я совершил бы сегодня (богатое приношение) Ра, потому что вожди каждой страны, которые восстали, заперты в этом городе и потому что пленение Мегиддо подобно взятию тысячи городов». Египтяне были вынуждены перейти к длительной осаде, в результате чего Мегиддо был обнесён египетской осадной стеной, получившей название «Менхеперра (тронное имя Тутмоса III), овладевший равниной азиатов». Осада города продолжалась довольно долго, так как египтяне успели собрать урожай на окрестных полях. За время осады к Тутмосу прибывали с данью правители сирийских городов, избежавшие окружения в Мегиддо. «И вот владетели этой страны приползли на своих животах поклониться славе его величества и вымолить дыхание своим ноздрям (то есть подарить им жизнь), потому что велика сила его руки и велика его власть. И простил фараон чужеземных царей».
За время первого похода Тутмос захватил также три города в Верхнем Речену: Инуаму, Иниугаса и Хуренкару (точное местонахождение которых неизвестно), где было захвачено ещё более двух с половиной тысяч пленных и огромные ценности в виде драгоценных металлов и искусных вещей. В довершение всего Тутмос заложил весьма сильную крепость в стране Ременен, он назвал «Мен-хепер-Ра связывающий варваров», причём он употребляет то же редкое слово для «варваров», которое Хатшепсут прилагает к гиксосам. Из этого видно, что Тутмос рассматримал свой поход против сирийских князей как продолжение войны с гиксосами, начатой его предком Яхмосом I. В свете этого становится понятным почему Манефон (в передаче Иосифа Флавия) приписывает победу над гиксосами Тутмосу III, которого он называет Мисфрагмуфосисом (от тронного имени Тутмоса — Менхеперра).
После чего Тутмос вернулся в Фивы, уведя с собой в Египет в качестве заложников старших сыновей царьков, выразивших ему покорность. Таким образом, Тутмос III дал начало практике, которой египетская администрация пользовалась на протяжении всего Нового царства, так как она одновременно и нейтрализировала возможность антиегипетских волнений, и обеспечивала лояльность к власти фараона местных правителей городов Восточного Средиземноморья, воспитанных при египетском дворе. На стене Третьего пилона сохранился почти полный список сирийско-палестинских городов, входящих в союз, разгромленный фараоном у Мегиддо. Список содержит 119 названий, включая такие известные города как Кадеш, Мегиддо, Хамат, Дамаск, Хацор, Акко, Берит, Иоппия, Афек, Таанах и многие другие. Тут же помещена надпись:
«Это описание жителей земли верхнего Рутену, которые взяты были в плен (буквально „пойманы“) в неприятельском городе Мегиддо. Его святейшество увёл детей их живыми пленными в город и крепость Сухен в Фивах, во время своего победоносного похода, как повелел ему отец его Амон, который руководит им по правому пути.»
Рассказ о первом походе Тутмоса III заканчивается изображением триумфа фараона, вернувшегося в Фивы со своим войском. В честь своей грандиозной победы Тутмос III устроил в столице три праздника, продолжавшиеся по 5 дней. В ходе этих праздников фараон щедро одарил своих военачальников и отличившихся солдат, а также храмы. В частности, во время главного 11-дневного праздника, посвященного Амону, — Опет, — Тутмос III передал храму Амона три захваченных в Южной Финикии города, а также обширные владения в самом Египте, на которых работали захваченные в Азии пленные.
Дальнейшие военные кампании Тутмоса
Второй-четвертый походы
В анналах Тутмоса ничего не сохранилось о 2, 3, 4-м походах. Видимо, в это время Тутмос укреплял свою власть над завоеванными территориями.
Пятый поход
На 29-м году своего правления Тутмос предпринял свой 5-й поход в Переднюю Азию. К этому времени сиро-финикийские княжества образовали новую антиегипетскую коалицию, в которой значительную роль стали играть как прибрежные финикийские города, так и города Северной Сирии, среди которых выдвинулся Тунип. С другой стороны, Египет, мобилизуя как свои собственные ресурсы, так и ресурсы завоеванных ранее областей Палестины и Южной Сирии (Хару и Нижнего Речену), стал готовиться к новой большой военной кампании в Передней Азии. Прекрасно понимая, что Египет никогда не сможет господствовать в Сирии, если он не встанет прочной ногой на финикийском побережье, Тутмос III организовал флот, задачей которого было покорение городов финикийского побережья и охрана морских коммуникаций, ведших из Финикии в Египет. Весьма возможно, что этим флотом командовал именно тот старый сподвижник не только Тутмоса III, но ещё и Тутмоса II, вельможа Небамон, которого Тутмос III назначил командиром «всех кораблей царя». Пятый поход Тутмоса III имел целью изолировать Кадеш от его сильных союзников на финикийском побережье и тем создать благоприятные условия для полной блокады и дальнейшего захвата Кадеша.
В настоящее время не представляется возможным отождествить название города Уарджет (Уарчет), который, как указывает летописец, был захвачен во время этого похода. Судя по дальнейшему тексту «Анналов», можно думать, что Уарджет был довольно крупным финикийским городом, так как в нём, по словам летописца, находился «склад жертв» и, очевидно, кроме того, святилище Амона-Хорахте, в котором фараон принёс жертвы фиванскому верховному богу. По-видимому, в этом большом финикийском городе находилась довольно значительная египетская колония. Имеются основания предполагать, что Уарчет находился сравнительно недалеко от Тунипа, и входил в сферу влияния этого крупного города Северной Сирии, так как фараон при занятии Уарчета захватил вместе с другой большой добычей «гарнизон этого врага из Тунипа, князя этого города». Вполне естественно, что правитель Тунипа, экономически и политически тесно связанный с городами финикийского побережья, опасаясь египетского нашествия, направил в Уарчет вспомогательные войска, для того чтобы общими усилиями отразить натиск египетских войск.
Стремление Египта захватить не только города финикийского побережья, но и морские коммуникации подчеркнуто и отрывке из «Анналов», в котором описывается захват египтянами «двух кораблей [снаряженных вместе с их командой] и нагруженных всякими вещами, рабами и рабынями, медью, свинцом, белым золотом (оловом?) и всеми прекрасными вещами». Среди захваченной добычи писец отметил рабов, рабынь и металлы в качестве наиболее желанных для египтян ценностей.
На обратном пути египетский фараон опустошил большой финикийский город Иартиту с «его [запасами] зерна, вырубив все его хорошие деревья». Победы, одержанные египетскими войсками над неприятелем на финикийском побережье, отдали в руки египтян богатый земледельческий район. По словам летописца, страна Джахи, занятая египетскими войсками, изобиловала садами, в которых росли многочисленные плодовые деревья. Страна была богата зерном и вином. Поэтому египетское войско было обильно снабжено всем тем, что ему полагалось получать во время похода. Иными словами, богатое финикийское побережье было отдано на разграбление египетскому войску.
Судя по тому, что в описании пятого похода Тутмоса III в Переднюю Азию упоминается лишь о взятии одного города Уарджета и об опустошении одного лишь города Иартиту, остальные города финикийского побережья не были захвачены египтянами. Именно поэтому египетский писец, описывая богатства страны Джахи, перечисляет лишь фруктовые сады, вино и зерно, которые попали в руки египетских воинов, что и дало возможность снабдить войско всем необходимым. С этим согласуется и перечисление тех приношений, которые были доставлены фараону во время этого похода. В этом списке приношений обращает на себя внимание большое количество крупного и мелкого рогатого скота, хлеба, зерна, пшеницы, лука, «всяких хороших плодов этой страны, оливкового масла, меда, вина», то есть главным образом продуктов сельского хозяйства. Другие ценности перечислены либо в очень небольшом количестве (10 серебряных блюд) или в самой общей форме (медь, свинец, лазурит, зелёный камень).
Очевидно, всё местное население скрылось со своими ценностями за крепкими стенами многочисленных финикийских городов, которые египетское войско не смогло занять.
Таким образом, наиболее важным результатом пятого похода Тутмоса III был захват страны Джахи (Финикии) — богатого земледельческого района, давшего несколько опорных пунктов на финикийском побережье. Этот плацдарм позволил бы во время следующей кампании высадить здесь уже более крупные военные силы с целью проникновения в долину Оронта и захвата наиболее важных городов внутренней Сирии. Несомненно, настроение египетского войска должно было быть приподнятым, так как, по словам летописца, «войско его величества упивалось [вдоволь] и умащалось оливковым маслом каждый день, как в праздники в стране египетской». Такими наивными словами и весьма откровенно охарактеризовал египетский писец материальную обеспеченность египетского войска, одержавшего в Финикии ряд крупных побед.
Скорее всего, именно к этому походу относится интересный исторический роман поздней редакции, повествующий о взятии Иоппии египетским полководцем Джхути (Тути). Этот Джхути будто бы вызвал царя Иоппии и его солдат к себе в лагерь для переговоров, и там напоил их допьяна. Тем временем он велел посадить сто египетских солдат в громадные горшки из под вина и отнести эти горшки в город, — якобы добычу царя города. Конечно же в городе спрятавшиеся солдаты повыскакивали из горшков и напали на неприятеля; в результате Иоппия была взята. Нельзя не усмотреть в этом сказании мотива, общего с историей о троянском коне.
Шестой поход
На 30-м году правления Тутмос предпринимает свой 6-й поход с целью расширения завоеванных территорий и захвата важнейшего военно-политического центра Сирии — Кадеша. Поход решено было предпринять морской. По Средиземному морю корабли доплыли до Финикии и, можно предположить, что египетские войска высадились в Симире. Ведь именно отсюда открывался наиболее короткий и удобный путь, ведший по долине реки Элейтероса (Нар-эль-Кебир) в долину Оронта. С другой стороны, захват большого города Симиры позволял египетским войскам укрепить свои позиции на финикийском побережье. Предположение, что египтяне высадились в Симире, подтверждается и тем, что, согласно «анналам», египетские войска после осады Кадеша вернулись обратно в Симиру, которая названа египетским летописцем «Джемара».
Из Симиры египетское войско пошло на Кадеш. Кадеш лежал на западном берегу Оронта. Небольшой приток с запада соединялся с Оронтом непосредственно севернее города так, что последний находился между ними. Поперёк косы, южнее города был прорыт канал, который можно проследить ещё и теперь и который, несомненно, существовал в дни Тутмоса, он соединял оба потока, и благодаря этому город был со всех сторон окружён водой. Высокие стены, в довершение к сказанному, делали его пунктом очень укреплённым. Кадеш был, вероятно, самой грозной крепостью в Сирии. Осада Кадеша продолжалась с весны до осени, так как египтяне успели снять урожай в окрестностях города, но взять город Тутмос так и не смог, а ограничился только опустошением его окрестностей.
На обратном пути в Симиру египтяне вторично взяли город Иартиту и полностью разрушили его. Чтобы окончательно подавить сопротивление непокорных сиро-финикийских князей, Тутмос взял в качестве заложников их детей и братьев и увёл их с собою в Египет. «Анналы Тутмоса III» отмечают это событие в следующих словах: «И вот доставлены были дети князей и братья их, чтобы содержаться в укрепленных лагерях Египта». Фараон старался подчинить этих заложников египетскому культурному и политическому влиянию, чтобы воспитать из них будущих друзей Египта. Поэтому «если кто-либо из этих князей умирал, то его величество приводил [сына] его, чтобы поставить на его место».
Седьмой поход
На 31-м году правления был предпринят 7-й поход, также морской. В «Анналах» очень кратко сообщается о том, что фараон во время этого похода занял находившийся близ Симиры финикийский город Уллазу, который назван египетским летописцем Иунрачу. Очевидно, Уллаза была крупным центром, вокруг которого группировались силы антиегипетской коалиции сиро-финикийских князей. Большую роль в этой коалиции играл и сирийский город Тунип, который во время этого похода поддерживал Уллазу. В «Анналах» сообщается, что во время взятия Уллазы египтяне захватили около 500 пленных, и среди прочих «сына этого врага из Тунипа», то есть сына князя Тунипа, который, по-видимому, с отрядом вспомогательных войск был послан из Тунипа в Уллазу, чтобы задержать дальнейшее продвижение египетских войск. Однако, несмотря на помощь сирийских городов, Уллаза была занята египетским войском, как это подчеркнуто в «Анналах», «в очень короткое время. И всё имущество его стало легкой добычей» египтян. Отсюда можно сделать вывод, что египтяне имели значительный численный перевес над коалицией сиро-финикийских князей не только на суше, но и на море. Ведь упоминание о том, что неприятельский город был захвачен очень быстро, встречается в «Анналах» в первый раз.
Местные царьки по обыкновению явились с выражением покорности, и Тутмос собрал с них почти 500 кг серебра, не считая большого количества естественных продуктов. Затем Тутмос поплыл вдоль берега Средиземного моря из одного порта в другой, демонстрируя свои силы и всюду организовывая администрацию городов.
В «Анналах» сообщается о том, что «все гавани, в которые прибывал его величество, были снабжены прекрасными лесами, всякими хлебами, оливковым маслом, благовониями, вином, медом и всякими прекрасными плодами этой страны». Очевидно, Тутмос III организовал в городах финикийского побережья постоянные базы продуктового снабжения египетского войска, которое благодаря этому могло совершать длительные походы вглубь страны.
Вернувшись в Египет, Тутмос нашёл там послов с Нубии, из стран Ганабут и Уауат, принесших ему дань, в основном состоящую из крупного рогатого скота, но также упоминаются слоновьи клыки, чёрное дерево, шкуры пантер и другие ценные произведения этих стран.
Восьмой поход
На 33-м году правления состоялся 8-й поход. Завоевание Палестины, городов финикийского побережья и Южной Сирии, наконец, проникновение в долину Оронта открыли египетским войскам стратегически важные дороги, ведущие на север, в Северную Сирию, и на северо-восток, в долину среднего Евфрата, где находились страна Нахарина и могущественное государство Митанни. То обстоятельство, что основной стратегический удар во время этой кампании был нанесен государству Митанни, достаточно ясно подчёркнуто в «Анналах». Автор «Анналов», крайне скупо описавший восьмой поход Тутмоса III, в самом начале своего описания сообщает о важнейших достижениях египтян, которые выразились в переходе через Евфрат и опустошении страны Нахарины. К счастью, две другие надписи, сохранившиеся от этого времени — надпись из Джебель-Баркала и автобиография Аменемхеба, позволяют хотя бы в общих чертах восстановить события, происшедшие во время восьмого похода Тутмоса III в Переднюю Азию.
Этот поход, как это видно из надписи Аменемхеба, был предпринят по суше. Египетские войска под начальством фараона двинулись от границ Египта к стране Негеб, которая находилась в южной части Палестины. Этот маршрут объясняется, видимо, тем, что египтянам ввиду дальности похода необходимо было прочно закрепить свой тыл и обеспечить основные сухопутные коммуникации. Возможно также, что в Южной Палестине вспыхнуло восстание местных племен против египетского господства, что вынудило египтян дать в Негебе битву повстанцам. Подавив восстания, египетская армия прошла через всю Палестину и вступила в Южную Сирию. «Анналы» в качестве, очевидно, первого крупного успеха египтян отмечают «прибытие к области Кеден». Кеден, как египтяне называли Катну, был занят египетскими войсками, как это можно предполагать по тексту «Анналов», а также по фрагменту надписи, сохранившейся на седьмом пилоне Фиванского храма Амона. Взятие египтянами Катны — большого города, издревле имевшего огромное торговое и военно-политическое значение — стало крупным военным успехом, который весьма облегчил дальнейшее продвижение на север египетского войска. Судя по тому, что Катна не упоминается в «Анналах» при описании предшествующих походов Тутмоса III, город до этого времени сохранял свою независимость от Египта, что, конечно, весьма затрудняло дальнейшее продвижение египетских войск.
Заняв Катну, египетское войско двинулось далее на север и около «высот Уана, к западу от Харабу» (видимо, Халеба) дало сражение противнику, который, возможно, сосредоточил здесь довольно крупные силы. Описывая эту битву, Аменемхеб сообщает: «Я взял азиатов в качестве пленников — 13 человек и 70 живых ослов, а также 13 бронзовых топоров, [причем] бронза была украшена золотом». По-видимому, среди войск противника находились отборные войска либо одного из крупных городов Сирии, либо даже самого митаннийского царя, вооруженные драгоценным оружием, описанным Аменемхебом. Разбив войска противника египетские войска заняли Халеб, после чего продвинулись далее к северо-востоку, захватили весь район вплоть до Евфрата и подошли к этой реке, которая являлась естественным рубежом между Сирией и Месопотамией, неподалеку от Каркемиша. Здесь, около этого большого и сильного города, расположенного на восточном берегу Евфрата, египетские войска, как об этом говорится в надписи Аменемхеба, дали большое сражение войскам неприятеля.
Полностью разгромив противника, египтяне овладели твердынями Кархемиша и переправой через Евфрат, что дало возможность египетскому войску вторгнуться в области государства Митанни, находившиеся уже в Месопотамии. Этот крупный успех египетского оружия был справедливо расценен современниками как победоносное завершение всей кампании, утвердившее господство Египта в Передней Азии и отдавшее в руки египтян обширные и богатые районы не только Северной Сирии, но и Митанни. Поэтому о переправе через Евфрат сообщается во всех трех надписях, описывающих восьмой поход Тутмоса III. В «Анналах» кратко сообщается, что фараон во главе своего войска переправился через «великую перевернутую реку Нахарины», то есть через реку, которая течет не на север, как привычный и знакомый египтянам Нил, а на юг.
В надписи из Джебель-Баркала красноречиво описывается, как египетское войско опустошило этот обширный район, предав огню и мечу все поселения, вырубив плодовые деревья и захватив в качестве рабов всех жителей, а также много скота и запасы зерна. В этой же надписи, содержащей ряд существенно важных данных относительно восьмого похода Тутмоса III, которых нет в других надписях подробно повествуется о том, как фараон приказал построить множество кораблей из прочного ливанского кедра, срубленного «в горах страны бога» около «Владычицы Библа». Затем корабли были погружены на большие телеги, запряженные быками, и доставлены к берегам Евфрата. На этих кораблях египетские войска переправились «через большую реку, которая протекает между этой иноземной страной и страной Нахарина». Эти последние слова ясно указывают на то, что египтяне в царствование Тутмоса III называли страной «Нахарина» область, лежащую непосредственно к востоку от среднего течения Евфрата.
Эти крупные военные успехи египетского войска и удачная переправа через Евфрат отдали в руки египтян не только западное, но и восточное побережье Евфрата. Судя по тексту «Анналов», Тутмос III, реализуя эти успехи, двинулся на юг, отчасти плывя на кораблях по реке, отчасти двигаясь пешком по её восточному берегу, «захватывая города, опустошая области этого врага презренной страны Нахарина». «Я зажег их, моё величество превратило их в развалины… Я забрал всех их людей, уведенных пленниками, их скот без числа, а также их вещи, я отобрал у них жито, я вырвал их ячмень, я вырубил все их рощи, все их плодовые деревья». Очевидно, сопротивление митаннийского войска было полностью сломлено. Египетский летописец образно рисует деморализацию разбитого противника, стремительно отступавшего на юго-восток, говоря, что «ни один из них не оглядывался, ибо они бежали и прыгали, как козлята гор». В надписи из Джебель-Баркала полный разгром митаннийского войска подчеркнут указанием на то, что митаннийский царь принужден был обратиться в бегство и что фараон «разыскивал презренного врага в иноземных странах Митанни. Он бежал от фараона в страхе в другую страну, в отдаленное место». Одних только царей с их женами было захвачено 30 персон, также попало в плен 80 представителей знати.
Очевидно, Тутмос III ограничился опустошением западной части Митаннийского царства и не счёл нужным преследовать митаннийского царя, бежавшего в далекие восточные пределы своего государства. Считая, что египетские войска полностью выполнили стратегические задачи данной кампании, Тутмос III поставил два памятных камня, один на восточной стороне Евфрата, другой возле плиты, которая была поставлена Тутмосом I. Об этом сообщается как в «Анналах», так и в надписи из Джебель-Баркала. По-видимому, установка памятных плит на берегах Евфрата была тем торжественным моментом, который должен был ознаменовать завершение победоносного похода. Достигнув максимум возможного фараон повернул назад.
Возле Нии фараон решил поохотится на слонов, которые тогда в избытке водились в этих местах. Тутмос на своей колеснице атаковал огромное стадо в 120 особей, но чуть и не погиб во время этой охоты. Огромный разъярённый, видно, раненый слон, вожак этого стада, схватил царя хоботом и готов был бросить его на землю, чтобы растоптать. Однако верный Аменемхеб, из надписи в гробнице которого нам известен этот инцидент, оказался рядом. Он отрубил слону хобот и бросился бежать, отвлекая внимания слона на себя. Фараон в это время смог укрыться.
Однако на обратном пути Тутмосу III пришлось преодолеть некоторое сопротивление отдельных областей и городов Сирии, которые всё ещё не были окончательно покорены египтянами. Аменемхеб сообщает в своей автобиографии, что «он видел победы царя» «в стране Сенджера», когда он «совершил там большое побоище». Далее, на этом обратном пути египетскому войску пришлось снова вступить в борьбу с князем Кадеша, который, видимо, пытался использовать сложившуюся обстановку, чтобы поднять восстание против фараона. Однако, располагая всё ещё достаточно крупными силами, Тутмос III «захватил город Кадеш». Наконец, Аменемхеб сообщает, что он «снова увидел победы его величества в презренной стране Тахси, у города Мериу». Все эти сражения, описанные Аменемхебом, были не случайными небольшими стычками, а довольно значительными битвами, во время которых было окончательно подавлено сопротивление отдельных всё ещё непокорных сирийских областей и городов. Особенно существенно то, что финикийские города и области должны были платить ежегодные подати Египту. Тем самым эти завоеванные страны были как бы и в экономическом отношении введены в состав египетского государства.
В ходе восьмого похода Тутмосу III удалось упрочить египетское господство в Сирии, Палестине и Финикии, нанести серьёзный урон Митаннийскому государству, осуществив переправу через Евфрат и разорив его западные области, наконец, египтяне захватили огромную добычу, о чём свидетельствуют «Анналы»[2].
Помимо того, несомненным результатом восьмого похода было укрепление военно-политического и экономического влияния Египта в Передней Азии. Это выразилось в том, что Ассирия и Хеттское государство (Великая Хета) прислали свою «дань» в Египет. Конечно, эти государства не были подвластны Египту. В качестве самостоятельных государств они не были обязаны посылать свою дань Египту. Но так как и Ассирия и Великая Хеттская держава вели постоянную борьбу с Митанни, то посылкой даров фараону они как бы солидаризировались с его политикой в Передней Азии, ставили себя в положение его союзников, признавали его завоевания и в то же время как бы откупались от грозных войск фараона. Это был один из моментов наивысшего напряжения военно-агрессивной политики египетского государства, когда политика непрерывных завоевательных походов Египта в Переднюю Азию достигла своего кульминационного пункта.
Египет был на вершине своего военного могущества. В «Анналах» указывается, что египетское войско во главе с фараоном «прибыло… благополучно в Египет». Дважды отмечает летописец, что фараон этим походом расширил «границы Египта». Вполне сознательно поместив в этом же описании восьмого похода списки поступлений из Пунта и Нубии, летописец этим как бы отмечает огромное протяжение египетского государства, в которое постоянно стекались несметные богатства из Передней Азии и далеких африканских областей вплоть до «страны бога», той далекой страны Пунт, которая, очевидно, была расположена на побережье Восточной Африки.
Девятый поход
В 34-й год правления Тутмос предпринимает свой 9-й поход. После крупных побед, одержанных в Северной Сирии и Северо-Западной Месопотамии во время восьмого похода Тутмоса III, египетским войскам предстояла задача удерживать занятые позиции и подавлять восстания, что было необходимо, чтобы укрепить положение Египта в покоренных странах. Поэтому, естественно, что во время следующих походов Тутмос III старался лишь сохранить удержанное и не считал нужным продвигаться вглубь завоеванных стран. Во время девятого похода египетские войска заняли главный город области Нухашше и два других второстепенных города той же области.
В «Анналах» сообщается, что фараон захватил город Иниугаса, причём «люди другого города, находящегося в его области, умиротворенные полностью его величеством, пришли к нему с поклоном». Далее в приложенном перечне «городов, захваченных в этом году», упоминаются «два города и город, сдавшийся в этой области Иниугаса. Всего три [города].» Этот район имел большое экономическое значение, ибо здесь проходили важные торговые пути, соединявшие долину Евфрата с северофиникийским побережьем и глубинными областими Северной Сирии. Страна Нухашше имела, конечно, и большое стратегическое значение в качестве пограничного района, находившегося на стыке сфер влияния трех крупных государств: Египта, Митанни и Хеттского царства. Поэтому прочное занятие этого форпоста обеспечивало египтянам господство во всем обширном районе между средним течением Евфрата и северофиникийским побережьем.
В этом богатом княжестве египетские войска захватили большую добычу, перечисленную в «Анналах». Летописец, ведя учёт захваченных ценностей, упоминает здесь пленников, их жен и детей, очевидно, обращенных в рабство, лошадей, богато украшенные золотом и серебром колесницы сирийских аристократов, золотые сосуды, золото в кольцах, серебряные сосуды, серебро в кольцах, медь, свинец, бронзу, всякое оружие «для битвы», множество крупного и мелкого рогатого скота, ослов, ценные сорта дерева и роскошные изделия из дерева — кресла и деревянные части палатки, украшенные бронзой и драгоценными камнями.
Перечень дани, полученной Тутмосом III на 34-м году его царствования, поражает количеством и разнообразием статей. Из Финикии (Джахи) египтяне по-прежнему получали «всякие прекрасные вещи», которыми были богаты все финикийские гавани. В данном случае представляет большой интерес упоминание летописца о том, что все продукты и товары отправлялись на разнообразных кораблях: на кораблях кефтиу (критские корабли), на библских кораблях и на морских (может быть, даже боевых) кораблях. В частности, эти корабли были нагружены мачтами, деревянными столбами и большими балками для крупных царских построек. Очевидно, писец имел в виду в данном случае подчеркнуть развитие морской торговли Египта, устанавливавшего ныне более прочные торговые связи с Критом и Финикией. Это подтверждается тем, что в дальнейших строчках «Анналов» говорится о доставке «дани» или о получении особых поставок (буквально: «приношений») из страны Иси (очевидно, Кипра), откуда египтяне получали в первую очередь медь, а затем свинец, лазурит, слоновую кость и ценное дерево «чагу». Также подношения прислал в этом году и царь Ассирии.
Десятый поход
В 35-й год правления — 10 поход. Тутмос III был вынужден предпринять этот поход в Сирию, с тем чтобы подавить восстания в северной части этой страны и в прилегающих областях Северо-Западной Месопотамии, на которые распространялся несколько неясный и расплывчатый египетский географический термин «Нахарина».
Главным врагом египтян в этом году был «этот презренный враг из Нахарины», который, по словам летописца, собрал большую армию «с концов страны», причём воины противника были «более многочисленны, чем песок на берегу». Очевидно, на этот раз Египту в Сирии противостояла довольно значительная коалиция северосирийских и, возможно, митаннийских областей и городов во главе с одним из местных князей. Битва произошла около «города страны Иараианы», местоположение которой точно определить в настоящее время нельзя.
В «Анналах» описывается блестящая победа египетского войска, после которой враги «бежали, падая один на другого». Однако, видно, на самом деле сражение было упорным, и только уступая военному мастерству египетской армии, сирийцы отошли под прикрытие стен города. Но это отступление не было паническим бегством, как о том сказано в анналах, а, очевидно, проходило организованно, так как египтяне смогли захватить всего 10 пленных, зато 180 коней и не менее 60 колесниц.
В результате замирения египетскими войсками непокорных областей Северной Сирии страны Речену и Ременен (Сирия и Ливан), а также другие азиатские страны послали свои приношения и подати египетскому фараону, причём в приведенных летописцем перечнях ценностей следует отметить золото, золотые сосуды, благовония, колесницы, лошадей, наконец, большое количество оливкового масла и вина. Систематически подавляя сопротивление народов Передней Азии, египтяне из года в год выкачивали из этих богатых областей множество самих разнообразных продуктов и ценностей, что не могло в некотором отношении не укрепить материальную базу египетского рабовладельческого хозяйства и военную мощь египетского государства.
Одиннадцатый-двенадцатый походы
В «Анналах» не сохранилось никаких сведений о походах, которые Тутмос III совершал в Переднюю Азию на 36 и 37-м годах царствования. Но так как в той же летописи под 38-м годом упоминается и описывается тринадцатый «победоносный поход», то, очевидно, одиннадцатая и двенадцатая кампания относятся к двум предшествующим годам.
Тринадцатый поход
Поход 38-го года ознаменовался лишь одним крупным военным событием, которое летописец счёл достойным отметить в своих кратких записях. Это было опустошение городов в области Иниугаса, которая была впервые захвачена Тутмосом III во время его первого похода. Однако этот район Сирии неоднократно восставал против господства египтян. Во время девятого похода фараон снова покорил эту область; наконец, на закате своего многолетнего царствования он принужден был опять нанести сильный удар этим непокоренным северосирийским городам.
В перечнях обильной дани, полученной царём из различных стран и областей Передней Азии после тринадцатого похода, упоминаются Ливан (Ременен), Финикия (Джахи), остров Кипр (Иси). Наряду с ними встречается впервые название «страны Иарарех».
Четырнадцатый поход
На 39-м году своего царствования Тутмос снова совершил поход в Переднюю Азию, о котором мы, очень мало осведомлены. В летописи в данном случае упоминается лишь, что во время четырнадцатого победоносного похода царя в страну Речену египетские войска столкнулись с «поверженными врагами страны Шасу», которых принято обычно считать «бедуинами». Разумеется, эти племена шасу не имеют никакого отношения к современным бедуинам. Возможно, что под словом, «шасу» египтяне подразумевали кочевников пустынных районов Передней Азии. Однако в данном случае имеются в виду племена какой-то определенной страны, как это видно из соответствующего иероглифа их обозначающего.
События следующих двух лет почти ничем не отмечены в «Анналах Тутмоса III». Текст, относящийся к 40-му году, состоит всего лишь из одной плохо сохранившейся строки, в котором можно пытаться увидеть упоминание о пятнадцатом походе. Под 41-м годом в сохранившихся строчках летописи вообще не говорится о каком-либо походе, а сразу приводится «перечень приношений князей Речену», затем описывается снабжение гаваней, причём, упоминается, как обычно, «урожай из Джахи», далее сообщается о приношениях из «Великой Хеты», наконец, приводится перечень повинностей из стран Куш и Уауат. Особенно существенно в данном случае упоминание о приношениях из Великой Хеты, с которой египтяне с этого времени устанавливают более тесные, чем ранее, экономические связи.
Последний поход Тутмоса в Азию
На 42-м году Тутмос предпринимает свой последний поход в Переднюю Азию. Этот поход был своего рода крупной карательной экспедицией, направленной в Сирию для того, чтобы окончательно подавить крупное восстание непокорных сирийских городов, во главе которых стояли Тунип и Кадеш.
Египетское войско, возглавляемое самим фараоном, прибыв в Сирию, двинулось вдоль побережья. Очевидно, экспедиция носила характер военной демонстрации, которая должна была показать финикийским городам мощь египетского оружия. Как указано в летописи, ближайшей целью этого марша был захват финикийского города «страны Иркаты», расположенного неподалеку от Симиры. Египетские войска, заняв и опустошив Иркату и города, находившиеся в её области, создали себе тем самым прочную базу на побережье, которая дала им возможность, обеспечив свой тыл, двинуться вглубь страны. Как видно из крайне сжатого текста летописи, египетские войска сперва направились на север, чтобы нанести первый удар Тунипу. Этот манёвр имел целью вбить клин между мятежными городами Северной и Средней Сирии и лишить главного врага египтян — Кадеш поддержки северосирийских городов, во главе которых, вероятно, стоял князь Тунипа.
Осада Тунипа затянулась и продолжалась до осени, однако Тунип был взят и опустошен, причём египетские войска собрали урожай в области Тунипа. Изолировав таким образом Кадеш с севера и отрезав его от его союзников, находившихся в Северной Сирии, Тутмос III двинул свои войска против Кадеша и захватил 3 города в его окрестностях. Видимо, Кадеш поддерживали митаннийцы, так как в этих городах было захвачено свыше 700 митаннийцев с полусотней лошадей.
Затем наступила очередь Кадеша, жители которого вновь отстроили стены, после того как фараон разрушил город на 33-м году, то есть 9 лет назад. В анналах Тутмоса ничего не сказано о взятии самого Кадеша, но красочный рассказ об этом сохранился в гробнице Аменемхеба. При приближении египтян властитель Кадеша пустился на хитрость: навстречу их колесничным упряжкам он выпустил быстроногую кобылицу в надежде расстроить их боевой строй, однако затея не удалась. Аменемхеб пеший догнал кобылицу, уже ворвавшуюся в египетские отряды, распорол ей брюхо и, отрубив хвост, отнёс его фараону. Кадеш был взят приступом после пролома городской стены вызвавшимися смельчаками во главе с тем же Аменемхебом.
Таким образом, этот последний поход Тутмоса III в Переднюю Азию надолго укрепил господство Египта в Финикии и Сирии. Во время этого похода египетские войска нанесли сокрушительный удар главным очагам сопротивления в Сирии — Тунипу и Кадешу. Память о фараоне-завоевателе долго сохранялась у покорённых им народов Сирии-Палестины: даже через столетие лояльные египетские вассалы в регионе, взывая к Эхнатону с мольбами о военной помощи вопрошали: «Кто мог ранее грабить Тунип, не будучи (затем) ограблен Манахбирией (от тронного имени Тутмоса — Менхеперра)?»
Завоевания в Нубии
Меры по укреплению влияния в Нубии в начале царствования
Несмотря на то, что основное внимание египетского правительства в царствование Тутмоса III было обращено на завоевание Палестины, Сирии и Финикии и укрепление экономического, политического и военного влияния Египта в Передней Азии, Египет должен был продолжать свою военно-агрессивную политику на юге, в Нубии и прилегающих к ней странах, из которых египтяне издавна вывозили ряд товаров, необходимых для развития рабовладельческого хозяйства, а также много рабов.
Уже и самом начале царствования Тутмоса III египетское правительство поставило перед собой задачу энергично возобновить завоевательную политику на юге, с тем чтобы полностью укрепить господство Египта во всей Нубии и даже в прилегающих к ней странах. На это ясно указывает надпись Тутмоса III, относящаяся ко 2-му году его царствования и сохранившаяся на стенах храма, построенного фараоном в Семне, у 2-го порога Нила, на месте в то время уже развалившегося храма Сенусерта III, некогда покорившего Нубию. В этой надписи говорится, что «благой бог Мен-хепер-Ра (тронное имя Тутмоса III), соорудил он памятник для отца Дедуна, главы Нубии и для царя Верхнего и Нижнего Египта Ха-кау-Ра (тронное имя Сенусерта III), построив им храм из белого прекрасного камня Нубии». Изобразив на стенах этого храма Сенусерта III в качестве обоготворенного правителя Нубии, Тутмос III тем самым провозглашал себя продолжателем его дела — завоевания Нубии. Изображения нубийского бога Дедуна, помещенные тут же, должны были наглядно свидетельствовать о том, что нубийское жречество санкционирует египетское завоевание.
Таким образом, при завоевании Нубии египтяне пытались использовать нубийскую религию, включив нубийского бога Дедуна в египетский пантеон. К тому же самому времени относятся надписи Тутмоса III на острове Сехель, в храме в Кумме[en], в Сильсиле и Вади-Хальфа.
Завоевания в Нубии после смерти Хатшепсут
Однако реально приступить к полному покорению всей Нубии Тутмос III смог только после смерти Хатшепсут, когда вся полнота верховной власти сосредоточилась в его руках и он мог бросить все ресурсы Египта для завершения своей завоевательной политики. В «Анналах», в которых описываются походы Тутмоса III в Переднюю Азию, начиная с седьмого похода, совершенного на 31-м году его царствования, перечисляется дань, полученная фараоном из Нубии и сопредельных с нею южных стран. Весьма возможно, что эта дань посылалась в Египет далеко не добровольно, а поступала в царскую сокровищницу в результате военных экспедиции. В сохранившихся документах этого времени содержится очень мало сведений о военных действиях, которые египтяне предпринимали в Нубии и соседних странах.
О внимании, которое Тутмос III стал уделять Нубии после смерти Хатшепсут, говорит строительство многочисленных храмов, предпринятое им в различных пунктах Нубии, главным образом в тех, которые имели стратегическое значение. Так, после 30-го года своего царствования Тутмос III значительно расширил храм, построенный ранее в Семне. В храме в Вади-Хальфа им был построен большой колонный зал. В Амада Тутмос III начал постройку храма в честь бога Хорахте. Наконец, в Верхней Нубии между 2-м и 3-м порогами на острове Саи наместник фараона в Нубии, «царский сын Куша» по имени Нехи, построил не только храм, но и крепость, что ясно указывает на военный характер интенсивного строительства, предпринятого фараоном в Нубии.
Возможно, что в эту эпоху в Нубии уже существовали египетские поселения, которые были опорными пунктами египетского экономического, политического и культурного влияния в Нубии. Таков, например, город, раскопанный в Сесеби, в развалинах которого среди множества предметов времени XVIII династии был найден скарабей с именем Тутмоса III. Наконец, самым южным египетским поселением в Нубии было поселение близ «священной горы» Джебель-Баркала, где впоследствии выросла столица эфиопского государства Напата. Здесь в развалинах храма, построенного Тутмосом III, была найдена большая стела с ценнейшей исторической надписью, описывающей военные походы и могущество этого фараона. Весьма возможно, что текст этой надписи, составленной в 47-м году царствования Тутмоса III, был своего рода манифестом, обращенным к египетскому населению Нубии на самой южной границе Египетского государства.
Самая дальняя посвятительная надпись, датируемая правлениями Тутмоса I и Тутмоса III, найдена в местечке Kanisah Kurgus (Kanisa Kurgus, Kanisa-Kurgus), в 35 км выше по течению от современного Абу Хамада (Abu Hamad) — 2 надписи, высеченные на каменных глыбах, указывающих южную границу Египта, позже подтвержденную Тутмосом III [www.archaeologywordsmith.com/lookup.php?terms=Kurgus].
Окончательное покорение Нубии
Эта крупная строительная деятельность египтян в Нубии стала возможной лишь благодаря тому, что вся Нубия была прочно завоевана египетскими войсками и египетские гарнизоны были размещены во всей ныне покоренной стране.
Об этом завоевании Нубии говорят сохранившиеся на шестом и седьмом пилонах Карнакского храма Амона списки завоеванных в Нубии местностей. Надпись над одним из этих списков гласит: «список этих южных местностей троглодитов Нубии в Хент-хен-нофере, сраженных его величеством, который произвёл побоище среди них, число которых неизвестно, который привел всех людей их в качестве живых пленников в Фивы, чтобы наполнить „работный дом“ отца Амона-Ра, владыки Фив. И вот все страны стали рабами его величества, согласно приказу отца Амона». В этих списках перечисляются 269 географических названий, которые до сих пор не могут быть отождествлены, но которые все же указывают на то, что в те времена Нубия уже была прочно завоевана египтянами.
Тутмос III смог уделить всё своё внимание Нубии лишь после того, как господство Египта было полностью упрочено в Передней Азии. Именно поэтому лишь в конце своего царствования, на 50-м году, Тутмос III принял реальные меры к тому, чтобы прочнее присоединить Нубию к Египту. Чтобы иметь возможность бесперебойно перевозить по Нилу войска и товары, Тутмос приказал расчистить старый, засорившийся канал в районе 1-го порога. Об этом говорится в надписи на скале на острове Сехель в следующих словах:«Год 50-й, 1-й месяц 3-го сезона (шему), день 22-й при его величестве царе Верхнего и Нижнего Египта Мен-хепер-Ра, дарующего жизнь. Приказал его величество прорыть этот канал, после того, как он нашёл его засоренным камнями, так что не проходил корабль по нему. Он направился на юг по нему с радостным сердцем, поразив врагов своих. Название этого канала: „Открытие счастливого пути Мен-хепер-Ра, живущего вечно“. Рыбаки Абу (Элефантины) должны расчищать этот канал ежегодно».
Значение походов Тутмоса
В ходе военных походов Тутмоса Египет превратился в могущественную мировую державу, вместе с подчинёнными территориями протянувшуюся с севера на юг на 3500 км. За достигнутые при нём рубежи, как на севере, так и на юге, не вышел ни один из его преемников. Степень зависимости от Египта покоренных стран и городов была различной. Наиболее прочно с Египтом была связана Нубия, непосредственно управлявшаяся египетской администрацией во главе с наместником. Создать себе столь же сильные позиции в Передней Азии, Тутмос не смог из-за трудности перехода через пустыню и постоянного противодействия соседних держав.
В Палестине, Сирии и Финикии остались десятки местных царьков. Однако в ближайших переднеазиатских городах стояли египетские гарнизоны, а наследники их правителей воспитывались, как заложники, при египетском дворе, в угодном фараону духе. Что касается царей более обширных государств, таких как Митанни, Вавилония и Хеттское царство, то они сохранили независимость и называли себя «братьями» египетского царя. Это, однако, не мешало фараону рассматривать присланные ими дары как дань, хотя о реальном подчинении не могло быть и речи.
Огромные богатства, поступающие в Египет из покоренных стран, позволили Тутмосу развернуть широкое строительство. Его следы заметны не только по всему Египту, но и за его пределами, даже в Сирии-Палестине и Нубии. Сооружение храмов, в первую очередь с прославлением самого фараона, служило славе и величию бога Амона. Друг за другом в главном храме Амона поднимались пилоны, обелиски, величественные изваяния, возводились жилые покои и переходы.
Общегосударственный храм в Карнаке превратился в памятник в честь побед Амона и «сына» его Тутмоса III. На стенах и башнях мастерами фараона изображены сокровища, подаренные им Амону.
Внутренняя политика
 При Тутмосе III не останавливались и строительные работы внутри Египта. Следы строительной деятельности Тутмоса III сохранились в Файюме (город с храмом), Кумме, Дендере, Коптосе (Копте), Эль-Кабе, Эдфу, Ком-Омбо, Элефантине. Строительство велось с помощью военнопленных, а архитектурные проекты часто составлял сам фараон, что свидетельствует об определённых творческих дарованиях царя. Самым грандиозным строительным проектом Тутмоса III был Карнакский храм Амона-Ра. По сути, он был построен заново главным архитектором Пуемра на тридцатую годовщину его царствования (1460 до н. э.), когда фараон участвовал в церемонии хеб-сед. Помимо общих изменений в храме, были воздвигнуты юбилейные обелиски, один из которых ныне разрушен, а второй, содержащий упоминание о Тутмосе, «пересекающем Излучину Нахарины», находится в Стамбуле. При Тутмосе III в Гелиополе в 1450 до н. э. были воздвигнуты ещё два крупных обелиска — так называемые «Иглы Клеопатры». В 14 г. до н. э.[3] обелиски по приказу римского императора Августа были перенесены в Александрию. Один из них упал на бок и в 1872 был вывезен в Лондон, а другой в 1881 был привезён в Нью-Йорк. Также при Тутмосе III был начат обелиск при храме Ра в Гелиополе, законченный при Тутмосе IV.
При Тутмосе III не останавливались и строительные работы внутри Египта. Следы строительной деятельности Тутмоса III сохранились в Файюме (город с храмом), Кумме, Дендере, Коптосе (Копте), Эль-Кабе, Эдфу, Ком-Омбо, Элефантине. Строительство велось с помощью военнопленных, а архитектурные проекты часто составлял сам фараон, что свидетельствует об определённых творческих дарованиях царя. Самым грандиозным строительным проектом Тутмоса III был Карнакский храм Амона-Ра. По сути, он был построен заново главным архитектором Пуемра на тридцатую годовщину его царствования (1460 до н. э.), когда фараон участвовал в церемонии хеб-сед. Помимо общих изменений в храме, были воздвигнуты юбилейные обелиски, один из которых ныне разрушен, а второй, содержащий упоминание о Тутмосе, «пересекающем Излучину Нахарины», находится в Стамбуле. При Тутмосе III в Гелиополе в 1450 до н. э. были воздвигнуты ещё два крупных обелиска — так называемые «Иглы Клеопатры». В 14 г. до н. э.[3] обелиски по приказу римского императора Августа были перенесены в Александрию. Один из них упал на бок и в 1872 был вывезен в Лондон, а другой в 1881 был привезён в Нью-Йорк. Также при Тутмосе III был начат обелиск при храме Ра в Гелиополе, законченный при Тутмосе IV.
Правая рука фараона, чати (эквивалент визиря в средневековых мусульманских странах) Верхнего Египта Рехмир (Рехмира) эффективно управлял Верхним Египтом во время военных кампаний Тутмоса III, однако и сам фараон проявил себя как талантливый администратор. Именно благодаря изображениям и текстам в гробнице Рехмира нам известен порядок управления в Египте Нового царства. Другим верным сподвижником Тутмоса III был потомок раннединастических правителей Тиниса Иниотеф (или Гарсиниотеф), управлявший оазисами Ливийской пустыни, а также бывший в некоторой степени аналогом мамлюка Рустама у Наполеона, так как готовил царские апартаменты. В мирное время Тутмос III занимался строительством храмов, в особенности посвященных верховному богу Фив Амону. Ради потребностей храмов Тутмос в 1457 до н. э. вновь снарядил экспедицию в Пунт, стараясь не уступать Хатшепсут в её размахе. Из Пунта были завезены мирра, слоновая кость, золото, чёрное дерево и рогатый скот в большом количестве.
Тутмос III был первым фараоном, чьи интересы выходили за рамки государственной деятельности. Кругозор Тутмоса III, хоть и вопреки его воле, формировался под влиянием мачехи фараона, всячески покровительствовавшей искусствам. Этим фактом объясняется и нехарактерный для древневосточного владыки широкий кругозор и интерес Тутмоса III к культуре. Надпись в Карнакском храме сообщает перечень неизвестных египтянам видов растений и животных, завезённых в страну из Азии по специальному личному распоряжению фараона.
Кроме того, как свидетельствует рельеф в Карнакском храме, своё свободное время фараон посвящал моделированию разнообразных изделий, в частности сосудов. Свои проекты он передавал начальнику ремесленников государственных и храмовых мастерских. Трудно представить любого другого фараона, занимающегося подобным занятием. Интересно, что первые стеклянные изделия, которые сохранились до нашего времени, были созданы в Египте при Тутмосе III, и хранят имя этого фараона.
Гробница
 Тутмос III умер 11 марта 1425 до н. э. (на 30 день месяца перет 54-го года своего правления), оставляя своему сыну Аменхотепу II огромное государство, являвшееся гегемоном на всём Ближнем Востоке. Надпись в гробнице ближайшего царского сподвижника Аменемхеба подтверждает, что Тутмос III правил 53 года, 10 месяцев и 26 дней — это третий по продолжительности срок правления египетского фараона (дольше правили только Пепи II и Рамсес II — соответственно 94 и 67 лет). Аменхотеп II (1436—1412 до н. э.), бывший соправителем отца в последние два года его правления, проведёт ещё один карательный поход в Азию, сопровождающийся жестокостями против местного населения, резко контрастирующими с гуманным отношением его отца к военнопленным, после чего египетское владычество в Сирии и Палестине будет оставаться нерушимым вплоть до правления Эхнатона.
Тутмос III умер 11 марта 1425 до н. э. (на 30 день месяца перет 54-го года своего правления), оставляя своему сыну Аменхотепу II огромное государство, являвшееся гегемоном на всём Ближнем Востоке. Надпись в гробнице ближайшего царского сподвижника Аменемхеба подтверждает, что Тутмос III правил 53 года, 10 месяцев и 26 дней — это третий по продолжительности срок правления египетского фараона (дольше правили только Пепи II и Рамсес II — соответственно 94 и 67 лет). Аменхотеп II (1436—1412 до н. э.), бывший соправителем отца в последние два года его правления, проведёт ещё один карательный поход в Азию, сопровождающийся жестокостями против местного населения, резко контрастирующими с гуманным отношением его отца к военнопленным, после чего египетское владычество в Сирии и Палестине будет оставаться нерушимым вплоть до правления Эхнатона.
«Наполеон Древнего мира» был похоронен в Долине царей в гробнице KV34. Гробница Тутмоса III была открыта в 1898 экспедицией, возглавляемой французским египтологом Виктором Лоре. В гробнице Тутмоса III египтологами был впервые обнаружен полный текст Амдуат — «Книги о том, что в загробном мире», которую Джеймс Генри Брэстед называл «чудовищным творчеством извращённой жреческой фантазии». Амдуат в своеобразной фантастической манере повествует о двенадцати пещерах загробного мира, проходимых Солнцем-Ра на протяжении двенадцати часов ночи.
Мумия Тутмоса III была обнаружена ещё в 1881 в тайнике в Дер-эль-Бахри близ погребального храма Хатшепсут Джесер Джесеру. Мумии помещались в подобные тайники начиная с конца XX династии, когда по приказанию Верховного жреца Амона Херихора было перенесено большинство мумий правителей Нового царства, сохранность которых находилась в опасности из-за участившихся грабежей гробниц. Рядом с мумией Тутмоса III были обнаружены также тела Яхмоса I, Аменхотепа I, Тутмоса I, Тутмоса II, Рамсеса I, Сети I, Рамсеса II и Рамсеса IX, а также ряда правителей XXI династии — Сиамона, Пинеджема I и Пинеджема II.
Хотя обычно считается, что мумию фараона впервые обследовал французский египтолог Гастон Масперо в 1886, фактически она впервые попала в руки ещё к немецкому египтологу Эмилю Бругшу, обнаружившему мумии фараонов, спрятанные в тайнике в Дейр эль Бахри. Тогда же мумию Тутмоса распеленали для короткого осмотра, поэтому когда Масперо через пять лет приступил к анализу мумии, он обнаружил плачевное состояние тела фараона. Оно было ограблено (тела фараонов буквально пичкали амулетами) и разрезано на три части. Тем не менее, голова Тутмоса III сохранилась намного лучше, что позволяет соотнести настоящее лицо фараона с его скульптурными изображениями.
 Не обладая точным портретным сходством, статуи фараона всё же далеки от идеализированного изображения египетского фараона, достаточно точно отображая отдельные черты лица Тутмоса III, например, характерные «нос Тутмосидов» и узкие скулы завоевателя. Однако некоторые исследователи указывают на то, что стилистически многим из его статуй присущи черты его предшественницы Хатшепсут, изображавшейся в облике мужчины-фараона (миндалевидные глаза, несколько орлиный нос и полуулыбка на лице), что свидетельствует о едином каноне изображения фараонов XVIII династии. Зачастую для того, чтобы отличить статую Хатшепсут от статуи её преемника, требуется целый ряд стилистических, иконографических, контекстных и технических критериев. Существует также много примеров статуй, изображающих коленопреклонённого Тутмоса III, предлагающего божеству молоко, вино, масло или другие приношения. Хотя первые примеры такого стиля встречаются уже у некоторых преемников Тутмоса, считается, что распространение его при Тутмосе свидетельствует об изменениях в общественных аспектах египетской религии.
Не обладая точным портретным сходством, статуи фараона всё же далеки от идеализированного изображения египетского фараона, достаточно точно отображая отдельные черты лица Тутмоса III, например, характерные «нос Тутмосидов» и узкие скулы завоевателя. Однако некоторые исследователи указывают на то, что стилистически многим из его статуй присущи черты его предшественницы Хатшепсут, изображавшейся в облике мужчины-фараона (миндалевидные глаза, несколько орлиный нос и полуулыбка на лице), что свидетельствует о едином каноне изображения фараонов XVIII династии. Зачастую для того, чтобы отличить статую Хатшепсут от статуи её преемника, требуется целый ряд стилистических, иконографических, контекстных и технических критериев. Существует также много примеров статуй, изображающих коленопреклонённого Тутмоса III, предлагающего божеству молоко, вино, масло или другие приношения. Хотя первые примеры такого стиля встречаются уже у некоторых преемников Тутмоса, считается, что распространение его при Тутмосе свидетельствует об изменениях в общественных аспектах египетской религии.
Итоги правления
Владения Тутмоса III простирались от Кипра на севере и Евфрата на северо-востоке до V порога Нила (самая дальняя посвятительная надпись, датируемая правлениями Тутмоса I и Тутмоса III, найдена в местечке Kanisah Kurgus (Kanisa Kurgus, Kanisa-Kurgus), в 35 км выше по течению от современного Абу Хамада (Abu Hamad) — 2 надписи, высеченные на каменных глыбах, указывающих южную границу Египта, позже подтвержденную Тутмосом III [www.archaeologywordsmith.com/lookup.php?terms=Kurgus]) на юге и оазисов в Ливийской пустыне на западе. Мировая держава Тутмоса превысила по размерам все существовавшие ранее государства, в том числе Саргона Аккадского и Хаммурапи. За достигнутые при нём рубежи, как на севере, так и на юге, не вышел ни один из его преемников, за исключением, возможно, Аменхотепа II, возглавлявшего завоевательный поход на юг Нубии, географические рамки которого не ясны. Египет превратился в могущественную мировую державу, протянувшуюся вместе с подчиненными территориями с севера на юг на 3500 км. Степень зависимости островов от Египта окончательно не определена, однако известно, что при Тутмосе III сфера юрисдикции военачальника Тути, назначенного губернатором «северных стран», включала, помимо Сирии-Палестины, также «острова среди моря» — Кипр и расположенные в бассейне Эгейского моря очаги крито-микенской цивилизации (Кефтиу).
Помимо небывалого расширения территории государства, заслугой Тутмоса III было также создание профессиональной армии и знакомство египтян с культурным наследием ближневосточных народов. Вместе с тем, завоевательные походы фараона укрепили рабовладение и принесли огромные богатства и влияние жречеству Амона-Ра. В силу скачкообразного повышения количества рабов, добытых в азиатских странах, традиционная крестьянская община несколько уступила своим значением в качестве основного элемента экономической системы.
Заложенная при Хатшепсут и Тутмосе III тенденция формирования нового служилого класса выходцев из средних слоёв населения, а также создание единого государства, объединившего египетскую, нубийскую, западносемитскую и частично хурритскую культурные традиции, привели в конечном итоге к религиозному перевороту Эхнатона и созданию одной из древнейших религий, содержащих элементы монотеизма, в качестве ответа на усиление политического и экономического могущества жрецов, также вызванного успешной военной деятельностью Тутмоса III.
Известный американский египтолог Джеймс Генри Брэстед, подводя итоги правления Тутмоса III, дал этому фараону следующую характеристику:
«Его личность более индивидуальна, чем личность всякого иного царя Раннего Египта, исключая Эхнатона… Гений, проявившийся в некогда скромном жреце, заставляет нас вспомнить Александра и Наполеона. Тутмос создал первую подлинную империю и является поэтому первой мировой личностью, первым мировым героем… Его царствование знаменует эпоху не только в Египте, но и на всем Востоке, известном в то время. Никогда раньше в истории не владел один человек судьбами такой обширной нации и не придавал ей такого централизованного, прочного и в то же время подвижного характера, что в течение многих лет её влияние переносилось с неизменной силой на другой континент, запечатлеваясь там, как удар искусного мастера тяжеловесным молотом по наковальне; следует при этом добавить, что молот был выкован собственноручно самим Тутмосом»[4].
Многие египтологи призывают присвоить Тутмосу III заслуженный титул «Великий». Справедливо заметить, что фараон Рамсес II — единственный фараон, по отношению к которому используется устоявшийся эпитет «Великий» (Рамсес Великий), — на самом деле был не столько успешным правителем, сколько успешно пропагандировал и преувеличивал свои заслуги, не гнушаясь нанесения известий о своём правлении на постройки предшественников и даже актов вандализма в их отношении.
Родословие Тутмоса III
Серым цветом выделены представители XVII династии.
Напишите отзыв о статье "Тутмос III"
Примечания
- ↑ 1 2 3 4 Виноградов И. В. Глава XXI. Новое царство в Египте и Поздний Египет // История Востока: В 6 т. — М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1995. — Т. 1: Восток в древности. — С. 375—376. — ISBN 5-02-017936-1.
- ↑ Авдиев В. И. [annals.xlegio.ru/egipet/avdiev/vide2_4.htm#8p Глава IV. Походы Тутмоса III // Военная история Древнего: Т. 2. - М.: Издательство академии наук СССР, 1959.]. Проверено 19 октября 2011. [www.webcitation.org/65CyqONqa Архивировано из первоисточника 4 февраля 2012].
- ↑ [www.krugosvet.ru/enc/istoriya/IGLI KLEOPATRI.html]
- ↑ [worldhistory.ru/persons_about/1963.html Брэстед Дж., Тураев Б.А, «История Древнего Египта»: Итоги правления Тутмоса III]
Фильмы
- «Тутмос III — Рассказы из могилы: Короля Воинов Египта» / «Thutmose III — Tales from the tomb: Egypt’s warrior king» — 2005, США, National Geographic Channel. ([video.yandex.ru/users/glossword/view/56/# смотреть online])
Литература
- [ru-egypt.com/sources/vzjatie_jupy Взятие Юпы]
- История Древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. Часть 2. Передняя Азия. Египет / Под редакцией Г. М. Бонгард-Левина. — М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1988. — 623 с. — 25 000 экз.
- Тураев Б.А.. [historic.ru/books/item/f00/s00/z0000044/index.shtml История древнего Востока] / Под редакцией Струве В. В. и Снегирёва И. Л. — 2-е стереот. изд. — Л.: Соцэкгиз, 1935. — Т. 1. — 15 250 экз.
- Авдиев В. И. [annals.xlegio.ru/egipet/avdiev/avdiev.htm Военная история древнего Египта]. — Т. 2. Период крупных войн в Передней Азии и Нубии в XVI—XV вв. до н. э. — С. 97—159.
- Брэстед Дж. Г., Тураев Б. А. [worldhistory.ru/persons_about/1962.html История Древнего Египта]. — Мн.: Харвест, 2004.
- Тураев Б. А. История Древнего Востока. — Мн.: Харвест, 2004.
- Мертц Б. Древний Египет: Храмы, гробницы, иероглифы. / Пер с англ. — М.: Центрполиграф, 2003.
- Василевская В. Тутмос (Серия: Золотая библиотека исторического романа. Великие властители) — М.: АСТ, Астрель, 2002.
- Летописи Тутмоса III // Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. М. А. Коростовцева и др. — М., 1980.
- [replay.waybackmachine.org/20080511203747/www.genealogia.ru/projects/lib/catalog/rulers/1.htm Древний Восток и античность]. // [replay.waybackmachine.org/20080511203747/www.genealogia.ru/projects/lib/catalog/rulers/0.htm Правители Мира. Хронологическо-генеалогические таблицы по всемирной истории в 4 тт.] / Автор-составитель В. В. Эрлихман. — Т. 1.
- Redford, Donald B. The Wars in Syria and Palestine of Thutmose III, [Culture and History of the Ancient Near East 16], Leiden: Brill, 2003.
- Cline, Eric H. and O’Connor, David. Thutmose III : A New Biography. — University of Michigan Press, 2006.
- Петер Элебрахт. Трагедия пирамид! 5000 лет разграбления египетских усыпальниц. / Перевод с немецкого О. И. Павловой. — М.: издательство «Прогресс», 1984. / Peter Ehlebracht «Heltet die Piramiden Fest! 5000 Jahre Grabraub in Agypten» Dusseldorf — W.: Econ Verlag, 1980.
Ссылки
- (англ.) [www.egyptologyonline.com/tuthmosis_iii.htm Тутмос III (Egyptology Online)]
- (англ.) [www.touregypt.net/featurestories/tuthmosis3.htm Биография Тутмоса III]
- [www.licey.net/history/war/index.php?page=02_megiddo.php&left=left1.php Мегиддо: первая победа Тутмоса III. Сайт книжной серии «Сражения, изменившие ход истории»]
| XVIII династия | ||
| Предшественник: Хатшепсут |
фараон Египта номинально ок. 1479 — 1425 до н. э. фактически ок. 1458 — 1425 до н. э. |
Преемник: Аменхотеп II |
Отрывок, характеризующий Тутмос III
С этого дня, во время всего дальнейшего путешествия Ростовых, на всех отдыхах и ночлегах, Наташа не отходила от раненого Болконского, и доктор должен был признаться, что он не ожидал от девицы ни такой твердости, ни такого искусства ходить за раненым.
Как ни страшна казалась для графини мысль, что князь Андрей мог (весьма вероятно, по словам доктора) умереть во время дороги на руках ее дочери, она не могла противиться Наташе. Хотя вследствие теперь установившегося сближения между раненым князем Андреем и Наташей приходило в голову, что в случае выздоровления прежние отношения жениха и невесты будут возобновлены, никто, еще менее Наташа и князь Андрей, не говорил об этом: нерешенный, висящий вопрос жизни или смерти не только над Болконским, но над Россией заслонял все другие предположения.
Пьер проснулся 3 го сентября поздно. Голова его болела, платье, в котором он спал не раздеваясь, тяготило его тело, и на душе было смутное сознание чего то постыдного, совершенного накануне; это постыдное был вчерашний разговор с капитаном Рамбалем.
Часы показывали одиннадцать, но на дворе казалось особенно пасмурно. Пьер встал, протер глаза и, увидав пистолет с вырезным ложем, который Герасим положил опять на письменный стол, Пьер вспомнил то, где он находился и что ему предстояло именно в нынешний день.
«Уж не опоздал ли я? – подумал Пьер. – Нет, вероятно, он сделает свой въезд в Москву не ранее двенадцати». Пьер не позволял себе размышлять о том, что ему предстояло, но торопился поскорее действовать.
Оправив на себе платье, Пьер взял в руки пистолет и сбирался уже идти. Но тут ему в первый раз пришла мысль о том, каким образом, не в руке же, по улице нести ему это оружие. Даже и под широким кафтаном трудно было спрятать большой пистолет. Ни за поясом, ни под мышкой нельзя было поместить его незаметным. Кроме того, пистолет был разряжен, а Пьер не успел зарядить его. «Все равно, кинжал», – сказал себе Пьер, хотя он не раз, обсуживая исполнение своего намерения, решал сам с собою, что главная ошибка студента в 1809 году состояла в том, что он хотел убить Наполеона кинжалом. Но, как будто главная цель Пьера состояла не в том, чтобы исполнить задуманное дело, а в том, чтобы показать самому себе, что не отрекается от своего намерения и делает все для исполнения его, Пьер поспешно взял купленный им у Сухаревой башни вместе с пистолетом тупой зазубренный кинжал в зеленых ножнах и спрятал его под жилет.
Подпоясав кафтан и надвинув шапку, Пьер, стараясь не шуметь и не встретить капитана, прошел по коридору и вышел на улицу.
Тот пожар, на который так равнодушно смотрел он накануне вечером, за ночь значительно увеличился. Москва горела уже с разных сторон. Горели в одно и то же время Каретный ряд, Замоскворечье, Гостиный двор, Поварская, барки на Москве реке и дровяной рынок у Дорогомиловского моста.
Путь Пьера лежал через переулки на Поварскую и оттуда на Арбат, к Николе Явленному, у которого он в воображении своем давно определил место, на котором должно быть совершено его дело. У большей части домов были заперты ворота и ставни. Улицы и переулки были пустынны. В воздухе пахло гарью и дымом. Изредка встречались русские с беспокойно робкими лицами и французы с негородским, лагерным видом, шедшие по серединам улиц. И те и другие с удивлением смотрели на Пьера. Кроме большого роста и толщины, кроме странного мрачно сосредоточенного и страдальческого выражения лица и всей фигуры, русские присматривались к Пьеру, потому что не понимали, к какому сословию мог принадлежать этот человек. Французы же с удивлением провожали его глазами, в особенности потому, что Пьер, противно всем другим русским, испуганно или любопытна смотревшим на французов, не обращал на них никакого внимания. У ворот одного дома три француза, толковавшие что то не понимавшим их русским людям, остановили Пьера, спрашивая, не знает ли он по французски?
Пьер отрицательно покачал головой и пошел дальше. В другом переулке на него крикнул часовой, стоявший у зеленого ящика, и Пьер только на повторенный грозный крик и звук ружья, взятого часовым на руку, понял, что он должен был обойти другой стороной улицы. Он ничего не слышал и не видел вокруг себя. Он, как что то страшное и чуждое ему, с поспешностью и ужасом нес в себе свое намерение, боясь – наученный опытом прошлой ночи – как нибудь растерять его. Но Пьеру не суждено было донести в целости свое настроение до того места, куда он направлялся. Кроме того, ежели бы даже он и не был ничем задержан на пути, намерение его не могло быть исполнено уже потому, что Наполеон тому назад более четырех часов проехал из Дорогомиловского предместья через Арбат в Кремль и теперь в самом мрачном расположении духа сидел в царском кабинете кремлевского дворца и отдавал подробные, обстоятельные приказания о мерах, которые немедленно должны были бытт, приняты для тушения пожара, предупреждения мародерства и успокоения жителей. Но Пьер не знал этого; он, весь поглощенный предстоящим, мучился, как мучаются люди, упрямо предпринявшие дело невозможное – не по трудностям, но по несвойственности дела с своей природой; он мучился страхом того, что он ослабеет в решительную минуту и, вследствие того, потеряет уважение к себе.
Он хотя ничего не видел и не слышал вокруг себя, но инстинктом соображал дорогу и не ошибался переулками, выводившими его на Поварскую.
По мере того как Пьер приближался к Поварской, дым становился сильнее и сильнее, становилось даже тепло от огня пожара. Изредка взвивались огненные языка из за крыш домов. Больше народу встречалось на улицах, и народ этот был тревожнее. Но Пьер, хотя и чувствовал, что что то такое необыкновенное творилось вокруг него, не отдавал себе отчета о том, что он подходил к пожару. Проходя по тропинке, шедшей по большому незастроенному месту, примыкавшему одной стороной к Поварской, другой к садам дома князя Грузинского, Пьер вдруг услыхал подле самого себя отчаянный плач женщины. Он остановился, как бы пробудившись от сна, и поднял голову.
В стороне от тропинки, на засохшей пыльной траве, были свалены кучей домашние пожитки: перины, самовар, образа и сундуки. На земле подле сундуков сидела немолодая худая женщина, с длинными высунувшимися верхними зубами, одетая в черный салоп и чепчик. Женщина эта, качаясь и приговаривая что то, надрываясь плакала. Две девочки, от десяти до двенадцати лет, одетые в грязные коротенькие платьица и салопчики, с выражением недоумения на бледных, испуганных лицах, смотрели на мать. Меньшой мальчик, лет семи, в чуйке и в чужом огромном картузе, плакал на руках старухи няньки. Босоногая грязная девка сидела на сундуке и, распустив белесую косу, обдергивала опаленные волосы, принюхиваясь к ним. Муж, невысокий сутуловатый человек в вицмундире, с колесообразными бакенбардочками и гладкими височками, видневшимися из под прямо надетого картуза, с неподвижным лицом раздвигал сундуки, поставленные один на другом, и вытаскивал из под них какие то одеяния.
Женщина почти бросилась к ногам Пьера, когда она увидала его.
– Батюшки родимые, христиане православные, спасите, помогите, голубчик!.. кто нибудь помогите, – выговаривала она сквозь рыдания. – Девочку!.. Дочь!.. Дочь мою меньшую оставили!.. Сгорела! О о оо! для того я тебя леле… О о оо!
– Полно, Марья Николаевна, – тихим голосом обратился муж к жене, очевидно, для того только, чтобы оправдаться пред посторонним человеком. – Должно, сестрица унесла, а то больше где же быть? – прибавил он.
– Истукан! Злодей! – злобно закричала женщина, вдруг прекратив плач. – Сердца в тебе нет, свое детище не жалеешь. Другой бы из огня достал. А это истукан, а не человек, не отец. Вы благородный человек, – скороговоркой, всхлипывая, обратилась женщина к Пьеру. – Загорелось рядом, – бросило к нам. Девка закричала: горит! Бросились собирать. В чем были, в том и выскочили… Вот что захватили… Божье благословенье да приданую постель, а то все пропало. Хвать детей, Катечки нет. О, господи! О о о! – и опять она зарыдала. – Дитятко мое милое, сгорело! сгорело!
– Да где, где же она осталась? – сказал Пьер. По выражению оживившегося лица его женщина поняла, что этот человек мог помочь ей.
– Батюшка! Отец! – закричала она, хватая его за ноги. – Благодетель, хоть сердце мое успокой… Аниска, иди, мерзкая, проводи, – крикнула она на девку, сердито раскрывая рот и этим движением еще больше выказывая свои длинные зубы.
– Проводи, проводи, я… я… сделаю я, – запыхавшимся голосом поспешно сказал Пьер.
Грязная девка вышла из за сундука, прибрала косу и, вздохнув, пошла тупыми босыми ногами вперед по тропинке. Пьер как бы вдруг очнулся к жизни после тяжелого обморока. Он выше поднял голову, глаза его засветились блеском жизни, и он быстрыми шагами пошел за девкой, обогнал ее и вышел на Поварскую. Вся улица была застлана тучей черного дыма. Языки пламени кое где вырывались из этой тучи. Народ большой толпой теснился перед пожаром. В середине улицы стоял французский генерал и говорил что то окружавшим его. Пьер, сопутствуемый девкой, подошел было к тому месту, где стоял генерал; но французские солдаты остановили его.
– On ne passe pas, [Тут не проходят,] – крикнул ему голос.
– Сюда, дяденька! – проговорила девка. – Мы переулком, через Никулиных пройдем.
Пьер повернулся назад и пошел, изредка подпрыгивая, чтобы поспевать за нею. Девка перебежала улицу, повернула налево в переулок и, пройдя три дома, завернула направо в ворота.
– Вот тут сейчас, – сказала девка, и, пробежав двор, она отворила калитку в тесовом заборе и, остановившись, указала Пьеру на небольшой деревянный флигель, горевший светло и жарко. Одна сторона его обрушилась, другая горела, и пламя ярко выбивалось из под отверстий окон и из под крыши.
Когда Пьер вошел в калитку, его обдало жаром, и он невольно остановился.
– Который, который ваш дом? – спросил он.
– О о ох! – завыла девка, указывая на флигель. – Он самый, она самая наша фатера была. Сгорела, сокровище ты мое, Катечка, барышня моя ненаглядная, о ох! – завыла Аниска при виде пожара, почувствовавши необходимость выказать и свои чувства.
Пьер сунулся к флигелю, но жар был так силен, что он невольна описал дугу вокруг флигеля и очутился подле большого дома, который еще горел только с одной стороны с крыши и около которого кишела толпа французов. Пьер сначала не понял, что делали эти французы, таскавшие что то; но, увидав перед собою француза, который бил тупым тесаком мужика, отнимая у него лисью шубу, Пьер понял смутно, что тут грабили, но ему некогда было останавливаться на этой мысли.
Звук треска и гула заваливающихся стен и потолков, свиста и шипенья пламени и оживленных криков народа, вид колеблющихся, то насупливающихся густых черных, то взмывающих светлеющих облаков дыма с блестками искр и где сплошного, сноповидного, красного, где чешуйчато золотого, перебирающегося по стенам пламени, ощущение жара и дыма и быстроты движения произвели на Пьера свое обычное возбуждающее действие пожаров. Действие это было в особенности сильно на Пьера, потому что Пьер вдруг при виде этого пожара почувствовал себя освобожденным от тяготивших его мыслей. Он чувствовал себя молодым, веселым, ловким и решительным. Он обежал флигелек со стороны дома и хотел уже бежать в ту часть его, которая еще стояла, когда над самой головой его послышался крик нескольких голосов и вслед за тем треск и звон чего то тяжелого, упавшего подле него.
Пьер оглянулся и увидал в окнах дома французов, выкинувших ящик комода, наполненный какими то металлическими вещами. Другие французские солдаты, стоявшие внизу, подошли к ящику.
– Eh bien, qu'est ce qu'il veut celui la, [Этому что еще надо,] – крикнул один из французов на Пьера.
– Un enfant dans cette maison. N'avez vous pas vu un enfant? [Ребенка в этом доме. Не видали ли вы ребенка?] – сказал Пьер.
– Tiens, qu'est ce qu'il chante celui la? Va te promener, [Этот что еще толкует? Убирайся к черту,] – послышались голоса, и один из солдат, видимо, боясь, чтобы Пьер не вздумал отнимать у них серебро и бронзы, которые были в ящике, угрожающе надвинулся на него.
– Un enfant? – закричал сверху француз. – J'ai entendu piailler quelque chose au jardin. Peut etre c'est sou moutard au bonhomme. Faut etre humain, voyez vous… [Ребенок? Я слышал, что то пищало в саду. Может быть, это его ребенок. Что ж, надо по человечеству. Мы все люди…]
– Ou est il? Ou est il? [Где он? Где он?] – спрашивал Пьер.
– Par ici! Par ici! [Сюда, сюда!] – кричал ему француз из окна, показывая на сад, бывший за домом. – Attendez, je vais descendre. [Погодите, я сейчас сойду.]
И действительно, через минуту француз, черноглазый малый с каким то пятном на щеке, в одной рубашке выскочил из окна нижнего этажа и, хлопнув Пьера по плечу, побежал с ним в сад.
– Depechez vous, vous autres, – крикнул он своим товарищам, – commence a faire chaud. [Эй, вы, живее, припекать начинает.]
Выбежав за дом на усыпанную песком дорожку, француз дернул за руку Пьера и указал ему на круг. Под скамейкой лежала трехлетняя девочка в розовом платьице.
– Voila votre moutard. Ah, une petite, tant mieux, – сказал француз. – Au revoir, mon gros. Faut etre humain. Nous sommes tous mortels, voyez vous, [Вот ваш ребенок. А, девочка, тем лучше. До свидания, толстяк. Что ж, надо по человечеству. Все люди,] – и француз с пятном на щеке побежал назад к своим товарищам.
Пьер, задыхаясь от радости, подбежал к девочке и хотел взять ее на руки. Но, увидав чужого человека, золотушно болезненная, похожая на мать, неприятная на вид девочка закричала и бросилась бежать. Пьер, однако, схватил ее и поднял на руки; она завизжала отчаянно злобным голосом и своими маленькими ручонками стала отрывать от себя руки Пьера и сопливым ртом кусать их. Пьера охватило чувство ужаса и гадливости, подобное тому, которое он испытывал при прикосновении к какому нибудь маленькому животному. Но он сделал усилие над собою, чтобы не бросить ребенка, и побежал с ним назад к большому дому. Но пройти уже нельзя было назад той же дорогой; девки Аниски уже не было, и Пьер с чувством жалости и отвращения, прижимая к себе как можно нежнее страдальчески всхлипывавшую и мокрую девочку, побежал через сад искать другого выхода.
Когда Пьер, обежав дворами и переулками, вышел назад с своей ношей к саду Грузинского, на углу Поварской, он в первую минуту не узнал того места, с которого он пошел за ребенком: так оно было загромождено народом и вытащенными из домов пожитками. Кроме русских семей с своим добром, спасавшихся здесь от пожара, тут же было и несколько французских солдат в различных одеяниях. Пьер не обратил на них внимания. Он спешил найти семейство чиновника, с тем чтобы отдать дочь матери и идти опять спасать еще кого то. Пьеру казалось, что ему что то еще многое и поскорее нужно сделать. Разгоревшись от жара и беготни, Пьер в эту минуту еще сильнее, чем прежде, испытывал то чувство молодости, оживления и решительности, которое охватило его в то время, как он побежал спасать ребенка. Девочка затихла теперь и, держась ручонками за кафтан Пьера, сидела на его руке и, как дикий зверек, оглядывалась вокруг себя. Пьер изредка поглядывал на нее и слегка улыбался. Ему казалось, что он видел что то трогательно невинное и ангельское в этом испуганном и болезненном личике.
На прежнем месте ни чиновника, ни его жены уже не было. Пьер быстрыми шагами ходил между народом, оглядывая разные лица, попадавшиеся ему. Невольно он заметил грузинское или армянское семейство, состоявшее из красивого, с восточным типом лица, очень старого человека, одетого в новый крытый тулуп и новые сапоги, старухи такого же типа и молодой женщины. Очень молодая женщина эта показалась Пьеру совершенством восточной красоты, с ее резкими, дугами очерченными черными бровями и длинным, необыкновенно нежно румяным и красивым лицом без всякого выражения. Среди раскиданных пожитков, в толпе на площади, она, в своем богатом атласном салопе и ярко лиловом платке, накрывавшем ее голову, напоминала нежное тепличное растение, выброшенное на снег. Она сидела на узлах несколько позади старухи и неподвижно большими черными продолговатыми, с длинными ресницами, глазами смотрела в землю. Видимо, она знала свою красоту и боялась за нее. Лицо это поразило Пьера, и он, в своей поспешности, проходя вдоль забора, несколько раз оглянулся на нее. Дойдя до забора и все таки не найдя тех, кого ему было нужно, Пьер остановился, оглядываясь.
Фигура Пьера с ребенком на руках теперь была еще более замечательна, чем прежде, и около него собралось несколько человек русских мужчин и женщин.
– Или потерял кого, милый человек? Сами вы из благородных, что ли? Чей ребенок то? – спрашивали у него.
Пьер отвечал, что ребенок принадлежал женщине и черном салопе, которая сидела с детьми на этом месте, и спрашивал, не знает ли кто ее и куда она перешла.
– Ведь это Анферовы должны быть, – сказал старый дьякон, обращаясь к рябой бабе. – Господи помилуй, господи помилуй, – прибавил он привычным басом.
– Где Анферовы! – сказала баба. – Анферовы еще с утра уехали. А это либо Марьи Николавны, либо Ивановы.
– Он говорит – женщина, а Марья Николавна – барыня, – сказал дворовый человек.
– Да вы знаете ее, зубы длинные, худая, – говорил Пьер.
– И есть Марья Николавна. Они ушли в сад, как тут волки то эти налетели, – сказала баба, указывая на французских солдат.
– О, господи помилуй, – прибавил опять дьякон.
– Вы пройдите вот туда то, они там. Она и есть. Все убивалась, плакала, – сказала опять баба. – Она и есть. Вот сюда то.
Но Пьер не слушал бабу. Он уже несколько секунд, не спуская глаз, смотрел на то, что делалось в нескольких шагах от него. Он смотрел на армянское семейство и двух французских солдат, подошедших к армянам. Один из этих солдат, маленький вертлявый человечек, был одет в синюю шинель, подпоясанную веревкой. На голове его был колпак, и ноги были босые. Другой, который особенно поразил Пьера, был длинный, сутуловатый, белокурый, худой человек с медлительными движениями и идиотическим выражением лица. Этот был одет в фризовый капот, в синие штаны и большие рваные ботфорты. Маленький француз, без сапог, в синей шипели, подойдя к армянам, тотчас же, сказав что то, взялся за ноги старика, и старик тотчас же поспешно стал снимать сапоги. Другой, в капоте, остановился против красавицы армянки и молча, неподвижно, держа руки в карманах, смотрел на нее.
– Возьми, возьми ребенка, – проговорил Пьер, подавая девочку и повелительно и поспешно обращаясь к бабе. – Ты отдай им, отдай! – закричал он почти на бабу, сажая закричавшую девочку на землю, и опять оглянулся на французов и на армянское семейство. Старик уже сидел босой. Маленький француз снял с него последний сапог и похлопывал сапогами один о другой. Старик, всхлипывая, говорил что то, но Пьер только мельком видел это; все внимание его было обращено на француза в капоте, который в это время, медлительно раскачиваясь, подвинулся к молодой женщине и, вынув руки из карманов, взялся за ее шею.
Красавица армянка продолжала сидеть в том же неподвижном положении, с опущенными длинными ресницами, и как будто не видала и не чувствовала того, что делал с нею солдат.
Пока Пьер пробежал те несколько шагов, которые отделяли его от французов, длинный мародер в капоте уж рвал с шеи армянки ожерелье, которое было на ней, и молодая женщина, хватаясь руками за шею, кричала пронзительным голосом.
– Laissez cette femme! [Оставьте эту женщину!] – бешеным голосом прохрипел Пьер, схватывая длинного, сутоловатого солдата за плечи и отбрасывая его. Солдат упал, приподнялся и побежал прочь. Но товарищ его, бросив сапоги, вынул тесак и грозно надвинулся на Пьера.
– Voyons, pas de betises! [Ну, ну! Не дури!] – крикнул он.
Пьер был в том восторге бешенства, в котором он ничего не помнил и в котором силы его удесятерялись. Он бросился на босого француза и, прежде чем тот успел вынуть свой тесак, уже сбил его с ног и молотил по нем кулаками. Послышался одобрительный крик окружавшей толпы, в то же время из за угла показался конный разъезд французских уланов. Уланы рысью подъехали к Пьеру и французу и окружили их. Пьер ничего не помнил из того, что было дальше. Он помнил, что он бил кого то, его били и что под конец он почувствовал, что руки его связаны, что толпа французских солдат стоит вокруг него и обыскивает его платье.
– Il a un poignard, lieutenant, [Поручик, у него кинжал,] – были первые слова, которые понял Пьер.
– Ah, une arme! [А, оружие!] – сказал офицер и обратился к босому солдату, который был взят с Пьером.
– C'est bon, vous direz tout cela au conseil de guerre, [Хорошо, хорошо, на суде все расскажешь,] – сказал офицер. И вслед за тем повернулся к Пьеру: – Parlez vous francais vous? [Говоришь ли по французски?]
Пьер оглядывался вокруг себя налившимися кровью глазами и не отвечал. Вероятно, лицо его показалось очень страшно, потому что офицер что то шепотом сказал, и еще четыре улана отделились от команды и стали по обеим сторонам Пьера.
– Parlez vous francais? – повторил ему вопрос офицер, держась вдали от него. – Faites venir l'interprete. [Позовите переводчика.] – Из за рядов выехал маленький человечек в штатском русском платье. Пьер по одеянию и говору его тотчас же узнал в нем француза одного из московских магазинов.
– Il n'a pas l'air d'un homme du peuple, [Он не похож на простолюдина,] – сказал переводчик, оглядев Пьера.
– Oh, oh! ca m'a bien l'air d'un des incendiaires, – смазал офицер. – Demandez lui ce qu'il est? [О, о! он очень похож на поджигателя. Спросите его, кто он?] – прибавил он.
– Ти кто? – спросил переводчик. – Ти должно отвечать начальство, – сказал он.
– Je ne vous dirai pas qui je suis. Je suis votre prisonnier. Emmenez moi, [Я не скажу вам, кто я. Я ваш пленный. Уводите меня,] – вдруг по французски сказал Пьер.
– Ah, Ah! – проговорил офицер, нахмурившись. – Marchons! [A! A! Ну, марш!]
Около улан собралась толпа. Ближе всех к Пьеру стояла рябая баба с девочкою; когда объезд тронулся, она подвинулась вперед.
– Куда же это ведут тебя, голубчик ты мой? – сказала она. – Девочку то, девочку то куда я дену, коли она не ихняя! – говорила баба.
– Qu'est ce qu'elle veut cette femme? [Чего ей нужно?] – спросил офицер.
Пьер был как пьяный. Восторженное состояние его еще усилилось при виде девочки, которую он спас.
– Ce qu'elle dit? – проговорил он. – Elle m'apporte ma fille que je viens de sauver des flammes, – проговорил он. – Adieu! [Чего ей нужно? Она несет дочь мою, которую я спас из огня. Прощай!] – и он, сам не зная, как вырвалась у него эта бесцельная ложь, решительным, торжественным шагом пошел между французами.
Разъезд французов был один из тех, которые были посланы по распоряжению Дюронеля по разным улицам Москвы для пресечения мародерства и в особенности для поимки поджигателей, которые, по общему, в тот день проявившемуся, мнению у французов высших чинов, были причиною пожаров. Объехав несколько улиц, разъезд забрал еще человек пять подозрительных русских, одного лавочника, двух семинаристов, мужика и дворового человека и нескольких мародеров. Но из всех подозрительных людей подозрительнее всех казался Пьер. Когда их всех привели на ночлег в большой дом на Зубовском валу, в котором была учреждена гауптвахта, то Пьера под строгим караулом поместили отдельно.
В Петербурге в это время в высших кругах, с большим жаром чем когда нибудь, шла сложная борьба партий Румянцева, французов, Марии Феодоровны, цесаревича и других, заглушаемая, как всегда, трубением придворных трутней. Но спокойная, роскошная, озабоченная только призраками, отражениями жизни, петербургская жизнь шла по старому; и из за хода этой жизни надо было делать большие усилия, чтобы сознавать опасность и то трудное положение, в котором находился русский народ. Те же были выходы, балы, тот же французский театр, те же интересы дворов, те же интересы службы и интриги. Только в самых высших кругах делались усилия для того, чтобы напоминать трудность настоящего положения. Рассказывалось шепотом о том, как противоположно одна другой поступили, в столь трудных обстоятельствах, обе императрицы. Императрица Мария Феодоровна, озабоченная благосостоянием подведомственных ей богоугодных и воспитательных учреждений, сделала распоряжение об отправке всех институтов в Казань, и вещи этих заведений уже были уложены. Императрица же Елизавета Алексеевна на вопрос о том, какие ей угодно сделать распоряжения, с свойственным ей русским патриотизмом изволила ответить, что о государственных учреждениях она не может делать распоряжений, так как это касается государя; о том же, что лично зависит от нее, она изволила сказать, что она последняя выедет из Петербурга.
У Анны Павловны 26 го августа, в самый день Бородинского сражения, был вечер, цветком которого должно было быть чтение письма преосвященного, написанного при посылке государю образа преподобного угодника Сергия. Письмо это почиталось образцом патриотического духовного красноречия. Прочесть его должен был сам князь Василий, славившийся своим искусством чтения. (Он же читывал и у императрицы.) Искусство чтения считалось в том, чтобы громко, певуче, между отчаянным завыванием и нежным ропотом переливать слова, совершенно независимо от их значения, так что совершенно случайно на одно слово попадало завывание, на другие – ропот. Чтение это, как и все вечера Анны Павловны, имело политическое значение. На этом вечере должно было быть несколько важных лиц, которых надо было устыдить за их поездки во французский театр и воодушевить к патриотическому настроению. Уже довольно много собралось народа, но Анна Павловна еще не видела в гостиной всех тех, кого нужно было, и потому, не приступая еще к чтению, заводила общие разговоры.
Новостью дня в этот день в Петербурге была болезнь графини Безуховой. Графиня несколько дней тому назад неожиданно заболела, пропустила несколько собраний, которых она была украшением, и слышно было, что она никого не принимает и что вместо знаменитых петербургских докторов, обыкновенно лечивших ее, она вверилась какому то итальянскому доктору, лечившему ее каким то новым и необыкновенным способом.
Все очень хорошо знали, что болезнь прелестной графини происходила от неудобства выходить замуж сразу за двух мужей и что лечение итальянца состояло в устранении этого неудобства; но в присутствии Анны Павловны не только никто не смел думать об этом, но как будто никто и не знал этого.
– On dit que la pauvre comtesse est tres mal. Le medecin dit que c'est l'angine pectorale. [Говорят, что бедная графиня очень плоха. Доктор сказал, что это грудная болезнь.]
– L'angine? Oh, c'est une maladie terrible! [Грудная болезнь? О, это ужасная болезнь!]
– On dit que les rivaux se sont reconcilies grace a l'angine… [Говорят, что соперники примирились благодаря этой болезни.]
Слово angine повторялось с большим удовольствием.
– Le vieux comte est touchant a ce qu'on dit. Il a pleure comme un enfant quand le medecin lui a dit que le cas etait dangereux. [Старый граф очень трогателен, говорят. Он заплакал, как дитя, когда доктор сказал, что случай опасный.]
– Oh, ce serait une perte terrible. C'est une femme ravissante. [О, это была бы большая потеря. Такая прелестная женщина.]
– Vous parlez de la pauvre comtesse, – сказала, подходя, Анна Павловна. – J'ai envoye savoir de ses nouvelles. On m'a dit qu'elle allait un peu mieux. Oh, sans doute, c'est la plus charmante femme du monde, – сказала Анна Павловна с улыбкой над своей восторженностью. – Nous appartenons a des camps differents, mais cela ne m'empeche pas de l'estimer, comme elle le merite. Elle est bien malheureuse, [Вы говорите про бедную графиню… Я посылала узнавать о ее здоровье. Мне сказали, что ей немного лучше. О, без сомнения, это прелестнейшая женщина в мире. Мы принадлежим к различным лагерям, но это не мешает мне уважать ее по ее заслугам. Она так несчастна.] – прибавила Анна Павловна.
Полагая, что этими словами Анна Павловна слегка приподнимала завесу тайны над болезнью графини, один неосторожный молодой человек позволил себе выразить удивление в том, что не призваны известные врачи, а лечит графиню шарлатан, который может дать опасные средства.
– Vos informations peuvent etre meilleures que les miennes, – вдруг ядовито напустилась Анна Павловна на неопытного молодого человека. – Mais je sais de bonne source que ce medecin est un homme tres savant et tres habile. C'est le medecin intime de la Reine d'Espagne. [Ваши известия могут быть вернее моих… но я из хороших источников знаю, что этот доктор очень ученый и искусный человек. Это лейб медик королевы испанской.] – И таким образом уничтожив молодого человека, Анна Павловна обратилась к Билибину, который в другом кружке, подобрав кожу и, видимо, сбираясь распустить ее, чтобы сказать un mot, говорил об австрийцах.
– Je trouve que c'est charmant! [Я нахожу, что это прелестно!] – говорил он про дипломатическую бумагу, при которой отосланы были в Вену австрийские знамена, взятые Витгенштейном, le heros de Petropol [героем Петрополя] (как его называли в Петербурге).
– Как, как это? – обратилась к нему Анна Павловна, возбуждая молчание для услышания mot, которое она уже знала.
И Билибин повторил следующие подлинные слова дипломатической депеши, им составленной:
– L'Empereur renvoie les drapeaux Autrichiens, – сказал Билибин, – drapeaux amis et egares qu'il a trouve hors de la route, [Император отсылает австрийские знамена, дружеские и заблудшиеся знамена, которые он нашел вне настоящей дороги.] – докончил Билибин, распуская кожу.
– Charmant, charmant, [Прелестно, прелестно,] – сказал князь Василий.
– C'est la route de Varsovie peut etre, [Это варшавская дорога, может быть.] – громко и неожиданно сказал князь Ипполит. Все оглянулись на него, не понимая того, что он хотел сказать этим. Князь Ипполит тоже с веселым удивлением оглядывался вокруг себя. Он так же, как и другие, не понимал того, что значили сказанные им слова. Он во время своей дипломатической карьеры не раз замечал, что таким образом сказанные вдруг слова оказывались очень остроумны, и он на всякий случай сказал эти слова, первые пришедшие ему на язык. «Может, выйдет очень хорошо, – думал он, – а ежели не выйдет, они там сумеют это устроить». Действительно, в то время как воцарилось неловкое молчание, вошло то недостаточно патриотическое лицо, которого ждала для обращения Анна Павловна, и она, улыбаясь и погрозив пальцем Ипполиту, пригласила князя Василия к столу, и, поднося ему две свечи и рукопись, попросила его начать. Все замолкло.
– Всемилостивейший государь император! – строго провозгласил князь Василий и оглянул публику, как будто спрашивая, не имеет ли кто сказать что нибудь против этого. Но никто ничего не сказал. – «Первопрестольный град Москва, Новый Иерусалим, приемлет Христа своего, – вдруг ударил он на слове своего, – яко мать во объятия усердных сынов своих, и сквозь возникающую мглу, провидя блистательную славу твоея державы, поет в восторге: «Осанна, благословен грядый!» – Князь Василий плачущим голосом произнес эти последние слова.
Билибин рассматривал внимательно свои ногти, и многие, видимо, робели, как бы спрашивая, в чем же они виноваты? Анна Павловна шепотом повторяла уже вперед, как старушка молитву причастия: «Пусть дерзкий и наглый Голиаф…» – прошептала она.
Князь Василий продолжал:
– «Пусть дерзкий и наглый Голиаф от пределов Франции обносит на краях России смертоносные ужасы; кроткая вера, сия праща российского Давида, сразит внезапно главу кровожаждущей его гордыни. Се образ преподобного Сергия, древнего ревнителя о благе нашего отечества, приносится вашему императорскому величеству. Болезную, что слабеющие мои силы препятствуют мне насладиться любезнейшим вашим лицезрением. Теплые воссылаю к небесам молитвы, да всесильный возвеличит род правых и исполнит во благих желания вашего величества».
– Quelle force! Quel style! [Какая сила! Какой слог!] – послышались похвалы чтецу и сочинителю. Воодушевленные этой речью, гости Анны Павловны долго еще говорили о положении отечества и делали различные предположения об исходе сражения, которое на днях должно было быть дано.
– Vous verrez, [Вы увидите.] – сказала Анна Павловна, – что завтра, в день рождения государя, мы получим известие. У меня есть хорошее предчувствие.
Предчувствие Анны Павловны действительно оправдалось. На другой день, во время молебствия во дворце по случаю дня рождения государя, князь Волконский был вызван из церкви и получил конверт от князя Кутузова. Это было донесение Кутузова, писанное в день сражения из Татариновой. Кутузов писал, что русские не отступили ни на шаг, что французы потеряли гораздо более нашего, что он доносит второпях с поля сражения, не успев еще собрать последних сведений. Стало быть, это была победа. И тотчас же, не выходя из храма, была воздана творцу благодарность за его помощь и за победу.
Предчувствие Анны Павловны оправдалось, и в городе все утро царствовало радостно праздничное настроение духа. Все признавали победу совершенною, и некоторые уже говорили о пленении самого Наполеона, о низложении его и избрании новой главы для Франции.
Вдали от дела и среди условий придворной жизни весьма трудно, чтобы события отражались во всей их полноте и силе. Невольно события общие группируются около одного какого нибудь частного случая. Так теперь главная радость придворных заключалась столько же в том, что мы победили, сколько и в том, что известие об этой победе пришлось именно в день рождения государя. Это было как удавшийся сюрприз. В известии Кутузова сказано было тоже о потерях русских, и в числе их названы Тучков, Багратион, Кутайсов. Тоже и печальная сторона события невольно в здешнем, петербургском мире сгруппировалась около одного события – смерти Кутайсова. Его все знали, государь любил его, он был молод и интересен. В этот день все встречались с словами:
– Как удивительно случилось. В самый молебен. А какая потеря Кутайсов! Ах, как жаль!
– Что я вам говорил про Кутузова? – говорил теперь князь Василий с гордостью пророка. – Я говорил всегда, что он один способен победить Наполеона.
Но на другой день не получалось известия из армии, и общий голос стал тревожен. Придворные страдали за страдания неизвестности, в которой находился государь.
– Каково положение государя! – говорили придворные и уже не превозносили, как третьего дня, а теперь осуждали Кутузова, бывшего причиной беспокойства государя. Князь Василий в этот день уже не хвастался более своим protege Кутузовым, а хранил молчание, когда речь заходила о главнокомандующем. Кроме того, к вечеру этого дня как будто все соединилось для того, чтобы повергнуть в тревогу и беспокойство петербургских жителей: присоединилась еще одна страшная новость. Графиня Елена Безухова скоропостижно умерла от этой страшной болезни, которую так приятно было выговаривать. Официально в больших обществах все говорили, что графиня Безухова умерла от страшного припадка angine pectorale [грудной ангины], но в интимных кружках рассказывали подробности о том, как le medecin intime de la Reine d'Espagne [лейб медик королевы испанской] предписал Элен небольшие дозы какого то лекарства для произведения известного действия; но как Элен, мучимая тем, что старый граф подозревал ее, и тем, что муж, которому она писала (этот несчастный развратный Пьер), не отвечал ей, вдруг приняла огромную дозу выписанного ей лекарства и умерла в мучениях, прежде чем могли подать помощь. Рассказывали, что князь Василий и старый граф взялись было за итальянца; но итальянец показал такие записки от несчастной покойницы, что его тотчас же отпустили.
Общий разговор сосредоточился около трех печальных событий: неизвестности государя, погибели Кутайсова и смерти Элен.
На третий день после донесения Кутузова в Петербург приехал помещик из Москвы, и по всему городу распространилось известие о сдаче Москвы французам. Это было ужасно! Каково было положение государя! Кутузов был изменник, и князь Василий во время visites de condoleance [визитов соболезнования] по случаю смерти его дочери, которые ему делали, говорил о прежде восхваляемом им Кутузове (ему простительно было в печали забыть то, что он говорил прежде), он говорил, что нельзя было ожидать ничего другого от слепого и развратного старика.
– Я удивляюсь только, как можно было поручить такому человеку судьбу России.
Пока известие это было еще неофициально, в нем можно было еще сомневаться, но на другой день пришло от графа Растопчина следующее донесение:
«Адъютант князя Кутузова привез мне письмо, в коем он требует от меня полицейских офицеров для сопровождения армии на Рязанскую дорогу. Он говорит, что с сожалением оставляет Москву. Государь! поступок Кутузова решает жребий столицы и Вашей империи. Россия содрогнется, узнав об уступлении города, где сосредоточивается величие России, где прах Ваших предков. Я последую за армией. Я все вывез, мне остается плакать об участи моего отечества».
Получив это донесение, государь послал с князем Волконским следующий рескрипт Кутузову:
«Князь Михаил Иларионович! С 29 августа не имею я никаких донесений от вас. Между тем от 1 го сентября получил я через Ярославль, от московского главнокомандующего, печальное известие, что вы решились с армиею оставить Москву. Вы сами можете вообразить действие, какое произвело на меня это известие, а молчание ваше усугубляет мое удивление. Я отправляю с сим генерал адъютанта князя Волконского, дабы узнать от вас о положении армии и о побудивших вас причинах к столь печальной решимости».
Девять дней после оставления Москвы в Петербург приехал посланный от Кутузова с официальным известием об оставлении Москвы. Посланный этот был француз Мишо, не знавший по русски, но quoique etranger, Busse de c?ur et d'ame, [впрочем, хотя иностранец, но русский в глубине души,] как он сам говорил про себя.
Государь тотчас же принял посланного в своем кабинете, во дворце Каменного острова. Мишо, который никогда не видал Москвы до кампании и который не знал по русски, чувствовал себя все таки растроганным, когда он явился перед notre tres gracieux souverain [нашим всемилостивейшим повелителем] (как он писал) с известием о пожаре Москвы, dont les flammes eclairaient sa route [пламя которой освещало его путь].
Хотя источник chagrin [горя] г на Мишо и должен был быть другой, чем тот, из которого вытекало горе русских людей, Мишо имел такое печальное лицо, когда он был введен в кабинет государя, что государь тотчас же спросил у него:
– M'apportez vous de tristes nouvelles, colonel? [Какие известия привезли вы мне? Дурные, полковник?]
– Bien tristes, sire, – отвечал Мишо, со вздохом опуская глаза, – l'abandon de Moscou. [Очень дурные, ваше величество, оставление Москвы.]
– Aurait on livre mon ancienne capitale sans se battre? [Неужели предали мою древнюю столицу без битвы?] – вдруг вспыхнув, быстро проговорил государь.
Мишо почтительно передал то, что ему приказано было передать от Кутузова, – именно то, что под Москвою драться не было возможности и что, так как оставался один выбор – потерять армию и Москву или одну Москву, то фельдмаршал должен был выбрать последнее.
Государь выслушал молча, не глядя на Мишо.
– L'ennemi est il en ville? [Неприятель вошел в город?] – спросил он.
– Oui, sire, et elle est en cendres a l'heure qu'il est. Je l'ai laissee toute en flammes, [Да, ваше величество, и он обращен в пожарище в настоящее время. Я оставил его в пламени.] – решительно сказал Мишо; но, взглянув на государя, Мишо ужаснулся тому, что он сделал. Государь тяжело и часто стал дышать, нижняя губа его задрожала, и прекрасные голубые глаза мгновенно увлажились слезами.
Но это продолжалось только одну минуту. Государь вдруг нахмурился, как бы осуждая самого себя за свою слабость. И, приподняв голову, твердым голосом обратился к Мишо.
– Je vois, colonel, par tout ce qui nous arrive, – сказал он, – que la providence exige de grands sacrifices de nous… Je suis pret a me soumettre a toutes ses volontes; mais dites moi, Michaud, comment avez vous laisse l'armee, en voyant ainsi, sans coup ferir abandonner mon ancienne capitale? N'avez vous pas apercu du decouragement?.. [Я вижу, полковник, по всему, что происходит, что провидение требует от нас больших жертв… Я готов покориться его воле; но скажите мне, Мишо, как оставили вы армию, покидавшую без битвы мою древнюю столицу? Не заметили ли вы в ней упадка духа?]
Увидав успокоение своего tres gracieux souverain, Мишо тоже успокоился, но на прямой существенный вопрос государя, требовавший и прямого ответа, он не успел еще приготовить ответа.
– Sire, me permettrez vous de vous parler franchement en loyal militaire? [Государь, позволите ли вы мне говорить откровенно, как подобает настоящему воину?] – сказал он, чтобы выиграть время.
– Colonel, je l'exige toujours, – сказал государь. – Ne me cachez rien, je veux savoir absolument ce qu'il en est. [Полковник, я всегда этого требую… Не скрывайте ничего, я непременно хочу знать всю истину.]
– Sire! – сказал Мишо с тонкой, чуть заметной улыбкой на губах, успев приготовить свой ответ в форме легкого и почтительного jeu de mots [игры слов]. – Sire! j'ai laisse toute l'armee depuis les chefs jusqu'au dernier soldat, sans exception, dans une crainte epouvantable, effrayante… [Государь! Я оставил всю армию, начиная с начальников и до последнего солдата, без исключения, в великом, отчаянном страхе…]
– Comment ca? – строго нахмурившись, перебил государь. – Mes Russes se laisseront ils abattre par le malheur… Jamais!.. [Как так? Мои русские могут ли пасть духом перед неудачей… Никогда!..]
Этого только и ждал Мишо для вставления своей игры слов.
– Sire, – сказал он с почтительной игривостью выражения, – ils craignent seulement que Votre Majeste par bonte de c?ur ne se laisse persuader de faire la paix. Ils brulent de combattre, – говорил уполномоченный русского народа, – et de prouver a Votre Majeste par le sacrifice de leur vie, combien ils lui sont devoues… [Государь, они боятся только того, чтобы ваше величество по доброте души своей не решились заключить мир. Они горят нетерпением снова драться и доказать вашему величеству жертвой своей жизни, насколько они вам преданы…]
– Ah! – успокоенно и с ласковым блеском глаз сказал государь, ударяя по плечу Мишо. – Vous me tranquillisez, colonel. [А! Вы меня успокоиваете, полковник.]
Государь, опустив голову, молчал несколько времени.
– Eh bien, retournez a l'armee, [Ну, так возвращайтесь к армии.] – сказал он, выпрямляясь во весь рост и с ласковым и величественным жестом обращаясь к Мишо, – et dites a nos braves, dites a tous mes bons sujets partout ou vous passerez, que quand je n'aurais plus aucun soldat, je me mettrai moi meme, a la tete de ma chere noblesse, de mes bons paysans et j'userai ainsi jusqu'a la derniere ressource de mon empire. Il m'en offre encore plus que mes ennemis ne pensent, – говорил государь, все более и более воодушевляясь. – Mais si jamais il fut ecrit dans les decrets de la divine providence, – сказал он, подняв свои прекрасные, кроткие и блестящие чувством глаза к небу, – que ma dinastie dut cesser de rogner sur le trone de mes ancetres, alors, apres avoir epuise tous les moyens qui sont en mon pouvoir, je me laisserai croitre la barbe jusqu'ici (государь показал рукой на половину груди), et j'irai manger des pommes de terre avec le dernier de mes paysans plutot, que de signer la honte de ma patrie et de ma chere nation, dont je sais apprecier les sacrifices!.. [Скажите храбрецам нашим, скажите всем моим подданным, везде, где вы проедете, что, когда у меня не будет больше ни одного солдата, я сам стану во главе моих любезных дворян и добрых мужиков и истощу таким образом последние средства моего государства. Они больше, нежели думают мои враги… Но если бы предназначено было божественным провидением, чтобы династия наша перестала царствовать на престоле моих предков, тогда, истощив все средства, которые в моих руках, я отпущу бороду до сих пор и скорее пойду есть один картофель с последним из моих крестьян, нежели решусь подписать позор моей родины и моего дорогого народа, жертвы которого я умею ценить!..] Сказав эти слова взволнованным голосом, государь вдруг повернулся, как бы желая скрыть от Мишо выступившие ему на глаза слезы, и прошел в глубь своего кабинета. Постояв там несколько мгновений, он большими шагами вернулся к Мишо и сильным жестом сжал его руку пониже локтя. Прекрасное, кроткое лицо государя раскраснелось, и глаза горели блеском решимости и гнева.
– Colonel Michaud, n'oubliez pas ce que je vous dis ici; peut etre qu'un jour nous nous le rappellerons avec plaisir… Napoleon ou moi, – сказал государь, дотрогиваясь до груди. – Nous ne pouvons plus regner ensemble. J'ai appris a le connaitre, il ne me trompera plus… [Полковник Мишо, не забудьте, что я вам сказал здесь; может быть, мы когда нибудь вспомним об этом с удовольствием… Наполеон или я… Мы больше не можем царствовать вместе. Я узнал его теперь, и он меня больше не обманет…] – И государь, нахмурившись, замолчал. Услышав эти слова, увидав выражение твердой решимости в глазах государя, Мишо – quoique etranger, mais Russe de c?ur et d'ame – почувствовал себя в эту торжественную минуту – entousiasme par tout ce qu'il venait d'entendre [хотя иностранец, но русский в глубине души… восхищенным всем тем, что он услышал] (как он говорил впоследствии), и он в следующих выражениях изобразил как свои чувства, так и чувства русского народа, которого он считал себя уполномоченным.
– Sire! – сказал он. – Votre Majeste signe dans ce moment la gloire de la nation et le salut de l'Europe! [Государь! Ваше величество подписывает в эту минуту славу народа и спасение Европы!]
Государь наклонением головы отпустил Мишо.
В то время как Россия была до половины завоевана, и жители Москвы бежали в дальние губернии, и ополченье за ополченьем поднималось на защиту отечества, невольно представляется нам, не жившим в то время, что все русские люди от мала до велика были заняты только тем, чтобы жертвовать собою, спасать отечество или плакать над его погибелью. Рассказы, описания того времени все без исключения говорят только о самопожертвовании, любви к отечеству, отчаянье, горе и геройстве русских. В действительности же это так не было. Нам кажется это так только потому, что мы видим из прошедшего один общий исторический интерес того времени и не видим всех тех личных, человеческих интересов, которые были у людей того времени. А между тем в действительности те личные интересы настоящего до такой степени значительнее общих интересов, что из за них никогда не чувствуется (вовсе не заметен даже) интерес общий. Большая часть людей того времени не обращали никакого внимания на общий ход дел, а руководились только личными интересами настоящего. И эти то люди были самыми полезными деятелями того времени.
Те же, которые пытались понять общий ход дел и с самопожертвованием и геройством хотели участвовать в нем, были самые бесполезные члены общества; они видели все навыворот, и все, что они делали для пользы, оказывалось бесполезным вздором, как полки Пьера, Мамонова, грабившие русские деревни, как корпия, щипанная барынями и никогда не доходившая до раненых, и т. п. Даже те, которые, любя поумничать и выразить свои чувства, толковали о настоящем положении России, невольно носили в речах своих отпечаток или притворства и лжи, или бесполезного осуждения и злобы на людей, обвиняемых за то, в чем никто не мог быть виноват. В исторических событиях очевиднее всего запрещение вкушения плода древа познания. Только одна бессознательная деятельность приносит плоды, и человек, играющий роль в историческом событии, никогда не понимает его значения. Ежели он пытается понять его, он поражается бесплодностью.
Значение совершавшегося тогда в России события тем незаметнее было, чем ближе было в нем участие человека. В Петербурге и губернских городах, отдаленных от Москвы, дамы и мужчины в ополченских мундирах оплакивали Россию и столицу и говорили о самопожертвовании и т. п.; но в армии, которая отступала за Москву, почти не говорили и не думали о Москве, и, глядя на ее пожарище, никто не клялся отомстить французам, а думали о следующей трети жалованья, о следующей стоянке, о Матрешке маркитантше и тому подобное…
Николай Ростов без всякой цели самопожертвования, а случайно, так как война застала его на службе, принимал близкое и продолжительное участие в защите отечества и потому без отчаяния и мрачных умозаключений смотрел на то, что совершалось тогда в России. Ежели бы у него спросили, что он думает о теперешнем положении России, он бы сказал, что ему думать нечего, что на то есть Кутузов и другие, а что он слышал, что комплектуются полки, и что, должно быть, драться еще долго будут, и что при теперешних обстоятельствах ему не мудрено года через два получить полк.
По тому, что он так смотрел на дело, он не только без сокрушения о том, что лишается участия в последней борьбе, принял известие о назначении его в командировку за ремонтом для дивизии в Воронеж, но и с величайшим удовольствием, которое он не скрывал и которое весьма хорошо понимали его товарищи.
За несколько дней до Бородинского сражения Николай получил деньги, бумаги и, послав вперед гусар, на почтовых поехал в Воронеж.
Только тот, кто испытал это, то есть пробыл несколько месяцев не переставая в атмосфере военной, боевой жизни, может понять то наслаждение, которое испытывал Николай, когда он выбрался из того района, до которого достигали войска своими фуражировками, подвозами провианта, гошпиталями; когда он, без солдат, фур, грязных следов присутствия лагеря, увидал деревни с мужиками и бабами, помещичьи дома, поля с пасущимся скотом, станционные дома с заснувшими смотрителями. Он почувствовал такую радость, как будто в первый раз все это видел. В особенности то, что долго удивляло и радовало его, – это были женщины, молодые, здоровые, за каждой из которых не было десятка ухаживающих офицеров, и женщины, которые рады и польщены были тем, что проезжий офицер шутит с ними.
В самом веселом расположении духа Николай ночью приехал в Воронеж в гостиницу, заказал себе все то, чего он долго лишен был в армии, и на другой день, чисто начисто выбрившись и надев давно не надеванную парадную форму, поехал являться к начальству.
Начальник ополчения был статский генерал, старый человек, который, видимо, забавлялся своим военным званием и чином. Он сердито (думая, что в этом военное свойство) принял Николая и значительно, как бы имея на то право и как бы обсуживая общий ход дела, одобряя и не одобряя, расспрашивал его. Николай был так весел, что ему только забавно было это.
От начальника ополчения он поехал к губернатору. Губернатор был маленький живой человечек, весьма ласковый и простой. Он указал Николаю на те заводы, в которых он мог достать лошадей, рекомендовал ему барышника в городе и помещика за двадцать верст от города, у которых были лучшие лошади, и обещал всякое содействие.
– Вы графа Ильи Андреевича сын? Моя жена очень дружна была с вашей матушкой. По четвергам у меня собираются; нынче четверг, милости прошу ко мне запросто, – сказал губернатор, отпуская его.
Прямо от губернатора Николай взял перекладную и, посадив с собою вахмистра, поскакал за двадцать верст на завод к помещику. Все в это первое время пребывания его в Воронеже было для Николая весело и легко, и все, как это бывает, когда человек сам хорошо расположен, все ладилось и спорилось.
Помещик, к которому приехал Николай, был старый кавалерист холостяк, лошадиный знаток, охотник, владетель коверной, столетней запеканки, старого венгерского и чудных лошадей.
Николай в два слова купил за шесть тысяч семнадцать жеребцов на подбор (как он говорил) для казового конца своего ремонта. Пообедав и выпив немножко лишнего венгерского, Ростов, расцеловавшись с помещиком, с которым он уже сошелся на «ты», по отвратительной дороге, в самом веселом расположении духа, поскакал назад, беспрестанно погоняя ямщика, с тем чтобы поспеть на вечер к губернатору.
Переодевшись, надушившись и облив голову холодной подои, Николай хотя несколько поздно, но с готовой фразой: vaut mieux tard que jamais, [лучше поздно, чем никогда,] явился к губернатору.
Это был не бал, и не сказано было, что будут танцевать; но все знали, что Катерина Петровна будет играть на клавикордах вальсы и экосезы и что будут танцевать, и все, рассчитывая на это, съехались по бальному.
Губернская жизнь в 1812 году была точно такая же, как и всегда, только с тою разницею, что в городе было оживленнее по случаю прибытия многих богатых семей из Москвы и что, как и во всем, что происходило в то время в России, была заметна какая то особенная размашистость – море по колено, трын трава в жизни, да еще в том, что тот пошлый разговор, который необходим между людьми и который прежде велся о погоде и об общих знакомых, теперь велся о Москве, о войске и Наполеоне.
Общество, собранное у губернатора, было лучшее общество Воронежа.
Дам было очень много, было несколько московских знакомых Николая; но мужчин не было никого, кто бы сколько нибудь мог соперничать с георгиевским кавалером, ремонтером гусаром и вместе с тем добродушным и благовоспитанным графом Ростовым. В числе мужчин был один пленный итальянец – офицер французской армии, и Николай чувствовал, что присутствие этого пленного еще более возвышало значение его – русского героя. Это был как будто трофей. Николай чувствовал это, и ему казалось, что все так же смотрели на итальянца, и Николай обласкал этого офицера с достоинством и воздержностью.
Как только вошел Николай в своей гусарской форме, распространяя вокруг себя запах духов и вина, и сам сказал и слышал несколько раз сказанные ему слова: vaut mieux tard que jamais, его обступили; все взгляды обратились на него, и он сразу почувствовал, что вступил в подобающее ему в губернии и всегда приятное, но теперь, после долгого лишения, опьянившее его удовольствием положение всеобщего любимца. Не только на станциях, постоялых дворах и в коверной помещика были льстившиеся его вниманием служанки; но здесь, на вечере губернатора, было (как показалось Николаю) неисчерпаемое количество молоденьких дам и хорошеньких девиц, которые с нетерпением только ждали того, чтобы Николай обратил на них внимание. Дамы и девицы кокетничали с ним, и старушки с первого дня уже захлопотали о том, как бы женить и остепенить этого молодца повесу гусара. В числе этих последних была сама жена губернатора, которая приняла Ростова, как близкого родственника, и называла его «Nicolas» и «ты».
Катерина Петровна действительно стала играть вальсы и экосезы, и начались танцы, в которых Николай еще более пленил своей ловкостью все губернское общество. Он удивил даже всех своей особенной, развязной манерой в танцах. Николай сам был несколько удивлен своей манерой танцевать в этот вечер. Он никогда так не танцевал в Москве и счел бы даже неприличным и mauvais genre [дурным тоном] такую слишком развязную манеру танца; но здесь он чувствовал потребность удивить их всех чем нибудь необыкновенным, чем нибудь таким, что они должны были принять за обыкновенное в столицах, но неизвестное еще им в провинции.
Во весь вечер Николай обращал больше всего внимания на голубоглазую, полную и миловидную блондинку, жену одного из губернских чиновников. С тем наивным убеждением развеселившихся молодых людей, что чужие жены сотворены для них, Ростов не отходил от этой дамы и дружески, несколько заговорщически, обращался с ее мужем, как будто они хотя и не говорили этого, но знали, как славно они сойдутся – то есть Николай с женой этого мужа. Муж, однако, казалось, не разделял этого убеждения и старался мрачно обращаться с Ростовым. Но добродушная наивность Николая была так безгранична, что иногда муж невольно поддавался веселому настроению духа Николая. К концу вечера, однако, по мере того как лицо жены становилось все румянее и оживленнее, лицо ее мужа становилось все грустнее и бледнее, как будто доля оживления была одна на обоих, и по мере того как она увеличивалась в жене, она уменьшалась в муже.
Николай, с несходящей улыбкой на лице, несколько изогнувшись на кресле, сидел, близко наклоняясь над блондинкой и говоря ей мифологические комплименты.
Переменяя бойко положение ног в натянутых рейтузах, распространяя от себя запах духов и любуясь и своей дамой, и собою, и красивыми формами своих ног под натянутыми кичкирами, Николай говорил блондинке, что он хочет здесь, в Воронеже, похитить одну даму.
– Какую же?
– Прелестную, божественную. Глаза у ней (Николай посмотрел на собеседницу) голубые, рот – кораллы, белизна… – он глядел на плечи, – стан – Дианы…
Муж подошел к ним и мрачно спросил у жены, о чем она говорит.
– А! Никита Иваныч, – сказал Николай, учтиво вставая. И, как бы желая, чтобы Никита Иваныч принял участие в его шутках, он начал и ему сообщать свое намерение похитить одну блондинку.
Муж улыбался угрюмо, жена весело. Добрая губернаторша с неодобрительным видом подошла к ним.
– Анна Игнатьевна хочет тебя видеть, Nicolas, – сказала она, таким голосом выговаривая слова: Анна Игнатьевна, что Ростову сейчас стало понятно, что Анна Игнатьевна очень важная дама. – Пойдем, Nicolas. Ведь ты позволил мне так называть тебя?
– О да, ma tante. Кто же это?
– Анна Игнатьевна Мальвинцева. Она слышала о тебе от своей племянницы, как ты спас ее… Угадаешь?..
– Мало ли я их там спасал! – сказал Николай.
– Ее племянницу, княжну Болконскую. Она здесь, в Воронеже, с теткой. Ого! как покраснел! Что, или?..
– И не думал, полноте, ma tante.
– Ну хорошо, хорошо. О! какой ты!
Губернаторша подводила его к высокой и очень толстой старухе в голубом токе, только что кончившей свою карточную партию с самыми важными лицами в городе. Это была Мальвинцева, тетка княжны Марьи по матери, богатая бездетная вдова, жившая всегда в Воронеже. Она стояла, рассчитываясь за карты, когда Ростов подошел к ней. Она строго и важно прищурилась, взглянула на него и продолжала бранить генерала, выигравшего у нее.
– Очень рада, мой милый, – сказала она, протянув ему руку. – Милости прошу ко мне.
Поговорив о княжне Марье и покойнике ее отце, которого, видимо, не любила Мальвинцева, и расспросив о том, что Николай знал о князе Андрее, который тоже, видимо, не пользовался ее милостями, важная старуха отпустила его, повторив приглашение быть у нее.
Николай обещал и опять покраснел, когда откланивался Мальвинцевой. При упоминании о княжне Марье Ростов испытывал непонятное для него самого чувство застенчивости, даже страха.
Отходя от Мальвинцевой, Ростов хотел вернуться к танцам, но маленькая губернаторша положила свою пухленькую ручку на рукав Николая и, сказав, что ей нужно поговорить с ним, повела его в диванную, из которой бывшие в ней вышли тотчас же, чтобы не мешать губернаторше.
– Знаешь, mon cher, – сказала губернаторша с серьезным выражением маленького доброго лица, – вот это тебе точно партия; хочешь, я тебя сосватаю?
– Кого, ma tante? – спросил Николай.
– Княжну сосватаю. Катерина Петровна говорит, что Лили, а по моему, нет, – княжна. Хочешь? Я уверена, твоя maman благодарить будет. Право, какая девушка, прелесть! И она совсем не так дурна.
– Совсем нет, – как бы обидевшись, сказал Николай. – Я, ma tante, как следует солдату, никуда не напрашиваюсь и ни от чего не отказываюсь, – сказал Ростов прежде, чем он успел подумать о том, что он говорит.
– Так помни же: это не шутка.
– Какая шутка!
– Да, да, – как бы сама с собою говоря, сказала губернаторша. – А вот что еще, mon cher, entre autres. Vous etes trop assidu aupres de l'autre, la blonde. [мой друг. Ты слишком ухаживаешь за той, за белокурой.] Муж уж жалок, право…
– Ах нет, мы с ним друзья, – в простоте душевной сказал Николай: ему и в голову не приходило, чтобы такое веселое для него препровождение времени могло бы быть для кого нибудь не весело.
«Что я за глупость сказал, однако, губернаторше! – вдруг за ужином вспомнилось Николаю. – Она точно сватать начнет, а Соня?..» И, прощаясь с губернаторшей, когда она, улыбаясь, еще раз сказала ему: «Ну, так помни же», – он отвел ее в сторону:
– Но вот что, по правде вам сказать, ma tante…
– Что, что, мой друг; пойдем вот тут сядем.
Николай вдруг почувствовал желание и необходимость рассказать все свои задушевные мысли (такие, которые и не рассказал бы матери, сестре, другу) этой почти чужой женщине. Николаю потом, когда он вспоминал об этом порыве ничем не вызванной, необъяснимой откровенности, которая имела, однако, для него очень важные последствия, казалось (как это и кажется всегда людям), что так, глупый стих нашел; а между тем этот порыв откровенности, вместе с другими мелкими событиями, имел для него и для всей семьи огромные последствия.
– Вот что, ma tante. Maman меня давно женить хочет на богатой, но мне мысль одна эта противна, жениться из за денег.
– О да, понимаю, – сказала губернаторша.
– Но княжна Болконская, это другое дело; во первых, я вам правду скажу, она мне очень нравится, она по сердцу мне, и потом, после того как я ее встретил в таком положении, так странно, мне часто в голову приходило что это судьба. Особенно подумайте: maman давно об этом думала, но прежде мне ее не случалось встречать, как то все так случалось: не встречались. И во время, когда Наташа была невестой ее брата, ведь тогда мне бы нельзя было думать жениться на ней. Надо же, чтобы я ее встретил именно тогда, когда Наташина свадьба расстроилась, ну и потом всё… Да, вот что. Я никому не говорил этого и не скажу. А вам только.
Губернаторша пожала его благодарно за локоть.
– Вы знаете Софи, кузину? Я люблю ее, я обещал жениться и женюсь на ней… Поэтому вы видите, что про это не может быть и речи, – нескладно и краснея говорил Николай.
– Mon cher, mon cher, как же ты судишь? Да ведь у Софи ничего нет, а ты сам говорил, что дела твоего папа очень плохи. А твоя maman? Это убьет ее, раз. Потом Софи, ежели она девушка с сердцем, какая жизнь для нее будет? Мать в отчаянии, дела расстроены… Нет, mon cher, ты и Софи должны понять это.
Николай молчал. Ему приятно было слышать эти выводы.
– Все таки, ma tante, этого не может быть, – со вздохом сказал он, помолчав немного. – Да пойдет ли еще за меня княжна? и опять, она теперь в трауре. Разве можно об этом думать?
– Да разве ты думаешь, что я тебя сейчас и женю. Il y a maniere et maniere, [На все есть манера.] – сказала губернаторша.
– Какая вы сваха, ma tante… – сказал Nicolas, целуя ее пухлую ручку.
Приехав в Москву после своей встречи с Ростовым, княжна Марья нашла там своего племянника с гувернером и письмо от князя Андрея, который предписывал им их маршрут в Воронеж, к тетушке Мальвинцевой. Заботы о переезде, беспокойство о брате, устройство жизни в новом доме, новые лица, воспитание племянника – все это заглушило в душе княжны Марьи то чувство как будто искушения, которое мучило ее во время болезни и после кончины ее отца и в особенности после встречи с Ростовым. Она была печальна. Впечатление потери отца, соединявшееся в ее душе с погибелью России, теперь, после месяца, прошедшего с тех пор в условиях покойной жизни, все сильнее и сильнее чувствовалось ей. Она была тревожна: мысль об опасностях, которым подвергался ее брат – единственный близкий человек, оставшийся у нее, мучила ее беспрестанно. Она была озабочена воспитанием племянника, для которого она чувствовала себя постоянно неспособной; но в глубине души ее было согласие с самой собою, вытекавшее из сознания того, что она задавила в себе поднявшиеся было, связанные с появлением Ростова, личные мечтания и надежды.
Когда на другой день после своего вечера губернаторша приехала к Мальвинцевой и, переговорив с теткой о своих планах (сделав оговорку о том, что, хотя при теперешних обстоятельствах нельзя и думать о формальном сватовстве, все таки можно свести молодых людей, дать им узнать друг друга), и когда, получив одобрение тетки, губернаторша при княжне Марье заговорила о Ростове, хваля его и рассказывая, как он покраснел при упоминании о княжне, – княжна Марья испытала не радостное, но болезненное чувство: внутреннее согласие ее не существовало более, и опять поднялись желания, сомнения, упреки и надежды.
В те два дня, которые прошли со времени этого известия и до посещения Ростова, княжна Марья не переставая думала о том, как ей должно держать себя в отношении Ростова. То она решала, что она не выйдет в гостиную, когда он приедет к тетке, что ей, в ее глубоком трауре, неприлично принимать гостей; то она думала, что это будет грубо после того, что он сделал для нее; то ей приходило в голову, что ее тетка и губернаторша имеют какие то виды на нее и Ростова (их взгляды и слова иногда, казалось, подтверждали это предположение); то она говорила себе, что только она с своей порочностью могла думать это про них: не могли они не помнить, что в ее положении, когда еще она не сняла плерезы, такое сватовство было бы оскорбительно и ей, и памяти ее отца. Предполагая, что она выйдет к нему, княжна Марья придумывала те слова, которые он скажет ей и которые она скажет ему; и то слова эти казались ей незаслуженно холодными, то имеющими слишком большое значение. Больше же всего она при свидании с ним боялась за смущение, которое, она чувствовала, должно было овладеть ею и выдать ее, как скоро она его увидит.
Но когда, в воскресенье после обедни, лакей доложил в гостиной, что приехал граф Ростов, княжна не выказала смущения; только легкий румянец выступил ей на щеки, и глаза осветились новым, лучистым светом.
– Вы его видели, тетушка? – сказала княжна Марья спокойным голосом, сама не зная, как это она могла быть так наружно спокойна и естественна.
Когда Ростов вошел в комнату, княжна опустила на мгновенье голову, как бы предоставляя время гостю поздороваться с теткой, и потом, в самое то время, как Николай обратился к ней, она подняла голову и блестящими глазами встретила его взгляд. Полным достоинства и грации движением она с радостной улыбкой приподнялась, протянула ему свою тонкую, нежную руку и заговорила голосом, в котором в первый раз звучали новые, женские грудные звуки. M lle Bourienne, бывшая в гостиной, с недоумевающим удивлением смотрела на княжну Марью. Самая искусная кокетка, она сама не могла бы лучше маневрировать при встрече с человеком, которому надо было понравиться.
«Или ей черное так к лицу, или действительно она так похорошела, и я не заметила. И главное – этот такт и грация!» – думала m lle Bourienne.
Ежели бы княжна Марья в состоянии была думать в эту минуту, она еще более, чем m lle Bourienne, удивилась бы перемене, происшедшей в ней. С той минуты как она увидала это милое, любимое лицо, какая то новая сила жизни овладела ею и заставляла ее, помимо ее воли, говорить и действовать. Лицо ее, с того времени как вошел Ростов, вдруг преобразилось. Как вдруг с неожиданной поражающей красотой выступает на стенках расписного и резного фонаря та сложная искусная художественная работа, казавшаяся прежде грубою, темною и бессмысленною, когда зажигается свет внутри: так вдруг преобразилось лицо княжны Марьи. В первый раз вся та чистая духовная внутренняя работа, которою она жила до сих пор, выступила наружу. Вся ее внутренняя, недовольная собой работа, ее страдания, стремление к добру, покорность, любовь, самопожертвование – все это светилось теперь в этих лучистых глазах, в тонкой улыбке, в каждой черте ее нежного лица.
Ростов увидал все это так же ясно, как будто он знал всю ее жизнь. Он чувствовал, что существо, бывшее перед ним, было совсем другое, лучшее, чем все те, которые он встречал до сих пор, и лучшее, главное, чем он сам.
Разговор был самый простой и незначительный. Они говорили о войне, невольно, как и все, преувеличивая свою печаль об этом событии, говорили о последней встрече, причем Николай старался отклонять разговор на другой предмет, говорили о доброй губернаторше, о родных Николая и княжны Марьи.
Княжна Марья не говорила о брате, отвлекая разговор на другой предмет, как только тетка ее заговаривала об Андрее. Видно было, что о несчастиях России она могла говорить притворно, но брат ее был предмет, слишком близкий ее сердцу, и она не хотела и не могла слегка говорить о нем. Николай заметил это, как он вообще с несвойственной ему проницательной наблюдательностью замечал все оттенки характера княжны Марьи, которые все только подтверждали его убеждение, что она была совсем особенное и необыкновенное существо. Николай, точно так же, как и княжна Марья, краснел и смущался, когда ему говорили про княжну и даже когда он думал о ней, но в ее присутствии чувствовал себя совершенно свободным и говорил совсем не то, что он приготавливал, а то, что мгновенно и всегда кстати приходило ему в голову.
Во время короткого визита Николая, как и всегда, где есть дети, в минуту молчания Николай прибег к маленькому сыну князя Андрея, лаская его и спрашивая, хочет ли он быть гусаром? Он взял на руки мальчика, весело стал вертеть его и оглянулся на княжну Марью. Умиленный, счастливый и робкий взгляд следил за любимым ею мальчиком на руках любимого человека. Николай заметил и этот взгляд и, как бы поняв его значение, покраснел от удовольствия и добродушно весело стал целовать мальчика.
Княжна Марья не выезжала по случаю траура, а Николай не считал приличным бывать у них; но губернаторша все таки продолжала свое дело сватовства и, передав Николаю то лестное, что сказала про него княжна Марья, и обратно, настаивала на том, чтобы Ростов объяснился с княжной Марьей. Для этого объяснения она устроила свиданье между молодыми людьми у архиерея перед обедней.
Хотя Ростов и сказал губернаторше, что он не будет иметь никакого объяснения с княжной Марьей, но он обещался приехать.
Как в Тильзите Ростов не позволил себе усомниться в том, хорошо ли то, что признано всеми хорошим, точно так же и теперь, после короткой, но искренней борьбы между попыткой устроить свою жизнь по своему разуму и смиренным подчинением обстоятельствам, он выбрал последнее и предоставил себя той власти, которая его (он чувствовал) непреодолимо влекла куда то. Он знал, что, обещав Соне, высказать свои чувства княжне Марье было бы то, что он называл подлость. И он знал, что подлости никогда не сделает. Но он знал тоже (и не то, что знал, а в глубине души чувствовал), что, отдаваясь теперь во власть обстоятельств и людей, руководивших им, он не только не делает ничего дурного, но делает что то очень, очень важное, такое важное, чего он еще никогда не делал в жизни.
После его свиданья с княжной Марьей, хотя образ жизни его наружно оставался тот же, но все прежние удовольствия потеряли для него свою прелесть, и он часто думал о княжне Марье; но он никогда не думал о ней так, как он без исключения думал о всех барышнях, встречавшихся ему в свете, не так, как он долго и когда то с восторгом думал о Соне. О всех барышнях, как и почти всякий честный молодой человек, он думал как о будущей жене, примеривал в своем воображении к ним все условия супружеской жизни: белый капот, жена за самоваром, женина карета, ребятишки, maman и papa, их отношения с ней и т. д., и т. д., и эти представления будущего доставляли ему удовольствие; но когда он думал о княжне Марье, на которой его сватали, он никогда не мог ничего представить себе из будущей супружеской жизни. Ежели он и пытался, то все выходило нескладно и фальшиво. Ему только становилось жутко.
Страшное известие о Бородинском сражении, о наших потерях убитыми и ранеными, а еще более страшное известие о потере Москвы были получены в Воронеже в половине сентября. Княжна Марья, узнав только из газет о ране брата и не имея о нем никаких определенных сведений, собралась ехать отыскивать князя Андрея, как слышал Николай (сам же он не видал ее).
Получив известие о Бородинском сражении и об оставлении Москвы, Ростов не то чтобы испытывал отчаяние, злобу или месть и тому подобные чувства, но ему вдруг все стало скучно, досадно в Воронеже, все как то совестно и неловко. Ему казались притворными все разговоры, которые он слышал; он не знал, как судить про все это, и чувствовал, что только в полку все ему опять станет ясно. Он торопился окончанием покупки лошадей и часто несправедливо приходил в горячность с своим слугой и вахмистром.
Несколько дней перед отъездом Ростова в соборе было назначено молебствие по случаю победы, одержанной русскими войсками, и Николай поехал к обедне. Он стал несколько позади губернатора и с служебной степенностью, размышляя о самых разнообразных предметах, выстоял службу. Когда молебствие кончилось, губернаторша подозвала его к себе.
– Ты видел княжну? – сказала она, головой указывая на даму в черном, стоявшую за клиросом.
Николай тотчас же узнал княжну Марью не столько по профилю ее, который виднелся из под шляпы, сколько по тому чувству осторожности, страха и жалости, которое тотчас же охватило его. Княжна Марья, очевидно погруженная в свои мысли, делала последние кресты перед выходом из церкви.
Николай с удивлением смотрел на ее лицо. Это было то же лицо, которое он видел прежде, то же было в нем общее выражение тонкой, внутренней, духовной работы; но теперь оно было совершенно иначе освещено. Трогательное выражение печали, мольбы и надежды было на нем. Как и прежде бывало с Николаем в ее присутствии, он, не дожидаясь совета губернаторши подойти к ней, не спрашивая себя, хорошо ли, прилично ли или нет будет его обращение к ней здесь, в церкви, подошел к ней и сказал, что он слышал о ее горе и всей душой соболезнует ему. Едва только она услыхала его голос, как вдруг яркий свет загорелся в ее лице, освещая в одно и то же время и печаль ее, и радость.