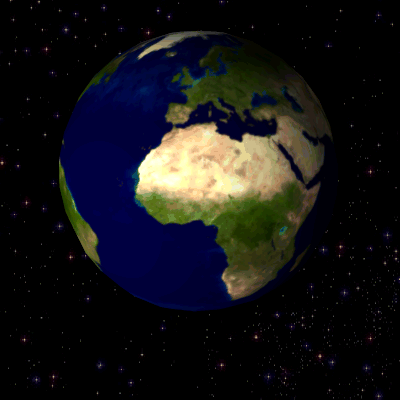Цивилизация
Цивилиза́ция (от лат. civilis — гражданский, государственный):
- общефилософское значение — социальная форма движения материи, обеспечивающая её стабильность и способность к саморазвитию путём саморегуляции обмена с окружающей средой (человеческая цивилизация в масштабе космического устройства);
- историко-философское значение — единство исторического процесса и совокупность материально-технических и духовных достижений человечества в ходе этого процесса (человеческая цивилизация в истории Земли);
- стадия всемирного исторического процесса, связанная с достижением определённого уровня социальности (стадия саморегуляции и самопроизводства при относительной независимости от природы, дифференцированности общественного сознания);
- локализованное во времени и пространстве общество. Локальные цивилизации являются целостными системами, представляющими собой комплекс экономической, политической, социальной и духовной подсистем и развивающиеся по законам витальных циклов[1].
Одним из первых термин «цивилизация» в научный оборот ввёл философ Адам Фергюсон, который подразумевал под термином стадию в развитии человеческого общества, характеризующуюся существованием общественных страт, а также городов, письменности и других подобных явлений. Предложенная шотландским учёным стадиальная периодизация мировой истории (дикость — варварство — цивилизация) пользовалась поддержкой в научных кругах в конце XVIII — начале XIX века[2], но с ростом популярности в конце XIX — начале XX века плюрально-циклического подхода к истории, под общим понятием «цивилизации» всё больше стали подразумеваться «локальные цивилизации»[3].
Содержание
Возникновение термина
Попытку установить время появления термина «цивилизация» одним из первых предпринял французский историк Люсьен Февр. В своей работе «Цивилизация: эволюция слова и группы идей» он зафиксировал первое появление термина в напечатанном виде в работе «Древность, разоблачённая в своих обычаях» (1766) французского инженера Буланже.
Однако данная книга увидела свет уже после смерти автора и к тому же не в изначальном варианте, а уже с существенной корректурой, внесённой бароном фон Гольбахом — известным в ту эпоху автором неологизмов. Авторство Гольбаха кажется Февру ещё более вероятным в свете того, что Буланже в своей работе упомянул термин единожды, Гольбах же неоднократно использовал понятия и термины «цивилизация», «цивилизовать», «цивилизованный» и в своих работах «Система общества» и «Система природы». С этого времени термин входит в научный оборот, а в 1798 году он впервые попадает в «Словарь Академии»[4].
Швейцарский историк культуры Жан Старобинский в своём исследовании не упоминает ни Буланже, ни Гольбаха. По его мнению, авторство термина «цивилизация» принадлежит Виктору Мирабо и его труду «Друг человечества» (1757)[5].
Тем не менее оба автора отмечают, что до приобретения термином социокультурного значения (как стадии развития культуры, противопоставленной дикости и варварству) оно имело юридическое значение — судебное решение, которое переводит уголовный процесс в разряд процессов гражданских — которое со временем было утрачено.
Французский лингвист Эмиль Бенвенист также отдал пальму первенства в использовании термина маркизу де Мирабо и вслед за Февром обратил внимание, что существительное «civilisation» (франкоязычное произношение — «цивилизасйон») появилось относительно поздно, в то время как глагол «civiliser» («смягчать нравы, просвещать») и прилагательное от причастия civilisé («благовоспитанный, просвещённый») употреблялись к тому времени уже давно. Подобное явление учёный объяснил слабой (на то время) продуктивностью класса абстрактных существительных технического характера: слова с окончанием на -isation были мало распространены и их количество возрастало медленно (существовали только слова fertilisation («фертилизасйон») («удобрение почвы»), thésaurisation («тезаурисйон») («накопление денег, тезаврация»), «temporisation» («теморизасйон») «выжидание, выгадывание времени», «organisation» («организасйон») («организация»). Из этого небольшого количества лишь у слов «organisation» и «civilisation» произошёл переход к значению «состояния», тогда как остальные сохранили значение исключительно «действия»).[6]
Такую же эволюцию (от юридического значения к социальному) слово проходило и в Англии, однако там в печатном издании оно появилось спустя пятнадцать лет после публикации книги Мирабо (1772). Тем не менее обстоятельства упоминания этого слова[прим. 1] указывают на то, что слово ещё ранее вошло в обиход, что также объясняет быстроту его дальнейшего распространения как термина. Исследование Бенвениста указывает на то, что появление слова «civilization» (разница в одной букве) в Великобритании было практически синхронным. В англоязычную научную терминологию его ввёл шотландский философ Адам Фергюсон, автор сочинения «An Essay on the History of Civil Society» (в русс. пер. «Опыт истории гражданского общества») (1767), где уже на второй странице отметил[7]:
.
И хотя Бенвенист оставил открытым вопрос об авторстве термина, о возможном заимствовании Фергюсоном понятия из французской терминологии или из ранних трудов его коллег, именно шотландский учёный впервые использовал понятие «цивилизация» в теоретической периодизации мировой истории, где противопоставил его дикости и варварству. С этого времени судьба данного термина тесно переплелась с развитием историософской мысли в Европе.
Цивилизация как стадия общественного развития
Периодизация, предложенная Фергюсоном, продолжала пользоваться большой популярностью не только в последней трети XVIII в. но и на протяжении почти всего XIX в. Её плодотворно использовали Льюис Морган («Древнее общество»; 1877) и Фридрих Энгельс («Происхождение семьи, частной собственности и государства»; 1884).
Для цивилизации как стадии общественного развития характерно выделение социума из природы и возникновение расхождений (вплоть до противоречий) между естественными и искусственными факторами развития общества. На данном этапе превалируют социальные факторы жизнедеятельности человека (или иного разумного существа), прогрессирует рационализация мышления. Для этого этапа развития характерно преобладание искусственных производительных сил над естественными[8].
Также признаки цивилизованности включают в себя развитие земледелия и ремёсел, классовое общество, наличие государства, городов, торговли, частной собственности и денег, а также монументальное строительство, «достаточно» развитую религию, письменность и т. п[9]. Философ востоковед Б. С. Ерасов выделил следующие критерии, отличающие цивилизацию от стадии варварства [10] [прим. 2]:
- Система экономических отношений, основанная на разделении труда — горизонтальном (профессиональная и укладная специализация) и вертикальном (социальная стратификация).
- Средства производства (включая живой труд) контролируются правящим классом, который осуществляет централизацию и перераспределение прибавочного продукта, изымаемого у первичных производителей через оброк или налоги, а также через использование рабочей силы для проведения общественных работ.
- Наличие сети обмена, контролируемой профессиональным купечеством или же государством, которая вытесняет прямой обмен продуктов и услуг.
- Политическая структура, в которой доминирует слой общества, концентрирующий в своих руках исполнительные и административные функции. Племенная организация, основанная на происхождении и родстве, замещается властью правящего класса, опирающейся на принуждение. Государство, обеспечивающее систему социально-классовых отношений и единство территории, составляет основу цивилизационной политической системы.
Локальные цивилизации и плюрально-циклический взгляд на историю
Изучение локальных цивилизаций
В XIX веке европейские историки, получив первые сведения о восточных обществах, пришли к выводу, что между обществами, находящимися на стадии цивилизационного развития, могут существовать качественные различия, что позволило им говорить не об одной цивилизации, а о нескольких цивилизациях. Впрочем, представления о культурных различиях между европейской и неевропейскими культурами появились ещё раньше: к примеру, российский исследователь И. Н. Ионов трактует заявления итальянского философа Джамбаттисты Вико (1668—1744) о том, что «император китайский в высшей степени культурен», как зародыш представлений о существовании особой китайской цивилизации, а значит, и о вероятной множественности цивилизаций. Тем не менее, ни в его работах, ни в сочинениях Вольтера и Иоганна Готфрида Гердера, выражавших идеи, родственные идеям Вико, понятие «цивилизация» не было главенствующим, а понятие «локальная цивилизация» не употреблялось вовсе.[11]
Впервые слово «цивилизация» было использовано в двух значениях в книге французского писателя и историка Пьера Симона Балланша «Старик и юноша» (1820). Позже такое же его употребление встречается в книге востоковедов Эжена Бюрнуфа и Христиана Лассена «Очерк о пали» (1826), в работах известного путешественника и исследователя Александра фон Гумбольдта и ряда других мыслителей и исследователей[3]. Использованию второго значения слова «цивилизация» поспособствовал французский историк Франсуа Гизо, который неоднократно использовал термин в множественном числе, но тем не менее оставался верен линейно-стадиальной схеме исторического развития[11][3].
 Впервые термин «локальная цивилизация» появился в работе французского философа Шарля Ренувье «Руководство к древней философии» (1844). Спустя несколько лет свет увидела книга французского писателя и историка Жозефа Гобино «Опыт о неравенстве человеческих рас» (1853—1855), в которой автор выделил 10 цивилизаций, каждая из которых проходит свой собственный путь развития. Возникнув, каждая из них рано или поздно погибает.Однако мыслителя совершенно не интересовали культурные, социальные, экономические различия между цивилизациями: его волновало лишь то общее, что было в истории цивилизаций, — возвышение и падение аристократий. Поэтому его историософская концепция имеет косвенное отношение к теории локальных цивилизаций и прямое — к идеологии консерватизма.
Впервые термин «локальная цивилизация» появился в работе французского философа Шарля Ренувье «Руководство к древней философии» (1844). Спустя несколько лет свет увидела книга французского писателя и историка Жозефа Гобино «Опыт о неравенстве человеческих рас» (1853—1855), в которой автор выделил 10 цивилизаций, каждая из которых проходит свой собственный путь развития. Возникнув, каждая из них рано или поздно погибает.Однако мыслителя совершенно не интересовали культурные, социальные, экономические различия между цивилизациями: его волновало лишь то общее, что было в истории цивилизаций, — возвышение и падение аристократий. Поэтому его историософская концепция имеет косвенное отношение к теории локальных цивилизаций и прямое — к идеологии консерватизма.
Идеи, созвучные работам Гобино, излагал и германский историк Генрих Рюккерт, который пришёл к выводу, что история человечества — это не единый процесс, а сумма параллельно протекающих процессов культурно-исторических организмов, которые невозможно расположить на одной линии. Рюккерт впервые обратил внимание на проблему границ цивилизаций, их взаимовлияния, структурных взаимоотношений внутри них. Вместе с тем Рюккерт продолжал рассматривать весь мир как объект воздействия Европы (то есть Европейской цивилизации как ведущей), что обусловило наличие в его концепции реликтов иерархического подхода к цивилизациям, отрицание их равноценности и самодостаточности.[11]
 Первым на цивилизационные отношения взглянуть через призму неевропоцентрического самосознания удалось русскому социологу Николаю Яковлевичу Данилевскому, который в своей книге «Россия и Европа» (1869) противопоставил стареющей западноевропейской цивилизации молодую восточноевропейскую — славянскую. Русский идеолог панславизма указывал, что ни один культурно-исторический тип[прим. 3] не может претендовать на то, чтобы считаться более развитым, более высоким, чем остальные. Западная Европа в этом отношении не представляет исключения. Хотя эту мысль философ не выдерживает до конца, порой указывая на превосходство славянских народов над своими западными соседями.
Первым на цивилизационные отношения взглянуть через призму неевропоцентрического самосознания удалось русскому социологу Николаю Яковлевичу Данилевскому, который в своей книге «Россия и Европа» (1869) противопоставил стареющей западноевропейской цивилизации молодую восточноевропейскую — славянскую. Русский идеолог панславизма указывал, что ни один культурно-исторический тип[прим. 3] не может претендовать на то, чтобы считаться более развитым, более высоким, чем остальные. Западная Европа в этом отношении не представляет исключения. Хотя эту мысль философ не выдерживает до конца, порой указывая на превосходство славянских народов над своими западными соседями.
 Следующим значительным событием в становлении теории локальных цивилизаций стала работа германского философа и культуролога Освальда Шпенглера «Закат Европы» (1918). Неизвестно доподлинно, был ли знаком Шпенглер с работой русского мыслителя, но тем не менее основные концептуальные положения этих учёных сходны во всех важнейших пунктах[12]. Как и Данилевский, решительно отвергая общепринятую условную периодизацию истории на «Древний мир — Средние века — Новое время», Шпенглер выступил сторонником другого взгляда на мировую историю — как на ряд независимых друг от друга культур[прим. 4], проживающих, подобно живым организмам, периоды зарождения, становления и умирания. Как и Данилевский, он выступает с критикой европоцентризма и исходит не из нужд исторического исследования, а из необходимости найти ответы на вопросы, поставленные современным обществом: в теории локальных культур этот германский мыслитель находит объяснение кризису западного общества, которое переживает такой же упадок, который постиг египетскую, античную и другие древние культуры.[13] Книга Шпенглера содержала не так уж много теоретических новаций в сравнении с опубликованными ранее работами Рюккерта и Данилевского, однако она имела шумный успех, поскольку была написана ярким языком, изобиловала фактами и рассуждениями и была опубликована после завершения Первой мировой войны, вызвавшей полное разочарование в западной цивилизации и усилившей кризис европоцентризма[14].
Следующим значительным событием в становлении теории локальных цивилизаций стала работа германского философа и культуролога Освальда Шпенглера «Закат Европы» (1918). Неизвестно доподлинно, был ли знаком Шпенглер с работой русского мыслителя, но тем не менее основные концептуальные положения этих учёных сходны во всех важнейших пунктах[12]. Как и Данилевский, решительно отвергая общепринятую условную периодизацию истории на «Древний мир — Средние века — Новое время», Шпенглер выступил сторонником другого взгляда на мировую историю — как на ряд независимых друг от друга культур[прим. 4], проживающих, подобно живым организмам, периоды зарождения, становления и умирания. Как и Данилевский, он выступает с критикой европоцентризма и исходит не из нужд исторического исследования, а из необходимости найти ответы на вопросы, поставленные современным обществом: в теории локальных культур этот германский мыслитель находит объяснение кризису западного общества, которое переживает такой же упадок, который постиг египетскую, античную и другие древние культуры.[13] Книга Шпенглера содержала не так уж много теоретических новаций в сравнении с опубликованными ранее работами Рюккерта и Данилевского, однако она имела шумный успех, поскольку была написана ярким языком, изобиловала фактами и рассуждениями и была опубликована после завершения Первой мировой войны, вызвавшей полное разочарование в западной цивилизации и усилившей кризис европоцентризма[14].
Гораздо более весомый вклад в изучение локальных цивилизаций внёс английский историк Арнольд Тойнби. В своём 12-томном труде «Постижение истории» (1934—1961 гг.) Тойнби подразделил историю человечества на ряд локальных цивилизаций, имеющие единую внутреннюю схему развития. Появление, становление и упадок цивилизаций характеризовался такими факторами, как внешний Божественный толчок и энергия, вызов и ответ и уход и возвращение. Во взглядах Шпенглера и Тойнби есть много общих черт. Главное же различие состоит в том, что у Шпенглера культуры совершенно обособлены друг от друга. У Тойнби же эти отношения хотя и имеют внешний характер, но составляют часть жизни самих цивилизаций. Для него чрезвычайно важно, что некоторые общества, присоединяясь к другим или наоборот обосабливаясь, обеспечивают тем самым непрерывность исторического процесса[15].
Российский исследователь Ю. В. Яковец, основываясь на работах Дэниела Белла и Элвина Тоффлера, сформулировал концепцию «мировых цивилизаций» как определённой ступени «в историческом ритме динамики и генетики общества как целостной системы, в которой взаимно переплетены, дополняя друг друга, материальное и духовное воспроизводство, экономика и политика, социальные отношения и культура»[16]. История человечества в его трактовке представлена как ритмичная смена цивилизационных циклов, продолжительность которых неумолимо сокращается.
Критерии выделения цивилизаций, их количество
Впрочем, попытки введения критериев для выделения цивилизаций предпринимались неоднократно. Российский историк Э. Д. Фролов в одной из своих работ перечислил их наиболее распространённый набор: общность геополитических условий, исконное языковое родство, единство или близость экономического и политического строя, культуры (включая религию) и менталитета. Вслед за Шпенглером и Тойнби учёный признавал, что «оригинальное качество цивилизации обусловлено оригинальным свойством каждого из структурообразующих элементов и их неповторимым единством»[17].
Циклы цивилизаций
На современном этапе учёные выделяют следующие циклы цивилизационного развития: зарождение, развитие, расцвет и угасание[18]. Впрочем не все локальные цивилизации проходят все стадии жизненного цикла, в полном масштабе разворачиваясь во времени. Цикл некоторых из них прерывается в силу природных катастроф (так произошло, например, с минойской цивилизацией) либо столкновений с другими культурами (доколумбовы цивилизации Центральной и Южной Америки, скифская протоцивилизация)[19].
На этапе зарождения возникает социальная философия новой цивилизации, которая появляется на маргинальном уровне в период завершения предцивилизационной стадии (или расцвета кризиса предыдущей цивилизационной системы). К её составляющим можно отнести поведенческие стереотипы, формы экономической активности, критерии социальной стратификации, методы и цели политической борьбы[18]. Поскольку многие общества так и не смогли преодолеть цивилизационный порог и остались на стадии дикости или варварства, учёные долгое время старались ответить на вопрос: «если предположить, что в первобытном обществе у всех людей был более или менее одинаковый образ жизни, которому соответствовала единая духовная и материальная среда, почему не все эти общества развились в цивилизации?». Согласно мнению Арнольда Тойнби, цивилизации рождают, эволюционируют и адаптируются в ответ на различные «вызовы» географической среды. Соответственно, те общества, которые оказались в стабильных природных условиях, старались приспособиться к ним, ничего не изменяя, и наоборот — социум, который испытывал регулярные или внезапные изменения окружающей среды, неизбежно должен был осознать свою зависимость от природной среды, и для ослабления этой зависимости противопоставить ей динамичный преобразовательный процесс[20].
На этапе развития складывается и развивается целостный социальный порядок, отражающий базисные ориентиры цивилизационной системы. Цивилизация формируется как определённая модель социального поведения индивида и соответствующей структуры общественных институтов.[18]
Расцвет цивилизационной системы связан с качественной завершённостью в её развитии, окончательным складыванием основных системных институтов. Расцвет сопровождается унификацией цивилизационного пространства и активизацией имперской политики, что соответственно символизирует остановку качественного саморазвития общественной системы в результате относительно полной реализации базовых принципов и перехода от динамичного к статичному, охранительному. Это составляет основу цивилизационного кризиса — качественного изменения динамики, движущих сил, основных форм развития.[18]
На этапе угасания цивилизация вступает в стадию кризисного развития, крайнего обострения социальных, экономических, политических конфликтов, духовного разлома. Ослабление внутренних институтов делает общество уязвимым для внешней агрессии. В итоге цивилизация погибает или в ходе внутренней смуты, или в результате завоевания.[18]
Критика
 Концепции Данилевского, Шпенглера и Тойнби были неоднозначно встречены научным сообществом. Хотя их труды и считаются фундаментальными работами в области изучения истории цивилизаций, их теоретические разработки встретили серьёзную критику. Одним из наиболее последовательных критиков цивилизационной теории выступил русско-американский социолог Питирим Сорокин, который указал, что «самая серьезная ошибка этих теорий состоит в смешении культурных систем с социальными системами (группами), в том, что название „цивилизация“ дается существенно различным социальным группам и их общим культурам — то этническим, то религиозным, то государственным, то территориальным, то различным многофакторным группам, а то даже конгломерату различных обществ с присущими им совокупными культурами»[21], в результате чего ни Тойнби, ни его предшественники не смогли назвать главные критерии вычленения цивилизаций, ровно как и их точное количество.
Концепции Данилевского, Шпенглера и Тойнби были неоднозначно встречены научным сообществом. Хотя их труды и считаются фундаментальными работами в области изучения истории цивилизаций, их теоретические разработки встретили серьёзную критику. Одним из наиболее последовательных критиков цивилизационной теории выступил русско-американский социолог Питирим Сорокин, который указал, что «самая серьезная ошибка этих теорий состоит в смешении культурных систем с социальными системами (группами), в том, что название „цивилизация“ дается существенно различным социальным группам и их общим культурам — то этническим, то религиозным, то государственным, то территориальным, то различным многофакторным группам, а то даже конгломерату различных обществ с присущими им совокупными культурами»[21], в результате чего ни Тойнби, ни его предшественники не смогли назвать главные критерии вычленения цивилизаций, ровно как и их точное количество.
 Историк-востоковед Л. Б. Алаев отмечает, что все критерии выделения цивилизаций (генетический, природный, религиозный) крайне уязвимы. А раз отсутствуют критерии, то невозможно сформулировать и понятие «цивилизации», которое до сих пор остаётся предметом споров, как и их границы, и количество. Кроме того, цивилизационный подход апеллирует к понятиям, выходящим за рамки науки, и как правило связанным с «духовностью», трансцендентностью, судьбой и т. д. Всё это ставит под вопрос собственно научность учения о цивилизациях. Учёный отмечает, что аналогичные ему идеи обычно поднимают на щит элиты стран периферийного капитализма, предпочитающие вместо отсталости говорить о «самобытности» и «особом пути» своих стран, противопоставляющие «духовный» Восток «материальному, загнивающему, враждебному» Западу, провоцирующие и поддерживающие антизападные настроения. Российским аналогом таких идей является евразийство.[22]
Историк-востоковед Л. Б. Алаев отмечает, что все критерии выделения цивилизаций (генетический, природный, религиозный) крайне уязвимы. А раз отсутствуют критерии, то невозможно сформулировать и понятие «цивилизации», которое до сих пор остаётся предметом споров, как и их границы, и количество. Кроме того, цивилизационный подход апеллирует к понятиям, выходящим за рамки науки, и как правило связанным с «духовностью», трансцендентностью, судьбой и т. д. Всё это ставит под вопрос собственно научность учения о цивилизациях. Учёный отмечает, что аналогичные ему идеи обычно поднимают на щит элиты стран периферийного капитализма, предпочитающие вместо отсталости говорить о «самобытности» и «особом пути» своих стран, противопоставляющие «духовный» Восток «материальному, загнивающему, враждебному» Западу, провоцирующие и поддерживающие антизападные настроения. Российским аналогом таких идей является евразийство.[22]
Этнолог В. А. Шнирельман также пишет, что в цивилизационном подходе акцент делается на культуре, и в силу расплывчатости и сложности этого понятия чёткие критерии выделения цивилизаций установить тоже невозможно. Нередко при установлении границ цивилизаций руководствуются националистическими идеями. Беспрецедентную популярность цивилизационного подхода в постсоветской России (в том числе и в научных кругах) учёный объясняет кризисом идентичности, охватившим общество после распада СССР. Особую роль в этом сыграли, по его мнению, широко известные построения Л. Н. Гумилёва. Расцвет популярности цивилизационного подхода в России совпал с периодом доминирования неоконсервативных, националистических и неофашистских идеологий. Западная антропология к тому времени от учения о цивилизациях уже отказалась и пришла к выводу об открытом и бессистемном характере культуры.[23]
Российский историк Н. Н. Крадин так пишет о кризисе теории цивилизации на Западе и её возросшей популярности на территории постсоветских стран:
Если в последней четверти ХХ в. многие рассчитывали, что внедрение цивилизационной методологии выведет отечественных теоретиков на передовые рубежи мировой науки, то сейчас с подобными иллюзиями следует расстаться. Цивилизационная теория была популярна в мировой науке полвека назад, ныне она находится в кризисном состоянии. Зарубежные ученые предпочитают обращаться к изучению локальных сообществ, проблематике исторической антропологии, истории повседневности. Теория цивилизаций наиболее активно разрабатывается в последние десятилетия (как альтернатива евроцентризму) в развивающихся и постсоциалистических странах. За этот период количество выделенных цивилизаций резко возросло — вплоть до придания цивилизационного статуса едва ли не любой этнической группе. В этой связи трудно не согласиться с точкой зрения И. Валлерстайна, который охарактеризовал цивилизационный подход как «идеологию слабых», как форму протеста этнического национализма против развитых стран «ядра» современной мир-системы[24].
Историк и философ Ю. И. Семёнов отмечает, что собственные построения адептов цивилизационного подхода научной ценности не представляли: «[Марксизм] это единственная концепция философии истории, которая обладает разработанным категориальным аппаратом. С ней не идет ни в какое сравнение превозносимый сейчас в нашей философской и исторической литературе „цивилизационый подход“, который располагает одним единственным понятием — „цивилизация“, вернее даже не понятием, а словом, в которое разные авторы вкладывают совершенно различные значения. На одном семинаре, посвященном этому подходу, докладчик насчитал 22 смысла, которые вкладывают его сторонники в слово „цивилизация“. Совершенно неудивительно, что все разговоры об этом подходе представляют собой переливание из пустого в порожнее»[25]. При этом они сыграли определённую положительную роль тем, что обнаружили слабые места линейно-стадиального понимания исторического процесса и позволили их скорректировать[26]. Цивилизационный подход в истории критикует д-р социол. наук М. Я. Бобров[27].
В настоящее время (2014 год) свою деятельность продолжает «Международное общество сравнительного изучения цивилизаций[en]», которое проводит ежегодные конференции и осуществляет выпуск журнала «Comparative Civilizations Review».
Напишите отзыв о статье "Цивилизация"
Примечания
- ↑ Бенвенист подробно рассказывает о них в статье «Цивилизация. К истории слова»
- ↑ Историографию вопроса см. в статье Nikolay N. Kradin. Archaeological Criteria of Civilization
- ↑ Рассматриваемые исторические индивиды Н. И. Данилевский именует культурно-историческими типами, просто культурами, самобытными цивилизациями, историческими организмами. Также не всегда термин «цивилизация» использовали и другие мыслители, повлиявшие на становление теории локальных цивилизаций, что, впрочем, не мешает им считаться родоначальниками данной концепции
- ↑ Вместо понятия «локальная цивилизация» Шпенглер использовал понятие «культура». Цивилизация же в его представлении являла собой «закат культуры», стадию её упадка, в которую культура вступает после реализации всей совокупности своих потенций в форме народов, языков, учений, искусства, государств, наук. Противопоставление культуры как творческого начала и цивилизации как её губительного окостенения культуры не стало общепринятым и осталось сугубо «шпенглеровским». [www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Eras/02.php Ерасов]
Источники
- ↑ Пономарев, 2000, с. 28.
- ↑ Семенов, 2003, с. 114—115.
- ↑ 1 2 3 Семенов, 2003, с. 152.
- ↑ Февр, 1991, с. 239—247.
- ↑ Жан Старобинский. Слово «цивилизация» // [ec-dejavu.ru/c-2/Civilization-3.html Поэзия и знание. История литературы и культуры. В 2 томах] / Старобинский, Жан, Васильева, Е.П., Дубин, Б.В., Зенкин, С.Н., Мильчина, В.А.. — М.: Языки славянской культуры, 2002. — Т. 1. — С. 110—149. — 496 с. — (Язык. Семиотика. Культура). — ISBN 5-94457-002-4.
- ↑ Бенвенист Э. Глава XXXI. Цивилизация. К истории слова = Civilization. Contribution à l'histoire du mot // Общая лингвистика. — М.: URSS, 2010.
- ↑ Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества = An Essay on the History of Civil Society / Фергюсон, Адам, Мюрберг, И.И., Абрамов, М.А.. — М.: РОССПЭН, 2000. — 391 с. — (Университетская б-ка : Политология). — 1 000 экз. — ISBN 5-8243-0124-7.
- ↑ Пономарев, 2000, с. 55.
- ↑ [www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Eras/intro_4.php Библиотека Гумер — Ерасов Б. С. Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия: Учеб. пособие для студентов вузов]
- ↑ [www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Eras/intro_2.php Библиотека Гумер — Ерасов Б. С. Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия: Учеб. пособие для студентов вузов]
- ↑ 1 2 3 И. Н. Ионов Рождение теории локальных цивилизаций и смена научных парадигм // Образы историографии : Сб.. — М.: РГГУ, 2001. — С. 59-84. — ISBN 5-7281-0431-2.
- ↑ [www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Eras/02.php Библиотека Гумер — П. Сорокин. О КОНЦЕПЦИЯХ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ТЕОРИЙ. Сравнительное изучение цивилизаций]
- ↑ Семёнов Ю. И. Философия истории. — С. 174—175
- ↑ Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее. — Т. 1. — С. 47-48
- ↑ Репина Л. П. История исторического знания: пособие для вузов / Л. П. Репина, В. В. Зверева, М. Ю. Параманова. — 2-ое. — М.: Дрофа, 2006. — С. 219—220. — 288 с. — 2000 экз. — ISBN 5-358-00356-8.
- ↑ Яковец Ю. В. Становление постиндустриальной цивилизации.— М., 1992. — С.2
- ↑ Фролов Э. Д Проблема цивилизаций в историческом процессе // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2: История. — 2006. — № 2. — С. 96-100.
- ↑ 1 2 3 4 5 Пономарев, 2000, с. 56—57.
- ↑ Кузык Т.1, 2006, с. 92.
- ↑ Прокофьева, 2001, с. 72.
- ↑ Сорокин П. [www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Eras/03.php Общие принципы цивилизационной теории и её критика. Сравнительное изучение цивилизаций]
- ↑ Алаев Л. Б. [www.socionauki.ru/journal/articles/129681/ Смутная теория и спорная практика: о новейших цивилизационных подходах к Востоку и к России] // Историческая психология и социология истории. 2008. № 2.
- ↑ Шнирельман В. А. [www.socionauki.ru/journal/articles/129681/ Слово о «голом (или не вполне голом) короле»] // Историческая психология и социология истории. 2009. № 2.
- ↑ Крадин Н. Н. [cliodynamics.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=1 Проблемы периодизации исторических макропроцессов] // Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев, С. Ю. Малков История и Математика : Альманах. — М.: Либроком, 2009. — № 5. — С. 166—200. — ISBN 978-5-397-00519-7.
- ↑ Ю.И. Семенов. Материалистическое понимание истории: недавнее прошлое, настоящее, будущее // Новая и новейшая история. 1996. №3. С. 80-84
- ↑ [scepsis.ru/library/id_1082.html 2.7. Развитие плюрально-циклического взгляда на историю в XX веке] // Семенов Ю. И. Философия истории. (Общая теория, основные проблемы, идеи и концепции от древности до наших дней). М.: Современные тетради, 2003.
- ↑ izvestia.asu.ru/1999/2/soci/TheNewsOfASU-1999-2-soci-05.pdf с. 6
Литература
- Семёнов Ю.И. [scepsis.ru/library/id_1065.html Философия истории. (Общая теория, основные проблемы, идеи и концепции от древности до наших дней)]. — М.: Современные тетради, 2003. — 776 с. — 2500 экз. — ISBN 5-88289-208-2.
- Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. [www.kuzyk.ru/allbooks/20061013_1/ Цивилизации: теория, история, диалог, будущее: В 2 т.]. — М.: Институт экономических стратегий, 2006. — Т. 1: Теория и история цивилизаций. — 768 с. — 5000 экз. — ISBN 5936181014.
- Пономарёв М. В., Смирнова С. Ю. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: В 3 ч. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. — Т. 1. — 288 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-691-00344-5.
- Россия как цивилизация: устойчивое и изменчивое / А.С. Ахиезер, С.Н. Гавров, Э.С. Кульпин, А.А. Пелипенко, И.В. Кондаков, Н.А. Хренов, И.Г. Яковенко и др. Отв. Ред И.Г. Яковенко; Научный совет РАН «История мировой культуры». – М.: Наука, 2007. – 685 с. ISBN 978-5-02-035664-1
- Февр Л. Цивилизация: эволюция слова и группы идей // Бои за историю / Февр, Люсьен, Бобович, А.А., Гуревич, А.Я., АН СССР. — М.: Наука, 1991. — С. 239—281. — 629 с. — (Памятники исторической мысли). — 13 000 экз. — ISBN 5-02-009042-5.
- Сравнительное изучение цивилизаций : Хрестоматия / Коллект. автор, Ерасов, Борис Сергеевич. — М.: Аспект Пресс, 1999. — 556 с. — 5000 экз. — ISBN 5-7567-0217-2.
- Ерасов Б. С. Цивилизации: универсалии и самобытность. — М.: Наука, 2002. — 524 с. — 1000 экз. — ISBN 5-02-022634-3.
- Космина В.Г. Проблеми методології цивілізаційного аналізу історичного процесу / В.Г. Космина. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 310 с. - ISBN 978-966-599-332-2
Ссылки
| |
Портал «Общество» |
|---|---|

|
Цивилизация в Викисловаре? |
| |
Цивилизация в Викицитатнике? |
| |
Цивилизация на Викискладе? |

|
Проект «История» |
| ||||||||||||||||
| Статья содержит короткие («гарвардские») ссылки на публикации, не указанные или неправильно описанные в библиографическом разделе. Список неработающих ссылок: Прокофьева, 2001 Пожалуйста, исправьте ссылки согласно инструкции к шаблону {{sfn}} и дополните библиографический раздел корректными описаниями цитируемых публикаций, следуя руководствам ВП:Сноски и ВП:Ссылки на источники.
|
Отрывок, характеризующий Цивилизация
В соседней комнате зашумело женское платье. Как будто очнувшись, князь Андрей встряхнулся, и лицо его приняло то же выражение, какое оно имело в гостиной Анны Павловны. Пьер спустил ноги с дивана. Вошла княгиня. Она была уже в другом, домашнем, но столь же элегантном и свежем платье. Князь Андрей встал, учтиво подвигая ей кресло.– Отчего, я часто думаю, – заговорила она, как всегда, по французски, поспешно и хлопотливо усаживаясь в кресло, – отчего Анет не вышла замуж? Как вы все глупы, messurs, что на ней не женились. Вы меня извините, но вы ничего не понимаете в женщинах толку. Какой вы спорщик, мсье Пьер.
– Я и с мужем вашим всё спорю; не понимаю, зачем он хочет итти на войну, – сказал Пьер, без всякого стеснения (столь обыкновенного в отношениях молодого мужчины к молодой женщине) обращаясь к княгине.
Княгиня встрепенулась. Видимо, слова Пьера затронули ее за живое.
– Ах, вот я то же говорю! – сказала она. – Я не понимаю, решительно не понимаю, отчего мужчины не могут жить без войны? Отчего мы, женщины, ничего не хотим, ничего нам не нужно? Ну, вот вы будьте судьею. Я ему всё говорю: здесь он адъютант у дяди, самое блестящее положение. Все его так знают, так ценят. На днях у Апраксиных я слышала, как одна дама спрашивает: «c'est ca le fameux prince Andre?» Ma parole d'honneur! [Это знаменитый князь Андрей? Честное слово!] – Она засмеялась. – Он так везде принят. Он очень легко может быть и флигель адъютантом. Вы знаете, государь очень милостиво говорил с ним. Мы с Анет говорили, это очень легко было бы устроить. Как вы думаете?
Пьер посмотрел на князя Андрея и, заметив, что разговор этот не нравился его другу, ничего не отвечал.
– Когда вы едете? – спросил он.
– Ah! ne me parlez pas de ce depart, ne m'en parlez pas. Je ne veux pas en entendre parler, [Ах, не говорите мне про этот отъезд! Я не хочу про него слышать,] – заговорила княгиня таким капризно игривым тоном, каким она говорила с Ипполитом в гостиной, и который так, очевидно, не шел к семейному кружку, где Пьер был как бы членом. – Сегодня, когда я подумала, что надо прервать все эти дорогие отношения… И потом, ты знаешь, Andre? – Она значительно мигнула мужу. – J'ai peur, j'ai peur! [Мне страшно, мне страшно!] – прошептала она, содрогаясь спиною.
Муж посмотрел на нее с таким видом, как будто он был удивлен, заметив, что кто то еще, кроме его и Пьера, находился в комнате; и он с холодною учтивостью вопросительно обратился к жене:
– Чего ты боишься, Лиза? Я не могу понять, – сказал он.
– Вот как все мужчины эгоисты; все, все эгоисты! Сам из за своих прихотей, Бог знает зачем, бросает меня, запирает в деревню одну.
– С отцом и сестрой, не забудь, – тихо сказал князь Андрей.
– Всё равно одна, без моих друзей… И хочет, чтобы я не боялась.
Тон ее уже был ворчливый, губка поднялась, придавая лицу не радостное, а зверское, беличье выраженье. Она замолчала, как будто находя неприличным говорить при Пьере про свою беременность, тогда как в этом и состояла сущность дела.
– Всё таки я не понял, de quoi vous avez peur, [Чего ты боишься,] – медлительно проговорил князь Андрей, не спуская глаз с жены.
Княгиня покраснела и отчаянно взмахнула руками.
– Non, Andre, je dis que vous avez tellement, tellement change… [Нет, Андрей, я говорю: ты так, так переменился…]
– Твой доктор велит тебе раньше ложиться, – сказал князь Андрей. – Ты бы шла спать.
Княгиня ничего не сказала, и вдруг короткая с усиками губка задрожала; князь Андрей, встав и пожав плечами, прошел по комнате.
Пьер удивленно и наивно смотрел через очки то на него, то на княгиню и зашевелился, как будто он тоже хотел встать, но опять раздумывал.
– Что мне за дело, что тут мсье Пьер, – вдруг сказала маленькая княгиня, и хорошенькое лицо ее вдруг распустилось в слезливую гримасу. – Я тебе давно хотела сказать, Andre: за что ты ко мне так переменился? Что я тебе сделала? Ты едешь в армию, ты меня не жалеешь. За что?
– Lise! – только сказал князь Андрей; но в этом слове были и просьба, и угроза, и, главное, уверение в том, что она сама раскается в своих словах; но она торопливо продолжала:
– Ты обращаешься со мной, как с больною или с ребенком. Я всё вижу. Разве ты такой был полгода назад?
– Lise, я прошу вас перестать, – сказал князь Андрей еще выразительнее.
Пьер, всё более и более приходивший в волнение во время этого разговора, встал и подошел к княгине. Он, казалось, не мог переносить вида слез и сам готов был заплакать.
– Успокойтесь, княгиня. Вам это так кажется, потому что я вас уверяю, я сам испытал… отчего… потому что… Нет, извините, чужой тут лишний… Нет, успокойтесь… Прощайте…
Князь Андрей остановил его за руку.
– Нет, постой, Пьер. Княгиня так добра, что не захочет лишить меня удовольствия провести с тобою вечер.
– Нет, он только о себе думает, – проговорила княгиня, не удерживая сердитых слез.
– Lise, – сказал сухо князь Андрей, поднимая тон на ту степень, которая показывает, что терпение истощено.
Вдруг сердитое беличье выражение красивого личика княгини заменилось привлекательным и возбуждающим сострадание выражением страха; она исподлобья взглянула своими прекрасными глазками на мужа, и на лице ее показалось то робкое и признающееся выражение, какое бывает у собаки, быстро, но слабо помахивающей опущенным хвостом.
– Mon Dieu, mon Dieu! [Боже мой, Боже мой!] – проговорила княгиня и, подобрав одною рукой складку платья, подошла к мужу и поцеловала его в лоб.
– Bonsoir, Lise, [Доброй ночи, Лиза,] – сказал князь Андрей, вставая и учтиво, как у посторонней, целуя руку.
Друзья молчали. Ни тот, ни другой не начинал говорить. Пьер поглядывал на князя Андрея, князь Андрей потирал себе лоб своею маленькою рукой.
– Пойдем ужинать, – сказал он со вздохом, вставая и направляясь к двери.
Они вошли в изящно, заново, богато отделанную столовую. Всё, от салфеток до серебра, фаянса и хрусталя, носило на себе тот особенный отпечаток новизны, который бывает в хозяйстве молодых супругов. В середине ужина князь Андрей облокотился и, как человек, давно имеющий что нибудь на сердце и вдруг решающийся высказаться, с выражением нервного раздражения, в каком Пьер никогда еще не видал своего приятеля, начал говорить:
– Никогда, никогда не женись, мой друг; вот тебе мой совет: не женись до тех пор, пока ты не скажешь себе, что ты сделал всё, что мог, и до тех пор, пока ты не перестанешь любить ту женщину, какую ты выбрал, пока ты не увидишь ее ясно; а то ты ошибешься жестоко и непоправимо. Женись стариком, никуда негодным… А то пропадет всё, что в тебе есть хорошего и высокого. Всё истратится по мелочам. Да, да, да! Не смотри на меня с таким удивлением. Ежели ты ждешь от себя чего нибудь впереди, то на каждом шагу ты будешь чувствовать, что для тебя всё кончено, всё закрыто, кроме гостиной, где ты будешь стоять на одной доске с придворным лакеем и идиотом… Да что!…
Он энергически махнул рукой.
Пьер снял очки, отчего лицо его изменилось, еще более выказывая доброту, и удивленно глядел на друга.
– Моя жена, – продолжал князь Андрей, – прекрасная женщина. Это одна из тех редких женщин, с которою можно быть покойным за свою честь; но, Боже мой, чего бы я не дал теперь, чтобы не быть женатым! Это я тебе одному и первому говорю, потому что я люблю тебя.
Князь Андрей, говоря это, был еще менее похож, чем прежде, на того Болконского, который развалившись сидел в креслах Анны Павловны и сквозь зубы, щурясь, говорил французские фразы. Его сухое лицо всё дрожало нервическим оживлением каждого мускула; глаза, в которых прежде казался потушенным огонь жизни, теперь блестели лучистым, ярким блеском. Видно было, что чем безжизненнее казался он в обыкновенное время, тем энергичнее был он в эти минуты почти болезненного раздражения.
– Ты не понимаешь, отчего я это говорю, – продолжал он. – Ведь это целая история жизни. Ты говоришь, Бонапарте и его карьера, – сказал он, хотя Пьер и не говорил про Бонапарте. – Ты говоришь Бонапарте; но Бонапарте, когда он работал, шаг за шагом шел к цели, он был свободен, у него ничего не было, кроме его цели, – и он достиг ее. Но свяжи себя с женщиной – и как скованный колодник, теряешь всякую свободу. И всё, что есть в тебе надежд и сил, всё только тяготит и раскаянием мучает тебя. Гостиные, сплетни, балы, тщеславие, ничтожество – вот заколдованный круг, из которого я не могу выйти. Я теперь отправляюсь на войну, на величайшую войну, какая только бывала, а я ничего не знаю и никуда не гожусь. Je suis tres aimable et tres caustique, [Я очень мил и очень едок,] – продолжал князь Андрей, – и у Анны Павловны меня слушают. И это глупое общество, без которого не может жить моя жена, и эти женщины… Ежели бы ты только мог знать, что это такое toutes les femmes distinguees [все эти женщины хорошего общества] и вообще женщины! Отец мой прав. Эгоизм, тщеславие, тупоумие, ничтожество во всем – вот женщины, когда показываются все так, как они есть. Посмотришь на них в свете, кажется, что что то есть, а ничего, ничего, ничего! Да, не женись, душа моя, не женись, – кончил князь Андрей.
– Мне смешно, – сказал Пьер, – что вы себя, вы себя считаете неспособным, свою жизнь – испорченною жизнью. У вас всё, всё впереди. И вы…
Он не сказал, что вы , но уже тон его показывал, как высоко ценит он друга и как много ждет от него в будущем.
«Как он может это говорить!» думал Пьер. Пьер считал князя Андрея образцом всех совершенств именно оттого, что князь Андрей в высшей степени соединял все те качества, которых не было у Пьера и которые ближе всего можно выразить понятием – силы воли. Пьер всегда удивлялся способности князя Андрея спокойного обращения со всякого рода людьми, его необыкновенной памяти, начитанности (он всё читал, всё знал, обо всем имел понятие) и больше всего его способности работать и учиться. Ежели часто Пьера поражало в Андрее отсутствие способности мечтательного философствования (к чему особенно был склонен Пьер), то и в этом он видел не недостаток, а силу.
В самых лучших, дружеских и простых отношениях лесть или похвала необходимы, как подмазка необходима для колес, чтоб они ехали.
– Je suis un homme fini, [Я человек конченный,] – сказал князь Андрей. – Что обо мне говорить? Давай говорить о тебе, – сказал он, помолчав и улыбнувшись своим утешительным мыслям.
Улыбка эта в то же мгновение отразилась на лице Пьера.
– А обо мне что говорить? – сказал Пьер, распуская свой рот в беззаботную, веселую улыбку. – Что я такое? Je suis un batard [Я незаконный сын!] – И он вдруг багрово покраснел. Видно было, что он сделал большое усилие, чтобы сказать это. – Sans nom, sans fortune… [Без имени, без состояния…] И что ж, право… – Но он не сказал, что право . – Я cвободен пока, и мне хорошо. Я только никак не знаю, что мне начать. Я хотел серьезно посоветоваться с вами.
Князь Андрей добрыми глазами смотрел на него. Но во взгляде его, дружеском, ласковом, всё таки выражалось сознание своего превосходства.
– Ты мне дорог, особенно потому, что ты один живой человек среди всего нашего света. Тебе хорошо. Выбери, что хочешь; это всё равно. Ты везде будешь хорош, но одно: перестань ты ездить к этим Курагиным, вести эту жизнь. Так это не идет тебе: все эти кутежи, и гусарство, и всё…
– Que voulez vous, mon cher, – сказал Пьер, пожимая плечами, – les femmes, mon cher, les femmes! [Что вы хотите, дорогой мой, женщины, дорогой мой, женщины!]
– Не понимаю, – отвечал Андрей. – Les femmes comme il faut, [Порядочные женщины,] это другое дело; но les femmes Курагина, les femmes et le vin, [женщины Курагина, женщины и вино,] не понимаю!
Пьер жил y князя Василия Курагина и участвовал в разгульной жизни его сына Анатоля, того самого, которого для исправления собирались женить на сестре князя Андрея.
– Знаете что, – сказал Пьер, как будто ему пришла неожиданно счастливая мысль, – серьезно, я давно это думал. С этою жизнью я ничего не могу ни решить, ни обдумать. Голова болит, денег нет. Нынче он меня звал, я не поеду.
– Дай мне честное слово, что ты не будешь ездить?
– Честное слово!
Уже был второй час ночи, когда Пьер вышел oт своего друга. Ночь была июньская, петербургская, бессумрачная ночь. Пьер сел в извозчичью коляску с намерением ехать домой. Но чем ближе он подъезжал, тем более он чувствовал невозможность заснуть в эту ночь, походившую более на вечер или на утро. Далеко было видно по пустым улицам. Дорогой Пьер вспомнил, что у Анатоля Курагина нынче вечером должно было собраться обычное игорное общество, после которого обыкновенно шла попойка, кончавшаяся одним из любимых увеселений Пьера.
«Хорошо бы было поехать к Курагину», подумал он.
Но тотчас же он вспомнил данное князю Андрею честное слово не бывать у Курагина. Но тотчас же, как это бывает с людьми, называемыми бесхарактерными, ему так страстно захотелось еще раз испытать эту столь знакомую ему беспутную жизнь, что он решился ехать. И тотчас же ему пришла в голову мысль, что данное слово ничего не значит, потому что еще прежде, чем князю Андрею, он дал также князю Анатолю слово быть у него; наконец, он подумал, что все эти честные слова – такие условные вещи, не имеющие никакого определенного смысла, особенно ежели сообразить, что, может быть, завтра же или он умрет или случится с ним что нибудь такое необыкновенное, что не будет уже ни честного, ни бесчестного. Такого рода рассуждения, уничтожая все его решения и предположения, часто приходили к Пьеру. Он поехал к Курагину.
Подъехав к крыльцу большого дома у конно гвардейских казарм, в которых жил Анатоль, он поднялся на освещенное крыльцо, на лестницу, и вошел в отворенную дверь. В передней никого не было; валялись пустые бутылки, плащи, калоши; пахло вином, слышался дальний говор и крик.
Игра и ужин уже кончились, но гости еще не разъезжались. Пьер скинул плащ и вошел в первую комнату, где стояли остатки ужина и один лакей, думая, что его никто не видит, допивал тайком недопитые стаканы. Из третьей комнаты слышались возня, хохот, крики знакомых голосов и рев медведя.
Человек восемь молодых людей толпились озабоченно около открытого окна. Трое возились с молодым медведем, которого один таскал на цепи, пугая им другого.
– Держу за Стивенса сто! – кричал один.
– Смотри не поддерживать! – кричал другой.
– Я за Долохова! – кричал третий. – Разними, Курагин.
– Ну, бросьте Мишку, тут пари.
– Одним духом, иначе проиграно, – кричал четвертый.
– Яков, давай бутылку, Яков! – кричал сам хозяин, высокий красавец, стоявший посреди толпы в одной тонкой рубашке, раскрытой на средине груди. – Стойте, господа. Вот он Петруша, милый друг, – обратился он к Пьеру.
Другой голос невысокого человека, с ясными голубыми глазами, особенно поражавший среди этих всех пьяных голосов своим трезвым выражением, закричал от окна: «Иди сюда – разойми пари!» Это был Долохов, семеновский офицер, известный игрок и бретёр, живший вместе с Анатолем. Пьер улыбался, весело глядя вокруг себя.
– Ничего не понимаю. В чем дело?
– Стойте, он не пьян. Дай бутылку, – сказал Анатоль и, взяв со стола стакан, подошел к Пьеру.
– Прежде всего пей.
Пьер стал пить стакан за стаканом, исподлобья оглядывая пьяных гостей, которые опять столпились у окна, и прислушиваясь к их говору. Анатоль наливал ему вино и рассказывал, что Долохов держит пари с англичанином Стивенсом, моряком, бывшим тут, в том, что он, Долохов, выпьет бутылку рому, сидя на окне третьего этажа с опущенными наружу ногами.
– Ну, пей же всю! – сказал Анатоль, подавая последний стакан Пьеру, – а то не пущу!
– Нет, не хочу, – сказал Пьер, отталкивая Анатоля, и подошел к окну.
Долохов держал за руку англичанина и ясно, отчетливо выговаривал условия пари, обращаясь преимущественно к Анатолю и Пьеру.
Долохов был человек среднего роста, курчавый и с светлыми, голубыми глазами. Ему было лет двадцать пять. Он не носил усов, как и все пехотные офицеры, и рот его, самая поразительная черта его лица, был весь виден. Линии этого рта были замечательно тонко изогнуты. В средине верхняя губа энергически опускалась на крепкую нижнюю острым клином, и в углах образовывалось постоянно что то вроде двух улыбок, по одной с каждой стороны; и всё вместе, а особенно в соединении с твердым, наглым, умным взглядом, составляло впечатление такое, что нельзя было не заметить этого лица. Долохов был небогатый человек, без всяких связей. И несмотря на то, что Анатоль проживал десятки тысяч, Долохов жил с ним и успел себя поставить так, что Анатоль и все знавшие их уважали Долохова больше, чем Анатоля. Долохов играл во все игры и почти всегда выигрывал. Сколько бы он ни пил, он никогда не терял ясности головы. И Курагин, и Долохов в то время были знаменитостями в мире повес и кутил Петербурга.
Бутылка рому была принесена; раму, не пускавшую сесть на наружный откос окна, выламывали два лакея, видимо торопившиеся и робевшие от советов и криков окружавших господ.
Анатоль с своим победительным видом подошел к окну. Ему хотелось сломать что нибудь. Он оттолкнул лакеев и потянул раму, но рама не сдавалась. Он разбил стекло.
– Ну ка ты, силач, – обратился он к Пьеру.
Пьер взялся за перекладины, потянул и с треском выворотип дубовую раму.
– Всю вон, а то подумают, что я держусь, – сказал Долохов.
– Англичанин хвастает… а?… хорошо?… – говорил Анатоль.
– Хорошо, – сказал Пьер, глядя на Долохова, который, взяв в руки бутылку рома, подходил к окну, из которого виднелся свет неба и сливавшихся на нем утренней и вечерней зари.
Долохов с бутылкой рома в руке вскочил на окно. «Слушать!»
крикнул он, стоя на подоконнике и обращаясь в комнату. Все замолчали.
– Я держу пари (он говорил по французски, чтоб его понял англичанин, и говорил не слишком хорошо на этом языке). Держу пари на пятьдесят империалов, хотите на сто? – прибавил он, обращаясь к англичанину.
– Нет, пятьдесят, – сказал англичанин.
– Хорошо, на пятьдесят империалов, – что я выпью бутылку рома всю, не отнимая ото рта, выпью, сидя за окном, вот на этом месте (он нагнулся и показал покатый выступ стены за окном) и не держась ни за что… Так?…
– Очень хорошо, – сказал англичанин.
Анатоль повернулся к англичанину и, взяв его за пуговицу фрака и сверху глядя на него (англичанин был мал ростом), начал по английски повторять ему условия пари.
– Постой! – закричал Долохов, стуча бутылкой по окну, чтоб обратить на себя внимание. – Постой, Курагин; слушайте. Если кто сделает то же, то я плачу сто империалов. Понимаете?
Англичанин кивнул головой, не давая никак разуметь, намерен ли он или нет принять это новое пари. Анатоль не отпускал англичанина и, несмотря на то что тот, кивая, давал знать что он всё понял, Анатоль переводил ему слова Долохова по английски. Молодой худощавый мальчик, лейб гусар, проигравшийся в этот вечер, взлез на окно, высунулся и посмотрел вниз.
– У!… у!… у!… – проговорил он, глядя за окно на камень тротуара.
– Смирно! – закричал Долохов и сдернул с окна офицера, который, запутавшись шпорами, неловко спрыгнул в комнату.
Поставив бутылку на подоконник, чтобы было удобно достать ее, Долохов осторожно и тихо полез в окно. Спустив ноги и расперевшись обеими руками в края окна, он примерился, уселся, опустил руки, подвинулся направо, налево и достал бутылку. Анатоль принес две свечки и поставил их на подоконник, хотя было уже совсем светло. Спина Долохова в белой рубашке и курчавая голова его были освещены с обеих сторон. Все столпились у окна. Англичанин стоял впереди. Пьер улыбался и ничего не говорил. Один из присутствующих, постарше других, с испуганным и сердитым лицом, вдруг продвинулся вперед и хотел схватить Долохова за рубашку.
– Господа, это глупости; он убьется до смерти, – сказал этот более благоразумный человек.
Анатоль остановил его:
– Не трогай, ты его испугаешь, он убьется. А?… Что тогда?… А?…
Долохов обернулся, поправляясь и опять расперевшись руками.
– Ежели кто ко мне еще будет соваться, – сказал он, редко пропуская слова сквозь стиснутые и тонкие губы, – я того сейчас спущу вот сюда. Ну!…
Сказав «ну»!, он повернулся опять, отпустил руки, взял бутылку и поднес ко рту, закинул назад голову и вскинул кверху свободную руку для перевеса. Один из лакеев, начавший подбирать стекла, остановился в согнутом положении, не спуская глаз с окна и спины Долохова. Анатоль стоял прямо, разинув глаза. Англичанин, выпятив вперед губы, смотрел сбоку. Тот, который останавливал, убежал в угол комнаты и лег на диван лицом к стене. Пьер закрыл лицо, и слабая улыбка, забывшись, осталась на его лице, хоть оно теперь выражало ужас и страх. Все молчали. Пьер отнял от глаз руки: Долохов сидел всё в том же положении, только голова загнулась назад, так что курчавые волосы затылка прикасались к воротнику рубахи, и рука с бутылкой поднималась всё выше и выше, содрогаясь и делая усилие. Бутылка видимо опорожнялась и с тем вместе поднималась, загибая голову. «Что же это так долго?» подумал Пьер. Ему казалось, что прошло больше получаса. Вдруг Долохов сделал движение назад спиной, и рука его нервически задрожала; этого содрогания было достаточно, чтобы сдвинуть всё тело, сидевшее на покатом откосе. Он сдвинулся весь, и еще сильнее задрожали, делая усилие, рука и голова его. Одна рука поднялась, чтобы схватиться за подоконник, но опять опустилась. Пьер опять закрыл глаза и сказал себе, что никогда уж не откроет их. Вдруг он почувствовал, что всё вокруг зашевелилось. Он взглянул: Долохов стоял на подоконнике, лицо его было бледно и весело.
– Пуста!
Он кинул бутылку англичанину, который ловко поймал ее. Долохов спрыгнул с окна. От него сильно пахло ромом.
– Отлично! Молодцом! Вот так пари! Чорт вас возьми совсем! – кричали с разных сторон.
Англичанин, достав кошелек, отсчитывал деньги. Долохов хмурился и молчал. Пьер вскочил на окно.
Господа! Кто хочет со мною пари? Я то же сделаю, – вдруг крикнул он. – И пари не нужно, вот что. Вели дать бутылку. Я сделаю… вели дать.
– Пускай, пускай! – сказал Долохов, улыбаясь.
– Что ты? с ума сошел? Кто тебя пустит? У тебя и на лестнице голова кружится, – заговорили с разных сторон.
– Я выпью, давай бутылку рому! – закричал Пьер, решительным и пьяным жестом ударяя по столу, и полез в окно.
Его схватили за руки; но он был так силен, что далеко оттолкнул того, кто приблизился к нему.
– Нет, его так не уломаешь ни за что, – говорил Анатоль, – постойте, я его обману. Послушай, я с тобой держу пари, но завтра, а теперь мы все едем к***.
– Едем, – закричал Пьер, – едем!… И Мишку с собой берем…
И он ухватил медведя, и, обняв и подняв его, стал кружиться с ним по комнате.
Князь Василий исполнил обещание, данное на вечере у Анны Павловны княгине Друбецкой, просившей его о своем единственном сыне Борисе. О нем было доложено государю, и, не в пример другим, он был переведен в гвардию Семеновского полка прапорщиком. Но адъютантом или состоящим при Кутузове Борис так и не был назначен, несмотря на все хлопоты и происки Анны Михайловны. Вскоре после вечера Анны Павловны Анна Михайловна вернулась в Москву, прямо к своим богатым родственникам Ростовым, у которых она стояла в Москве и у которых с детства воспитывался и годами живал ее обожаемый Боренька, только что произведенный в армейские и тотчас же переведенный в гвардейские прапорщики. Гвардия уже вышла из Петербурга 10 го августа, и сын, оставшийся для обмундирования в Москве, должен был догнать ее по дороге в Радзивилов.
У Ростовых были именинницы Натальи, мать и меньшая дочь. С утра, не переставая, подъезжали и отъезжали цуги, подвозившие поздравителей к большому, всей Москве известному дому графини Ростовой на Поварской. Графиня с красивой старшею дочерью и гостями, не перестававшими сменять один другого, сидели в гостиной.
Графиня была женщина с восточным типом худого лица, лет сорока пяти, видимо изнуренная детьми, которых у ней было двенадцать человек. Медлительность ее движений и говора, происходившая от слабости сил, придавала ей значительный вид, внушавший уважение. Княгиня Анна Михайловна Друбецкая, как домашний человек, сидела тут же, помогая в деле принимания и занимания разговором гостей. Молодежь была в задних комнатах, не находя нужным участвовать в приеме визитов. Граф встречал и провожал гостей, приглашая всех к обеду.
«Очень, очень вам благодарен, ma chere или mon cher [моя дорогая или мой дорогой] (ma сherе или mon cher он говорил всем без исключения, без малейших оттенков как выше, так и ниже его стоявшим людям) за себя и за дорогих именинниц. Смотрите же, приезжайте обедать. Вы меня обидите, mon cher. Душевно прошу вас от всего семейства, ma chere». Эти слова с одинаковым выражением на полном веселом и чисто выбритом лице и с одинаково крепким пожатием руки и повторяемыми короткими поклонами говорил он всем без исключения и изменения. Проводив одного гостя, граф возвращался к тому или той, которые еще были в гостиной; придвинув кресла и с видом человека, любящего и умеющего пожить, молодецки расставив ноги и положив на колена руки, он значительно покачивался, предлагал догадки о погоде, советовался о здоровье, иногда на русском, иногда на очень дурном, но самоуверенном французском языке, и снова с видом усталого, но твердого в исполнении обязанности человека шел провожать, оправляя редкие седые волосы на лысине, и опять звал обедать. Иногда, возвращаясь из передней, он заходил через цветочную и официантскую в большую мраморную залу, где накрывали стол на восемьдесят кувертов, и, глядя на официантов, носивших серебро и фарфор, расставлявших столы и развертывавших камчатные скатерти, подзывал к себе Дмитрия Васильевича, дворянина, занимавшегося всеми его делами, и говорил: «Ну, ну, Митенька, смотри, чтоб всё было хорошо. Так, так, – говорил он, с удовольствием оглядывая огромный раздвинутый стол. – Главное – сервировка. То то…» И он уходил, самодовольно вздыхая, опять в гостиную.
– Марья Львовна Карагина с дочерью! – басом доложил огромный графинин выездной лакей, входя в двери гостиной.
Графиня подумала и понюхала из золотой табакерки с портретом мужа.
– Замучили меня эти визиты, – сказала она. – Ну, уж ее последнюю приму. Чопорна очень. Проси, – сказала она лакею грустным голосом, как будто говорила: «ну, уж добивайте!»
Высокая, полная, с гордым видом дама с круглолицей улыбающейся дочкой, шумя платьями, вошли в гостиную.
«Chere comtesse, il y a si longtemps… elle a ete alitee la pauvre enfant… au bal des Razoumowsky… et la comtesse Apraksine… j'ai ete si heureuse…» [Дорогая графиня, как давно… она должна была пролежать в постеле, бедное дитя… на балу у Разумовских… и графиня Апраксина… была так счастлива…] послышались оживленные женские голоса, перебивая один другой и сливаясь с шумом платьев и передвиганием стульев. Начался тот разговор, который затевают ровно настолько, чтобы при первой паузе встать, зашуметь платьями, проговорить: «Je suis bien charmee; la sante de maman… et la comtesse Apraksine» [Я в восхищении; здоровье мамы… и графиня Апраксина] и, опять зашумев платьями, пройти в переднюю, надеть шубу или плащ и уехать. Разговор зашел о главной городской новости того времени – о болезни известного богача и красавца Екатерининского времени старого графа Безухого и о его незаконном сыне Пьере, который так неприлично вел себя на вечере у Анны Павловны Шерер.
– Я очень жалею бедного графа, – проговорила гостья, – здоровье его и так плохо, а теперь это огорченье от сына, это его убьет!
– Что такое? – спросила графиня, как будто не зная, о чем говорит гостья, хотя она раз пятнадцать уже слышала причину огорчения графа Безухого.
– Вот нынешнее воспитание! Еще за границей, – проговорила гостья, – этот молодой человек предоставлен был самому себе, и теперь в Петербурге, говорят, он такие ужасы наделал, что его с полицией выслали оттуда.
– Скажите! – сказала графиня.
– Он дурно выбирал свои знакомства, – вмешалась княгиня Анна Михайловна. – Сын князя Василия, он и один Долохов, они, говорят, Бог знает что делали. И оба пострадали. Долохов разжалован в солдаты, а сын Безухого выслан в Москву. Анатоля Курагина – того отец как то замял. Но выслали таки из Петербурга.
– Да что, бишь, они сделали? – спросила графиня.
– Это совершенные разбойники, особенно Долохов, – говорила гостья. – Он сын Марьи Ивановны Долоховой, такой почтенной дамы, и что же? Можете себе представить: они втроем достали где то медведя, посадили с собой в карету и повезли к актрисам. Прибежала полиция их унимать. Они поймали квартального и привязали его спина со спиной к медведю и пустили медведя в Мойку; медведь плавает, а квартальный на нем.
– Хороша, ma chere, фигура квартального, – закричал граф, помирая со смеху.
– Ах, ужас какой! Чему тут смеяться, граф?
Но дамы невольно смеялись и сами.
– Насилу спасли этого несчастного, – продолжала гостья. – И это сын графа Кирилла Владимировича Безухова так умно забавляется! – прибавила она. – А говорили, что так хорошо воспитан и умен. Вот всё воспитание заграничное куда довело. Надеюсь, что здесь его никто не примет, несмотря на его богатство. Мне хотели его представить. Я решительно отказалась: у меня дочери.
– Отчего вы говорите, что этот молодой человек так богат? – спросила графиня, нагибаясь от девиц, которые тотчас же сделали вид, что не слушают. – Ведь у него только незаконные дети. Кажется… и Пьер незаконный.
Гостья махнула рукой.
– У него их двадцать незаконных, я думаю.
Княгиня Анна Михайловна вмешалась в разговор, видимо, желая выказать свои связи и свое знание всех светских обстоятельств.
– Вот в чем дело, – сказала она значительно и тоже полушопотом. – Репутация графа Кирилла Владимировича известна… Детям своим он и счет потерял, но этот Пьер любимый был.
– Как старик был хорош, – сказала графиня, – еще прошлого года! Красивее мужчины я не видывала.
– Теперь очень переменился, – сказала Анна Михайловна. – Так я хотела сказать, – продолжала она, – по жене прямой наследник всего именья князь Василий, но Пьера отец очень любил, занимался его воспитанием и писал государю… так что никто не знает, ежели он умрет (он так плох, что этого ждут каждую минуту, и Lorrain приехал из Петербурга), кому достанется это огромное состояние, Пьеру или князю Василию. Сорок тысяч душ и миллионы. Я это очень хорошо знаю, потому что мне сам князь Василий это говорил. Да и Кирилл Владимирович мне приходится троюродным дядей по матери. Он и крестил Борю, – прибавила она, как будто не приписывая этому обстоятельству никакого значения.
– Князь Василий приехал в Москву вчера. Он едет на ревизию, мне говорили, – сказала гостья.
– Да, но, entre nous, [между нами,] – сказала княгиня, – это предлог, он приехал собственно к графу Кирилле Владимировичу, узнав, что он так плох.
– Однако, ma chere, это славная штука, – сказал граф и, заметив, что старшая гостья его не слушала, обратился уже к барышням. – Хороша фигура была у квартального, я воображаю.
И он, представив, как махал руками квартальный, опять захохотал звучным и басистым смехом, колебавшим всё его полное тело, как смеются люди, всегда хорошо евшие и особенно пившие. – Так, пожалуйста же, обедать к нам, – сказал он.
Наступило молчание. Графиня глядела на гостью, приятно улыбаясь, впрочем, не скрывая того, что не огорчится теперь нисколько, если гостья поднимется и уедет. Дочь гостьи уже оправляла платье, вопросительно глядя на мать, как вдруг из соседней комнаты послышался бег к двери нескольких мужских и женских ног, грохот зацепленного и поваленного стула, и в комнату вбежала тринадцатилетняя девочка, запахнув что то короткою кисейною юбкою, и остановилась по средине комнаты. Очевидно было, она нечаянно, с нерассчитанного бега, заскочила так далеко. В дверях в ту же минуту показались студент с малиновым воротником, гвардейский офицер, пятнадцатилетняя девочка и толстый румяный мальчик в детской курточке.
Граф вскочил и, раскачиваясь, широко расставил руки вокруг бежавшей девочки.
– А, вот она! – смеясь закричал он. – Именинница! Ma chere, именинница!
– Ma chere, il y a un temps pour tout, [Милая, на все есть время,] – сказала графиня, притворяясь строгою. – Ты ее все балуешь, Elie, – прибавила она мужу.
– Bonjour, ma chere, je vous felicite, [Здравствуйте, моя милая, поздравляю вас,] – сказала гостья. – Quelle delicuse enfant! [Какое прелестное дитя!] – прибавила она, обращаясь к матери.
Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими детскими открытыми плечиками, которые, сжимаясь, двигались в своем корсаже от быстрого бега, с своими сбившимися назад черными кудрями, тоненькими оголенными руками и маленькими ножками в кружевных панталончиках и открытых башмачках, была в том милом возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка. Вывернувшись от отца, она подбежала к матери и, не обращая никакого внимания на ее строгое замечание, спрятала свое раскрасневшееся лицо в кружевах материной мантильи и засмеялась. Она смеялась чему то, толкуя отрывисто про куклу, которую вынула из под юбочки.
– Видите?… Кукла… Мими… Видите.
И Наташа не могла больше говорить (ей всё смешно казалось). Она упала на мать и расхохоталась так громко и звонко, что все, даже чопорная гостья, против воли засмеялись.
– Ну, поди, поди с своим уродом! – сказала мать, притворно сердито отталкивая дочь. – Это моя меньшая, – обратилась она к гостье.
Наташа, оторвав на минуту лицо от кружевной косынки матери, взглянула на нее снизу сквозь слезы смеха и опять спрятала лицо.
Гостья, принужденная любоваться семейною сценой, сочла нужным принять в ней какое нибудь участие.
– Скажите, моя милая, – сказала она, обращаясь к Наташе, – как же вам приходится эта Мими? Дочь, верно?
Наташе не понравился тон снисхождения до детского разговора, с которым гостья обратилась к ней. Она ничего не ответила и серьезно посмотрела на гостью.
Между тем всё это молодое поколение: Борис – офицер, сын княгини Анны Михайловны, Николай – студент, старший сын графа, Соня – пятнадцатилетняя племянница графа, и маленький Петруша – меньшой сын, все разместились в гостиной и, видимо, старались удержать в границах приличия оживление и веселость, которыми еще дышала каждая их черта. Видно было, что там, в задних комнатах, откуда они все так стремительно прибежали, у них были разговоры веселее, чем здесь о городских сплетнях, погоде и comtesse Apraksine. [о графине Апраксиной.] Изредка они взглядывали друг на друга и едва удерживались от смеха.