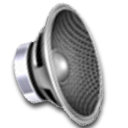Буковски, Чарльз
| Чарльз Буковски | |
| Charles Bukowski | |
 Чарльз Буковски, Сан-Педро, 1990 | |
| Имя при рождении: |
Генрих Карл Буковски |
|---|---|
| Место рождения: | |
| Место смерти: | |
| Род деятельности: | |
| Годы творчества: |
1-я половина 1940-х, 1955—1994 |
| Направление: | |
| Язык произведений: | |
| Дебют: |
Flower, Fist and Bestial Wail (1960)[1] |
| Подпись: | |
| [lib.ru/INPROZ/BUKOWSKI/ Произведения на сайте Lib.ru] | |
Чарльз Буко́вски (англ. Charles Bukowski; 16 августа 1920, Андернах, Германия — 9 марта 1994, Лос-Анджелес, США) — американский литератор, поэт, прозаик и журналист немецкого происхождения. Представитель так называемого «грязного реализма». Автор более двухсот рассказов, включённых в шестнадцать сборников, шести романов и более тридцати поэтических книг[2].
Первые литературные опыты Буковски относятся к 1940-м годам, однако всерьёз писать он начал уже в зрелом возрасте — с середины 1950-х. Благодаря стихам, которые появлялись на страницах малотиражных поэтических журналов, издававшихся преимущественно в Калифорнии, Буковски стал заметной фигурой литературного андеграунда Америки. Более широкого признания он добился в конце 1960-х как автор колонки «Записки старого козла» (Notes of a Dirty Old Man), выходившей в лос-анджелесской газете «Open City»[3]. В те годы за Буковски окончательно закрепился образ скандалиста, бабника и пьяницы, созданный и насаждаемый им в стихах и прозе[4]. За пределами Соединённых Штатов о писателе узнали после публикации романа «Почтамт» (1971), который пользовался большой популярностью в Европе. Общеамериканскую известность Буковски завоевал только в 1987 году, когда на экраны США вышла картина «Пьянь». Фильм, в основе которого лежал полуавтобиографический сценарий Буковски, поставил режиссёр Барбет Шрёдер[5].
Буковски умер в 1994 году, однако и по сей день продолжают выходить его ранее не публиковавшиеся работы. К 2011 году издано две биографии писателя, выпущено десять сборников его писем. Жизнь и творчество Буковски стали темой нескольких документальных фильмов, а его проза неоднократно экранизировалась.
Содержание
Ранние годы
Чарльз Буковски (имя при рождении Генрих Карл Буковски, назван в честь отца) родился 16 августа 1920 года в немецком городе Андернах. Мать, немка Катарина Фетт (нем. Katharina Fett), была швеёй, отец — старшим сержантом американской армии, служившим на территории Германии в период Первой мировой войны и имевшим немецкие корни. Родители Чарльза поженились 15 июля 1920 года, незадолго до рождения сына; последствия экономического кризиса 1923 года вынудили их переехать, и семья перебралась в США, в город Балтимор.
Катарина начала называть себя «Кейт», чтобы её имя звучало по-американски, а сын превратился из Генриха в «Генри». Также было изменено произношение фамилии: «/buːˈkaʊski/» вместо «/buːˈkɒfski/». Отец Генри много работал, пока не накопил достаточно денег, чтобы перебраться с семьёй в Калифорнию, куда Буковски и переехали в 1924 году, осев в пригороде Лос-Анджелеса. Генрих устроился на работу в компанию по доставке молока, а Кейт долгое время оставалась безработной, семья сильно нуждалась в деньгах. Ребёнка одевали в традиционную немецкую одежду и запрещали играть с другими детьми, «чтобы не испачкаться»; отношения со сверстниками также ухудшала дислексия мальчика, которого вдовесок регулярно дразнили за его немецкий акцент. «Я был изгоем. Родители подстроили мне козу хуже некуда — купили индейский костюм, с перьями, головным убором и томагавком. И вот я с этим своим немецким акцентом стою разодетый, как чёртов индеец, а у всех остальных карапетов — ковбойские костюмы. Уж поверьте, круто мне пришлось»[6].
Отец Генри был сторонником жёстких методов воспитания и регулярно избивал как сына, так и жену. Характе́рным примером его взаимоотношений с сыном служила садистская игра, подробно описанная в романе «Хлеб с ветчиной», автобиографической книге Ч. Буковски о его раннем детстве. Каждый уикенд Буковски проводили генеральную уборку дома, и в одну из суббот Генри также был привлечён к работе: ему было сказано подстричь газон перед домом столь тщательно, чтобы ни один стебель травы не торчал выше установленного уровня. Затем отец специально выискивал неподрезанную травинку и в качестве наказания избивал сына ремнём для правки бритвы, что повторялось каждые выходные в течение продолжительного времени. Мать Генри при этом оставалась безучастной, что впоследствии послужило причиной полного безразличия сына к ней. «Отцу нравилось пороть меня ремнём для правки бритвы. Мать его поддерживала. Грустная история[7]», — описывал своё детство Ч. Буковски несколько десятилетий спустя.
В возрасте тринадцати лет у Чарльза начало развиваться тяжёлое воспаление сальных желёз — акне. Прыщи покрывали всё лицо, руки, спину, располагались даже в полости рта; Буковски описывал своё состояние как реакцию на ужасы своего детства, аналогичного мнения придерживался его биограф Говард Соунс, а также исследователь творчества и редактор Дэвид Стивен Калонн (англ. David Stephen Calonne). На фоне тяжёлой ситуации в семье и сложностей в общении с одноклассниками Чарльз начал посещать Публичную библиотеку Лос-Анджелеса, где серьёзно увлёкся чтением, которое осталось одним из его главных хобби на всю оставшуюся жизнь. К этому времени относится первая проба пера будущего писателя: Чарльз написал небольшой рассказ про пилота времён Первой мировой войны[8]. «Насколько я помню, в самом начале я написал что-то про немецкого авиатора со стальной рукой, который сбил кучу американцев во время Первой мировой. Писал я ручкой, заполнил все страницы огромного блокнота на спирали. Мне тогда было лет тринадцать, и я валялся в постели весь в жутчайших чирьях — медики такого и упомнить не могли»[9].
Один из немногих приятелей Чарльза познакомил его с алкоголем. «Мне нравилось быть пьяным. Я понял, что полюблю пьянство навсегда. Оно отвлекало от реальности[10]», — впоследствии увлечение спиртным приведёт Чарльза к длительному запою, однако навсегда останется любимым увлечением и главной темой творчества. К данному времени также относится последний крупный разлад в отношениях Чарльза со своим отцом, положивший конец постоянным побоям первого. Глен Эстерли (англ. Glenn Esterly), журналист издания Rolling Stone, так описывал произошедшее:
В шестнадцать лет он однажды вечером явился домой пьяный, ему стало дурно, и он наблевал на ковёр в гостиной. Отец схватил его за шкирку и начал тыкать носом в лужу блевотины, как собаку. Сын взорвался, размахнулся как следует и врезал папе в челюсть. Генри Чарльз Буковски-старший упал и долго не вставал. После этого он ни разу не поднял на сына руку.После окончания средней школы Буковски в течение непродолжительного времени посещал Городской колледж Лос-Анджелеса, изучая английский и журналистику, а также продолжал писать короткие рассказы. В 1940 году отец обнаружил спрятанные в комнате сына рукописи и, будучи в гневе от их содержания, выбросил их вместе со всеми вещами Чарльза.— выдержка из интервью с Ч. Буковски за 1976 год[11].
Началось с того, что по молодости я написал кое-что и спрятал в ящик комода. Отец нашёл — тут-то всё и завертелось. «Никому никогда не захочется читать такое говно!» И он был недалёк от истины[12].
После произошедшего инцидента Буковски покинул родительский дом, переехал и начал проводить бо́льшую часть своего свободного времени в питейных заведениях, вскоре был отчислен из колледжа. В 1941 году, проработав около полугода на различных низкооплачиваемых работах, Чарльз решил отправиться путешествовать по Америке, чтобы иметь возможность писать о «настоящей жизни» — так, как писал один из любимых авторов Буковски, Джон Фанте.
Юность и начало творчества
Чарльз долго путешествовал по стране, посетив Новый Орлеан, Атланту, Техас, Сан-Франциско и многие другие города. Описания его многочисленных переездов и мест работы, которые Чарльзу приходилось часто менять, впоследствии легли в основу романа «Фактотум». В это же время Буковски первый раз попытался опубликовать свои произведения. Находясь под сильным впечатлением от рассказа «Отважный молодой человек на летающей трапеции» (1934) Уильяма Сарояна, Буковски отправил рассказ «Aftermath of a Lengthy Rejection Slip» в журнал Story, редактор которого занимался выпуском работ Сарояна. Материал был принят, и Чарльз получил письмо из редакции, в котором говорилось, что рассказ будет напечатан в мартовском выпуске 1944 года — начинающий автор был очень взволнован и обрадован данным событием, рисуя себе счастливое начало писательской карьеры[13]. Буковски отправился в Нью-Йорк, чтобы увидеть его воочию, однако остался очень разочарован, поскольку рассказ был опубликован на последних страницах журнала, не войдя в основную часть издания. Данное событие столь сильно повлияло на автора, что он на длительное время забросил писательство, окончательно в последнем разочаровавшись[14]. Только спустя два года следующая работа Буковски была опубликована: короткий рассказ «20 Tanks From Kasseldown» был напечатан в «Portfolio». За ним последовало несколько стихотворений в филадельфийском журнале «Matrix», однако читатели неохотно приняли молодого автора. «Я бросил писать на десять лет — просто пил, жил и перемещался, и сожительствовал с дурными женщинами. <…> Собирал материал, хоть и не осознанно. Вообще забыл про писательство[15]», — потерпев неудачу в литературном мире, Буковски вернулся в Лос-Анджелес жить с родителями. «Началось где-то в 1945-м. Я сдался. Не потому, что считал себя плохим писателем. Я просто подумал, что никак не проломиться. Отложил писательство с омерзением. Моим искусством стали пьянство и сожительство с женщинами»[7].
В возрасте двадцати семи лет в одном из городских баров Чарльз знакомится с Джейн Куни Бейкер (англ. Jane Cooney Baker), тридцативосьмилетней алкоголичкой, на которой он женился. Впоследствии Бейкер стала одним из важнейших людей, вдохновивших творчество Буковски (книга «The Day Run Away Like Horses Over the Hills» будет посвящена её памяти, она также появится под различными псевдонимами в романах «Почтамт» и «Фактотум»), и величайшей любовью всей жизни писателя[16]. Он так говорил о ней: «Она стала первой женщиной — вообще первым человеком, который принёс мне хоть немного любви»[11].
В 1952 году Буковски устроился почтальоном в Почтовую службу США, на Терминал «Аннекс» (где проработал более десяти лет[17]), и из-за постоянного пьянства спустя два года он попал с обильным кровотечением в больницу. «Я чуть не умер. Оказался в окружной больнице — у меня изо рта и задницы хлестала кровь. Я должен был умереть — и не умер. Потребовалось много глюкозы и десять — двенадцать пинт крови[7]», — выйдя из больницы, Буковски снова вернулся к творчеству, однако пить так и не бросил. В 1955 году он развёлся с Бейкер и в этом же году снова женился, на этот раз на редакторе небольшого техасского журнала «Harlequin» Барбаре Фрай (англ. Barbara Frye). «Она была прекрасна — только это и помню. Некоторое время увивалась вокруг, но так ничего у нас и не получилось. Она не могла напиться, а я не мог протрезветь, „и вместе им не сойтись“. Наконец она вернулась в свой Техас, и больше я её не видел и не слышал о ней»[18]. Пара разошлась в 1958-м году.
Буковски, продолжая работать на почте, вплотную начал заниматься творчеством. Его работы публиковались в небольших журналах, таких как «Nomad», «Coastlines», «Quicksilver» и «Epos»; в это же время он познакомился с Джоном Эдгаром и Джипси Уэббами, основателями новоорлеанского издательства «Loujon Press», которое станет первым, выпустившим книги Буковски, поэтические сборники «It Catches my Heart in Its Hands» (1963) и «Crucifix in a Deathhand» (1965). Параллельно с этим супруги Уэбб начали издавать журнал The Outsider, публикации в котором к середине 1960-х принесли Буковски первую славу и признание в качестве поэта[19]. К этому же периоду относится новый любовный роман начинающего поэта — в 1963 году Чарльз знакомится с Фрэнсис Смит (англ. Frances Smith), от которой через год у него родилась дочь, Марина-Луиза (англ. Marina Louise Bukowski); со Смит Буковски разошёлся в 1965-м[8].
В 1967 году Буковски принял предложение Джона Брайона писать авторскую колонку в газете «Open City», что укрепило его популярность в Калифорнии[20]. В ходе работы на издание «Open City» Буковски не был обременён какими-либо конкретными темами или цензурой — он открыто и честно писал о своей жизни, ничего не приукрашивая. Откровенность автора позволила ему завоевать популярность среди своих читателей, многие из которых приезжали лично к Буковски, чтобы познакомиться[21]. На основе колумнистики автора впоследствии будет выпущено два сборника рассказов — «Записки старого козла» (англ. Notes of a Dirty Old Man, 1969, рус. перевод 2006) и «More Notes of a Dirty Old Man» (2011).
Параллельно с этим в различных издательствах в печать выходят ещё около десяти небольших книг со стихами Буковски; к этому периоду также относится важнейшее, с точки зрения дальнейшей жизни поэта, событие — он познакомился с Джоном Мартином. Восхищённый работами поэта, Мартин решил стать его основным издателем и организовал Black Sparrow Press, планируя начать издавать стихи Буковски.
Работа в издательстве Black Sparrow Press
В 1970-м году Мартин сделал деловое предложение пятидесятилетнему Буковски, убеждая его оставить службу на почте и всецело посвятить себя творчеству, гарантировав пожизненный ежемесячный доход в $100. Чарльз, недолго думая, принял данные условия. Буковски так рассказывал эту историю:
[23].Первой крупной работой Буковски после ухода с почты стал роман «Почтамт» (англ. Post Office, 1971, рус. перевод 2007), написанный им за три недели[17]. Данный роман стал первым большим успехом Буковски-писателя — книга завоевала огромную популярность в Европе и впоследствии была переведена более чем на пятнадцать языков[23]. Помимо прочего, в ходе работы над «Почтамтом» у Буковски окончательно сложится его авторский стиль письма, которого он в дальнейшем будет придерживаться во всех прозаических произведениях. Как отмечает Говард Соунс, Буковски научился писать в откровенной, честной манере с использованием множества диалогов благодаря тому, что был знаком с творчеством Эрнеста Хемингуэя и Джона Фанте; именно у последнего Буковски перенял идею разбития текста повествования на очень мелкие части[24]. Первый роман писателя получил, в основном, положительные отклики в прессе, отдельно критики отметили юмор произведения и детализированность описания рутины почтового служащего[25]. После выпуска «Почтамта» Black Sparrow Press стало основным издательством, в котором стал печататься Буковски: «У него имелась репутация самого влиятельного поэта-бунтаря, и с этого момента книги хлынули из него сплошным потоком, начиная с романа о кошмаре бюрократии „Почтамт“, который Буковски написал всего за двадцать ночей в обществе двадцати бутылок виски»[26].
Продолжая, однако, быть верным небольшим книгопечатным компаниям, Чарльз параллельно продолжал рассылать некоторые стихи и рассказы по маленьким литературным журналам. В печать вышли три поэтических сборника и две книги рассказов. Первая из них — «Эрекции, эякуляции, эксгибиции и истории обыкновенного безумия» (англ. Erections, Ejaculations, Exhibitions and General Tales of Ordinary Madness, 1972), которая впоследствии будет разделена издателем на две книги, «Истории обыкновенного безумия» (англ. Tales of Ordinary Madness, 1983, рус. перевод 1999) и «Самая красивая женщина в городе» (англ. The Most Beautiful Woman in Town, 1983, рус. перевод 2001)[27]. В редакции 1972 года книга была позитивно воспринята читателями и стала весьма популярной в области залива Сан-Франциско[28]. Второй вышедший сборник, «Юг без признаков Севера» (англ. South of No North, 1973, рус. перевод 1999), примечателен для читателя тем, что автор в большей мере отошёл от автобиографических очерков — книга, по его утверждению, в основном состояла из выдуманных историй[29].
Следующий роман, «Фактотум» (англ. Factotum, 1975, рус. перевод 2000), был отражением тех лет, когда Буковски исключительно пьянствовал и менял работы чаще, чем перчатки. В интервью журналисту The London Magazine писатель отмечал, что идея написать «Фактотум» возникла после прочтения автобиографической повести Джорджа Оруэлла «Фунты лиха в Париже и Лондоне» о скитаниях по дну европейских столиц. Буковски воскликнул: «Этот парень думает, будто что-то повидал? Да, по сравнению со мной, его только царапнуло»[7]. «Фактотум», как и первый роман Буковски, был положительно встречен критикой — автора хвалили за реалистичность описаний жизни «низшего класса», иронию по отношению к работе, в числе достоинств отмечали прямоту и искренность Буковски[30][31][32]. К этому времени также относятся первые после развода длительные любовные отношения Чарльза с американской поэтессой и скульптором Линдой Кинг; пара была вместе с 1970-го по 1973 год. Отношениям с Кинг посвящена книга Буковски «Me and Your Sometimes Love Poems» (1972).
С момента выпуска «Фактотума» вышли ещё четыре сборника поэзии, а в 1978 — роман «Женщины» (англ. Women, 1978, рус. перевод 2001), основной темой которого стали многочисленные любовные интриги Буковски. К созданию книги писателя подтолкнуло прочтение «Декамерона» Джованни Боккаччо; Буковски говорил, что одна из мыслей произведения — «секс настолько смехотворен, что с ним никому не справиться» — особенно сильно повлияла на его «Женщин»[33]. Писатель так описывал готовящийся к публикации роман:
сексизм[35][36]. Сам автор, впрочем, подобные претензии отрицал, говоря: «Образ этот [женоненавистника] кочует из уст в уста у тех, кто не прочёл всего, всех страниц. Это, скорее, такое сарафанное радио, сплетни»[37]. За пару лет до выхода романа на одном из поэтических чтений Буковски познакомился с Линдой Ли Бегли (англ. Linda Lee Beighle), владелицей небольшой закусочной, — с Бегли в 1985-м автор заключил ставший для него последним брак.После «Женщин» было выпущено ещё четыре книги поэзии, а в 1982 — роман «Хлеб с ветчиной» (англ. Ham on Rye, 1982, рус. перевод 2000), в котором Чарльз сконцентрировался на своём детстве. Сам Буковски называл книгу «романом ужасов» и отмечал, что писать её было сложнее прочих — из-за высокой «серьёзности» текста автор, по собственному утверждению, старался сделать его посмешнее, чтобы скрыть все ужасы своего детства[33].
Далее последовали три сборника рассказов и несколько книг с поэзией; в числе первых — книга «Музыка горячей воды» (англ. Hot Water Music, 1983, рус. перевод 2011), основными темами которой станут привычные для Буковски сюжеты: «Там есть всё, за что мы любим старика Генри Чинаски: ирония, драйв, секс, алкоголизм и щемящая нежность»[38]. Иного мнения придерживался первый биограф писателя, Нили Черковски, отмечая, что «Музыка горячей воды» является весьма необычной для Буковски книгой — демонстрирующей новый, более свободный стиль письма[39]. Сам Буковски говорил: «Эти истории сильно отличаются от выпущенных ранее. Они чище, ближе к правде. Я стараюсь, чтобы текст выходил прозрачным. И мне кажется, что получается»[40].
Следующей книгой автора станет роман «Голливуд» (англ. Hollywood, 1989, рус. перевод 1994), в котором Буковски описал работу над сценарием для фильма «Пьянь» и процесс киносъёмок. Под вымышленными именами в романе неоднократно упоминаются задействованные в производстве картины люди — Джек Бледсоу (Микки Рурк), Франсин Бауэрс (Фэй Данауэй), Джон Пинчот (Барбет Шрёдер) и некоторые другие[41]. Сам Буковски же весьма позитивно отзывался о своей книге: «Голливуд в четыреста раз хуже всего, что о нём написано. Конечно, если я его [роман] закончу, на меня, вероятно, подадут в суд, хоть там и всё правда. Тогда я смогу написать роман о судебной системе»[42].
Последние годы жизни ознаменовались выходом в печать ещё трёх сборников стихов; роман «Макулатура» (англ. Pulp, 1994, рус. перевод 1996) Чарльз дописал незадолго до смерти, однако книга была выпущена уже после кончины писателя. Соунс отмечал, что Буковски в конечном итоге исчерпал все сюжеты из собственной жизни — и принялся за новый для себя жанр, детектив, исключив элементы автобиографического характера[43]. В то же время, однако, в произведении фигурирует несколько лиц, списанных Буковски со своих друзей — Джон Мартин (фигурирующий в романе под именем «Джон Бартон»), Шолом Стодолски (близкий друг автора, в книге появляется под псевдонимом «Ред»), а также издательство Black Sparrow Press, отражённое в тексте «Макулатуры» в образе «Красного Воробья». Помимо этого книга содержит массу иронических замечаний и шуток над привычным Буковски персонажем — Генри Чинаски; повествование романа тесно переплетается со многими ранее опубликованными работами автора — по большей части в разрезе самоиронии[44]. «Макулатура» для Буковски была в определённом смысле творческим экспериментом; он говорил так:
Смерть
Писатель тяжело болел начиная с 1988 года. В 1993 году ремиссия болезни прекратилась, и Буковски был переведён в госпиталь, где пробыл некоторое время, пока врачи не сошлись во мнении, что наиболее комфортно он будет чувствовать себя дома, в Сан-Педро. Писатель быстро слабел и вскоре уже не мог написать ни строчки — он знал, что вскоре умрёт. На протяжении всей творческой карьеры Буковски был уверен, что смерть придёт в тот момент, когда он не сможет больше творить; за четыре года до смерти писатель говорил: «Если я перестану писать, значит, я умер. Умру — вот и остановлюсь»[45]. Иммунная система была практически разрушена, сначала Буковски диагностировали пневмонию, переведя обратно в больницу для лечения, где писателю был поставлен диагноз «лейкемия». В 11:55, 9 марта 1994, в возрасте 73 лет, Чарльз Буковски умер.
Писатель был похоронен в городе Ранчо Палос Вердес, в Green Hills Memorial Park, недалеко от дома, где провёл последние годы жизни[8]. На надгробной плите в качестве эпитафии выгравирована надпись «Не пытайтесь» (англ. DON'T TRY) и изображён боксёр в боевой стойке.
Личная жизнь
Чарльз Буковски был трижды женат. В первый раз женился в возрасте двадцати семи лет в 1947 году на Джейн Куни Бейкер. Бейкер была на десять лет старше своего мужа, к моменту их встречи она страдала алкоголизмом, что сблизило её с Буковски. Пара много скандалила и несколько раз расходилась, они развелись спустя восемь лет. В том же году (1955) писатель женится во второй раз на Барбаре Фрай, редакторе небольшого литературного журнала. С Буковски они познакомились посредством писем: Фрай восторженно приняла творчество поэта и захотела с ним увидеться, после чего у них незамедлительно завязались романтические отношения.
Брак с Фрай продлился до 1958 года. Спустя пять лет Буковски непродолжительное время встречался с Фрэнсис Смит, поклонницей его творчества, с которой он длительное время переписывался, пока в 1963 они наконец не встретились. От Смит у писателя родится дочь — Марина-Луиза Буковски; вскоре, однако, они разойдутся, так и не сочетавшись законным браком[46]. «Вскоре после этого я получил от Фэй [под данным именем в романе „Почтамт“ фигурирует Фрэнсис Смит] письмо. Она и ребёнок теперь жили в коммуне хиппи в Нью-Мексико. Славное местечко, писала она. Марина хоть сможет тут дышать. В письмо она вложила маленький рисунок, который девочка для меня нарисовала[47]», — описывал Буковски их расставание.
Со своей последней женой, Линдой Ли Бегли, писатель познакомится в процессе написания романа «Женщины», случайно заехав в принадлежащую Бегли закусочную. (Согласно источнику [8], это было в 1976 году на чтении в месте под названием The Troubadour.) До свадьбы их роман длился около семи (9?) лет; в 1985-м году они поженились[8]. Журналистка «Village View» так описывала Бегли: «В девичестве Линда Бегли уехала из дому и основала ресторанчик здоровой пищи — такие во множестве усеивали весь Л.-А. в 1970-х годах. Хотя своё заведение в Редондо-Бич Линда закрыла в 1978 году, за два месяца до того, как „Хэнк“ сделал ей предложение, она утверждает, что по сию пору даёт супругу советы о правильном питании. Ей удалось убедить его отказаться от красного мяса и существенно ограничить жидкий рацион вином и пивом»[37].
Политический нигилизм
Писатель считал политику бессмысленной, Буковски никогда не голосовал[34]. Он говорил так: «Политика — это как женщины: увлечёшься ею всерьёз, и в конце окажется, что ты эдакий дождевой червяк, раздавленный башмаком докера»[48]. Аналогичного мнения он придерживался касательно современных ему американских «левых»: «Все они эдакие откормленные дурачки из Вествуд-Виллидж, только и делают, что лозунги голосят. Всё радикальное подполье — это газетная шумиха, сплошная трепотня; и любой, кто туда заныривает, быстро отваливает к тому, что повыгодней»[33]. Также негативно Буковски отзывался о популяризации ЛСД, считая данное увлечение прерогативой «Недоумочной Массы»[49].
Скачки и классическая музыка
Помимо алкоголя, к которому Буковски испытывал тягу на протяжении всей жизни, двумя другими страстными увлечениями писателя были классическая музыка и игра на скачках.
Классическая музыка для Чарльза Буковски всегда была неотъемлемой частью творческого процесса. «Я люблю классику. Она есть, но её нет. Она не поглощает собой работу, но присутствует в ней»[7]. По словам писателя, одной из причин, по которой он так полюбил музыку, было то, что она помогала ему выжить; говоря о времени, описанном в «Фактотуме», Буковски вспоминал: «Хорошо было по вечерам возвращаться с фабрик домой, раздеваться, забираться в темноте на кровать, наливаться пивом и слушать»[9]. Любимым композитором писателя был Ян Сибелиус, которого Буковски ценил за «страсть, которая тебе фары вышибает»[45].
 В отношении скачек, преимущественно в начале писательской карьеры, Буковски говорил, что посещение ипподрома для него — вопрос исключительно финансовой заинтересованности; он считал, что это может позволить ему выигрывать столько, «чтобы уже не работать на скотобойнях, почтамтах, в доках, на фабриках»[49]. Впоследствии данное увлечение стало попыткой заменить пьянство, однако она не сработала[45]. Отношение к игре в дальнейшем претерпело изменение, и несколько лет спустя Буковски уже говорил, что скачки для него — стимул для писательства:
В отношении скачек, преимущественно в начале писательской карьеры, Буковски говорил, что посещение ипподрома для него — вопрос исключительно финансовой заинтересованности; он считал, что это может позволить ему выигрывать столько, «чтобы уже не работать на скотобойнях, почтамтах, в доках, на фабриках»[49]. Впоследствии данное увлечение стало попыткой заменить пьянство, однако она не сработала[45]. Отношение к игре в дальнейшем претерпело изменение, и несколько лет спустя Буковски уже говорил, что скачки для него — стимул для писательства:
Для Буковски бега стали испытанием — он говорил, что лошади учат, есть ли у человека сила характера; игру на скачках писатель называл «мучением», но всегда подчёркивал, что из них набирается материал[7]. «Если я поеду на бега и меня там хорошенько тряхнёт, я потом вернусь и смогу писать. Это стимул», — Буковски отдельные эмоции испытывал не только от игры, но и от самих ипподромов; писатель говорил, что вглядываясь в лица, особенно проигрывающих, многое начинаешь видеть в ином свете[34].Однажды приходишь домой с бегов… обычно лучше при этом сотню долларов проиграть <…> Проиграть сотню долларов на бегах — большая подмога искусству.— [15]
Творчество
Литературные предшественники
На протяжении всей жизни Ч. Буковски очень много читал, однако быстро разочаровался в существующих писателях и поэтах, что отчасти послужило причиной к началу собственного творчества. Несмотря на то, что Буковски практически всегда крайне негативно относился к поэтам, ряд авторов он выделял из общей массы и восхищался ими[15]. Величайшими из современников Буковски называл Эзру Паунда, Т. С. Эллиота; из пишущих современников — Ларри Айгнера[29], Джеральда Локлина и Рональда Кёрчи[9]. В начале своей писательской карьеры примерами для подражания он называл Д. Г. Лоуренса и Томаса Вулфа — в дальнейшем, впрочем, Буковски в последних разочаровался, назвав их «нагоняющими скуку»[15]. Писатель также высоко отзывался о раннем Дэвиде Сэлинджере, Стивене Спендере, Арчибальде Маклише — однако говорил, что восхищали его они вначале, а потом наскучили[7]. Писателями, которые быстро испортились, но «хорошо начинали», Буковски считал Эрнеста Хэмингуэя и Шервуда Андерсона[7]. Классикой Буковски считал работы Ницше, Шопенгауэра и раннего Селина[34]. К писателям, наиболее сильно повлиявшим на его творчество, Буковски относил Селина, Джона Фанте и Уильяма Сарояна[29].
Битничество
В статьях, посвящённых Ч. Буковски и его творчеству, писателя зачастую ошибочно причисляют к битникам[50][51]. Несмотря на то, что даже некоторые современники поэта рассматривали его в качестве представителя бит-поколения[52], поздние исследователи данной группы поэтов отмечают, что Буковски, в сущности, никогда к ним не принадлежал[53][54]. Сам Буковски придерживался аналогичного мнения — в ходе интервью в 1978 году он говорил: «Я одиночка, я занимаюсь своим. Бесполезно. Всё время спрашивают меня про Керуака, и неужели я не знаком с Нилом Кэссади, не был ли я с Гинзбергом и так далее. И я вынужден признаваться: нет, всех битников я пробухал; я тогда не писал ничего»[6].
Девид Стивен Калонн так описывал Буковски:Идеологии, лозунги, ханжество были его врагами, и он отказывался принадлежать к любой группе, будь то битники, «исповедальники», «Чёрная гора», демократы, республиканцы, капиталисты, коммунисты, хиппи, панки. Буковски протоколировал глубочайшие свои психологические и духовные страдания в собственном неподражаемом стиле.— [55]
Автобиографичность
Подавляющая часть произведений Ч. Буковски представляет собой автобиографическое творчество. В поэзии и, в особенности, в прозе наиболее часто фигурирует alter ego писателя, его лирический антигерой — Генри Чинаски. Писатель уклончиво отвечал о том, можно ли поставить знак равенства между ним и Чинаски: «Они знают, что это Буковски, но, если даёшь им Чинаски, они как бы могут сказать: „О, какой же он клёвый! Называет себя Чинаски, но мы-то знаем, что это Буковски“. Тут я их как бы по спинке похлопываю. Они это обожают. Да и сам по себе Буковски всё равно был бы слишком праведным; понимаете, в смысле „я всё это сделал“. <…> А если так поступает Чинаски, то я, может быть, этого и не делал, понимаете, может, это выдумка»[34]. Девяносто девять из ста работ, говорил Буковски, автобиографичны[29]. В ответ на вопрос журналиста о том, где заканчивается Генри Чинаски и начинается Чарльз Буковски, писатель отвечал, что они — практически одно и то же, за исключением мелких виньеток, которыми он украшал своего героя от скуки[37]. Впрочем, Буковски не отрицал, что почти во всех его работах присутствует небольшая доля выдумки.Драю там, где надо надраить, и выбрасываю то, что… не знаю. Чистая избирательность. В общем, всё, что я пишу, — по большей части факты, но они ещё приукрашены выдумкой, вывертами туда-сюда, чтобы отделить одно от другого. <…> На девять десятых факта одна десятая выдумки, чтобы всё расставить по местам.— [34]
Основные темы
Дэвид Стивен Калонн (англ. David Stephen Calonne), исследователь творчества Буковски и редактор нескольких его книг[56], отмечает, что на протяжении всей жизни главными объектами творчества писателя были классическая музыка, одиночество, алкоголизм, восхищавшие его авторы, сцены из собственного детства, писательство, вдохновение, безумие, женщины, секс, любовь и скачки[57]. Сам писатель, в ходе интервью отвечая на вопрос о центральной теме своей прозы, говорил: «Жизнь — с маленькой „ж“»[29]. Буковски отрицал, что пишет непристойности, писатель считал, что многие его работы более корректно будет назвать открывающими неприглядную сторону жизни, ту, на которой он жил сам. «Я жил с алкоголичками; жил почти без денег; не жизнь, а сплошное безумие. Приходится об этом писать»[29]. Писатель отмечал, что вдохновение он черпает из прибитых жизнью людей — и именно в них видел свою основную читательскую аудиторию[6].
Поэзия и проза
В Соединённых Штатах Америки и на территории Европы, где Буковски снискал наибольшую популярность, его преимущественно воспринимают в качестве поэта. Сам автор говорил, что к данной форме пришёл по банальной причине — стихи для него были меньшей тратой времени (по сравнению с рассказами или романами)[58]. Буковски говорил, что писать начал не потому, что был сильно хорош, но по причине того, что все прочие, по его мнению, были плохи: «Другим я облегчил задачу. Я их научил, что писать стихи можно так же, как пишешь письмо, что стихотворение даже может развлекать и священное в нём не обязательно»[18]. Автор практически не проводил в своих работах различия между прозой и поэзией — для него дело было исключительно в строке[59]. Буковски говорил, что если его писанину выложить одной-единственной строкой, то она будет звучать практически одинаково, он не придавал большого значения форме; для автора линия, разделяющая прозу и поэзию, всегда была только вопросом удобства[34]. Единственным существенным фактором для автора являлось его текущее состояние: он говорил, что мог писать прозу исключительно тогда, когда ему было хорошо, а поэзию — когда плохо[42].
Стилистические особенности
Основным постулатом творчества Буковски была простота. Писатель говорил: «Именно так я и стараюсь: попроще, без… чем проще, тем лучше. Поэтичность. Перебор поэтичности про звёзды и луну, когда она не к месту, — это просто дурная околесица»[15]. Буковски начал писать от того, что современная поэзия его удручала — он находил её фальшивкой и надувательством, поэтому для себя выбрал путь наиболее ясного выражения мыслей, без украшений и лишней поэтики[60]. Литературные критики относят творчество Буковски к направлению «грязный реализм»[61], отличительными чертами которого являются максимальная экономия слов, минимализм в описаниях, большое количество диалогов, отсутствие рассуждений, диктуемый содержанием смысл и особо не примечательные герои[62].
Также иногда творчество Буковски относят к направлению «Мясная школа» (яркими представителями которого, помимо Буковски, являются Стив Ричмонд и Дуглас Блейзек[63])[64]. Представители данного направления характеризуются агрессивной, «маскулинной» поэзией[65].
Процесс письма
Буковски неоднократно признавался, что писал, по большей части, находясь в состоянии опьянения. Он говорил: «Я пишу трезвым, пьяным, когда мне хорошо и когда мне плохо. У меня нет никакого особого поэтического состояния»[7]. В процессе письма, помимо прочего, Буковски практически никогда не редактировал и не исправлял, только изредка вычёркивал строки, которые были плохи, но ничего не добавлял[7]. Процесс корректуры был характерен исключительно для поэзии, прозу же автор писал в один присест, не меняя написанного[29]. О процессе создания произведения Буковски говорил, что никогда специально ничего не придумывает, себя он воспринимал фотографом, описывающим то, что видит, и то, что с ним происходит[9].
Библиография на русском языке
Романы
Первыми крупную прозу Буковски в России стали публиковать толстые журналы. В конце 1994 — начале 1995 года на страницах «Искусства кино» печатался роман «Голливуд» в переводе Нины Цыркун[66], а в 1996 году «Иностранная литература» познакомила российских читателей с романом «Макулатура», который перевёл Виктор Голышев[67]. В 1999—2001 гг. эти работы вышли отдельными книгами, тогда же на русском языке были изданы и остальные романы Буковски.
- Почтовое отделение[68] = Post Office / Пер. с англ. Юрия Медведько. — СПб.: Новое культурное пространство, 1999. — 204 с. — 3000 экз. — ISBN 5-88925-019-1.
- Фактотум = Factotum / Пер. с англ. Владимира Клеблеева. — СПб.: Новое культурное пространство; Литера, 2000. — 256 с. — 1000 экз. — ISBN 5-900786-36-6.
- Женщины = Women / Пер. с англ. Владимира Клеблеева. — СПб.: Новое культурное пространство; Литера, 2001. — 320 с. — (Книги Бука). — 1000 экз. — ISBN 5-900786-47-1.
- Хлеб с ветчиной = Ham on Rye / Пер. с англ. Юрия Медведько. — СПб.: Новое культурное пространство; Литера, 2000. — 270 с. — (Книги Бука). — 2000 экз. — ISBN 5-86789-128-3.
- Голливуд = Hollywood / Пер. с англ. Нины Цыркун. — М.: Глагол, 1999. — 224 с. — 5000 экз. — ISBN 5-87532-044-3.
- Макулатура = Pulp / Пер. с англ. Виктора Голышева. — М.: Глагол, 2001. — 192 с. — 3000 экз. — ISBN 5-87532-048-6.
Сборники рассказов
Первая публикация малой прозы Буковски на русском языке состоялась в 1992 году в американо-российском альманахе «Стрелец». Для этого издания писатель и переводчик Сергей Юрьенен подготовил небольшую подборку текстов Буковски, которую открывал рассказ «Принеси мне свою любовь» (Bring Me Your Love). Во вступлении Юрьенен отметил, что «русский — тринадцатый язык, на который переводят» Буковски[69]. В дальнейшем в российской периодике появилось ещё несколько публикаций рассказов американского писателя, самой заметной из которых стала подборка, увидевшая свет в 1995 году в журнале «Иностранная литература»[70]. Её составили переводы Виктора Голышева, Василия Голышева и Виктора Когана. С 1997 года сборники малой прозы Буковски стали выходить в России отдельными изданиями.
- Истории обыкновенного безумия = Tales of Ordinary Madness / Пер. с англ. Виктора Когана. — М.: Глагол, 1997. — 256 с. — 1000 экз. — ISBN 5-87532-014-1.
- Юг без признаков Севера = South of No North / Пер. с англ. Виктора Когана. — М.: Радость, 1997. — 360 с. — ISBN 5-89351-003-8.
- Самая красивая женщина в городе = The Most Beautiful Woman in Town / Пер. с англ. Виктора Когана и Виктора Голышева. — СПб.: Азбука-классика, 2001. — 352 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-352-00029-X.
- Записки старого козла = Notes of a Dirty Old Man / Пер. с англ. Юрия Медведько. — СПб.: Новое культурное пространство, 2006. — 232 с. — (Pocket Buk). — 500 экз. — ISBN 5-902404-10-X.
- Музыка горячей воды = Hot Water Music / Пер. с англ. Максима Немцова. — М.—СПб.: Эксмо; Домино, 2011. — 304 с. — (Интеллектуальный бестселлер). — 5000 экз. — ISBN 978-5-699-46667-2.
- Первая красотка в городе. — М.: Эксмо, 2012. — 480 с. — 10 000 экз. — ISBN 978-5-699-60980-2.
Поэзия
Поэзию Буковски начали издавать в России только в 2000-е годы. До этого времени его стихи в русских переводах можно было найти почти исключительно в Интернете[71]. По мнению переводчика Светланы Силаковой, такая ситуация была органична «сетевой» поэтике Буковски, которую отличает «скупость средств, лаконичность, какая-то вызывающая простота»[72]. В 2000 году несколько стихотворений Буковски напечатал журнал «Иностранная литература». Во вступительной статье переводчик Кирилл Медведев сетовал, что Буковски-поэт неизвестен российскому читателю, хотя на Западе он «едва ли уступает по популярности Буковски-прозаику»[73]. Через год тем же Медведевым был составлен и переведён том избранных стихотворений Буковски «Блюющая дама». Позднее в России увидели свет ещё две поэтические книги американского автора.
- Блюющая дама[74] / Пер. с англ. Кирилла Медведева под ред. Ильи Кормильцева. — М.: Adaptec/T-ough Press, 2001. — 192 с. — 1000 экз. — ISBN 5-93827-002-2.
- Bukowski lives! Избранные стихотворения Чарльза Буковски[75] / Пер. с англ. Юрия Медведько. — СПб.: Новое культурное пространство, 2003. — 95 с. — 500 экз. — ISBN 5-902404-04-5.
- Вспышка молнии за горой = The Flash of Lightning Behind the Mountain / Пер. с англ. Наны Эристави. — М.: АСТ, 2008. — 352 с. — (Альтернатива). — 4000 экз. — ISBN 978-5-17-040295-3.
Фильмография и аудиозаписи
Экранизации книг и рассказов
- История обыкновенного безумия (англ. Tales of Ordinary Madness, 1981, Италия/Франция) — картина Марко Феррери по мотивам рассказов Буковски.
- Пьянь (англ. Barfly, 1987, США) — художественный фильм Барбе Шрёдера, снятый по сценарию Буковски.
- Безумная любовь (англ. Crazy Love, 1987, Бельгия) — фильм бельгийского режиссёра Доминика Дерюддера, снятый по мотивам романа Буковски «Хлеб с ветчиной» и его рассказа «Совокупляющаяся русалка из Венеции, штат Калифорния».
- Холодная луна (фр. Lune froide, 1991, Франция) — картина Патрика Бушите, экранизация нескольких рассказов Буковски.
- Фактотум (англ. Factotum, 2005, Норвегия/Франция) — фильм Бента Хамера, экранизация одноимённого романа.
- Любовь за 1750 (2010, Россия) — короткометражная картина Сергея Руденка, снятая по рассказу Буковски.
Документальные фильмы
- Буковски в Белвью (англ. Bukowski at Bellevue, 1970, США) — одна из самых ранних записей с поэтических чтений, проведённых в 1970 году в Колледже Белвью
- Буковски (англ. Bukowski, 1973, США) — чёрно-белый фильм режиссёра Тэйлора Хэкфорда, запись чтений Буковски в Сан-Франциско
- Чарльз Буковски — Восточный Голливуд (англ. Charles Bukowski — East Hollywood, 1976, США) — фильм Томаса Шмитта (англ. Thomas Schmitt), запись Буковски и Памелы Миллер Вуд (англ. Pamela Miller Wood), одной из любовниц писателя
- Плёнки Чарльза Буковски (англ. The Charles Bukowski Tapes, 1987, США) — коллекция коротких видео-интервью с писателем, скомпонованных в фильм Барбетом Шрёдером.
- Я ещё здесь (англ. I'm Still Here, 1990, Германия) — документальный фильм Т. Шмитта со съёмками Буковски в Сан-Педро в течение последних лет жизни
- Обыкновенное безумие Чарльза Буковски (англ. The Ordinary Madness of Charles Bukowski, 1995, США) — документальный фильм BBC в рамках серии картин о современных авторах
- Буковски: рождённый таким (англ. Bukowski: Born into This, 2003, США) — документальная работа Джона Даллигана, биографический фильм о жизни Буковски.
Аудиозаписи
- Буковски. Поэмы и оскорбления (англ. Bukowski/Poems & Insults!, 1972) — запись с поэтических чтений в Нью-Йоркском Театре Поэтов в 1972 году
- Заложник (англ. Hostage, 1994) — запись чтений в Редондо-Бич в 1980 году
- Буковски читает поэзию (англ. Bukowski Reads his Poetry, 1995) — архивные записи чтений, составленные Black Sparrow Press
- Жизнь и опасные времена Чарльза Буковски (англ. The Life and Hazardous Times of Charles Bukowski, 2000)
- Bukowski Lives! Избранные стихотворения Чарльза Буковски (2003) — авторский сборник стихов Буковски, составленный российским издательством «Новое культурное пространство»
- Коллекция мастеров: Чарльз Буковски (англ. Charles Bukowski. Masters Collection, 2010)
Напишите отзыв о статье "Буковски, Чарльз"
Примечания
- ↑ Первый поэтический сборник Буковски.
- ↑ Sounes, 1999, pp. 285-295.
- ↑ Sounes, 1999, p. 89.
- ↑ Буковски, 2010, p. 11.
- ↑ Буковски, 2010, pp. 285-290.
- ↑ 1 2 3 Буковски, 2010, pp. 206-216.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Буковски, 2010, pp. 111-133.
- ↑ 1 2 3 4 [bukowski.net/timeline/ Timeline] (англ.). Charles Bukowski, American Author. bukowski.net. Проверено 26 июня 2011. [www.webcitation.org/610ZNmCSK Архивировано из первоисточника 17 августа 2011].
- ↑ 1 2 3 4 Буковски, 2010, pp. 251-259.
- ↑ Буковски, Чарльз. Глава 43 // Хлеб с ветчиной = Ham on Ray. — СПб.: Эксмо, 2011. — 368 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-699-48099-9.
- ↑ 1 2 Буковски, 2010, pp. 185-206.
- ↑ Буковски, 2010, pp. 318-326.
- ↑ Neeli, 1991, p. 77.
- ↑ Neeli, 1991, p. 81.
- ↑ 1 2 3 4 5 Буковски, 2010, pp. 57-81.
- ↑ [www.alternativereel.com/includes/cult-fiction/display_review.php?id=00004 Factotum (1975) - Charles Bukowski] (англ.). Alternative Reel. alternativereel.com. Проверено 5 декабря 2010. [www.webcitation.org/64tbDYe6P Архивировано из первоисточника 23 января 2012].
- ↑ 1 2 Glucksten, Nicole. [quarterlyconversation.com/post-office-by-charles-bukowski Post Office by Charles Bukowski] (англ.). The Quaterly Conversation. quaterlyconversation.com. Проверено 7 ноября 2010. [www.webcitation.org/64tbE4OjE Архивировано из первоисточника 23 января 2012].
- ↑ 1 2 Буковски, 2010, pp. 100-111.
- ↑ [www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/BUKOVSKI_CHARLZ.html Буковски, Чарльз]. Онлайн Энциклопедия Кругосвет. krugosvet.ru. Проверено 28 июня 2011. [www.webcitation.org/610ZPT9gd Архивировано из первоисточника 17 августа 2011].
- ↑ Harrison, Russell. Against the American dream: essays on Charles Bukowski. — David R. Godine Publisher, 1994. — P. 249. — 323 p. — ISBN 9780876859599.
- ↑ Hemmingson, 2008, p. 69.
- ↑ Буковски, 2010, pp. 357-362.
- ↑ 1 2 Sounes, 1999, pp. 103-106.
- ↑ Sounes, 1999, p. 82.
- ↑ [www.amazon.co.uk/gp/product/product-description/0863697607/ref=dp_proddesc_0?ie=UTF8&n=266239&s=books Product Descriptions] (англ.). Post Office: A Novel. amazon.co.uk. Проверено 8 ноября 2010. [www.webcitation.org/64tbF8owH Архивировано из первоисточника 23 января 2012].
- ↑ 1 2 Буковски, 2010, pp. 343-357.
- ↑ Sounes, 1999, p. 289.
- ↑ Neeli, 1991, p. 231.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Буковски, 2010, pp. 29-35.
- ↑ [www.amazon.co.uk/gp/product/product-description/0863697658/ref=dp_proddesc_0?ie=UTF8&n=266239&s=books Product Description] (англ.). Amazon.co.uk. Проверено 5 декабря 2010. [www.webcitation.org/64tbFlqdw Архивировано из первоисточника 23 января 2012].
- ↑ Natalia Contreras. [www.thedmcfoghorn.com/news/factotum-1.628835 Factorum] (англ.). The Del Mar Colledge FORHORN. thedmcfoghorn.com (06-10-2009). Проверено 6 декабря 2010. [www.webcitation.org/64tbGSZfc Архивировано из первоисточника 23 января 2012].
- ↑ [justbookreviews.com/book-review-factotum-by-charles-bukowski Book Review: Factotum by Charles Bukowski] (англ.). justbookreviews.com (31-10-10). Проверено 6 декабря 2010. [www.webcitation.org/64tbHiuF6 Архивировано из первоисточника 23 января 2012].
- ↑ 1 2 3 Буковски, 2010, pp. 222-246.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Буковски, 2010, pp. 161-185.
- ↑ Korhonen, Jani. [epubl.ltu.se/1402-1773/2006/242/LTU-CUPP-06242-SE.pdf The Portrayal of Women in the Novels of Charles Bukowski] (англ.) (PDF). Luleå University of Technology Department of Languages and Culture. epubl.ltu.se (2006). Проверено 29 апреля 2011. [www.webcitation.org/64tbJCoeJ Архивировано из первоисточника 23 января 2012].
- ↑ Charlson, David. Charles Bukowski: Autobiographer, Gender Critic, Iconoclast. — KY.: Trafford Publishing, 2010. — P. 24. — 109 p. — ISBN 1-4120-5966-6.
- ↑ 1 2 3 Буковски, 2010, pp. 333-343.
- ↑ Шулинский, Игорь. [www.timeout.ru/books/event/232007/ Музыка горячей воды]. timeout.ru (02.04.2011). Проверено 1 июля 2011. [www.webcitation.org/64tbK2kbJ Архивировано из первоисточника 23 января 2012].
- ↑ Neeli, 1991, p. 276.
- ↑ Neeli, 1991, p. 300.
- ↑ Буковски, Чарльз. Голливуд. — Эскмо, 2010. — 226 с. — ISBN 978-5-699-43768-9.
- ↑ 1 2 Буковски, 2010, pp. 295-307.
- ↑ Sounes, 1999, p. 230.
- ↑ Sounes, 1999, p. 233-4.
- ↑ 1 2 3 Буковски, 2010, pp. 326-333.
- ↑ Neeli, 1991, p. 177.
- ↑ Буковски, Чарльз. Почтамт = Post Office. — 2 изд. — М.: Эксмо, 2010. — С. 224. — 272 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-699-41770-4.
- ↑ Буковски, 2010, pp. 246-251.
- ↑ 1 2 Буковски, 2010, pp. 35-43.
- ↑ Shearer, Benjamin. Culture and Customs of the United States: Culture. — Greenwood Publishing Group, 2008. — P. 243. — 408 p. — ISBN 9780313338779.
- ↑ Western Literature Association (U.S.). A Literary history of the American West. — TCU Press, 1987. — P. 1212. — 1353 p. — ISBN 9780875650210.
- ↑ Wills, David. Letter from the Editor (англ.) // Beatdom : magazine. — Fasc. 2.
- ↑ Oakes, Elizabeth. American Writers. — Infobase Publishing, 2004. — P. 62. — 430 p. — ISBN 9780816051588.
- ↑ Sargeant, Jack. Naked Lens: Beat Cinema. — Counterpoint Press, 2009. — P. 233. — 288 p. — ISBN 9781593762209.
- ↑ Буковски, 2010, pp. 13-4.
- ↑ «Солнце, вот он я» (англ. Sunlight Here I Am, 2003, рус. перевод 2010), «Portions from a Wine-Stained Notebook» (2008), «Absence of the Hero» (2010), «More Notes of a Dirty Old Man» (2011).
- ↑ Буковски, 2010, p. 17.
- ↑ Буковски, 2010, pp. 43-53.
- ↑ Буковски, 2010, pp. 133-148.
- ↑ Буковски, 2010, pp. 263-269.
- ↑ Hemmingson, 2008, p. 18.
- ↑ Ефимова, Марина. [magazines.russ.ru/inostran/2010/6/n13.html Новые книги Нового Света с Мариной Ефимовой] (рус.). Журнальный Зал, Иностранная литература. magazines.russ.ru (16.05.2011). Проверено 18 мая 2011. [www.webcitation.org/64tbMGjlK Архивировано из первоисточника 23 января 2012].
- ↑ Beers, Terry. Unfolding beauty: celebrating California's landscapes. — Heyday, 2000. — P. 257. — 403 p. — ISBN 9781890771348.
- ↑ [bukowski.net/poems/latarticle.php His Find Is Poetry in the Making] (англ.). bukowski.net. Проверено 22 августа 2011. [www.webcitation.org/64tbNUY5C Архивировано из первоисточника 23 января 2012].
- ↑ [www.history.com/this-day-in-history/poet-charles-bukowski-is-born Poet Charles Bukowski is born] (англ.). history.com. Проверено 22 августа 2010. [www.webcitation.org/64tbO0Mc2 Архивировано из первоисточника 23 января 2012].
- ↑ «Искусство кино», 1994, № 9—12; 1995, № 1—2.
- ↑ «Иностранная литература», 1996, № 1.
- ↑ В дальнейшем в России роман издавался под названием «Почтамт» в переводе Максима Немцова.
- ↑ Буковски, Чарльз. [www.sergenen.com/texts/No%20shit.htm No shit: Чарльз Буковски — классик андеграунда] // Стрелец / Вступление и пер. с англ. Сергея Юрьенена. — Париж—Нью-Йорк—Москва, 1992. — № 1 (68). — С. 205—221.
- ↑ «Иностранная литература», 1995, № 8.
- ↑ Гаврилов, Александр. [oldarhive.ru/118/169 Не прогнали из племени] // НГ Ex Libris. — 1997. — № 15 (от 17 сентября 1997).
- ↑ Силакова, Светлана. [magazines.russ.ru/nlo/2003/62/silak.html Спасительное отсутствие выхода] // Новое литературное обозрение. — М., 2003. — № 62. — С. 443—445. — ISSN [www.sigla.ru/table.jsp?f=8&t=3&v0=0869-6365&f=1003&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&bf=4&b=&d=0&ys=&ye=&lng=&ft=&mt=&dt=&vol=&pt=&iss=&ps=&pe=&tr=&tro=&cc=UNION&i=1&v=tagged&s=0&ss=0&st=0&i18n=ru&rlf=&psz=20&bs=20&ce=hJfuypee8JzzufeGmImYYIpZKRJeeOeeWGJIZRrRRrdmtdeee88NJJJJpeeefTJ3peKJJ3UWWPtzzzzzzzzzzzzzzzzzbzzvzzpy5zzjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzztzzzzzzzbzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzvzzzzzzyeyTjkDnyHzTuueKZePz9decyzzLzzzL*.c8.NzrGJJvufeeeeeJheeyzjeeeeJh*peeeeKJJJJJJJJJJmjHvOJJJJJJJJJfeeeieeeeSJJJJJSJJJ3TeIJJJJ3..E.UEAcyhxD.eeeeeuzzzLJJJJ5.e8JJJheeeeeeeeeeeeyeeK3JJJJJJJJ*s7defeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeSJJJJJJJJZIJJzzz1..6LJJJJJJtJJZ4....EK*&debug=false 0869-6365].
- ↑ Буковски, Чарльз. [magazines.russ.ru/inostran/2000/5/bukovski.html Стихи] // Иностранная литература / Пер. с англ. Григория Агафонова и Кирилла Медведева; вступление Кирилла Медведева. — М., 2000. — № 5. — С. 134—149. — ISSN [www.sigla.ru/table.jsp?f=8&t=3&v0=0130-6545&f=1003&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&bf=4&b=&d=0&ys=&ye=&lng=&ft=&mt=&dt=&vol=&pt=&iss=&ps=&pe=&tr=&tro=&cc=UNION&i=1&v=tagged&s=0&ss=0&st=0&i18n=ru&rlf=&psz=20&bs=20&ce=hJfuypee8JzzufeGmImYYIpZKRJeeOeeWGJIZRrRRrdmtdeee88NJJJJpeeefTJ3peKJJ3UWWPtzzzzzzzzzzzzzzzzzbzzvzzpy5zzjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzztzzzzzzzbzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzvzzzzzzyeyTjkDnyHzTuueKZePz9decyzzLzzzL*.c8.NzrGJJvufeeeeeJheeyzjeeeeJh*peeeeKJJJJJJJJJJmjHvOJJJJJJJJJfeeeieeeeSJJJJJSJJJ3TeIJJJJ3..E.UEAcyhxD.eeeeeuzzzLJJJJ5.e8JJJheeeeeeeeeeeeyeeK3JJJJJJJJ*s7defeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeSJJJJJJJJZIJJzzz1..6LJJJJJJtJJZ4....EK*&debug=false 0130-6545].
- ↑ В книгу вошли стихи из сборников Mockingbird Wish Me Luck (1972), Burning in Water, Drowning in Flame (1974), Love Is a Dog from Hell (1977), Play the Piano Drunk Like a Percussion Instrument until the Fingers Begin to Bleed a Bit (1979), War All the Time (1984), You Get So Alone at Times That It Just Makes Sense (1986), The Roominghouse Madrigals (1988), Bone Palace Ballet (1997).
- ↑ В книгу вошли стихи из сборников The Days Run Away Like Wild Horses Over the Hills (1969), Mockingbird Wish Me Luck (1972), Burning in Water, Drowning in Flame (1974), Love Is a Dog from Hell (1977), Play the Piano Drunk Like a Percussion Instrument until the Fingers Begin to Bleed a Bit (1979), You Get So Alone at Times That It Just Makes Sense (1986), The Roominghouse Madrigals (1988), The Last Night of the Earth Poems (1992).
Литература
- Sounes, Howard. Charles Bukowski: Locked in the Arms of a Crazy Life: The Biography. — Groove Press, 1999. — 309 p. — ISBN 0-8021-3697-4.
- Cherkovski, Neeli. Hank: The Life of Charles Bukowski. — Random House, 1991. — 337 p. — ISBN 0-394-57526-1.
- Буковски, Чарльз. Интервью: Солнце, вот он я = Sunlight Here I Am / Под ред. Д. С. Калонна; пер. с англ. М. Немцова. — СПб.: Азбука-классика, 2010. — 384 с. — (Арт-хаус). — 7000 экз. — ISBN 978-5-9985-0660-4.
- Hemmingson, Michael. The Dirty Realism Duo: Charles Bukowski & Raymond Carver. — Wildside Press LLC, 2008. — 184 p. — ISBN 9781434402578.
Ссылки
| |
Чарльз Буковски в Викицитатнике? |
|---|
- [spintongues.msk.ru/charles.htm Чарльз Буковски] в «Лавке языков»
- [magazines.russ.ru/authors/b/bukovski/ Чарльз Буковски] в «Журнальном зале»
- [lib.ru/INPROZ/BUKOWSKI/ Чарльз Буковски] в библиотеке Максима Мошкова
- [www.krugosvet.ru/articles/113/1011392/1011392a1.htm Чарльз Буковски] // Энциклопедия «Кругосвет».
- [www.netslova.ru/perevody/bukowski.html Чарльз Буковски] в «Сетевой Словесности»
- Чарльз Буковски (англ.) на сайте Internet Movie Database
| ||||||||||||||||||
| Эта статья входит в число избранных статей русскоязычного раздела Википедии. |
Отрывок, характеризующий Буковски, Чарльз
Соня вышла в коридор, чтобы итти в амбар. Николай поспешно пошел на парадное крыльцо, говоря, что ему жарко. Действительно в доме было душно от столпившегося народа.На дворе был тот же неподвижный холод, тот же месяц, только было еще светлее. Свет был так силен и звезд на снеге было так много, что на небо не хотелось смотреть, и настоящих звезд было незаметно. На небе было черно и скучно, на земле было весело.
«Дурак я, дурак! Чего ждал до сих пор?» подумал Николай и, сбежав на крыльцо, он обошел угол дома по той тропинке, которая вела к заднему крыльцу. Он знал, что здесь пойдет Соня. На половине дороги стояли сложенные сажени дров, на них был снег, от них падала тень; через них и с боку их, переплетаясь, падали тени старых голых лип на снег и дорожку. Дорожка вела к амбару. Рубленная стена амбара и крыша, покрытая снегом, как высеченная из какого то драгоценного камня, блестели в месячном свете. В саду треснуло дерево, и опять всё совершенно затихло. Грудь, казалось, дышала не воздухом, а какой то вечно молодой силой и радостью.
С девичьего крыльца застучали ноги по ступенькам, скрыпнуло звонко на последней, на которую был нанесен снег, и голос старой девушки сказал:
– Прямо, прямо, вот по дорожке, барышня. Только не оглядываться.
– Я не боюсь, – отвечал голос Сони, и по дорожке, по направлению к Николаю, завизжали, засвистели в тоненьких башмачках ножки Сони.
Соня шла закутавшись в шубку. Она была уже в двух шагах, когда увидала его; она увидала его тоже не таким, каким она знала и какого всегда немножко боялась. Он был в женском платье со спутанными волосами и с счастливой и новой для Сони улыбкой. Соня быстро подбежала к нему.
«Совсем другая, и всё та же», думал Николай, глядя на ее лицо, всё освещенное лунным светом. Он продел руки под шубку, прикрывавшую ее голову, обнял, прижал к себе и поцеловал в губы, над которыми были усы и от которых пахло жженой пробкой. Соня в самую середину губ поцеловала его и, выпростав маленькие руки, с обеих сторон взяла его за щеки.
– Соня!… Nicolas!… – только сказали они. Они подбежали к амбару и вернулись назад каждый с своего крыльца.
Когда все поехали назад от Пелагеи Даниловны, Наташа, всегда всё видевшая и замечавшая, устроила так размещение, что Луиза Ивановна и она сели в сани с Диммлером, а Соня села с Николаем и девушками.
Николай, уже не перегоняясь, ровно ехал в обратный путь, и всё вглядываясь в этом странном, лунном свете в Соню, отыскивал при этом всё переменяющем свете, из под бровей и усов свою ту прежнюю и теперешнюю Соню, с которой он решил уже никогда не разлучаться. Он вглядывался, и когда узнавал всё ту же и другую и вспоминал, слышав этот запах пробки, смешанный с чувством поцелуя, он полной грудью вдыхал в себя морозный воздух и, глядя на уходящую землю и блестящее небо, он чувствовал себя опять в волшебном царстве.
– Соня, тебе хорошо? – изредка спрашивал он.
– Да, – отвечала Соня. – А тебе ?
На середине дороги Николай дал подержать лошадей кучеру, на минутку подбежал к саням Наташи и стал на отвод.
– Наташа, – сказал он ей шопотом по французски, – знаешь, я решился насчет Сони.
– Ты ей сказал? – спросила Наташа, вся вдруг просияв от радости.
– Ах, какая ты странная с этими усами и бровями, Наташа! Ты рада?
– Я так рада, так рада! Я уж сердилась на тебя. Я тебе не говорила, но ты дурно с ней поступал. Это такое сердце, Nicolas. Как я рада! Я бываю гадкая, но мне совестно было быть одной счастливой без Сони, – продолжала Наташа. – Теперь я так рада, ну, беги к ней.
– Нет, постой, ах какая ты смешная! – сказал Николай, всё всматриваясь в нее, и в сестре тоже находя что то новое, необыкновенное и обворожительно нежное, чего он прежде не видал в ней. – Наташа, что то волшебное. А?
– Да, – отвечала она, – ты прекрасно сделал.
«Если б я прежде видел ее такою, какою она теперь, – думал Николай, – я бы давно спросил, что сделать и сделал бы всё, что бы она ни велела, и всё бы было хорошо».
– Так ты рада, и я хорошо сделал?
– Ах, так хорошо! Я недавно с мамашей поссорилась за это. Мама сказала, что она тебя ловит. Как это можно говорить? Я с мама чуть не побранилась. И никому никогда не позволю ничего дурного про нее сказать и подумать, потому что в ней одно хорошее.
– Так хорошо? – сказал Николай, еще раз высматривая выражение лица сестры, чтобы узнать, правда ли это, и, скрыпя сапогами, он соскочил с отвода и побежал к своим саням. Всё тот же счастливый, улыбающийся черкес, с усиками и блестящими глазами, смотревший из под собольего капора, сидел там, и этот черкес был Соня, и эта Соня была наверное его будущая, счастливая и любящая жена.
Приехав домой и рассказав матери о том, как они провели время у Мелюковых, барышни ушли к себе. Раздевшись, но не стирая пробочных усов, они долго сидели, разговаривая о своем счастьи. Они говорили о том, как они будут жить замужем, как их мужья будут дружны и как они будут счастливы.
На Наташином столе стояли еще с вечера приготовленные Дуняшей зеркала. – Только когда всё это будет? Я боюсь, что никогда… Это было бы слишком хорошо! – сказала Наташа вставая и подходя к зеркалам.
– Садись, Наташа, может быть ты увидишь его, – сказала Соня. Наташа зажгла свечи и села. – Какого то с усами вижу, – сказала Наташа, видевшая свое лицо.
– Не надо смеяться, барышня, – сказала Дуняша.
Наташа нашла с помощью Сони и горничной положение зеркалу; лицо ее приняло серьезное выражение, и она замолкла. Долго она сидела, глядя на ряд уходящих свечей в зеркалах, предполагая (соображаясь с слышанными рассказами) то, что она увидит гроб, то, что увидит его, князя Андрея, в этом последнем, сливающемся, смутном квадрате. Но как ни готова она была принять малейшее пятно за образ человека или гроба, она ничего не видала. Она часто стала мигать и отошла от зеркала.
– Отчего другие видят, а я ничего не вижу? – сказала она. – Ну садись ты, Соня; нынче непременно тебе надо, – сказала она. – Только за меня… Мне так страшно нынче!
Соня села за зеркало, устроила положение, и стала смотреть.
– Вот Софья Александровна непременно увидят, – шопотом сказала Дуняша; – а вы всё смеетесь.
Соня слышала эти слова, и слышала, как Наташа шопотом сказала:
– И я знаю, что она увидит; она и прошлого года видела.
Минуты три все молчали. «Непременно!» прошептала Наташа и не докончила… Вдруг Соня отсторонила то зеркало, которое она держала, и закрыла глаза рукой.
– Ах, Наташа! – сказала она.
– Видела? Видела? Что видела? – вскрикнула Наташа, поддерживая зеркало.
Соня ничего не видала, она только что хотела замигать глазами и встать, когда услыхала голос Наташи, сказавшей «непременно»… Ей не хотелось обмануть ни Дуняшу, ни Наташу, и тяжело было сидеть. Она сама не знала, как и вследствие чего у нее вырвался крик, когда она закрыла глаза рукою.
– Его видела? – спросила Наташа, хватая ее за руку.
– Да. Постой… я… видела его, – невольно сказала Соня, еще не зная, кого разумела Наташа под словом его: его – Николая или его – Андрея.
«Но отчего же мне не сказать, что я видела? Ведь видят же другие! И кто же может уличить меня в том, что я видела или не видала?» мелькнуло в голове Сони.
– Да, я его видела, – сказала она.
– Как же? Как же? Стоит или лежит?
– Нет, я видела… То ничего не было, вдруг вижу, что он лежит.
– Андрей лежит? Он болен? – испуганно остановившимися глазами глядя на подругу, спрашивала Наташа.
– Нет, напротив, – напротив, веселое лицо, и он обернулся ко мне, – и в ту минуту как она говорила, ей самой казалось, что она видела то, что говорила.
– Ну а потом, Соня?…
– Тут я не рассмотрела, что то синее и красное…
– Соня! когда он вернется? Когда я увижу его! Боже мой, как я боюсь за него и за себя, и за всё мне страшно… – заговорила Наташа, и не отвечая ни слова на утешения Сони, легла в постель и долго после того, как потушили свечу, с открытыми глазами, неподвижно лежала на постели и смотрела на морозный, лунный свет сквозь замерзшие окна.
Вскоре после святок Николай объявил матери о своей любви к Соне и о твердом решении жениться на ней. Графиня, давно замечавшая то, что происходило между Соней и Николаем, и ожидавшая этого объяснения, молча выслушала его слова и сказала сыну, что он может жениться на ком хочет; но что ни она, ни отец не дадут ему благословения на такой брак. В первый раз Николай почувствовал, что мать недовольна им, что несмотря на всю свою любовь к нему, она не уступит ему. Она, холодно и не глядя на сына, послала за мужем; и, когда он пришел, графиня хотела коротко и холодно в присутствии Николая сообщить ему в чем дело, но не выдержала: заплакала слезами досады и вышла из комнаты. Старый граф стал нерешительно усовещивать Николая и просить его отказаться от своего намерения. Николай отвечал, что он не может изменить своему слову, и отец, вздохнув и очевидно смущенный, весьма скоро перервал свою речь и пошел к графине. При всех столкновениях с сыном, графа не оставляло сознание своей виноватости перед ним за расстройство дел, и потому он не мог сердиться на сына за отказ жениться на богатой невесте и за выбор бесприданной Сони, – он только при этом случае живее вспоминал то, что, ежели бы дела не были расстроены, нельзя было для Николая желать лучшей жены, чем Соня; и что виновен в расстройстве дел только один он с своим Митенькой и с своими непреодолимыми привычками.
Отец с матерью больше не говорили об этом деле с сыном; но несколько дней после этого, графиня позвала к себе Соню и с жестокостью, которой не ожидали ни та, ни другая, графиня упрекала племянницу в заманивании сына и в неблагодарности. Соня, молча с опущенными глазами, слушала жестокие слова графини и не понимала, чего от нее требуют. Она всем готова была пожертвовать для своих благодетелей. Мысль о самопожертвовании была любимой ее мыслью; но в этом случае она не могла понять, кому и чем ей надо жертвовать. Она не могла не любить графиню и всю семью Ростовых, но и не могла не любить Николая и не знать, что его счастие зависело от этой любви. Она была молчалива и грустна, и не отвечала. Николай не мог, как ему казалось, перенести долее этого положения и пошел объясниться с матерью. Николай то умолял мать простить его и Соню и согласиться на их брак, то угрожал матери тем, что, ежели Соню будут преследовать, то он сейчас же женится на ней тайно.
Графиня с холодностью, которой никогда не видал сын, отвечала ему, что он совершеннолетний, что князь Андрей женится без согласия отца, и что он может то же сделать, но что никогда она не признает эту интригантку своей дочерью.
Взорванный словом интригантка , Николай, возвысив голос, сказал матери, что он никогда не думал, чтобы она заставляла его продавать свои чувства, и что ежели это так, то он последний раз говорит… Но он не успел сказать того решительного слова, которого, судя по выражению его лица, с ужасом ждала мать и которое может быть навсегда бы осталось жестоким воспоминанием между ними. Он не успел договорить, потому что Наташа с бледным и серьезным лицом вошла в комнату от двери, у которой она подслушивала.
– Николинька, ты говоришь пустяки, замолчи, замолчи! Я тебе говорю, замолчи!.. – почти кричала она, чтобы заглушить его голос.
– Мама, голубчик, это совсем не оттого… душечка моя, бедная, – обращалась она к матери, которая, чувствуя себя на краю разрыва, с ужасом смотрела на сына, но, вследствие упрямства и увлечения борьбы, не хотела и не могла сдаться.
– Николинька, я тебе растолкую, ты уйди – вы послушайте, мама голубушка, – говорила она матери.
Слова ее были бессмысленны; но они достигли того результата, к которому она стремилась.
Графиня тяжело захлипав спрятала лицо на груди дочери, а Николай встал, схватился за голову и вышел из комнаты.
Наташа взялась за дело примирения и довела его до того, что Николай получил обещание от матери в том, что Соню не будут притеснять, и сам дал обещание, что он ничего не предпримет тайно от родителей.
С твердым намерением, устроив в полку свои дела, выйти в отставку, приехать и жениться на Соне, Николай, грустный и серьезный, в разладе с родными, но как ему казалось, страстно влюбленный, в начале января уехал в полк.
После отъезда Николая в доме Ростовых стало грустнее чем когда нибудь. Графиня от душевного расстройства сделалась больна.
Соня была печальна и от разлуки с Николаем и еще более от того враждебного тона, с которым не могла не обращаться с ней графиня. Граф более чем когда нибудь был озабочен дурным положением дел, требовавших каких нибудь решительных мер. Необходимо было продать московский дом и подмосковную, а для продажи дома нужно было ехать в Москву. Но здоровье графини заставляло со дня на день откладывать отъезд.
Наташа, легко и даже весело переносившая первое время разлуки с своим женихом, теперь с каждым днем становилась взволнованнее и нетерпеливее. Мысль о том, что так, даром, ни для кого пропадает ее лучшее время, которое бы она употребила на любовь к нему, неотступно мучила ее. Письма его большей частью сердили ее. Ей оскорбительно было думать, что тогда как она живет только мыслью о нем, он живет настоящею жизнью, видит новые места, новых людей, которые для него интересны. Чем занимательнее были его письма, тем ей было досаднее. Ее же письма к нему не только не доставляли ей утешения, но представлялись скучной и фальшивой обязанностью. Она не умела писать, потому что не могла постигнуть возможности выразить в письме правдиво хоть одну тысячную долю того, что она привыкла выражать голосом, улыбкой и взглядом. Она писала ему классически однообразные, сухие письма, которым сама не приписывала никакого значения и в которых, по брульонам, графиня поправляла ей орфографические ошибки.
Здоровье графини все не поправлялось; но откладывать поездку в Москву уже не было возможности. Нужно было делать приданое, нужно было продать дом, и притом князя Андрея ждали сперва в Москву, где в эту зиму жил князь Николай Андреич, и Наташа была уверена, что он уже приехал.
Графиня осталась в деревне, а граф, взяв с собой Соню и Наташу, в конце января поехал в Москву.
Пьер после сватовства князя Андрея и Наташи, без всякой очевидной причины, вдруг почувствовал невозможность продолжать прежнюю жизнь. Как ни твердо он был убежден в истинах, открытых ему его благодетелем, как ни радостно ему было то первое время увлечения внутренней работой самосовершенствования, которой он предался с таким жаром, после помолвки князя Андрея с Наташей и после смерти Иосифа Алексеевича, о которой он получил известие почти в то же время, – вся прелесть этой прежней жизни вдруг пропала для него. Остался один остов жизни: его дом с блестящею женой, пользовавшеюся теперь милостями одного важного лица, знакомство со всем Петербургом и служба с скучными формальностями. И эта прежняя жизнь вдруг с неожиданной мерзостью представилась Пьеру. Он перестал писать свой дневник, избегал общества братьев, стал опять ездить в клуб, стал опять много пить, опять сблизился с холостыми компаниями и начал вести такую жизнь, что графиня Елена Васильевна сочла нужным сделать ему строгое замечание. Пьер почувствовав, что она была права, и чтобы не компрометировать свою жену, уехал в Москву.
В Москве, как только он въехал в свой огромный дом с засохшими и засыхающими княжнами, с громадной дворней, как только он увидал – проехав по городу – эту Иверскую часовню с бесчисленными огнями свеч перед золотыми ризами, эту Кремлевскую площадь с незаезженным снегом, этих извозчиков и лачужки Сивцева Вражка, увидал стариков московских, ничего не желающих и никуда не спеша доживающих свой век, увидал старушек, московских барынь, московские балы и Московский Английский клуб, – он почувствовал себя дома, в тихом пристанище. Ему стало в Москве покойно, тепло, привычно и грязно, как в старом халате.
Московское общество всё, начиная от старух до детей, как своего давно жданного гостя, которого место всегда было готово и не занято, – приняло Пьера. Для московского света, Пьер был самым милым, добрым, умным веселым, великодушным чудаком, рассеянным и душевным, русским, старого покроя, барином. Кошелек его всегда был пуст, потому что открыт для всех.
Бенефисы, дурные картины, статуи, благотворительные общества, цыгане, школы, подписные обеды, кутежи, масоны, церкви, книги – никто и ничто не получало отказа, и ежели бы не два его друга, занявшие у него много денег и взявшие его под свою опеку, он бы всё роздал. В клубе не было ни обеда, ни вечера без него. Как только он приваливался на свое место на диване после двух бутылок Марго, его окружали, и завязывались толки, споры, шутки. Где ссорились, он – одной своей доброй улыбкой и кстати сказанной шуткой, мирил. Масонские столовые ложи были скучны и вялы, ежели его не было.
Когда после холостого ужина он, с доброй и сладкой улыбкой, сдаваясь на просьбы веселой компании, поднимался, чтобы ехать с ними, между молодежью раздавались радостные, торжественные крики. На балах он танцовал, если не доставало кавалера. Молодые дамы и барышни любили его за то, что он, не ухаживая ни за кем, был со всеми одинаково любезен, особенно после ужина. «Il est charmant, il n'a pas de seхе», [Он очень мил, но не имеет пола,] говорили про него.
Пьер был тем отставным добродушно доживающим свой век в Москве камергером, каких были сотни.
Как бы он ужаснулся, ежели бы семь лет тому назад, когда он только приехал из за границы, кто нибудь сказал бы ему, что ему ничего не нужно искать и выдумывать, что его колея давно пробита, определена предвечно, и что, как он ни вертись, он будет тем, чем были все в его положении. Он не мог бы поверить этому! Разве не он всей душой желал, то произвести республику в России, то самому быть Наполеоном, то философом, то тактиком, победителем Наполеона? Разве не он видел возможность и страстно желал переродить порочный род человеческий и самого себя довести до высшей степени совершенства? Разве не он учреждал и школы и больницы и отпускал своих крестьян на волю?
А вместо всего этого, вот он, богатый муж неверной жены, камергер в отставке, любящий покушать, выпить и расстегнувшись побранить легко правительство, член Московского Английского клуба и всеми любимый член московского общества. Он долго не мог помириться с той мыслью, что он есть тот самый отставной московский камергер, тип которого он так глубоко презирал семь лет тому назад.
Иногда он утешал себя мыслями, что это только так, покамест, он ведет эту жизнь; но потом его ужасала другая мысль, что так, покамест, уже сколько людей входили, как он, со всеми зубами и волосами в эту жизнь и в этот клуб и выходили оттуда без одного зуба и волоса.
В минуты гордости, когда он думал о своем положении, ему казалось, что он совсем другой, особенный от тех отставных камергеров, которых он презирал прежде, что те были пошлые и глупые, довольные и успокоенные своим положением, «а я и теперь всё недоволен, всё мне хочется сделать что то для человечества», – говорил он себе в минуты гордости. «А может быть и все те мои товарищи, точно так же, как и я, бились, искали какой то новой, своей дороги в жизни, и так же как и я силой обстановки, общества, породы, той стихийной силой, против которой не властен человек, были приведены туда же, куда и я», говорил он себе в минуты скромности, и поживши в Москве несколько времени, он не презирал уже, а начинал любить, уважать и жалеть, так же как и себя, своих по судьбе товарищей.
На Пьера не находили, как прежде, минуты отчаяния, хандры и отвращения к жизни; но та же болезнь, выражавшаяся прежде резкими припадками, была вогнана внутрь и ни на мгновенье не покидала его. «К чему? Зачем? Что такое творится на свете?» спрашивал он себя с недоумением по нескольку раз в день, невольно начиная вдумываться в смысл явлений жизни; но опытом зная, что на вопросы эти не было ответов, он поспешно старался отвернуться от них, брался за книгу, или спешил в клуб, или к Аполлону Николаевичу болтать о городских сплетнях.
«Елена Васильевна, никогда ничего не любившая кроме своего тела и одна из самых глупых женщин в мире, – думал Пьер – представляется людям верхом ума и утонченности, и перед ней преклоняются. Наполеон Бонапарт был презираем всеми до тех пор, пока он был велик, и с тех пор как он стал жалким комедиантом – император Франц добивается предложить ему свою дочь в незаконные супруги. Испанцы воссылают мольбы Богу через католическое духовенство в благодарность за то, что они победили 14 го июня французов, а французы воссылают мольбы через то же католическое духовенство о том, что они 14 го июня победили испанцев. Братья мои масоны клянутся кровью в том, что они всем готовы жертвовать для ближнего, а не платят по одному рублю на сборы бедных и интригуют Астрея против Ищущих манны, и хлопочут о настоящем Шотландском ковре и об акте, смысла которого не знает и тот, кто писал его, и которого никому не нужно. Все мы исповедуем христианский закон прощения обид и любви к ближнему – закон, вследствие которого мы воздвигли в Москве сорок сороков церквей, а вчера засекли кнутом бежавшего человека, и служитель того же самого закона любви и прощения, священник, давал целовать солдату крест перед казнью». Так думал Пьер, и эта вся, общая, всеми признаваемая ложь, как он ни привык к ней, как будто что то новое, всякий раз изумляла его. – «Я понимаю эту ложь и путаницу, думал он, – но как мне рассказать им всё, что я понимаю? Я пробовал и всегда находил, что и они в глубине души понимают то же, что и я, но стараются только не видеть ее . Стало быть так надо! Но мне то, мне куда деваться?» думал Пьер. Он испытывал несчастную способность многих, особенно русских людей, – способность видеть и верить в возможность добра и правды, и слишком ясно видеть зло и ложь жизни, для того чтобы быть в силах принимать в ней серьезное участие. Всякая область труда в глазах его соединялась со злом и обманом. Чем он ни пробовал быть, за что он ни брался – зло и ложь отталкивали его и загораживали ему все пути деятельности. А между тем надо было жить, надо было быть заняту. Слишком страшно было быть под гнетом этих неразрешимых вопросов жизни, и он отдавался первым увлечениям, чтобы только забыть их. Он ездил во всевозможные общества, много пил, покупал картины и строил, а главное читал.
Он читал и читал всё, что попадалось под руку, и читал так что, приехав домой, когда лакеи еще раздевали его, он, уже взяв книгу, читал – и от чтения переходил ко сну, и от сна к болтовне в гостиных и клубе, от болтовни к кутежу и женщинам, от кутежа опять к болтовне, чтению и вину. Пить вино для него становилось всё больше и больше физической и вместе нравственной потребностью. Несмотря на то, что доктора говорили ему, что с его корпуленцией, вино для него опасно, он очень много пил. Ему становилось вполне хорошо только тогда, когда он, сам не замечая как, опрокинув в свой большой рот несколько стаканов вина, испытывал приятную теплоту в теле, нежность ко всем своим ближним и готовность ума поверхностно отзываться на всякую мысль, не углубляясь в сущность ее. Только выпив бутылку и две вина, он смутно сознавал, что тот запутанный, страшный узел жизни, который ужасал его прежде, не так страшен, как ему казалось. С шумом в голове, болтая, слушая разговоры или читая после обеда и ужина, он беспрестанно видел этот узел, какой нибудь стороной его. Но только под влиянием вина он говорил себе: «Это ничего. Это я распутаю – вот у меня и готово объяснение. Но теперь некогда, – я после обдумаю всё это!» Но это после никогда не приходило.
Натощак, поутру, все прежние вопросы представлялись столь же неразрешимыми и страшными, и Пьер торопливо хватался за книгу и радовался, когда кто нибудь приходил к нему.
Иногда Пьер вспоминал о слышанном им рассказе о том, как на войне солдаты, находясь под выстрелами в прикрытии, когда им делать нечего, старательно изыскивают себе занятие, для того чтобы легче переносить опасность. И Пьеру все люди представлялись такими солдатами, спасающимися от жизни: кто честолюбием, кто картами, кто писанием законов, кто женщинами, кто игрушками, кто лошадьми, кто политикой, кто охотой, кто вином, кто государственными делами. «Нет ни ничтожного, ни важного, всё равно: только бы спастись от нее как умею»! думал Пьер. – «Только бы не видать ее , эту страшную ее ».
В начале зимы, князь Николай Андреич Болконский с дочерью приехали в Москву. По своему прошедшему, по своему уму и оригинальности, в особенности по ослаблению на ту пору восторга к царствованию императора Александра, и по тому анти французскому и патриотическому направлению, которое царствовало в то время в Москве, князь Николай Андреич сделался тотчас же предметом особенной почтительности москвичей и центром московской оппозиции правительству.
Князь очень постарел в этот год. В нем появились резкие признаки старости: неожиданные засыпанья, забывчивость ближайших по времени событий и памятливость к давнишним, и детское тщеславие, с которым он принимал роль главы московской оппозиции. Несмотря на то, когда старик, особенно по вечерам, выходил к чаю в своей шубке и пудренном парике, и начинал, затронутый кем нибудь, свои отрывистые рассказы о прошедшем, или еще более отрывистые и резкие суждения о настоящем, он возбуждал во всех своих гостях одинаковое чувство почтительного уважения. Для посетителей весь этот старинный дом с огромными трюмо, дореволюционной мебелью, этими лакеями в пудре, и сам прошлого века крутой и умный старик с его кроткою дочерью и хорошенькой француженкой, которые благоговели перед ним, – представлял величественно приятное зрелище. Но посетители не думали о том, что кроме этих двух трех часов, во время которых они видели хозяев, было еще 22 часа в сутки, во время которых шла тайная внутренняя жизнь дома.
В последнее время в Москве эта внутренняя жизнь сделалась очень тяжела для княжны Марьи. Она была лишена в Москве тех своих лучших радостей – бесед с божьими людьми и уединения, – которые освежали ее в Лысых Горах, и не имела никаких выгод и радостей столичной жизни. В свет она не ездила; все знали, что отец не пускает ее без себя, а сам он по нездоровью не мог ездить, и ее уже не приглашали на обеды и вечера. Надежду на замужество княжна Марья совсем оставила. Она видела ту холодность и озлобление, с которыми князь Николай Андреич принимал и спроваживал от себя молодых людей, могущих быть женихами, иногда являвшихся в их дом. Друзей у княжны Марьи не было: в этот приезд в Москву она разочаровалась в своих двух самых близких людях. М lle Bourienne, с которой она и прежде не могла быть вполне откровенна, теперь стала ей неприятна и она по некоторым причинам стала отдаляться от нее. Жюли, которая была в Москве и к которой княжна Марья писала пять лет сряду, оказалась совершенно чужою ей, когда княжна Марья вновь сошлась с нею лично. Жюли в это время, по случаю смерти братьев сделавшись одной из самых богатых невест в Москве, находилась во всем разгаре светских удовольствий. Она была окружена молодыми людьми, которые, как она думала, вдруг оценили ее достоинства. Жюли находилась в том периоде стареющейся светской барышни, которая чувствует, что наступил последний шанс замужества, и теперь или никогда должна решиться ее участь. Княжна Марья с грустной улыбкой вспоминала по четвергам, что ей теперь писать не к кому, так как Жюли, Жюли, от присутствия которой ей не было никакой радости, была здесь и виделась с нею каждую неделю. Она, как старый эмигрант, отказавшийся жениться на даме, у которой он проводил несколько лет свои вечера, жалела о том, что Жюли была здесь и ей некому писать. Княжне Марье в Москве не с кем было поговорить, некому поверить своего горя, а горя много прибавилось нового за это время. Срок возвращения князя Андрея и его женитьбы приближался, а его поручение приготовить к тому отца не только не было исполнено, но дело напротив казалось совсем испорчено, и напоминание о графине Ростовой выводило из себя старого князя, и так уже большую часть времени бывшего не в духе. Новое горе, прибавившееся в последнее время для княжны Марьи, были уроки, которые она давала шестилетнему племяннику. В своих отношениях с Николушкой она с ужасом узнавала в себе свойство раздражительности своего отца. Сколько раз она ни говорила себе, что не надо позволять себе горячиться уча племянника, почти всякий раз, как она садилась с указкой за французскую азбуку, ей так хотелось поскорее, полегче перелить из себя свое знание в ребенка, уже боявшегося, что вот вот тетя рассердится, что она при малейшем невнимании со стороны мальчика вздрагивала, торопилась, горячилась, возвышала голос, иногда дергала его за руку и ставила в угол. Поставив его в угол, она сама начинала плакать над своей злой, дурной натурой, и Николушка, подражая ей рыданьями, без позволенья выходил из угла, подходил к ней и отдергивал от лица ее мокрые руки, и утешал ее. Но более, более всего горя доставляла княжне раздражительность ее отца, всегда направленная против дочери и дошедшая в последнее время до жестокости. Ежели бы он заставлял ее все ночи класть поклоны, ежели бы он бил ее, заставлял таскать дрова и воду, – ей бы и в голову не пришло, что ее положение трудно; но этот любящий мучитель, самый жестокий от того, что он любил и за то мучил себя и ее, – умышленно умел не только оскорбить, унизить ее, но и доказать ей, что она всегда и во всем была виновата. В последнее время в нем появилась новая черта, более всего мучившая княжну Марью – это было его большее сближение с m lle Bourienne. Пришедшая ему, в первую минуту по получении известия о намерении своего сына, мысль шутка о том, что ежели Андрей женится, то и он сам женится на Bourienne, – видимо понравилась ему, и он с упорством последнее время (как казалось княжне Марье) только для того, чтобы ее оскорбить, выказывал особенную ласку к m lle Bоurienne и выказывал свое недовольство к дочери выказываньем любви к Bourienne.
Однажды в Москве, в присутствии княжны Марьи (ей казалось, что отец нарочно при ней это сделал), старый князь поцеловал у m lle Bourienne руку и, притянув ее к себе, обнял лаская. Княжна Марья вспыхнула и выбежала из комнаты. Через несколько минут m lle Bourienne вошла к княжне Марье, улыбаясь и что то весело рассказывая своим приятным голосом. Княжна Марья поспешно отерла слезы, решительными шагами подошла к Bourienne и, видимо сама того не зная, с гневной поспешностью и взрывами голоса, начала кричать на француженку: «Это гадко, низко, бесчеловечно пользоваться слабостью…» Она не договорила. «Уйдите вон из моей комнаты», прокричала она и зарыдала.
На другой день князь ни слова не сказал своей дочери; но она заметила, что за обедом он приказал подавать кушанье, начиная с m lle Bourienne. В конце обеда, когда буфетчик, по прежней привычке, опять подал кофе, начиная с княжны, князь вдруг пришел в бешенство, бросил костылем в Филиппа и тотчас же сделал распоряжение об отдаче его в солдаты. «Не слышат… два раза сказал!… не слышат!»
«Она – первый человек в этом доме; она – мой лучший друг, – кричал князь. – И ежели ты позволишь себе, – закричал он в гневе, в первый раз обращаясь к княжне Марье, – еще раз, как вчера ты осмелилась… забыться перед ней, то я тебе покажу, кто хозяин в доме. Вон! чтоб я не видал тебя; проси у ней прощенья!»
Княжна Марья просила прощенья у Амальи Евгеньевны и у отца за себя и за Филиппа буфетчика, который просил заступы.
В такие минуты в душе княжны Марьи собиралось чувство, похожее на гордость жертвы. И вдруг в такие то минуты, при ней, этот отец, которого она осуждала, или искал очки, ощупывая подле них и не видя, или забывал то, что сейчас было, или делал слабевшими ногами неверный шаг и оглядывался, не видал ли кто его слабости, или, что было хуже всего, он за обедом, когда не было гостей, возбуждавших его, вдруг задремывал, выпуская салфетку, и склонялся над тарелкой, трясущейся головой. «Он стар и слаб, а я смею осуждать его!» думала она с отвращением к самой себе в такие минуты.
В 1811 м году в Москве жил быстро вошедший в моду французский доктор, огромный ростом, красавец, любезный, как француз и, как говорили все в Москве, врач необыкновенного искусства – Метивье. Он был принят в домах высшего общества не как доктор, а как равный.
Князь Николай Андреич, смеявшийся над медициной, последнее время, по совету m lle Bourienne, допустил к себе этого доктора и привык к нему. Метивье раза два в неделю бывал у князя.
В Николин день, в именины князя, вся Москва была у подъезда его дома, но он никого не велел принимать; а только немногих, список которых он передал княжне Марье, велел звать к обеду.
Метивье, приехавший утром с поздравлением, в качестве доктора, нашел приличным de forcer la consigne [нарушить запрет], как он сказал княжне Марье, и вошел к князю. Случилось так, что в это именинное утро старый князь был в одном из своих самых дурных расположений духа. Он целое утро ходил по дому, придираясь ко всем и делая вид, что он не понимает того, что ему говорят, и что его не понимают. Княжна Марья твердо знала это состояние духа тихой и озабоченной ворчливости, которая обыкновенно разрешалась взрывом бешенства, и как перед заряженным, с взведенными курками, ружьем, ходила всё это утро, ожидая неизбежного выстрела. Утро до приезда доктора прошло благополучно. Пропустив доктора, княжна Марья села с книгой в гостиной у двери, от которой она могла слышать всё то, что происходило в кабинете.
Сначала она слышала один голос Метивье, потом голос отца, потом оба голоса заговорили вместе, дверь распахнулась и на пороге показалась испуганная, красивая фигура Метивье с его черным хохлом, и фигура князя в колпаке и халате с изуродованным бешенством лицом и опущенными зрачками глаз.
– Не понимаешь? – кричал князь, – а я понимаю! Французский шпион, Бонапартов раб, шпион, вон из моего дома – вон, я говорю, – и он захлопнул дверь.
Метивье пожимая плечами подошел к mademoiselle Bourienne, прибежавшей на крик из соседней комнаты.
– Князь не совсем здоров, – la bile et le transport au cerveau. Tranquillisez vous, je repasserai demain, [желчь и прилив к мозгу. Успокойтесь, я завтра зайду,] – сказал Метивье и, приложив палец к губам, поспешно вышел.
За дверью слышались шаги в туфлях и крики: «Шпионы, изменники, везде изменники! В своем доме нет минуты покоя!»
После отъезда Метивье старый князь позвал к себе дочь и вся сила его гнева обрушилась на нее. Она была виновата в том, что к нему пустили шпиона. .Ведь он сказал, ей сказал, чтобы она составила список, и тех, кого не было в списке, чтобы не пускали. Зачем же пустили этого мерзавца! Она была причиной всего. С ней он не мог иметь ни минуты покоя, не мог умереть спокойно, говорил он.
– Нет, матушка, разойтись, разойтись, это вы знайте, знайте! Я теперь больше не могу, – сказал он и вышел из комнаты. И как будто боясь, чтобы она не сумела как нибудь утешиться, он вернулся к ней и, стараясь принять спокойный вид, прибавил: – И не думайте, чтобы я это сказал вам в минуту сердца, а я спокоен, и я обдумал это; и это будет – разойтись, поищите себе места!… – Но он не выдержал и с тем озлоблением, которое может быть только у человека, который любит, он, видимо сам страдая, затряс кулаками и прокричал ей:
– И хоть бы какой нибудь дурак взял ее замуж! – Он хлопнул дверью, позвал к себе m lle Bourienne и затих в кабинете.
В два часа съехались избранные шесть персон к обеду. Гости – известный граф Ростопчин, князь Лопухин с своим племянником, генерал Чатров, старый, боевой товарищ князя, и из молодых Пьер и Борис Друбецкой – ждали его в гостиной.
На днях приехавший в Москву в отпуск Борис пожелал быть представленным князю Николаю Андреевичу и сумел до такой степени снискать его расположение, что князь для него сделал исключение из всех холостых молодых людей, которых он не принимал к себе.
Дом князя был не то, что называется «свет», но это был такой маленький кружок, о котором хотя и не слышно было в городе, но в котором лестнее всего было быть принятым. Это понял Борис неделю тому назад, когда при нем Ростопчин сказал главнокомандующему, звавшему графа обедать в Николин день, что он не может быть:
– В этот день уж я всегда езжу прикладываться к мощам князя Николая Андреича.
– Ах да, да, – отвечал главнокомандующий. – Что он?..
Небольшое общество, собравшееся в старомодной, высокой, с старой мебелью, гостиной перед обедом, было похоже на собравшийся, торжественный совет судилища. Все молчали и ежели говорили, то говорили тихо. Князь Николай Андреич вышел серьезен и молчалив. Княжна Марья еще более казалась тихою и робкою, чем обыкновенно. Гости неохотно обращались к ней, потому что видели, что ей было не до их разговоров. Граф Ростопчин один держал нить разговора, рассказывая о последних то городских, то политических новостях.
Лопухин и старый генерал изредка принимали участие в разговоре. Князь Николай Андреич слушал, как верховный судья слушает доклад, который делают ему, только изредка молчанием или коротким словцом заявляя, что он принимает к сведению то, что ему докладывают. Тон разговора был такой, что понятно было, никто не одобрял того, что делалось в политическом мире. Рассказывали о событиях, очевидно подтверждающих то, что всё шло хуже и хуже; но во всяком рассказе и суждении было поразительно то, как рассказчик останавливался или бывал останавливаем всякий раз на той границе, где суждение могло относиться к лицу государя императора.
За обедом разговор зашел о последней политической новости, о захвате Наполеоном владений герцога Ольденбургского и о русской враждебной Наполеону ноте, посланной ко всем европейским дворам.
– Бонапарт поступает с Европой как пират на завоеванном корабле, – сказал граф Ростопчин, повторяя уже несколько раз говоренную им фразу. – Удивляешься только долготерпению или ослеплению государей. Теперь дело доходит до папы, и Бонапарт уже не стесняясь хочет низвергнуть главу католической религии, и все молчат! Один наш государь протестовал против захвата владений герцога Ольденбургского. И то… – Граф Ростопчин замолчал, чувствуя, что он стоял на том рубеже, где уже нельзя осуждать.
– Предложили другие владения заместо Ольденбургского герцогства, – сказал князь Николай Андреич. – Точно я мужиков из Лысых Гор переселял в Богучарово и в рязанские, так и он герцогов.
– Le duc d'Oldenbourg supporte son malheur avec une force de caractere et une resignation admirable, [Герцог Ольденбургский переносит свое несчастие с замечательной силой воли и покорностью судьбе,] – сказал Борис, почтительно вступая в разговор. Он сказал это потому, что проездом из Петербурга имел честь представляться герцогу. Князь Николай Андреич посмотрел на молодого человека так, как будто он хотел бы ему сказать кое что на это, но раздумал, считая его слишком для того молодым.
– Я читал наш протест об Ольденбургском деле и удивлялся плохой редакции этой ноты, – сказал граф Ростопчин, небрежным тоном человека, судящего о деле ему хорошо знакомом.
Пьер с наивным удивлением посмотрел на Ростопчина, не понимая, почему его беспокоила плохая редакция ноты.
– Разве не всё равно, как написана нота, граф? – сказал он, – ежели содержание ее сильно.
– Mon cher, avec nos 500 mille hommes de troupes, il serait facile d'avoir un beau style, [Мой милый, с нашими 500 ми тысячами войска легко, кажется, выражаться хорошим слогом,] – сказал граф Ростопчин. Пьер понял, почему графа Ростопчина беспокоила pедакция ноты.
– Кажется, писак довольно развелось, – сказал старый князь: – там в Петербурге всё пишут, не только ноты, – новые законы всё пишут. Мой Андрюша там для России целый волюм законов написал. Нынче всё пишут! – И он неестественно засмеялся.
Разговор замолк на минуту; старый генерал прокашливаньем обратил на себя внимание.
– Изволили слышать о последнем событии на смотру в Петербурге? как себя новый французский посланник показал!
– Что? Да, я слышал что то; он что то неловко сказал при Его Величестве.
– Его Величество обратил его внимание на гренадерскую дивизию и церемониальный марш, – продолжал генерал, – и будто посланник никакого внимания не обратил и будто позволил себе сказать, что мы у себя во Франции на такие пустяки не обращаем внимания. Государь ничего не изволил сказать. На следующем смотру, говорят, государь ни разу не изволил обратиться к нему.
Все замолчали: на этот факт, относившийся лично до государя, нельзя было заявлять никакого суждения.
– Дерзки! – сказал князь. – Знаете Метивье? Я нынче выгнал его от себя. Он здесь был, пустили ко мне, как я ни просил никого не пускать, – сказал князь, сердито взглянув на дочь. И он рассказал весь свой разговор с французским доктором и причины, почему он убедился, что Метивье шпион. Хотя причины эти были очень недостаточны и не ясны, никто не возражал.
За жарким подали шампанское. Гости встали с своих мест, поздравляя старого князя. Княжна Марья тоже подошла к нему.
Он взглянул на нее холодным, злым взглядом и подставил ей сморщенную, выбритую щеку. Всё выражение его лица говорило ей, что утренний разговор им не забыт, что решенье его осталось в прежней силе, и что только благодаря присутствию гостей он не говорит ей этого теперь.
Когда вышли в гостиную к кофе, старики сели вместе.
Князь Николай Андреич более оживился и высказал свой образ мыслей насчет предстоящей войны.
Он сказал, что войны наши с Бонапартом до тех пор будут несчастливы, пока мы будем искать союзов с немцами и будем соваться в европейские дела, в которые нас втянул Тильзитский мир. Нам ни за Австрию, ни против Австрии не надо было воевать. Наша политика вся на востоке, а в отношении Бонапарта одно – вооружение на границе и твердость в политике, и никогда он не посмеет переступить русскую границу, как в седьмом году.
– И где нам, князь, воевать с французами! – сказал граф Ростопчин. – Разве мы против наших учителей и богов можем ополчиться? Посмотрите на нашу молодежь, посмотрите на наших барынь. Наши боги – французы, наше царство небесное – Париж.
Он стал говорить громче, очевидно для того, чтобы его слышали все. – Костюмы французские, мысли французские, чувства французские! Вы вот Метивье в зашей выгнали, потому что он француз и негодяй, а наши барыни за ним ползком ползают. Вчера я на вечере был, так из пяти барынь три католички и, по разрешенью папы, в воскресенье по канве шьют. А сами чуть не голые сидят, как вывески торговых бань, с позволенья сказать. Эх, поглядишь на нашу молодежь, князь, взял бы старую дубину Петра Великого из кунсткамеры, да по русски бы обломал бока, вся бы дурь соскочила!
Все замолчали. Старый князь с улыбкой на лице смотрел на Ростопчина и одобрительно покачивал головой.
– Ну, прощайте, ваше сиятельство, не хворайте, – сказал Ростопчин, с свойственными ему быстрыми движениями поднимаясь и протягивая руку князю.
– Прощай, голубчик, – гусли, всегда заслушаюсь его! – сказал старый князь, удерживая его за руку и подставляя ему для поцелуя щеку. С Ростопчиным поднялись и другие.
Княжна Марья, сидя в гостиной и слушая эти толки и пересуды стариков, ничего не понимала из того, что она слышала; она думала только о том, не замечают ли все гости враждебных отношений ее отца к ней. Она даже не заметила особенного внимания и любезностей, которые ей во всё время этого обеда оказывал Друбецкой, уже третий раз бывший в их доме.
Княжна Марья с рассеянным, вопросительным взглядом обратилась к Пьеру, который последний из гостей, с шляпой в руке и с улыбкой на лице, подошел к ней после того, как князь вышел, и они одни оставались в гостиной.
– Можно еще посидеть? – сказал он, своим толстым телом валясь в кресло подле княжны Марьи.
– Ах да, – сказала она. «Вы ничего не заметили?» сказал ее взгляд.
Пьер находился в приятном, после обеденном состоянии духа. Он глядел перед собою и тихо улыбался.
– Давно вы знаете этого молодого человека, княжна? – сказал он.
– Какого?
– Друбецкого?
– Нет, недавно…
– Что он вам нравится?
– Да, он приятный молодой человек… Отчего вы меня это спрашиваете? – сказала княжна Марья, продолжая думать о своем утреннем разговоре с отцом.
– Оттого, что я сделал наблюдение, – молодой человек обыкновенно из Петербурга приезжает в Москву в отпуск только с целью жениться на богатой невесте.
– Вы сделали это наблюденье! – сказала княжна Марья.
– Да, – продолжал Пьер с улыбкой, – и этот молодой человек теперь себя так держит, что, где есть богатые невесты, – там и он. Я как по книге читаю в нем. Он теперь в нерешительности, кого ему атаковать: вас или mademoiselle Жюли Карагин. Il est tres assidu aupres d'elle. [Он очень к ней внимателен.]
– Он ездит к ним?
– Да, очень часто. И знаете вы новую манеру ухаживать? – с веселой улыбкой сказал Пьер, видимо находясь в том веселом духе добродушной насмешки, за который он так часто в дневнике упрекал себя.
– Нет, – сказала княжна Марья.
– Теперь чтобы понравиться московским девицам – il faut etre melancolique. Et il est tres melancolique aupres de m lle Карагин, [надо быть меланхоличным. И он очень меланхоличен с m elle Карагин,] – сказал Пьер.
– Vraiment? [Право?] – сказала княжна Марья, глядя в доброе лицо Пьера и не переставая думать о своем горе. – «Мне бы легче было, думала она, ежели бы я решилась поверить кому нибудь всё, что я чувствую. И я бы желала именно Пьеру сказать всё. Он так добр и благороден. Мне бы легче стало. Он мне подал бы совет!»
– Пошли бы вы за него замуж? – спросил Пьер.
– Ах, Боже мой, граф, есть такие минуты, что я пошла бы за всякого, – вдруг неожиданно для самой себя, со слезами в голосе, сказала княжна Марья. – Ах, как тяжело бывает любить человека близкого и чувствовать, что… ничего (продолжала она дрожащим голосом), не можешь для него сделать кроме горя, когда знаешь, что не можешь этого переменить. Тогда одно – уйти, а куда мне уйти?…
– Что вы, что с вами, княжна?
Но княжна, не договорив, заплакала.
– Я не знаю, что со мной нынче. Не слушайте меня, забудьте, что я вам сказала.
Вся веселость Пьера исчезла. Он озабоченно расспрашивал княжну, просил ее высказать всё, поверить ему свое горе; но она только повторила, что просит его забыть то, что она сказала, что она не помнит, что она сказала, и что у нее нет горя, кроме того, которое он знает – горя о том, что женитьба князя Андрея угрожает поссорить отца с сыном.
– Слышали ли вы про Ростовых? – спросила она, чтобы переменить разговор. – Мне говорили, что они скоро будут. Andre я тоже жду каждый день. Я бы желала, чтоб они увиделись здесь.
– А как он смотрит теперь на это дело? – спросил Пьер, под он разумея старого князя. Княжна Марья покачала головой.
– Но что же делать? До года остается только несколько месяцев. И это не может быть. Я бы только желала избавить брата от первых минут. Я желала бы, чтобы они скорее приехали. Я надеюсь сойтись с нею. Вы их давно знаете, – сказала княжна Марья, – скажите мне, положа руку на сердце, всю истинную правду, что это за девушка и как вы находите ее? Но всю правду; потому что, вы понимаете, Андрей так много рискует, делая это против воли отца, что я бы желала знать…
Неясный инстинкт сказал Пьеру, что в этих оговорках и повторяемых просьбах сказать всю правду, выражалось недоброжелательство княжны Марьи к своей будущей невестке, что ей хотелось, чтобы Пьер не одобрил выбора князя Андрея; но Пьер сказал то, что он скорее чувствовал, чем думал.
– Я не знаю, как отвечать на ваш вопрос, – сказал он, покраснев, сам не зная от чего. – Я решительно не знаю, что это за девушка; я никак не могу анализировать ее. Она обворожительна. А отчего, я не знаю: вот всё, что можно про нее сказать. – Княжна Марья вздохнула и выражение ее лица сказало: «Да, я этого ожидала и боялась».
– Умна она? – спросила княжна Марья. Пьер задумался.
– Я думаю нет, – сказал он, – а впрочем да. Она не удостоивает быть умной… Да нет, она обворожительна, и больше ничего. – Княжна Марья опять неодобрительно покачала головой.
– Ах, я так желаю любить ее! Вы ей это скажите, ежели увидите ее прежде меня.
– Я слышал, что они на днях будут, – сказал Пьер.
Княжна Марья сообщила Пьеру свой план о том, как она, только что приедут Ростовы, сблизится с будущей невесткой и постарается приучить к ней старого князя.
Женитьба на богатой невесте в Петербурге не удалась Борису и он с этой же целью приехал в Москву. В Москве Борис находился в нерешительности между двумя самыми богатыми невестами – Жюли и княжной Марьей. Хотя княжна Марья, несмотря на свою некрасивость, и казалась ему привлекательнее Жюли, ему почему то неловко было ухаживать за Болконской. В последнее свое свиданье с ней, в именины старого князя, на все его попытки заговорить с ней о чувствах, она отвечала ему невпопад и очевидно не слушала его.
Жюли, напротив, хотя и особенным, одной ей свойственным способом, но охотно принимала его ухаживанье.
Жюли было 27 лет. После смерти своих братьев, она стала очень богата. Она была теперь совершенно некрасива; но думала, что она не только так же хороша, но еще гораздо больше привлекательна, чем была прежде. В этом заблуждении поддерживало ее то, что во первых она стала очень богатой невестой, а во вторых то, что чем старее она становилась, тем она была безопаснее для мужчин, тем свободнее было мужчинам обращаться с нею и, не принимая на себя никаких обязательств, пользоваться ее ужинами, вечерами и оживленным обществом, собиравшимся у нее. Мужчина, который десять лет назад побоялся бы ездить каждый день в дом, где была 17 ти летняя барышня, чтобы не компрометировать ее и не связать себя, теперь ездил к ней смело каждый день и обращался с ней не как с барышней невестой, а как с знакомой, не имеющей пола.
Дом Карагиных был в эту зиму в Москве самым приятным и гостеприимным домом. Кроме званых вечеров и обедов, каждый день у Карагиных собиралось большое общество, в особенности мужчин, ужинающих в 12 м часу ночи и засиживающихся до 3 го часу. Не было бала, гулянья, театра, который бы пропускала Жюли. Туалеты ее были всегда самые модные. Но, несмотря на это, Жюли казалась разочарована во всем, говорила всякому, что она не верит ни в дружбу, ни в любовь, ни в какие радости жизни, и ожидает успокоения только там . Она усвоила себе тон девушки, понесшей великое разочарованье, девушки, как будто потерявшей любимого человека или жестоко обманутой им. Хотя ничего подобного с ней не случилось, на нее смотрели, как на такую, и сама она даже верила, что она много пострадала в жизни. Эта меланхолия, не мешавшая ей веселиться, не мешала бывавшим у нее молодым людям приятно проводить время. Каждый гость, приезжая к ним, отдавал свой долг меланхолическому настроению хозяйки и потом занимался и светскими разговорами, и танцами, и умственными играми, и турнирами буриме, которые были в моде у Карагиных. Только некоторые молодые люди, в числе которых был и Борис, более углублялись в меланхолическое настроение Жюли, и с этими молодыми людьми она имела более продолжительные и уединенные разговоры о тщете всего мирского, и им открывала свои альбомы, исписанные грустными изображениями, изречениями и стихами.
Жюли была особенно ласкова к Борису: жалела о его раннем разочаровании в жизни, предлагала ему те утешения дружбы, которые она могла предложить, сама так много пострадав в жизни, и открыла ему свой альбом. Борис нарисовал ей в альбом два дерева и написал: Arbres rustiques, vos sombres rameaux secouent sur moi les tenebres et la melancolie. [Сельские деревья, ваши темные сучья стряхивают на меня мрак и меланхолию.]
В другом месте он нарисовал гробницу и написал:
«La mort est secourable et la mort est tranquille
«Ah! contre les douleurs il n'y a pas d'autre asile».
[Смерть спасительна и смерть спокойна;
О! против страданий нет другого убежища.]
Жюли сказала, что это прелестно.
– II y a quelque chose de si ravissant dans le sourire de la melancolie, [Есть что то бесконечно обворожительное в улыбке меланхолии,] – сказала она Борису слово в слово выписанное это место из книги.