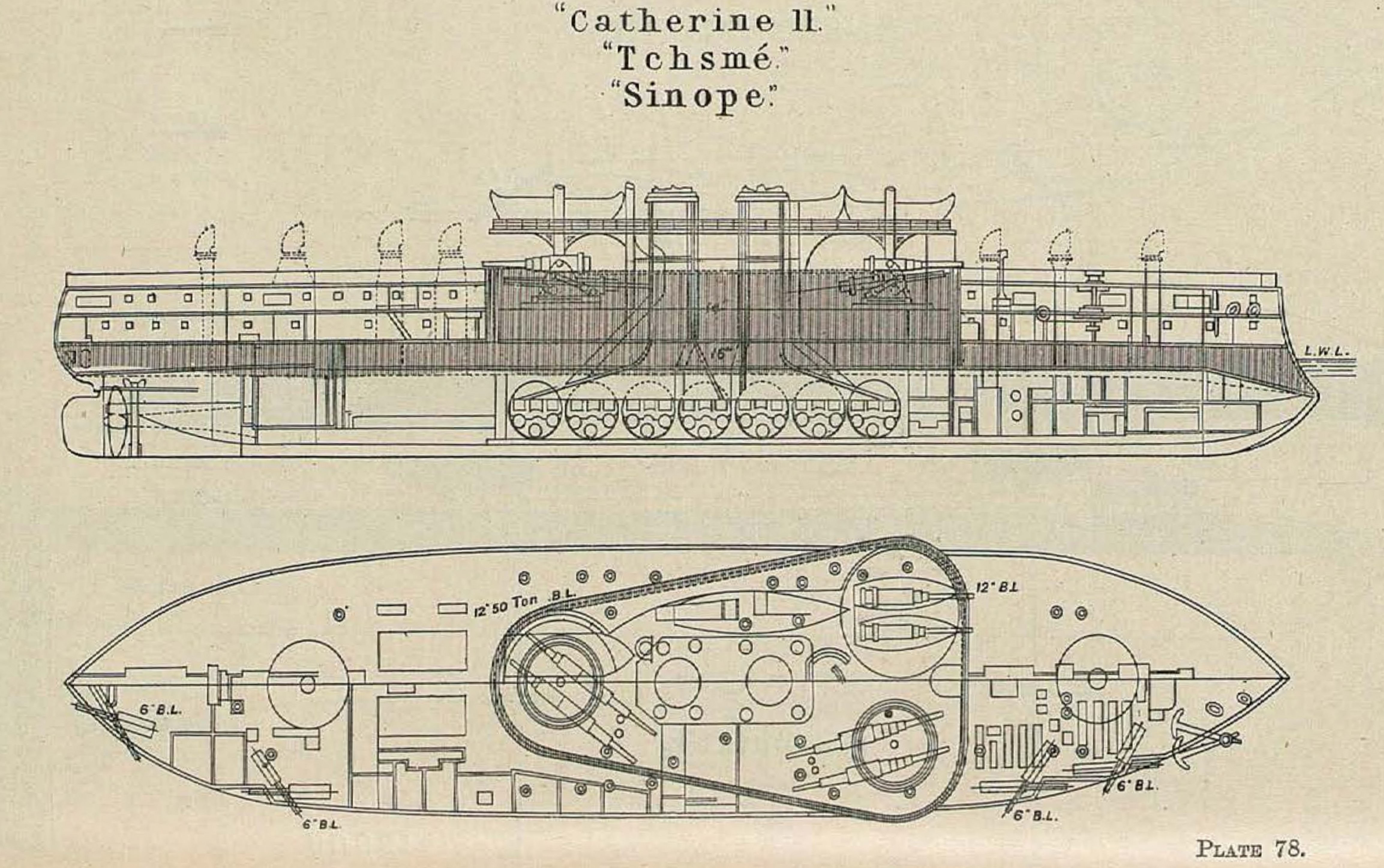Броненосец
<imagemap>: неверное или отсутствующее изображение |
В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена.
Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта отметка установлена 13 мая 2011 года. |
| Эта статья должна быть полностью переписана. На странице обсуждения могут быть пояснения.
|
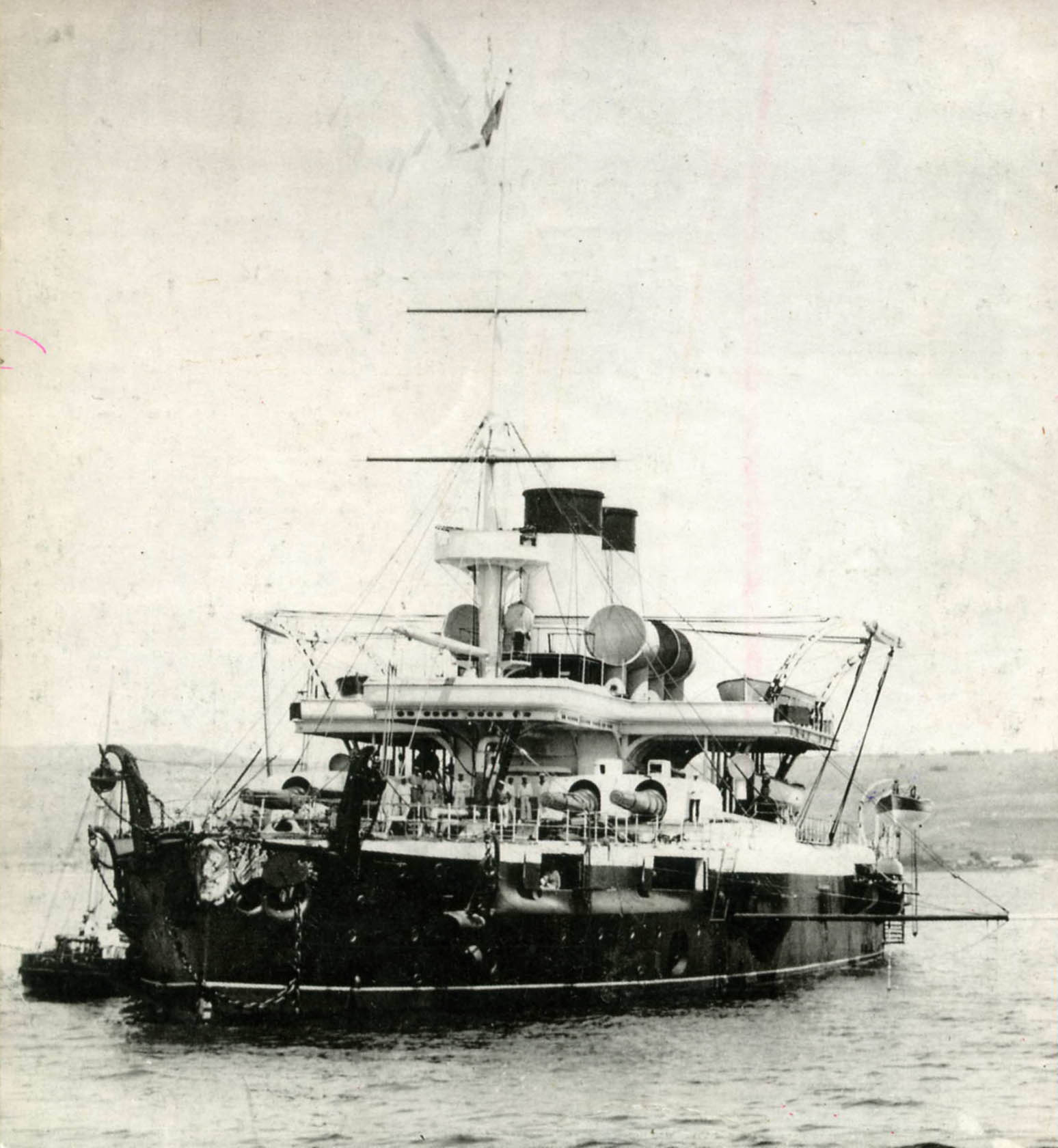
Бронено́сец — броненосный артиллерийский корабль, предназначенный для уничтожения кораблей всех типов и установления господства на море.
Ранее назывались — Панцирное судно, Панцирный корабль.
Броненосцы появились в 60-х годах XIX века в результате единовременного внедрения на боевых кораблях сразу нескольких достижений промышленной революции — достаточно мощной и компактной паросиловой установки, железной противоснарядной брони и тяжёлой артиллерии, способной с ней бороться.
Своим появлением в 1860-х годах броненосцы уничтожили значение парусных и парусно-паровых линейных кораблей и фрегатов как основной ударной силы военных флотов, и сами утратили значение основной ударной силы флота после появления дредноутов в 1906, но использовались и в Первой, и во Второй мировых войнах, а в составе флотов были после Второй мировой войны.
См. также: монитор, броненосец береговой обороны, карманный линкор.
Содержание
- 1 Появление броненосцев
- 2 Эволюция броненосцев
- 3 Эскадренные броненосцы
- 4 Историческое значение
- 5 Основные события
- 6 См. также
- 7 Примечания
- 8 Комментарии
- 9 Литература
Появление броненосцев
Закат парусных линейных кораблей
 К середине XIX века парусные линейные корабли стали постепенно сдавать свои позиции в качестве основной боевой силы флотов, к чему привели два независимых друг от друга процесса (в равной степени завязанных на общий технический прогресс) — совершенствование корабельной артиллерии и внедрение на флоте парового двигателя.
К середине XIX века парусные линейные корабли стали постепенно сдавать свои позиции в качестве основной боевой силы флотов, к чему привели два независимых друг от друга процесса (в равной степени завязанных на общий технический прогресс) — совершенствование корабельной артиллерии и внедрение на флоте парового двигателя.
Во второй четверти XIX столетия паровая машина прочно прописалась на флоте, однако большие размеры и очень высокий расход топлива, необходимость размещения уязвимых гребных колёс по бортам и невысокая надёжность заставляли смотреть на неё как на полезную, но не обязательную новинку, расширявшую возможности флота, а не открывавшую для него принципиально новые перспективы развития. Поэтому из боевых кораблей паровыми машинами оснащались только сравнительно слабые в боевом отношении пароходофрегаты, появившиеся в первой половине XIX века. Они имели одну батарейную палубу, разделённую на две части кожухами колёс, паровой двигатель и трёхмачтовое парусное вооружение, бывшее их основным движителем во время длительных плаваний.
Между тем, появление и распространение в 1840-х годах винтового движителя, а также надёжных и относительно мощных паровых машин привело к тому, что парусные линкоры оказались в чрезвычайно уязвимом положении: независящий от ветра паровой корабль, даже более низкого класса, мог с легкостью держаться с носа или кормы парусного оппонента, обратив всю мощь своей бортовой батареи против немногочисленных погонных или ретирадных орудий парусника. Пароходы также значительно лучше маневрировали в условиях ограниченной акватории и могли, почти не теряя скорости, идти против ветра, что для парусника было нереально.
В 1822 году французским артиллеристом Пексаном был предложен новый тип артиллерийского орудия — бомбическое, крупнокалиберная пушка с относительно коротким стволом, способная стрелять разрывными снарядами (бомбами) по настильной траектории. Орудие Пексана стреляло тяжелыми бомбами, способными проломить обшивку и взорваться внутри деревянных конструкций корабля, что позволяло на дистанции 1000—1500 м потопить вражеский корабль всего 20-25 удачными попаданиями. Для сравнения, при стрельбе ядрами поражались в основном рангоут и экипаж, так что для вывода из строя крупного корабля требовалось огромное количество — сотни и даже тысячи — попаданий, чего обычно удавалось достичь, лишь сконцентрировав против одной цели огонь нескольких равных ей кораблей. В результате морские сражения носили затяжной и зачастую нерешительный характер.
Широкое распространение артиллерийских бомб изменило эту ситуацию самым радикальным образом, благодаря чему новое оружие быстро приобрело такую репутацию, что даже современные историки зачастую оказываются в плену явно завышенных представлений о его боевых возможностях. На деле, крупные деревянные корабли зачастую вполне успешно переживали обстрел из бомбических орудий — например, в битве при Лиссе австрийский деревянный линейный корабль Kaiser выдержал весьма интенсивный обстрел бомбами с предельно малого расстояния, при этом не только не был потоплен, но, хотя и понёс огромные потери в экипаже и полностью лишился рангоута, после боя своим ходом дошёл до места базирования (и впоследствии был перестроен в панцирный броненосец).
Между тем, состоявшееся в 1830-х годах повсеместное принятие орудий Пексана стало одной из причин схода со сцены больших линейных кораблей: так как из-за значительного веса считавшихся теперь наиболее мощным оружием тяжелых бомбических пушек их можно было безопасно устанавливать только на нижней орудийной палубе линкора, реальная разница в огневой мощи между многопалубным линейным кораблем и фрегатом с единственной батарейной палубой практически стерлась. В плане живучести линкор и фрегат были в равной степени уязвимы для бомб, при этом фрегат мог за счет лучших обводов развивать большую скорость и стоил существенно дешевле, высокий корпус же линейного корабля был очень удобной мишенью для комендоров противника.
 Впоследствии вместо специализированных чисто бомбовых пушек (shell guns), имевших плохую баллистику, появились универсальные крупнокалиберные орудия, вроде английского 68-фунтового системы Дандаса (1846 год) или американских систем Дальгрена и Родмана — ещё более крупные и тяжёлые, способные стрелять как тяжёлыми ядрами (что вскоре пригодилось против броненосцев), так и более лёгкими, но имеющими мощный разрывной заряд бомбами и сочетавшие крупный калибр с высокой начальной скоростью и настильностью траектории. Даже крупные корабли могли нести лишь небольшое количество таких орудий, но по своей разрушительной силе они на порядок превосходили старые пушки эпохи паруса.
Впоследствии вместо специализированных чисто бомбовых пушек (shell guns), имевших плохую баллистику, появились универсальные крупнокалиберные орудия, вроде английского 68-фунтового системы Дандаса (1846 год) или американских систем Дальгрена и Родмана — ещё более крупные и тяжёлые, способные стрелять как тяжёлыми ядрами (что вскоре пригодилось против броненосцев), так и более лёгкими, но имеющими мощный разрывной заряд бомбами и сочетавшие крупный калибр с высокой начальной скоростью и настильностью траектории. Даже крупные корабли могли нести лишь небольшое количество таких орудий, но по своей разрушительной силе они на порядок превосходили старые пушки эпохи паруса.
Наступила эпоха огромных (порядка 5000 тонн) фрегатов с тяжёлой артиллерией, по суммарной массе бортового залпа превосходящих линейный корабль. Первыми большие и сильные фрегаты начали строить американцы (1855—1857 годы, тип Colorado по 4500 тонн и последовавший за ними ещё более крупный Niagara в 5500 тонн), но наиболее крупными по размерам были британские типа Mersey — Orlando (1858 год, 5600 тонн). Сюда же относились и крупные, тяжеловооружённые фрегаты русского флота, вроде «Генерал-адмирала» (1858 год, 5700 тонн) и «Александра Невского» (1861 год, 4500 тонн). Все они уже имели паровые машины и винтовой движитель.
Чтобы обеспечить хороший ход под парами и разместить на единственной орудийной палубе батарею из большого числа мощных орудий, их длину довели до предельной — в случае «англичан» даже запредельной — для деревянного корпуса. Эти корабли были настоящими шедеврами техники своего времени, «лебединой песней» уходящего в прошлое деревянного кораблестроения. Считалось, что в бою «суперфрегаты» будут держаться от противника на наибольшей возможной дистанции, что должно было снизить их уязвимость за счёт меньшего числа попаданий — при этом их дальнобойная и точная артиллерия позволяла на этой дистанции «достать» хуже вооружённого противника, а высокая скорость — диктовать дистанцию боя и держать цель на выгодных курсовых углах.
В то же самое время сильнейшие морские державы — Британия, Франция и в меньшей степени Россия — все ещё продолжали по инерции строительство крупных винтовых линейных кораблей и снабжение паровыми машинами уцелевших парусных, однако боевая ценность их была сравнительно невысока.
Первые опыты с бронёй
Крымская война позволила окончательно подтвердить уже сделанные к тому времени выводы: во-первых, критическую уязвимость деревянных кораблей для бомбических орудий, во-вторых — абсолютную необходимость иметь на полноценном боевом корабле паровой двигатель. И если с уязвимостью деревянного корпуса для бомб ещё как-то можно было смириться, надеясь на то, что более тяжёлые и дальнобойные орудия, хороший ход и выучка экипажа позволят «переиграть» противника и оправить его на дно раньше, чем тот успеет нанести серьёзные повреждения в ответ — то наличие на корабле паровой машины делало его крайне уязвимым: единственное удачное попадание обычного ядра, выпущенного из современного тяжёлого орудия, в котельное или машинное отделение было способно вывести его из строя на весь оставшийся бой.
Выходом из сложившегося положения была предложенная ещё задолго до того (в том числе и самим Пексаном) защита корабля броней из железных плит, причём при её выработке ориентировались не на защиту исключительно от бомб (для чего было бы достаточно сравнительно тонких железных листов), а именно на прикрытие котлов, машин и, в меньшей степени, артиллерии от обычных ядер. Однако внедрение этого новшества задержалось невысоким уровнем металлургической промышленности. Лишь англичане в начале 1840-х годов опробовали тонкую броню — было обстреляно судно «Самум», имевшие 12,8-мм железные борта — однако тут же забраковали идею: тонкие листы железа, легко раскалывая артиллерийские бомбы, совершенно не защищали от тяжёлых ядер, давая множество опасных осколков с острыми зазубренными краями. В результате был сделан неверный вывод о превосходстве дерева как материала для корпуса боевых кораблей. Такой же вывод был сделан и относительно толстой железной брони по результатам обстрела 150-мм многослойной плиты из тонких (10-12 мм) листов: хотя 50-фунтовое ядро застревало в ней без сквозного пробития, бомбы того же калибра своими взрывами легко разрушали пакет, при этом осколки железа летели во внутренние помещения.
 Между тем, уже в 1855 году — во время Крымской войны — французы применили в бою «плавучие батареи» Lave (Лав), Devastation (Девастасьон) и Tonnante (Тоннант) — небольшие (1625 тонн) и тихоходные (5-6 узлов), но бронированные (4-дюймовые сплошные кованые железные плиты на толстой деревянной подложке) пароходы, на которых были установлено небольшое число крупнокалиберных орудий, стрелявших разрывными снарядами. Они с успехом бомбардировали крымское побережье и принудили к сдаче укрепление Кинбурн в устье Днепра. В то же самое время Россия строила для защиты Кронштадта бронированные несамоходные суда — батарейные плоты, на каждом из которых размещалось по четыре 196-мм пушки, прикрытых коваными железными плитами толщиной 120 мм.[1]
Между тем, уже в 1855 году — во время Крымской войны — французы применили в бою «плавучие батареи» Lave (Лав), Devastation (Девастасьон) и Tonnante (Тоннант) — небольшие (1625 тонн) и тихоходные (5-6 узлов), но бронированные (4-дюймовые сплошные кованые железные плиты на толстой деревянной подложке) пароходы, на которых были установлено небольшое число крупнокалиберных орудий, стрелявших разрывными снарядами. Они с успехом бомбардировали крымское побережье и принудили к сдаче укрепление Кинбурн в устье Днепра. В то же самое время Россия строила для защиты Кронштадта бронированные несамоходные суда — батарейные плоты, на каждом из которых размещалось по четыре 196-мм пушки, прикрытых коваными железными плитами толщиной 120 мм.[1]
Успех эксперимента с плавучими батареями — особенно на фоне тех тяжелых повреждений, которые до этого получали в аналогичных атаках деревянные линкоры — привели к тому, что Франция в 1857 году полностью прекратила постройку деревянных линейных кораблей, сосредоточившись на создании защищенных броней фрегатов, которые объединили бы все появившиеся к тому времени новинки — тяжёлую артиллерию, мощный и надёжный паровой двигатель и противоснарядную броню. Несколько позднее к аналогичному решению пришли и англичане. Оставшиеся в составе флотов винтовые деревянные линкоры, многие из которых были новейшей постройки, либо переделывались в так называемые «панцирные» броненосцы, для чего с них срезались верхние палубы, а корпус обшивался железными плитами, либо выводились из состава флота и служили в качестве плавучих складов, казарм или учебных кораблей. Последние деревянные винтовые линкоры были выведены из состава британского флота в начале 1870-х.
Броненосцы выходят в открытое море

 Первым броненосным паровым кораблём нового типа, пригодным для плавания в открытом море, был французский панцирный батарейный броненосец La Gloire («Глуар» — «Слава»), спущенный на воду в 1859 году; у него киль и шпангоуты были металлическими, а обшивка — деревянной. Борта корабля имели броневой пояс толщиной 110—119 мм, от верхней кромки до 1,8 м ниже ватерлинии. В 1860 году в Англии на воду был спущен первый цельнометаллический броненосец Warrior («Уорриор» — «Воин»). Именно эти корабли положили начало новому классу кораблей — броненосцам.
К 1862 году французский флот уже имел шесть мореходных броненосцев (из них с железным корпусом только один) и около десятка броненосных плавучих батарей; англичане имели четыре мореходных броненосца (все железные) и восемь плавучих батарей.
Первым броненосным паровым кораблём нового типа, пригодным для плавания в открытом море, был французский панцирный батарейный броненосец La Gloire («Глуар» — «Слава»), спущенный на воду в 1859 году; у него киль и шпангоуты были металлическими, а обшивка — деревянной. Борта корабля имели броневой пояс толщиной 110—119 мм, от верхней кромки до 1,8 м ниже ватерлинии. В 1860 году в Англии на воду был спущен первый цельнометаллический броненосец Warrior («Уорриор» — «Воин»). Именно эти корабли положили начало новому классу кораблей — броненосцам.
К 1862 году французский флот уже имел шесть мореходных броненосцев (из них с железным корпусом только один) и около десятка броненосных плавучих батарей; англичане имели четыре мореходных броненосца (все железные) и восемь плавучих батарей.
В России первыми броненосными кораблями были введённая в строй в 1862 году канонерская лодка «Опыт», построенная на отечественных верфях, и заказанная в Англии плавучая батарея «Первенец», поднявшая флаг в 1863 году.
Первое боевое столкновение между бронированными паровыми кораблями произошло во время гражданской войны в США на Хэмптонском рейде 9 марта 1862 года, между броненосцами USS «Монитор» и «Вирджиния» (перестроенный фрегат «Мерримак») и формально окончилось ничьей. В дальнейшем в ходе Гражданской Войны имел место ещё ряд столкновений между броненосными кораблями северян и южан. В целом, Гражданская война дала сравнительно мало материала, полезного для дальнейшего развития броненосного судостроения, так как использовавшиеся обеими сторонами корабли были в основной массе немореходны, но зато в немалой степени способствовала популяризации «брони и тарана».
Первым полномасштабным сражением броненосных флотов была битва при Лиссе у острова Лисса 16 июля 1866 (ныне о. Вис, Хорватия) в ходе Австро-Итальянской войны 1866—1867. Несмотря на значительное техническое и численное преимущество итальянцев, имевших вдвое больше кораблей и современную нарезную артиллерию, бой закончился тактической победой австрийцев, широко применявших таранную тактику.
К середине 1868 года в строю или достройке находилось уже 29 британских и 26 французских броненосцев, правда, британские принадлежали к 21 различному типу, а французские — только к восьми. Крупным броненосным флотом обладали и США, но представлен он был ограниченно мореходными кораблями, годными в основном для береговой обороны. На четвёртом месте находилась (несмотря на поражение при Лиссе) Италия, с её многочисленным флотом, пятое место с переменным успехом делили Россия, Турция и Испания (причем последние две в основном за счет покупки броненосцев за границей). Постепенно подключались к гонке броненосного кораблестроения и прочие морские державы, в том числе и Россия, строившая массовые серии мониторов и приступающая к строительству мореходных башенных броненосных фрегатов.
Тип большого безбронного фрегата после появления броненосцев также не остался «не у дел» — некоторое время эти корабли, но уже с металлическими или композитными корпусами (такие, как английские «Шах» и «Инконстант» по 6200 тонн) считались идеальными для крейсерской службы в океане. Ошибочность подобного мнения выявилась лишь после битвы в бухте Пакоча во второй половине 1870-х, что положило начало эволюции нового типа в какой-то мере защищённого бронёй корабля — бронепалубного крейсера.
Эволюция броненосцев
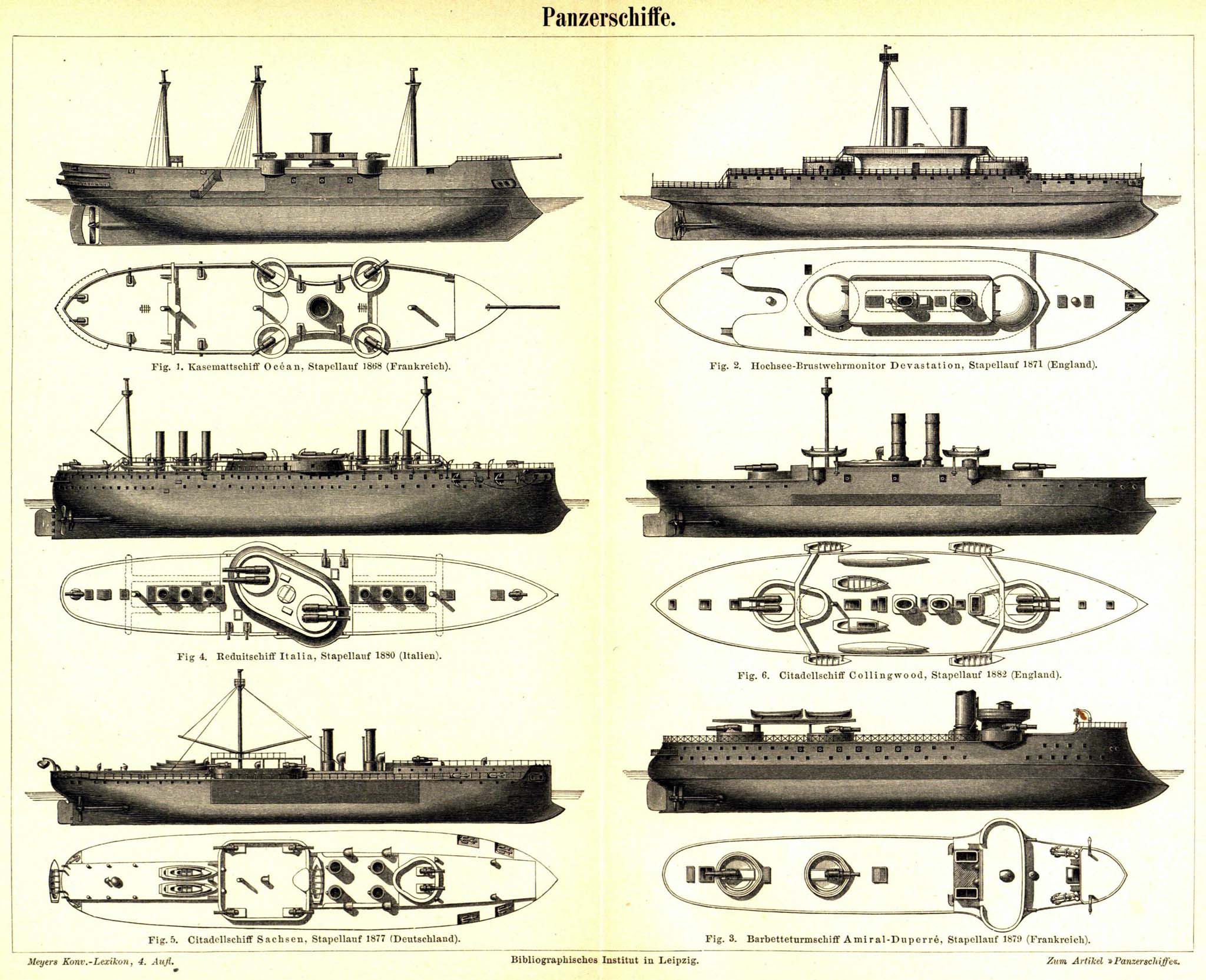 Период от появления первых броненосцев в 1860 году до установления их окончательного облика в последнем десятилетии XIX века был ознаменован постоянным активным поиском идеального типа, породившим множество самых разнообразных конструкций.
Период от появления первых броненосцев в 1860 году до установления их окончательного облика в последнем десятилетии XIX века был ознаменован постоянным активным поиском идеального типа, породившим множество самых разнообразных конструкций.
Корпуса: дерево, железо, сталь
Иногда указывается, что снабжение броневым поясом деревянных кораблей, которое породило тип панцирных броненосцев, наподобие «Глуара», считалось только временной мерой. В качестве доказательств приводится то, что они обладали всеми недостатками деревянных кораблей — невозможность организации водонепроницаемых переборок и пожароопасность, к чему добавляют так называемую проблему совместимости материалов — дерево нуждалось в долгой подготовке, вымачивании и сушке, иначе оно гнило вблизи железа, а железо ржавело вблизи гниющего дерева.
Этому противоречит тот факт, что броненосцы с деревянными корпусами строили весьма долго, далеко за пределами эпохи первых экспериментов с бронёй — все 1860-е и значительную часть 1870-х годов. В особенности дерево считалось пригодным для океанских броненосцев, рассчитанных на длительные переходы. Дело в том, что железный корпус в открытом море очень быстро покрывался обрастаниями (прежний метод борьбы с обрастанием в виде обшивки днища медными листами был неприменим), что существенно снижало ходовые качества корабля. Доходило до того, что днища железных корпусов для защиты от обрастания поверх обшивали деревом, а затем ещё и медью, или строили суда с железным набором и деревянной обшивкой. Лишь внедрение во второй половине 1870-х годов стали, преимущества которой как перед деревом, так и перед железом были совершенно очевидны, привело к окончательному переходу на металлические корпуса для броненосных кораблей. Например, из массовых серий французских броненосцев 70-х годов XIX века корабли типа Océan (1870), Richelieu (1876) и Colbert (1878) имели деревянные корпуса, в то время, как тип Friedland (1877) — железный, а Redoutable (1876) — стальной.
Таким образом, все три материала использовались параллельно вплоть до конца 1870-х годов. Железо и дерево были в какой-то степени взаимозаменяемыми материалами, так как набор железных судов тех лет во многом повторял деревянный по конструкции. Иногда по одному и тому же проекту строили один корабль с деревянным корпусом, а другой — с железным, лишь внося в него необходимые изменения с учётом используемого материала. Существовало также множество вариантов композитной конструкции корпуса, частично из железных — частично из деревянных элементов. По сути, практически все деревянные броненосцы (и, в целом, практически все деревянные корабли середины и второй половины XIX века) были скорее композитными, так как их набор имел множество железных распорок, раскосов (ридерсов) и усилителей. Для защиты от возгорания надводный борт обычно обшивался тонким листовым железом. Таким же образом решалась и проблема разделения деревянного корпуса на водонепроницаемые отсеки — переборки просто выполняли из железа, со всеми необходимыми герметичными дверьми и уплотнениями вокруг внутрисудовых коммуникаций (впрочем, можно отметить, что водонепроницаемые переборки имелись ещё в деревянных корпусах джонок).
Многие из деревянных бронированных кораблей прослужили весьма долго, до конца XIX — начала XX века. Очень долго служили и австрийские панцирные броненосцы с их крепкими дубовыми корпусами: так, построенный в 1866 году броненосный фрегат S.M.S. Erzherzog Ferdinand Max, прославившийся при Лиссе, находился на активной службе до 1886, затем использовался в качестве тендера до 1889, когда он был превращён в блокшив, пока наконец не был разобран в 1917. То есть, в сумме этот корабль прослужил в первой линии 20 лет и просуществовал 51 год, пережив Первую мировую войну. Срок службы деревянного корпуса в решающей степени зависел от использованного при строительстве материала и условий эксплуатации, включая регулярное обслуживание. Например, корпуса из хвойных пород — лиственницы, сосны, ели — приходили в негодность за 10-15 лет, в то время, как крепкие дубовые и построенные из тропических пород дерева регулярно служили лет по 20-30. Соответствующей, однако, была и разница в цене, а учитывая, что редкий корабль в те годы оставался в первой линии дольше 10 лет из-за быстрого морального устаревания, выбор зачастую делался в пользу дешевизны, а не качества.
Кроме того, даже на железных и стальных броненосцах броня очень долгое время устанавливалась не иначе, как через толстую подкладку из древесины, которая амортизировала удары снарядов о броню, предохраняла железный корпус от расшатывания, и в целом увеличивала срок службы корабля. Причём слой дерева был в несколько раз толще, чем сама броня. Например, на российских башенных броненосных фрегатах «Адмирал Лазарев» и «Адмирал Грейг» многослойная броня состояла из прилегавших непосредственно к металлической обшивке борта горизонтальных 229-мм тиковых брусьев, положенных на них 25,4-мм железных листов вспомогательной брони, вертикальных 203-мм тиковых брусьев, между которыми устанавливались железные угольники той же высоты, и, наконец, 114-мм наружных броневых плит. Железные угольники под плиты должны были предотвращать разрыв наружных плит брони из-за прогиба от удара снаряда, тиковая прокладка — амортизировать сам удар, предотвращая разрыв заклёпок, соединяющих листы обшивки и набор корпуса. Вспомогательная внутренняя броня должна была защищать от снарядов, пробивших внешнюю. Для защиты дерева подкладки использовался сначала сурик, а затем — специальный «клей Хейса», считавшийся абсолютно надёжным средством предотвращения гнили.
Силовые установки
Эпоха броненосцев пришлась на период быстрого развития паровых двигателей, в котором потребности военного флота во многом играли роль катализатора.
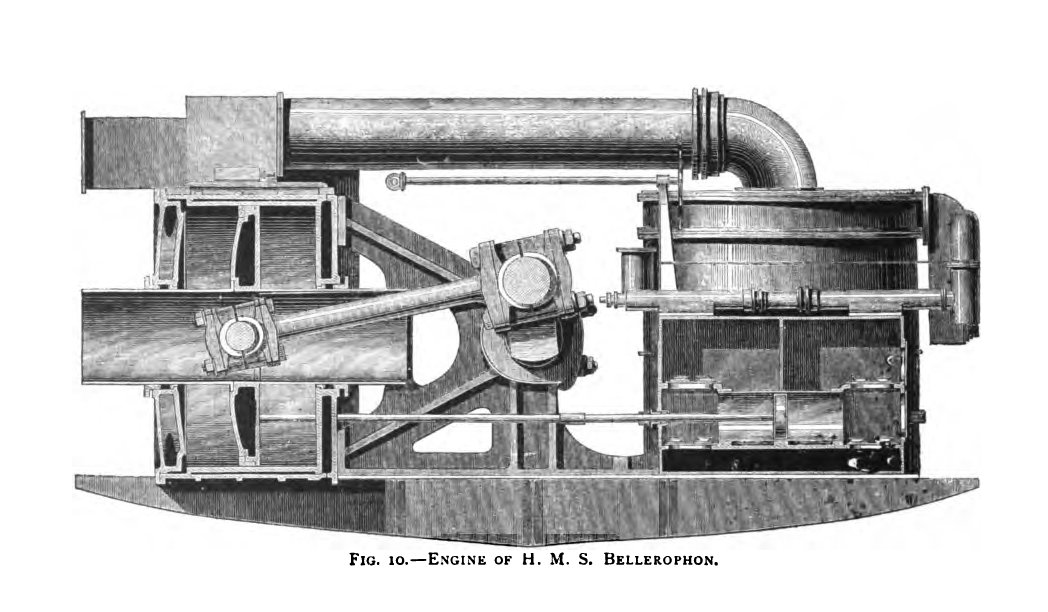 Первые броненосцы снабжались весьма примитивными паровыми машинами однократного расширения, по своей конструктивной схеме по сути напрямую восходящими к двигателю Уатта. Паром их снабжали также исключительно примитивные прямоугольные огнетрубные котлы, представлявшие собой по сути наполненный водой железный короб, внутрь которого была вставлена топка и через который были пропущены идущие от неё к дымоходу дымогарные трубы. Давление пара в таких котлах не превышало 1,4 — 1,5 атм, а опасность самопроизвольного взрыва была вполне реальной — не говоря уже о последствиях попадания снаряда. В 1860-х годах стали появляться струйные конденсаторы пара, в которых отработавший в цилиндрах пар смешивался с холодной забортной водой, несколько снизившие расход воды, до этого бывший катастрофически большим.
Первые броненосцы снабжались весьма примитивными паровыми машинами однократного расширения, по своей конструктивной схеме по сути напрямую восходящими к двигателю Уатта. Паром их снабжали также исключительно примитивные прямоугольные огнетрубные котлы, представлявшие собой по сути наполненный водой железный короб, внутрь которого была вставлена топка и через который были пропущены идущие от неё к дымоходу дымогарные трубы. Давление пара в таких котлах не превышало 1,4 — 1,5 атм, а опасность самопроизвольного взрыва была вполне реальной — не говоря уже о последствиях попадания снаряда. В 1860-х годах стали появляться струйные конденсаторы пара, в которых отработавший в цилиндрах пар смешивался с холодной забортной водой, несколько снизившие расход воды, до этого бывший катастрофически большим.
К середине 1870-х годов на военных кораблях стали применяться цилиндрические огнетрубные котлы, в сочетании с применением поверхностных конденсаторов позволившие довести давление до 4 — 4,5 атм. К этому времени стали использоваться и более эффективные паровые машины типа «компаунд», в которых отработанный пар из цилиндра высокого давления поступал в один или несколько цилиндров низкого давления, имеющих больший диаметр для компенсации меньшего давления пара — первым броненосцем с ними стал HMS Alexandra, спущенный в 1875 году. Их внедрение позволило снизить расход угля и существенно повысить удельную (на тонну веса) мощность механизмов. Стали применяться вентилятор для создания форсированной тяги в топках за счёт повышения давления в кочегарках.
На протяжении 1880-х годов на смену сложным, громоздким и малоэффективным горизонтальным машинам пришли вертикальные.
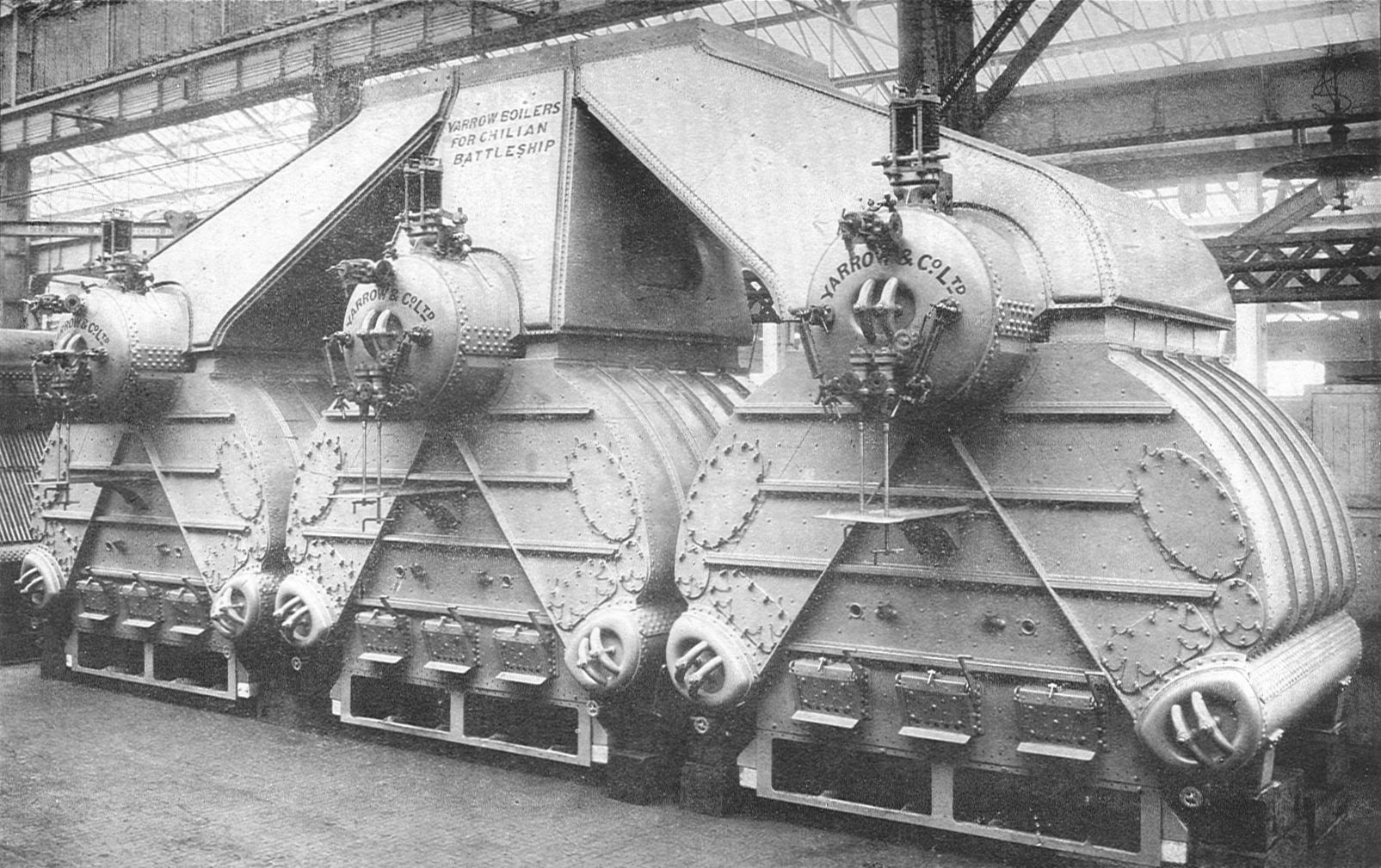 К 1890-м года на военных кораблях стали получать распространение более безопасные в обращении и позволяющие намного быстрее разводить пары водотрубные котлы, в которых вода циркулировала по расположенным внутри топки кипятильным трубкам, благодаря чему давление пара было доведено до 10 атм и более, а опасность взрыва резко снизилась (обычно разрывались лишь отдельные трубки, что не приводило к катастрофическим последствиям). Впервые они были применены на французском «Бренню», спущенном в 1891 году. Водотрубные котлы потребовали введения опреснителей, так как их питание не могло осуществляться забортной водой.
К 1890-м года на военных кораблях стали получать распространение более безопасные в обращении и позволяющие намного быстрее разводить пары водотрубные котлы, в которых вода циркулировала по расположенным внутри топки кипятильным трубкам, благодаря чему давление пара было доведено до 10 атм и более, а опасность взрыва резко снизилась (обычно разрывались лишь отдельные трубки, что не приводило к катастрофическим последствиям). Впервые они были применены на французском «Бренню», спущенном в 1891 году. Водотрубные котлы потребовали введения опреснителей, так как их питание не могло осуществляться забортной водой.
В результате этих мер за 30 лет с 1865 по 1895 год мощность силовой установки броненосцев возросла в 4…5 раз, а скорость хода — с 11…13 до 17…18 узлов.
Совершенствовались и вспомогательные механизмы, что выразилось главным образом во всё более широком применении сервоприводов (паровые рулевые машины — с 1866 года, гидропривод наведения орудия — в 1870-х) и электротехники (паровая динамо-машина — в середине 1870-х, электропривод наведения орудия — в 1890-х).
Совершенствование главных механизмов и расширение ассортимента вспомогательного оборудования постепенно качественно меняли броненосные корабли, готовя почву для качественного скачка в их боевой эффективности, произошедшего в самом начале XX века.
Броня: материалы и схемы распределения
Уже с самого появления брони на кораблях наметились две противоположные схемы бронезащиты.
Создатели плавучих батарей, мониторов и прочих кораблей, предназначенных для обороны своего побережья и атаки неприятельского старались как можно более полно защитить бронёй свои детища, прикрыв ей весь борт, а также верхнюю палубу и даже надстройки. Именно таковы были встретившиеся друг с другом в бою на Хемптонском рейде «Монитор» и «Вирджиния», полностью закованные в довольно толстую по тем временам броню. Так, «Монитор» имел бортовой пояс толщиной от 3 до 5", а его башня и боевая рубка были защищены бронёй толщиной до 8-9", в то время абсолютно неуязвимой. Палуба также была прикрыта дюймовыми бронеплитами, вполне эффективными при возможных для артиллерии того времени углах падения в пределах порядка 25°. При этом у «Монитора» полностью отсутствовали какие либо помещения для экипажа, расположенные выше ватерлинии — морякам приходилось располагаться в трюме, в тесноте, духоте и темноте. Идеальные для боя, неуязвимый «Монитор» и его многочисленное потомство оказались ужасными кораблями с точки зрения службы мирного времени. Кроме того, органическим недостатков мониторов была очень плохая мореходность — прямое следствие исключительно малой высоты полностью закрытого тяжёлой бронёй надводного борта, при ограниченном водоизмещении. По сути они оказались предшественниками броненосцев береговой обороны, так как все попытки строительства океанских мониторов оканчивались неудачей.
При создании же первых мореходных броненосных кораблей быстро выяснилось, что полностью защитить их корпус бронёй адекватной толщины невозможно. Для мореходного броненосца оказалось необходимо иметь высокий борт, пусть даже и не полностью защищённый бронёй, а также обширные небронированные корпусные и палубные надстройки для размещения экипажа и других целей. В результате эволюция броненосных кораблей пошла по другому пути — вместо целиком закованных в броню мониторов стали строить корабли, имеющие сравнительно узкий броневой пояс по ватерлинии, компактное броневое прикрытие артиллерии и большой запас плавучести, за счёт чего они не тонули даже при принятии на борт большого количества воды через пробоины. Если борт первого французского броненосца — «Глуара» — был прикрыт бронёй умеренной 4-дюймовой толщины от штевня до штевня, то уже у последовавших за ним «Мадженты» и «Сольферино» полным был лишь 4,5-дюймовый нижний броневой пояс, идущий вдоль ватерлинии, защищающий же батарею чуть более тонкий верхний пояс оставлял не имеющие особого значения для боевой живучести корабля оконечности деревянного корпуса совершенно открытыми. Англичане с самого начала строили свои корабли по этой схеме — у «Уориорра» борт был прикрыт бронёй лишь на 67 из 127 метров общей длины, причём незащищённой оставалась даже часть батареи, вместе с рулевым устройством. Зато этот корабль обладал идеальной мореходностью и отличным для своего времени 14-узловым ходом (правда, ценой плохой маневренности).
И в том, и в другом случае броня была железной, причём американцы изначально предпочитали многослойные пакеты из сравнительно тонких листов, на Континенте же с самого начала использовались толстые монолитные плиты. На «Уорриоре» их пытались снабжать входящими друг в друга пазами и гребнями, повышавшими стойкость бронирования, однако ввиду огромной стоимости и невозможности быстрой замены отдельной повреждённой плиты от этого решения очень быстро отказались. В любом случае, как уже указывалось, броня устанавливалась на толстую (в несколько раз толще её самой) подкладку из твёрдого дерева, предохраняющую корпус от губительных сотрясений, возникающих при попадании снаряда.
 Впоследствии эти схемы трансформировались в две концепции бронезащиты — «французскую», при которой основное внимание уделялось узкой полосе брони, прикрывающей ватерлинию по всей длине корабля, и «английскую», при которой как можно более толстой бронёй старались прикрыть только жизненно важные части корабля, а остальной борт, включая оконечности, оставался открытым. Последняя схема получила широкое распространение, в том числе — и в русском флоте вплоть до самого конца XIX века, поэтому рассмотрение её характерных особенностей и хода эволюции представляет особый интерес, и на ней мы мы остановимся подробнее.
Впоследствии эти схемы трансформировались в две концепции бронезащиты — «французскую», при которой основное внимание уделялось узкой полосе брони, прикрывающей ватерлинию по всей длине корабля, и «английскую», при которой как можно более толстой бронёй старались прикрыть только жизненно важные части корабля, а остальной борт, включая оконечности, оставался открытым. Последняя схема получила широкое распространение, в том числе — и в русском флоте вплоть до самого конца XIX века, поэтому рассмотрение её характерных особенностей и хода эволюции представляет особый интерес, и на ней мы мы остановимся подробнее.
После признанного недостаточно защищённым «Уориорра» на какое-то время в английском флоте утвердилась схема защиты, аналогичная первым французским броненосцам: ватерлиния прикрывалась полным, идущим от штевня до штевня и в носу переходящим в подкрепления тарана, поясом толстой брони, надёжно обеспечивающим плавучесть корабля, расположенную выше батарею же защищал короткий второй пояс, который на казематных кораблях (см. ниже) часто прикрывал лишь менее половины от общей длины борта.
Между тем, уже к концу 1860-х годов эту схему ожидал кризис: мощность артиллерии быстро росла, и для того, чтобы противостоять её снарядам, толщину брони приходилось постоянно наращивать, что, в свою очередь, вынуждало уменьшать площадь бронезащиты.
 Первым решением проблемы стал предложенный главным конструкторов флота Э. Ридом брустверный броненосец, или так называемый «брустверный монитор» — тип броненосца, у которого над низким, полностью бронированным бортом был надстроен бронированный бруствер длиной примерно в половину длины корабля, в пределах которого размещались механизмы башенных артиллерийских установок, рубка, люки, трубы и прочие важные части корабля, что существенно повышало мореходность при сохранении основных преимуществ монитора. В изначальном проекте корабль был полностью бронирован выше ватерлинии, по образцу своих предшественников — брустверных мониторов типа «Цербер», однако в итоговом варианте бруствер оказался окружён лёгкой надстройкой, служащей для помещения экипажа и образующей в носовой части невысокий полубак. Брустверные корабли могли сравнительно безопасно совершать морские плавания, тем не менее, сильно заливались водой и теряли ход при курсе против волны из-за возрастания сопротивления, что делало их применение оправданным в основном во внутренних морях — Средиземном, Балтийском и так далее. Яркие представители этого типа — появившиеся практически одновременно английский «Девастейшн» 1873 и русский «Пётр Великий» 1872.
Первым решением проблемы стал предложенный главным конструкторов флота Э. Ридом брустверный броненосец, или так называемый «брустверный монитор» — тип броненосца, у которого над низким, полностью бронированным бортом был надстроен бронированный бруствер длиной примерно в половину длины корабля, в пределах которого размещались механизмы башенных артиллерийских установок, рубка, люки, трубы и прочие важные части корабля, что существенно повышало мореходность при сохранении основных преимуществ монитора. В изначальном проекте корабль был полностью бронирован выше ватерлинии, по образцу своих предшественников — брустверных мониторов типа «Цербер», однако в итоговом варианте бруствер оказался окружён лёгкой надстройкой, служащей для помещения экипажа и образующей в носовой части невысокий полубак. Брустверные корабли могли сравнительно безопасно совершать морские плавания, тем не менее, сильно заливались водой и теряли ход при курсе против волны из-за возрастания сопротивления, что делало их применение оправданным в основном во внутренних морях — Средиземном, Балтийском и так далее. Яркие представители этого типа — появившиеся практически одновременно английский «Девастейшн» 1873 и русский «Пётр Великий» 1872.
Выработанный на «Девастейшене» и аналогичном ему по концепции «Дредноуте» тип корабля были признан удачным, и на какое-то время это решение стало восприниматься в английском флоте в качестве оптимального. Между тем, дальнейший рост мощности артиллерии привёл к тому, что считавшийся в своё время неуязвимым «Девастейшен» уже к концу того же десятилетия по сути оказался лишённым защиты — новые орудия пробивали бы его броню на любой дистанции и в любой проекции. Для защиты от снарядов таких монстров, как выпускавшиеся на экспорт весившие более 100 тонн 17,72" (450 мм) орудия Армстронга, была необходима железная броня толщиной 500—600 и более мм, прикрыть которой весь борт хотя бы по ватерлинии представлялось совершенно невозможным ввиду её огромной массы.
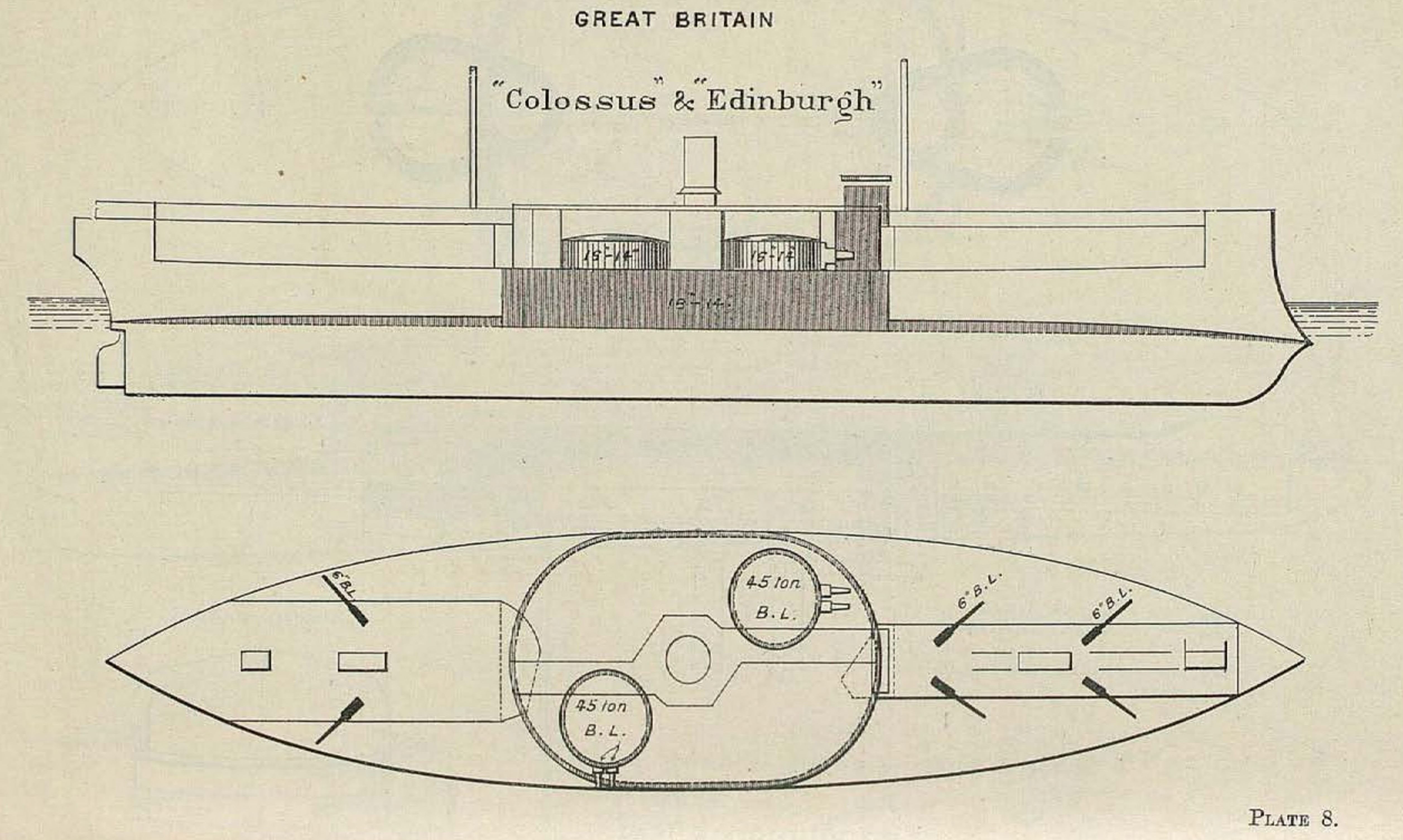 Новым вариантом решения проблемы, предложенным сменившим Рида на его посту Н. Барнаби, был цитадельный броненосец — корабль, у которого вся броня сосредоточена в средней части корпуса, защищая боевую часть (боезапас, артиллерийские механизмы и рубку), над которой устанавливались башни или барбеты с несколькими орудиями очень большого калибра. Бронирование носовой и кормовой частей при этом либо отсутствовало, либо было минимально, обычно ограничиваясь расположенной на уровне ватерлинии горизонтальной броневой палубой со скосами. Первые представители этого типа — английский «Инфлексибл» (англ. inflexible — «Несгибаемый») 1881 года и итальянский «Дуилио» 1880 года, который был заложен раньше, но завершён строительством намного позже своего английского аналога.
Новым вариантом решения проблемы, предложенным сменившим Рида на его посту Н. Барнаби, был цитадельный броненосец — корабль, у которого вся броня сосредоточена в средней части корпуса, защищая боевую часть (боезапас, артиллерийские механизмы и рубку), над которой устанавливались башни или барбеты с несколькими орудиями очень большого калибра. Бронирование носовой и кормовой частей при этом либо отсутствовало, либо было минимально, обычно ограничиваясь расположенной на уровне ватерлинии горизонтальной броневой палубой со скосами. Первые представители этого типа — английский «Инфлексибл» (англ. inflexible — «Несгибаемый») 1881 года и итальянский «Дуилио» 1880 года, который был заложен раньше, но завершён строительством намного позже своего английского аналога.
Сутью цитадельной схемы было то, что плавучесть корабля должна была всецело обеспечиваться цитаделью и в теории не зависела от ничем не защищённых надводных оконечностей, которые должны были пронизываться крупнокалиберными снарядами через оба борта навылет без особого ущерба. Между тем, на практике этот замысел конструкторов постоянно подвергался сомнению со стороны военных моряков, кроме того, повреждения в носовой части должны были весьма сильно сказаться на скорости и маневренности корабля.
Впоследствии появилась двухцитадельная схема с ещё меньшей площадью защиты, при ещё большей толщине брони, в которой вертикальной бронёй прикрывались лишь сами орудийные установки и короткие участки борта непосредственно под ними, практически весь остальной корабль же был защищён одной лишь броневой палубой.
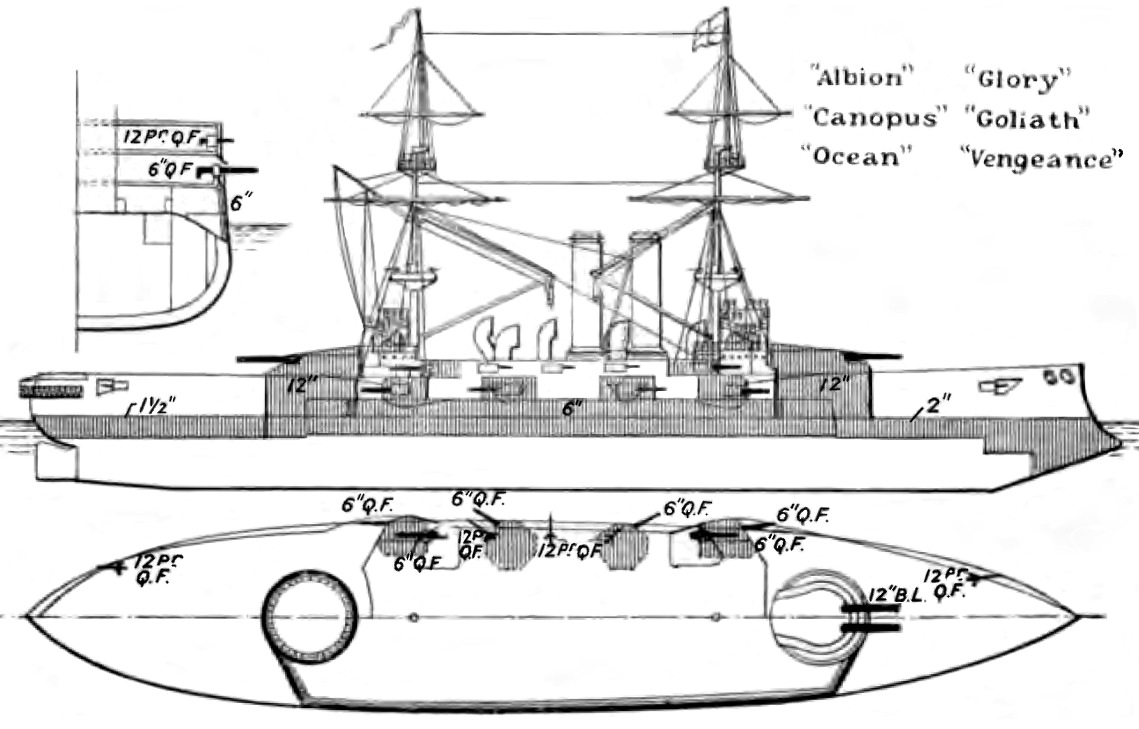
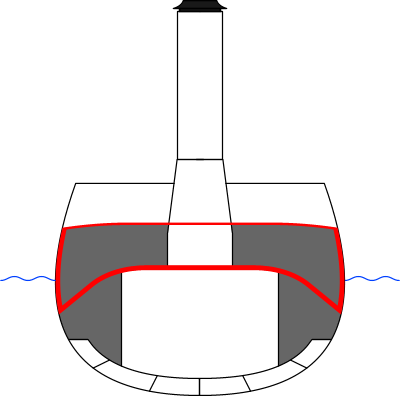
 Между тем, к концу XIX века такие корабли оказались крайне уязвимыми для новой скорострельной среднекалиберной и малокалиберной артиллерии, стреляющей фугасными снарядами нового поколения — до такой степени, что многие военно-морские теоретики вообще отказывались считать их броненосными. Кроме того, прогресс металлургии в это время позволил перейти от железной брони последовательно к сталежелезной (сваренной из листа стали и железа), стальной гомогенной и стальной цементированной (с науглероженным внешним слоем). Последняя по сопротивляемости превосходила кованое железо почти вдвое, позволяя во столько же раз уменьшить толщину и массу бронирования, сделав возможным забронировать корабль намного более полно, в частности — на многих кораблях вернуться к полному, хотя и утончающемуся к оконечностям, поясу по ватерлинии. При этом уже не старались достичь абсолютной неуязвимости брони — с современной на тот момент артиллерией эта идея в любом случае была бы утопична — а лишь обеспечить кораблю защиту на определённой дистанции, позволяющую ему успешно вести артиллерийский бой с равноценным противником (см. Зона свободного маневрирования).
Между тем, к концу XIX века такие корабли оказались крайне уязвимыми для новой скорострельной среднекалиберной и малокалиберной артиллерии, стреляющей фугасными снарядами нового поколения — до такой степени, что многие военно-морские теоретики вообще отказывались считать их броненосными. Кроме того, прогресс металлургии в это время позволил перейти от железной брони последовательно к сталежелезной (сваренной из листа стали и железа), стальной гомогенной и стальной цементированной (с науглероженным внешним слоем). Последняя по сопротивляемости превосходила кованое железо почти вдвое, позволяя во столько же раз уменьшить толщину и массу бронирования, сделав возможным забронировать корабль намного более полно, в частности — на многих кораблях вернуться к полному, хотя и утончающемуся к оконечностям, поясу по ватерлинии. При этом уже не старались достичь абсолютной неуязвимости брони — с современной на тот момент артиллерией эта идея в любом случае была бы утопична — а лишь обеспечить кораблю защиту на определённой дистанции, позволяющую ему успешно вести артиллерийский бой с равноценным противником (см. Зона свободного маневрирования).
Защита большинства упомянутых выше броненосных кораблей ограничивалась броневым поясом по борту, дополненным сравнительно тонкой верхней броневой палубой, предназначенной для защиты от случайных попаданий снарядов, прошедших над верхним краем бортового пояса. На корпус корабля как будто одевали сверху железный «панцирь», защищающий его от вражеского огня. Кроме того, имелись поперечные траверзы для защиты от продольного огня, сравнимые по толщине с бортовым поясом. Пока даже сравнительно тонкая броня была практически непробиваема для артиллерии, такая схема защиты была вполне рациональна, но со временем увеличение мощи артиллерии начало выявлять её недостатки. Так, если снаряд всё же пробивал пояс или броневую палубу, его осколки вместе с осколками самой брони летели прямо в ничем не защищённые внутренние помещения корабля, включая котельные и машинные отделения: единственное удачное попадание из современного тяжёлого орудия могло вывести такой корабль из строя, несмотря на бронирование. Даже попадания снарядов без пробития брони, а также взрывы мощных фугасов на броне, откалывали от её внутреннего слоя крупные осколки, способные при неблагоприятном стечении обстоятельств нанести существенный урон механизмам корабля и команде.
Решением оказалось введение в 1880-х годах второй, внутренней броневой палубы из мягкой незакалённой стали, расположенной над котлами и машинами и имеющей выпуклую (карапасную) форму со скосами, опускающимися до нижних краёв бортового пояса. Если для бронепалубных крейсеров она играла роль единственной защиты, то для более тяжёлых кораблей её использовали как защиту вспомогательную — от осколков и снарядов, пробивших броню главного пояса или верхней броневой палубы. В результате броневая защита корабля из наружного «панциря» превратилась в замкнутый контур защиты — броневой «ящик» на уровне ватерлинии, надёжно закрывающий котлы, машины и механизмы корабля. Теперь снаряду, пришедшему с любого направления, противостояло уже как минимум два слоя брони. Для защиты от затопления этот «ящик» тщательно разделяется переборками на мелкие изолированные отсеки.
У построенных в начале XX века британских броненосцев на горизонтальное бронирование приходилось уже до четверти от общей массы брони, а по площади боковой проекции она, с учётом скосов, была сравнима с бортовым бронированием — правда, при намного меньшей толщине. Тем не менее, артиллерия совершенствовалась не только количественно, но и качественно, дистанции боя постоянно росли, а с ними увеличивались и углы, с которыми снаряды ударяли в палубы корабля. В Первую мировую войну практика показала, что горизонтальная защита кораблей всех флотов была всё же категорически недостаточна для противодействия как современной артиллерии, так и — в особенности — появившемуся в начале века принципиально новому оружию, сбрасываемым с аэропланов и дирижаблей авиабомбам.
В этот период было выдвинуто новое требование к палубной броне — примерно соответствовать по стойкости бортовому бронированию корабля. Если оно не исполнялось, корабль оказывался очень уязвим на определённых дистанциях боя, на которых снаряды приходят под большим углом к горизонту. В полной мере ему соответствовали лишь корабли (уже не броненосцы, а линкоры), построенные в межвоенный период, у которых толщина броневых палуб стала приближаться к толщине бортового бронирования. Обычно на них имелось не менее трёх броневых палуб: верхняя была сравнительно тонкой и служила для взведения взрывателя полубронебойного снаряда или авиабомбы; средняя была наиболее толстой и служила основной защитой, сдерживая силу взрыва; нижняя служила дополнительной защитой на случай, если среднее оказывалась пробита.
Развитие же бортового бронирования после Первой мировой войны пошло не по экстенсивному, а по интенсивному пути: при той же толщине броню начали ставить под углом к горизонту, стараясь добиться попаданий снарядов под более острым углом; вводят разнесённое бронирование, при котором броневой пояс находился не снаружи, а внутри корпуса корабля. Все корабли этого периода были построены по цитадельной схеме — защищено бронёй были лишь пространство между крайними башенным установками, включая котлы, машины и механизмы, оконечности же оставались беззащитными, или, как максимум, имели тонкое противоосколочное бронирование, также играющее роль «ледового пояса» для плавания зимой в северных морях. Иногда применялось бронирование с двумя контурами защиты, при котором цитадель имела вид двух поставленных друг на друга «ящиков» — верхнего с противоосколочным бронированием и нижнего, защищённого более основательно. Бронирование дополнялось на этих кораблях мощной защитой от подводных взрывов.
После Второй мировой войны развитие авиации и управляемого оружия положило конец эволюции броненосных артиллерийских кораблей.
Артиллерия: конструкция и расположение
 Первые броненосцы оснащались гладкоствольными дульнозарядными орудиями, унаследованными от эпохи парусного флота и по сути, за исключением чуть больших размеров и калибра, мало отличавшимися от артиллерии времён адмирала Нельсона, вроде английского 68-фунтового орудия, сообщавшего 31,84-кг сферическому ядру скорость в 481 м/с. Бронепробиваемость таких орудий не позволяла поражать даже корабли, защищённые сравнительно тонкой 4-дюймовой (около 100 мм) бронёй, а их боеприпасы — сплошные ядра и начинённые чёрным порохом полые бомбы — не обеспечивали нанесения повреждений, достаточных для быстрого потопления крупного современного корабля с разделённым на множество отсеков железным корпусом. Поэтому в первой половине 1860-х годов европейцы старались просто установить на броненосце как можно больше орудий в надежде достичь высокой эффективности хотя бы против устаревших деревянных кораблей. Поражать же вражеские броненосцы должен был «вошедший в моду» впервые с эпохи Римской Империи подводный бивень — таран, надолго ставший после битвы при Лиссе неотъемлемой принадлежностью боевого корабля.
Первые броненосцы оснащались гладкоствольными дульнозарядными орудиями, унаследованными от эпохи парусного флота и по сути, за исключением чуть больших размеров и калибра, мало отличавшимися от артиллерии времён адмирала Нельсона, вроде английского 68-фунтового орудия, сообщавшего 31,84-кг сферическому ядру скорость в 481 м/с. Бронепробиваемость таких орудий не позволяла поражать даже корабли, защищённые сравнительно тонкой 4-дюймовой (около 100 мм) бронёй, а их боеприпасы — сплошные ядра и начинённые чёрным порохом полые бомбы — не обеспечивали нанесения повреждений, достаточных для быстрого потопления крупного современного корабля с разделённым на множество отсеков железным корпусом. Поэтому в первой половине 1860-х годов европейцы старались просто установить на броненосце как можно больше орудий в надежде достичь высокой эффективности хотя бы против устаревших деревянных кораблей. Поражать же вражеские броненосцы должен был «вошедший в моду» впервые с эпохи Римской Империи подводный бивень — таран, надолго ставший после битвы при Лиссе неотъемлемой принадлежностью боевого корабля.
 По другому пути пошли кораблестроители по другую сторону Атлантики: на свои мониторы американцы ставили всего лишь по нескольку орудий, зато самого крупного калибра — до 20 дюймов (508 мм) включительно для гладкоствольных и до 9 дюймов (229 мм) для нарезных систем. Тяжёлые ядра гладкоствольных пушек если и не пробивали, то проламывали броню, прогибали или срывали отдельные броневые плиты с креплений, сокрушали сотрясениями от своих ударов корпус противника, открывая в нём течи — в то время, как менее разрушительные нарезные орудия обеспечивали бо́льшую дальность и высокую точность стрельбы. Некоторые из мониторов так и были вооружены — одно гладкое и одно нарезное орудия в одной башне.
По другому пути пошли кораблестроители по другую сторону Атлантики: на свои мониторы американцы ставили всего лишь по нескольку орудий, зато самого крупного калибра — до 20 дюймов (508 мм) включительно для гладкоствольных и до 9 дюймов (229 мм) для нарезных систем. Тяжёлые ядра гладкоствольных пушек если и не пробивали, то проламывали броню, прогибали или срывали отдельные броневые плиты с креплений, сокрушали сотрясениями от своих ударов корпус противника, открывая в нём течи — в то время, как менее разрушительные нарезные орудия обеспечивали бо́льшую дальность и высокую точность стрельбы. Некоторые из мониторов так и были вооружены — одно гладкое и одно нарезное орудия в одной башне.
Англичане в то же время пытались экспериментировать с казнозарядными нарезными орудиями системы Армстронга, однако даже для передовой промышленности Туманного Альбиона такой переход оказался явно преждевременным: количество связанных с их конструктивными недостатками инцидентов постоянно росло, так что в конце концов вся история с ними оказалась на практике весьма дорогостоящей авантюрой. Со слов капитана линейного корабля «Кембридж»,
К концу 1860-х годов основным типом артиллерии в Королевском Флоте вновь стали проверенные дульнозарядные орудия, правда, теперь уже с нарезанным по системе Уитворта каналом ствола и существенно более крупных размеров и калибра — до 12 дюймов (305 мм) включительно. Своеобразным эталоном того времени стало появившееся на рубеже 1860-х и 1870-х годов 35-тонное орудие RML 12 inch gun калибром 305 мм и с начальной скоростью 320-кг сплошного бронебойного снаряда системы Палисера в 420 м/с. Именно четыре таких орудия были установлены в башнях знаменитого HMS Devastation. Для заряжания таких орудий уже оказалось необходимым применить специальные гидроприводы, так как обращаться с ними по-старинке вручную бы было совершенно невозможно, особенно в тесных башенных установках.
 Непрерывное увеличение толщины брони и калибра орудий сопровождалось ростом водоизмещения и привело к появлению таких монстров, как британские башенные корабли типа «Инфлексибл» и итальянские барбетные типа «Италия». Если на первом четыре орудия небывалой доселе мощи — калибром 406 мм и весом свыше 100 т — прикрывались железным поясом рекордной толщины в 610 мм, то итальянские корабли оснащались пушками ещё большего калибра — 431 мм — и развивали невиданную для таких крупных кораблей (свыше 15 тыс. тонн в полном грузу) скорость в 18 узлов. За все это итальянцы заплатили не только огромную сумму в лирах (тем более удивительную в 1880-х годах, когда итальянская экономика была ещё по сути аграрной, так что частей собственно итальянского производства в этих кораблях было весьма немного), но и практически полностью лишили корабли броневой защиты — от снарядов они защищались лишь 76 мм броневой палубой и угольными ямами, за что их даже не всегда относят к классу броненосцев. Считалось, что медленно стреляющие тяжелые пушки не смогут нанести разделенному на множество небольших герметичных отсеков корпусу значимого ущерба, выигранный же за счет отказа от броневого пояса вес можно было пустить на увеличение скорости и мощности вооружения; на практике появление скорострельной артиллерии среднего калибра практически лишило эти корабли боевой ценности.
Непрерывное увеличение толщины брони и калибра орудий сопровождалось ростом водоизмещения и привело к появлению таких монстров, как британские башенные корабли типа «Инфлексибл» и итальянские барбетные типа «Италия». Если на первом четыре орудия небывалой доселе мощи — калибром 406 мм и весом свыше 100 т — прикрывались железным поясом рекордной толщины в 610 мм, то итальянские корабли оснащались пушками ещё большего калибра — 431 мм — и развивали невиданную для таких крупных кораблей (свыше 15 тыс. тонн в полном грузу) скорость в 18 узлов. За все это итальянцы заплатили не только огромную сумму в лирах (тем более удивительную в 1880-х годах, когда итальянская экономика была ещё по сути аграрной, так что частей собственно итальянского производства в этих кораблях было весьма немного), но и практически полностью лишили корабли броневой защиты — от снарядов они защищались лишь 76 мм броневой палубой и угольными ямами, за что их даже не всегда относят к классу броненосцев. Считалось, что медленно стреляющие тяжелые пушки не смогут нанести разделенному на множество небольших герметичных отсеков корпусу значимого ущерба, выигранный же за счет отказа от броневого пояса вес можно было пустить на увеличение скорости и мощности вооружения; на практике появление скорострельной артиллерии среднего калибра практически лишило эти корабли боевой ценности.
Столь огромные орудия имели очень низкую скорострельность и фактически могли сделать лишь несколько выстрелов в час, так что реальная их боевая эффективность была более, чем сомнительна. Кроме того, живучесть их стволов была крайне невелика и, например, у английских 16,25" (413 мм) орудий составляла лишь 75 выстрелов, после которых требовалось перестволение, а каждый выстрел «орудия-монстра» оказывался тяжёлым испытанием для всего корпуса корабля, который часто получал повреждения от сотрясения или дульных газов при стрельбе из своих же орудий. Поэтому впоследствии от гигантских орудий отказались, и к 1890-м годам стандартом вновь стала 12" (305 мм) артиллерия, продержавшись в этой роли почти до 1910-х, дополненная обширной вспомогательной батареей из орудий калибра 3…9" (76,2…229 мм), предназначенных для поражения слабо защищённых частей вражеского корабля и борьбы с миноносцами.
 Между тем, за пределами Великобритании французским и германским инженерам ещё в середине 1860-х годов удалось добиться вполне удовлетворительной надёжности от казнозарядных орудий. Наиболее совершенными считались орудия системы Круппа, получившее широкое распространение в европейских флотах, включая и русский. Имея сходные с британскими дульнозарядными орудиям характеристики, они были более скорострельны, намного более удобны в обращении и безопаснее. Последнее стало очевидно после несчастного случая на борту однотипного с «Девастейшеном» броненосца HMS Thunderer в 1879 году, когда во время учебных стрельб из-за двойного заряжания разорвалось одно из орудий главного калибра, убив 11 и ранив 35 человек, из которых многие были при этом страшно покалечены. Для казнозарядного орудия, канал ствола которого хорошо просматривается при открытом затворе, такое развитие событий было просто невозможно. Переход Королевского флота на казнозарядные орудия, правда, наметился ещё до происшествия на «Тандерере», однако громкая катастрофа послужила в качестве мощного катализатора этого процесса. Тем не менее, ещё в начале XX века некоторые из британских кораблей старой постройки всё ещё сохраняли свою дульнозарядную артиллерию.
Между тем, за пределами Великобритании французским и германским инженерам ещё в середине 1860-х годов удалось добиться вполне удовлетворительной надёжности от казнозарядных орудий. Наиболее совершенными считались орудия системы Круппа, получившее широкое распространение в европейских флотах, включая и русский. Имея сходные с британскими дульнозарядными орудиям характеристики, они были более скорострельны, намного более удобны в обращении и безопаснее. Последнее стало очевидно после несчастного случая на борту однотипного с «Девастейшеном» броненосца HMS Thunderer в 1879 году, когда во время учебных стрельб из-за двойного заряжания разорвалось одно из орудий главного калибра, убив 11 и ранив 35 человек, из которых многие были при этом страшно покалечены. Для казнозарядного орудия, канал ствола которого хорошо просматривается при открытом затворе, такое развитие событий было просто невозможно. Переход Королевского флота на казнозарядные орудия, правда, наметился ещё до происшествия на «Тандерере», однако громкая катастрофа послужила в качестве мощного катализатора этого процесса. Тем не менее, ещё в начале XX века некоторые из британских кораблей старой постройки всё ещё сохраняли свою дульнозарядную артиллерию.
 В 1890-х годах фактическим стандартом стал затвор системы шведского изобретателя Акселя Велина, запатентованный фирмой Виккерса и объединявший в своей конструкции все накопившиеся к этому времени удачные решения.
В 1890-х годах фактическим стандартом стал затвор системы шведского изобретателя Акселя Велина, запатентованный фирмой Виккерса и объединявший в своей конструкции все накопившиеся к этому времени удачные решения.
 Для 1880-х и особенно 1890-х годов был характерен быстрый рост количественных характеристик артиллерии при практически неизменной конструкции. Если с точки зрения последней, пожалуй, единственным радикальным новшеством этой эпохи стало появление малокалиберных и среднекалиберных «скорострельных» (патронных или с раздельно-гильзовым заряжанием) орудий, которые на броненосцах использовались лишь в качестве вспомогательной артиллерии, то прогресс в области артиллерии главного калибра практически целиком сместился в область улучшения баллистических качеств за счёт применения в них всё более совершенных метательных взрывчатых веществ с соответствующим увеличением длины канала ствола относительно калибра. И хотя калибр при этом оставался неизменен или даже уменьшался в сравнении с «монстрами» 1870-х годов, размеры и масса самой установки значительно увеличивались, поскольку быстро росли длина и масса орудийного ствола, появлялись всевозможные вспомогательные устройства для гашения отдачи и механизированного перезаряжания, улучшалось бронирование.
Для 1880-х и особенно 1890-х годов был характерен быстрый рост количественных характеристик артиллерии при практически неизменной конструкции. Если с точки зрения последней, пожалуй, единственным радикальным новшеством этой эпохи стало появление малокалиберных и среднекалиберных «скорострельных» (патронных или с раздельно-гильзовым заряжанием) орудий, которые на броненосцах использовались лишь в качестве вспомогательной артиллерии, то прогресс в области артиллерии главного калибра практически целиком сместился в область улучшения баллистических качеств за счёт применения в них всё более совершенных метательных взрывчатых веществ с соответствующим увеличением длины канала ствола относительно калибра. И хотя калибр при этом оставался неизменен или даже уменьшался в сравнении с «монстрами» 1870-х годов, размеры и масса самой установки значительно увеличивались, поскольку быстро росли длина и масса орудийного ствола, появлялись всевозможные вспомогательные устройства для гашения отдачи и механизированного перезаряжания, улучшалось бронирование.
Использовавшийся ещё со средневековья чёрный порох имел очень высокую скорость горения, поэтому рассчитанные под него орудия были короткоствольными — обычно не более 20 калибров. Дальнобойность и настильность траектории у коротких орудий были невелики, лишь чуть лучше, чем у артиллерии эпохи парусного флота, так что огневой контакт кораблей в основном ограничивался дистанцией в одну морскую милю (1,852 км), как это было, к примеру, в широко известном бою «Шаха» и «Уаскара».
В 1870-х годах начинают делать призматический порох, спрессованный в шашки в виде шестигранных призм со внутренним каналом или несколькими каналами, что позволило уменьшить скорость горения за счёт резкого увеличения поверхности, на которой происходила реакция. В середине 1880-х годов появляются бурый и шоколадный пороха, изготовленные с использованием соответственно, бурого и шоколадного угля, особым образом обожжённого. Они имели ещё меньшую скорость горения, что позволило увеличить длину ствола до 25-30 калибров, с соответствующим ростом начальной скорости снаряда до 580—620 м/с.
Однако, все старые сорта порохов потеряли актуальность после появления в 1890-х годах пороха бездымного, на основе нитроцеллюлозы, который не только позволил благодаря низкой и хорошо контролируемой за счёт формы зерна скорости горения довести длину стволов орудий до 35-45 калибров, но и обеспечил артиллерии существенно лучшую баллистику, а также, согласно своему названию, практически не образовывал дыма при выстреле, что резко улучшило условия прицеливания при интенсивном огне и снизило заметность ведущего огонь корабля. Типичным примером орудий этой эпохи может послужить стрелявшее кордитом британское 305-мм BL 12 inch naval gun Mk VIII, прослужившее с 1895 по 1910-е годы: 390-кг снаряду оно сообщало начальную скорость в 721 м/с, что соответствовало эффективной дальности стрельбы в 10 и более километров. Полноценное раскрытие потенциала таких орудий было невозможно в рамках бытовавшей в конце XIX века практике стрельбы из них, унаследованной в общих чертах от парусного флота — встал вопрос о специальном техническом обеспечении залповой стрельбы на дистанции, считавшиеся ранее запредельными, что потребовало внедрения новых способов стрельбы, централизованных систем управления артиллерийским огнём. Положительное разрешение этого вопроса легло в основу революции в военном-морском деле, связанной с появлением пришедших на смену последним броненосцам дредноутов.
Второй, тесно связанной с эволюцией порохов, революционной новинкой стало появление в конце 1880-х годов сменивших устаревшие бомбы с чёрным порохом полноценных фугасных снарядов, начинённых бризантным взрывчатым веществом — мелинитом (лиддитом, шимозой), а затем пироксилином и толом. Нанося страшные повреждения небронированным участкам борта, из которых взрывами вырывало целые куски площадью в несколько квадратных метров, они существенно повлияли на развитие корабельной архитектуры в последнее десятилетие XIX века. Ещё более грозным оружием оказались сочетающие ударное и фугасное поражающее воздействие полубронебойные снаряды, с толстыми стенками и разрывным зарядом порядка 5-6 % от массы. Их взрыватели располагались в донной части и срабатывали с небольшим замедлением, поэтому такой снаряд, пробив броню вражеского корабля, взрывался уже внутри его отсеков, что было на порядок эффективнее взрыва обычного фугасного снаряда снаружи корпуса. После Русско-японской войны этот тип снарядов для крупнокалиберной морской артиллерии стал основным.
После 1890-х годов баллистические качества морских артиллерийских систем практически не улучшались, а рост их характеристик достигался в основном за счёт увеличения калибра, изменения конструкции снаряда и применения новых установок, допускавших большие углы вертикального наведения орудий.
Батарейные броненосцы


 Первыми броненосными кораблями были батарейные броненосцы, по своей сути представлявшие собой защищённые бронёй паровые фрегаты, корветы или шлюпы, с полным сохранением их конструкции, зачастую вплоть до мелочей. Появление их говорило лишь об одном — флотоводцы даже в эпоху брони и пара хотели иметь в своём распоряжении всё те же корабли привычных по парусному флоту классов, только защищённые бронёй.
Первыми броненосными кораблями были батарейные броненосцы, по своей сути представлявшие собой защищённые бронёй паровые фрегаты, корветы или шлюпы, с полным сохранением их конструкции, зачастую вплоть до мелочей. Появление их говорило лишь об одном — флотоводцы даже в эпоху брони и пара хотели иметь в своём распоряжении всё те же корабли привычных по парусному флоту классов, только защищённые бронёй.
Между тем, пока даже сравнительно тонкая броня оставалась практически неуязвимой для артиллерии, а калибр и размеры самих орудий не превышали принятых в парусном флоте, этот подход обеспечивал появление достаточно, а скорее — даже избыточно сильных для своего времени кораблей при минимальном риске конструктивного промаха, что вполне соответствовало запросам «переходного» периода в истории флота конца 1850-х — начала 1860-х годов.
Устанавливаемые на первые броненосцы орудия всё ещё оставались сравнительно небольшими, а основным противниками виделись небронированные деревянные корабли. Поэтому стремление получить достаточную массу бортового залпа при расположении всей артиллерии корабля на одной батарейной палубе, а также — желание достичь наибольшей возможной скорости хода при сравнительно слабых машинах, вынуждали конструкторов проектировать очень крупные по меркам своего времени корабли. Так, «Уорриор» с его 34-орудийной батареей (по 4 110-фунтовых и 13 68-фунтовых орудия на борт) и очень острыми обводами в носу и корме имел небывалую для боевого корабля тех лет длину, превышавшую 400 футов (ок. 120 метров), которая сообщала ему неудовлетворительную маневренность и мешала заходить на текущий ремонт в любой из существовавших в то время доков кроме родного для него Пембрук-Дока в Уэльсе.
Башенные броненосцы
В полную противоположность бывшим истинным воплощением консерватизма батарейным броненосным кораблям, настоящей революцией стало появление кораблей башенных, первым из которых стал «Монитор», построенный шведским изобретателем Джоном Эриксоном для американских северных штатов во время Гражданской войны. Практически одновременно башенные корабли появились и в Англии.
Соответственно, существовали две различные системы артиллерийских башен — американская Эриксона и британская Коулза, причём в остальных флотах часто имелись корабли с башнями и той, и с другой системы. И в том, и в другом случаях башни сами по себе были принципиально одинаковы и представляли собой замкнутые бронированные помещения цилиндрической формы с полом и потолком, внутри которых размещались орудия и их прислуга. Принципиальная разница же заключалась в том, каким образом осуществлялся поворот башен для наведения на цель.
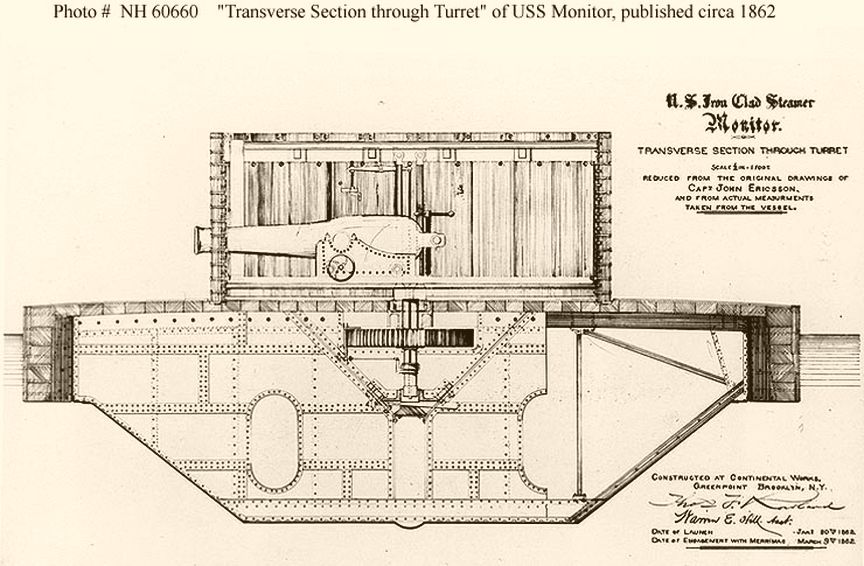 Эриксон установил свою башню нижней кромкой прямо на верхней палубе, обеспечив её поворот за счёт центрального штыря, жестко закреплённого в днище корабля. Для горизонтального наведения изобретатель приспособил паровой привод от небольшой одноцилиндровой машины через редуктор, причём для поворота башню было необходимо немного приподнять над палубой при помощи клинового механизма, а её вращение было не вполне равномерным, так что точное горизонтальное наведение оказалось затруднено. Так как вся башня целиком располагалась выше верхней палубы, высота её оказалась довольно велика. С подпалубными помещениями она сообщалась лишь при помощи своего штыря, что, с одной стороны, уменьшало заливаемость последних забортной водой — это было в особенности актуально на экстремально низкобортных мониторах Эриксона, а с другой — полностью лишало расчёт орудий какой либо связи с остальным кораблём — даже подачу боеприпасов приходилось осуществлять через верхнюю палубу. Ещё одной характерной особенностью башни Эриксона в её окончательном варианте было расположение на её крыше боевой рубки корабля, что стало «фирменной» чертой практически всех спроектированных им мониторов начиная с «Пассаика», причём крепилась она не к самой башне, а к неподвижному центральному штырю, и при повороте последней оставалась неподвижна.
Эриксон установил свою башню нижней кромкой прямо на верхней палубе, обеспечив её поворот за счёт центрального штыря, жестко закреплённого в днище корабля. Для горизонтального наведения изобретатель приспособил паровой привод от небольшой одноцилиндровой машины через редуктор, причём для поворота башню было необходимо немного приподнять над палубой при помощи клинового механизма, а её вращение было не вполне равномерным, так что точное горизонтальное наведение оказалось затруднено. Так как вся башня целиком располагалась выше верхней палубы, высота её оказалась довольно велика. С подпалубными помещениями она сообщалась лишь при помощи своего штыря, что, с одной стороны, уменьшало заливаемость последних забортной водой — это было в особенности актуально на экстремально низкобортных мониторах Эриксона, а с другой — полностью лишало расчёт орудий какой либо связи с остальным кораблём — даже подачу боеприпасов приходилось осуществлять через верхнюю палубу. Ещё одной характерной особенностью башни Эриксона в её окончательном варианте было расположение на её крыше боевой рубки корабля, что стало «фирменной» чертой практически всех спроектированных им мониторов начиная с «Пассаика», причём крепилась она не к самой башне, а к неподвижному центральному штырю, и при повороте последней оставалась неподвижна.
 Башня Коулза, напротив, опиралась своей нижней кромкой на главную палубу (среднюю, расположенную ниже верхней), а в верхней палубе для её прохода имелся круглый вырез, зазор между которым и самой башней был, несмотря ни на какое уплотнение, постоянным источником сырости в подбашенных помещениях. Благодаря частично подпалубному расположению башня Коулза была намного ниже эриксоновской, а значит — менее уязвима для огня противника, особенно с учётом того, что изначально предполагалось придать верхней палубе вокруг неё наклон, сформировав нечто вроде окружающего башню гласиса. Поворот башни осуществлялся ручным приводом за счёт перекатывающихся по специальной площадке на главной палубе круглых катков, вместе составлявших нечто вроде гигантского роликового подшипника. Лишь намного позднее для поворота башни Коулза был приспособлен гидравлический привод.
Башня Коулза, напротив, опиралась своей нижней кромкой на главную палубу (среднюю, расположенную ниже верхней), а в верхней палубе для её прохода имелся круглый вырез, зазор между которым и самой башней был, несмотря ни на какое уплотнение, постоянным источником сырости в подбашенных помещениях. Благодаря частично подпалубному расположению башня Коулза была намного ниже эриксоновской, а значит — менее уязвима для огня противника, особенно с учётом того, что изначально предполагалось придать верхней палубе вокруг неё наклон, сформировав нечто вроде окружающего башню гласиса. Поворот башни осуществлялся ручным приводом за счёт перекатывающихся по специальной площадке на главной палубе круглых катков, вместе составлявших нечто вроде гигантского роликового подшипника. Лишь намного позднее для поворота башни Коулза был приспособлен гидравлический привод.
В целом, конструкция Коулза считалась более продуманной с инженерной точки зрения, как в целом, так и в мелочах — настолько, что на аналогичную конструкцию с катками впоследствии перешли сами американцы. Тем не менее, общими недостатками башен обеих систем были, во-первых, большая масса всей установки в целом и её подвижных частей в частности, во-вторых — очень малый внутренний объём, затрудняющий действия прислуги, а в-третьих — полное отсутствие какой либо защиты поворотного механизма и его привода, что вынуждало полностью бронировать борт башенных кораблей в районе башен, дополняя бортовую броню ещё и поперечными траверзами, что ощутимо увеличивало массу необходимой броневой защиты.
Существовал третий тип броневых башен, также созданный в 1860-х — башни Идса, разработанные американским инженером и промышленником Джеймсом Идсом. Подобно башне Коулза, башня Идса вращалась на роликах; но в отличие от башни Коулза, кольцо из роликов было проложено под главной палубой, в подводной части. Внутри полого цилиндра башни Идса (проходящего сквозь палубы корабля вплоть до подводной части), орудия размещались на независимо вращающейся платформе, которая для перезарядки опускалась вниз, в подводную часть корпуса. Для своего времени, башня Идса была очень прогрессивной; на ней впервые значительное внимание уделили защите подбашенного пространства и механизмов привода башни, тем самым сделав шаг к башенно-барбетным установкам, появившимся лишь в 1890-х. Кроме того, башня Идса была также высоко механизированной по меркам времени. Все её функции — вращение, подъём и опускание орудийной платформы, вертикальная наводка орудий, возвращение орудий на место после отката — осуществлялись с помощью вспомогательных паровых приспособлений, и башня Идса требовала намного меньше персонала чем башни Кольза и Эрикссона. Однако, из-за большой сложности и стоимости, башня Идса не пользовалась доверием военных, и распространения не получила.
Казематные броненосцы

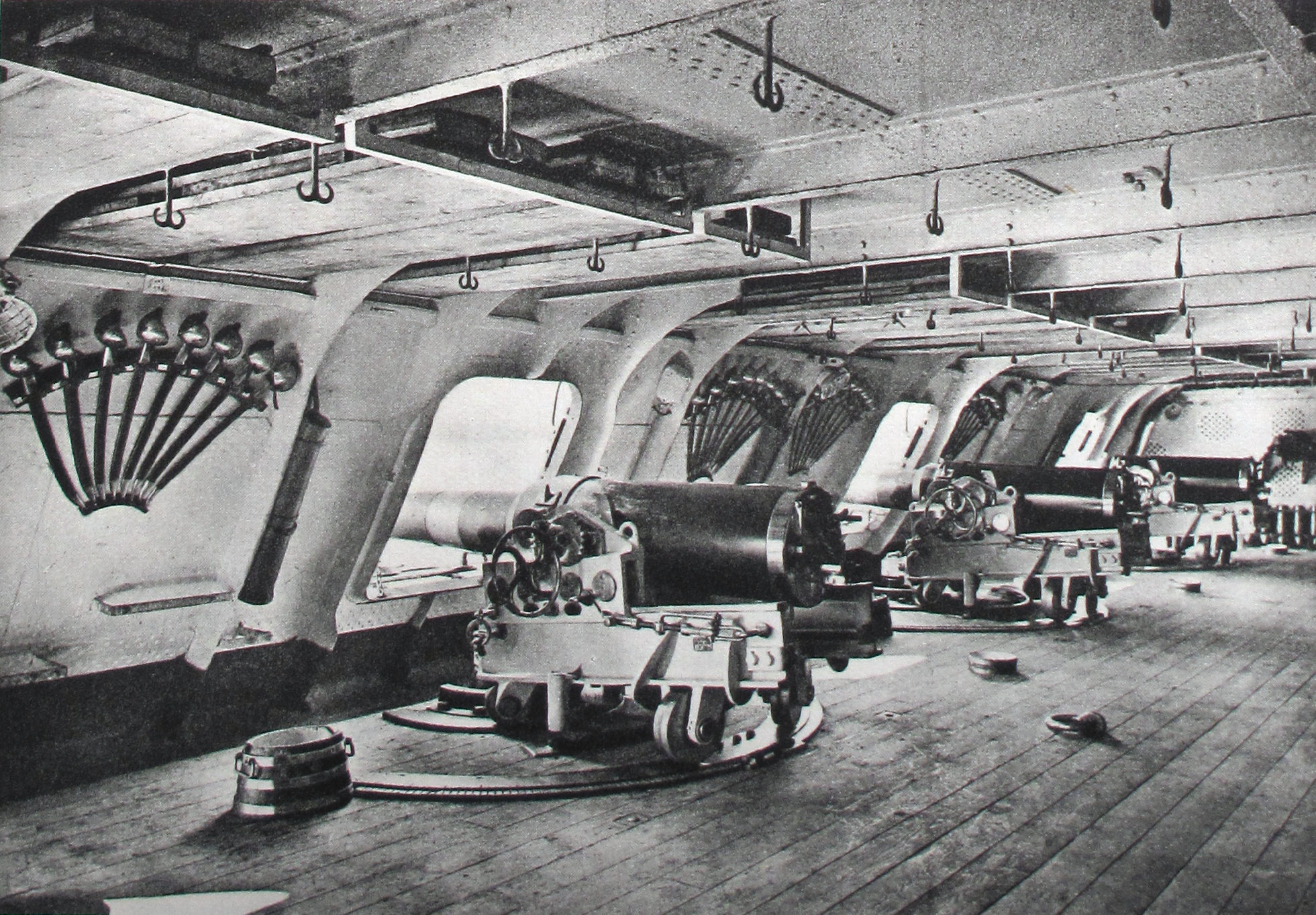
Идея башенного корабля оказалась слишком революционной для того, чтобы принять эту схему сразу для всех кораблей флота. Кроме того, крайне неудачный опыт с башенным мореходным броненосцем «Кептэн», погибшим в 1870 году, всего через 4 месяца службы, от внезапно налетевшего шквала, не причинившего особого вреда остальным кораблям его эскадры, на какое-то время убедил адмиралов в том, что артиллерийская башня и служба корабля в открытом море категорически несовместимы друг с другом. Правда, в данном случае фатальным оказалось сочетание низкого борта, изначально весьма тяжёлых башенных установок и также отнюдь не лёгкого рангоута с огромной строительной перегрузкой, но самого факта гибели новейшего корабля в мирное время оказалось более, чем достаточно для того, чтобы эксперименты с башенными мореходными броненосцами прекратили на какое-то время не только в Англии, но и в других странах, включая Россию, где у достроечной стенки был на долгие годы оставлен башенный фрегат «Минин», имевший некоторое сходство с «Кептэном» по типу и в силу уже одного этого признанный потенциально «неблагонадёжным».
 Между тем, располагать орудия вдоль борта привычным образом также становилось весьма затруднительно ввиду стремительного роста их веса и габаритов, обусловленных необходимостью пробивать всё более и более толстую броню. Проблему размещения немногочисленных, но тяжелых орудий и защиты их толстой броней смогли решить казематные броненосцы, наподобие английского «Беллерофона», также называемые броненосцами с центральной батареей. У них стянутая к середине корабля батарея была существенно сокращена по длине, за счёт чего появилась возможность нарастить толщину защищающего её верхнего броневого пояса, и, зачастую, увеличена по высоте относительно остального дека для размещения самых крупных и массивных орудий.
Между тем, располагать орудия вдоль борта привычным образом также становилось весьма затруднительно ввиду стремительного роста их веса и габаритов, обусловленных необходимостью пробивать всё более и более толстую броню. Проблему размещения немногочисленных, но тяжелых орудий и защиты их толстой броней смогли решить казематные броненосцы, наподобие английского «Беллерофона», также называемые броненосцами с центральной батареей. У них стянутая к середине корабля батарея была существенно сокращена по длине, за счёт чего появилась возможность нарастить толщину защищающего её верхнего броневого пояса, и, зачастую, увеличена по высоте относительно остального дека для размещения самых крупных и массивных орудий.
В своём изначальном виде казематное расположение артиллерии также не было лишено недостатков — расположенные побортно орудия имели весьма ограниченные секторы обстрела. Поэтому края каземата стали скашивать, а небронированному борту — придавать такую форму, которая позволяла орудиям, расположенным по краям центрального каземата, вести огонь по носу и по корме, для чего их станки перетаскивали по специальной системе расположенных на палубе каземата рельс к орудийным портам, обращённым в соответствующем направлении. У некоторых кораблей (британский «Александра», австро-венгерский «Кустоцца») казематы даже делались двухъярусными, что позволяло при той же длине верхнего броневого пояса разместить вдвое больше орудий. Практически все казематные корабли всё ещё имели полное парусное вооружение, вполне соответствующее их общему образу, в наибольшей степени отвечавшему вкусам консервативной части флотоводцев той эпохи. В первой линии флотов крупных морских держав они продержались недолго — уже к середине 1870-х годов большинство из них считалось безнадёжно устаревшими, но второстепенные силы, вроде Австро-Венгрии, не имея возможности ни строить более современные корабли на отечественных верфях, ни заказывать их за границей, вводили в строй сравнительно простые по устройству казематные броненосцы до самого конца того же десятилетия.
Параллельно происходила постепенная эволюция архитектуры самих казематов и устанавливаемых в них орудийных станков: колёсные лафеты времён парусного флота были заменены на станки с бортовым (передним) штыром[Прим. 1] — сначала деревянные, затем металлические — которые в свою очередь со временем уступили место станкам с центральным штыром (тумбового типа)[Прим. 2], обеспечивающим намного более быстрое наведение орудий на цель. Воспринимающие отдачу механические компрессоры уступили место гидравлическим или гидропневматическим. Чтобы увеличить сектор обстрела, орудия стали устанавливать в выступах борта — спонсонах, а для обеспечения более надёжной защиты — снабжать противоосколочными щитами (сначала плоскими, а затем и башенноподобными), что было особенно актуально при станках с центральным штыром, требовавшим больших орудийных портов, через которые прислуга орудия могла быть поражена осколками или ружейным огнём.
Верхом развития казематных артиллерийских установок стали установленные в спонсонах индивидуальные броневые казематы орудий, иногда даже двухэтажные, совмещающие большие углы наведения и хорошую защищённость. Для орудий главного калибра на броненосцах они уже не применялись (хотя могли встречаться на крейсерах — «Громобой», «Пауэрфул» и др.), но широко использовались для вспомогательной среднекалиберной артиллерии, для которой такая установка зачастую оказывалась более оправдана, чем сложная, менее надёжная и скорострельная башенная.
Ренессанс башни
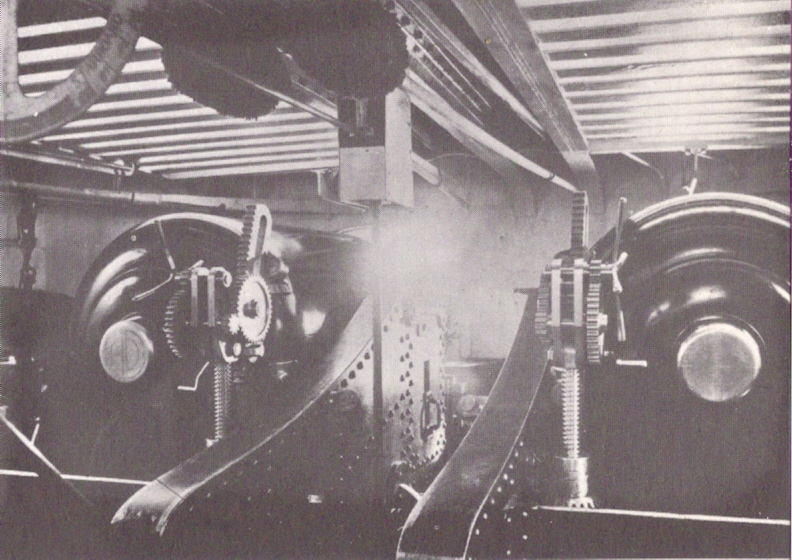 После появления в самом начале 1870-х годов революционного для своего времени британского броненосца «Девастейшен», который за счёт принципиального отказа от погубившего «Кептен» рангоута сочетал мощное вооружение, расположенное в двух башнях Коулза, со вполне безопасным, хотя и далёким от идеала, поведением в штормовом море, всё же поколебало мнение британских адмиралов в сторону башенного корабля — настолько, что после 1877 года англичане уже не строили кораблей с бортовым расположением орудий главного калибра, на какое-то время полностью переключившись на башенное расположение артиллерии.
После появления в самом начале 1870-х годов революционного для своего времени британского броненосца «Девастейшен», который за счёт принципиального отказа от погубившего «Кептен» рангоута сочетал мощное вооружение, расположенное в двух башнях Коулза, со вполне безопасным, хотя и далёким от идеала, поведением в штормовом море, всё же поколебало мнение британских адмиралов в сторону башенного корабля — настолько, что после 1877 года англичане уже не строили кораблей с бортовым расположением орудий главного калибра, на какое-то время полностью переключившись на башенное расположение артиллерии.
Стоит отметить, что впервые башенное вооружение в мореходном корпусе было реализовано в разрабатывавшемся ещё с 1867 года русском проекте броненосца «Петр Великий» конструкции адмирала Попова, который имел четыре 12-дюймовых орудия в двух башнях, однако медлительность отечественных верфей привела к тому, что революционный для своего времени корабль слишком долго пробыл в постройке и уступил пальму первенства англичанам. Башни его, правда, были устроены по английской системе всё того же Коулза.
В 1875 году был в Англии спущен на воду башенный броненосец HMS Dreadnought (не путать с HMS Dreadnought 1906 года), по своей компоновке в основном повторявший «Девастейшен». Ему было суждено на долгие годы стать для Королевского флота эталоном броненосного боевого корабля. Многие последующие английские броненосцы могут в целом считаться дальнейшим улучшением этого удачного типа. Тем не менее, основные недостатки башенной установки — большая масса подвижных частей и зависимость защиты поворотного механизма от бортового бронирования — в полной мере сохранялись и на этих кораблях. Они, в свою очередь, обуславливали многочисленные недостатки самих башенных кораблей — в первую очередь, вынужденно низкий из-за необходимости экономии веса надводный борт и высокую заливаемость палубы в свежую погоду.
Барбетные броненосцы
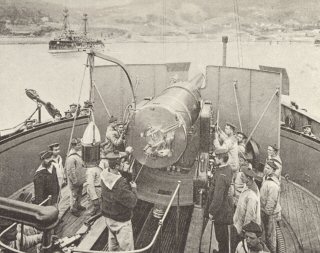
 В то же время во Франции был выработан новый, совершенно оригинальный, способ размещения артиллерии на верхней палубе — барбет, представлявший собой открытое сверху кольцо брони высотой больше человеческого роста, за которым располагалась вращающаяся платформа (поворотный стол) для орудия или нескольких (иногда до четырёх) орудий. Конструкция барбета была не в пример проще, чем у башни, а его масса — в той же степени ниже, так как вся броня в его конструкции оставалась неподвижной. При этом поворотный механизм был надёжно защищён окружающим его кольцом барбета, так что при условии соответствующего подкрепления самого барбета и защиты бронёй труб для подачи снарядов борт под барбетной установкой вполне мог быть и не защищён бронёй. Условия для работы прислуги в барбете были намного лучше, чем в башне, так как барбет мог быть сделан гораздо просторнее, и даже иметь вытянутую по продольной оси форму, повторяющую очертания самого орудия. Кроме того, барбет позволял существенно поднять оси орудий над ватерлинией относительно башенной установки (не говоря уже о бортовой), тем самым снизив их заливаемость в свежую погоду и существенно расширив возможности ведения боя в таких условиях.
В то же время во Франции был выработан новый, совершенно оригинальный, способ размещения артиллерии на верхней палубе — барбет, представлявший собой открытое сверху кольцо брони высотой больше человеческого роста, за которым располагалась вращающаяся платформа (поворотный стол) для орудия или нескольких (иногда до четырёх) орудий. Конструкция барбета была не в пример проще, чем у башни, а его масса — в той же степени ниже, так как вся броня в его конструкции оставалась неподвижной. При этом поворотный механизм был надёжно защищён окружающим его кольцом барбета, так что при условии соответствующего подкрепления самого барбета и защиты бронёй труб для подачи снарядов борт под барбетной установкой вполне мог быть и не защищён бронёй. Условия для работы прислуги в барбете были намного лучше, чем в башне, так как барбет мог быть сделан гораздо просторнее, и даже иметь вытянутую по продольной оси форму, повторяющую очертания самого орудия. Кроме того, барбет позволял существенно поднять оси орудий над ватерлинией относительно башенной установки (не говоря уже о бортовой), тем самым снизив их заливаемость в свежую погоду и существенно расширив возможности ведения боя в таких условиях.
Несмотря на то, что стреляющее поверх барбета орудие было совершенно открыто сверху, вероятность прямого попадания по нему была столь ничтожна, что её вообще не принимали во внимание. Правда, на некоторых кораблях впоследствии были добавлены небольшие лёгкие щитки для орудий, но эффект от них был скорее психологическим, так как защитить они были способны лишь от ружейного огня. Между тем, до тех пор, пока снаряды морской артиллерии оставалась сплошными металлическими болванками, а точность стрельбы из орудий была крайне низкой, барбет представлял собой исключительно эффективный способ защиты орудий главного калибра, позволяющий совместить практически круговой обстрел из них с высокой защищённостью.
Первые броненосцы с частью артиллерии в барбетах строились ещё в начале 1870-х годов, но доверить барбетным установкам защиту всех орудий главного калибра французы не решались до 1879, когда был спущен на воду первый чисто-барбетный броненосец Amiral Duperré. Правда, в России ещё в 1873 году была спущена на воду первая «поповка», также с орудиями главного калибра в кольцевом барбете, но это всё же был не океанский корабль, а по сути подвижный форт береговой обороны.
Позднее в Англии появились барбеты со специальными «снижающимися» орудийными установками, которые «прятали» орудие на время перезарядки внутри бронированного кольца, а во Франции барбеты стали снабжать всё ещё сравнительно тонкими, но всё же уже сплошными броневыми прикрытиями, защищающими их от взрывной волны и осколков вошедших тогда в употребление фугасных снарядов — о серьёзной горизонтальной защите от снарядов, приходящих сверху, речи пока ещё не шло, так как реальные дистанции боя оставались крайне невелики. В любом случае, основные преимущества барбета — простота устройства и просторность по сравнению с башней — сохранялись в полной мере. Впоследствии к ним добавилось ещё одно — по сравнению с башней в её тогдашнем виде, со сравнительно небольшими амбразурами в лобовой части, барбетная установка могла обеспечить большие максимальные углы возвышения ствола, что позволяло обеспечить большую предельную дальность стрельбы[2][3].
Синтез наиболее удачных решений: башенно-барбетные установки



 По указанным выше причинам барбетные установки получали на протяжении 1880-х и в начале 1890-х годов всё более и более широкое распространение — пока, наконец, в последнем десятилетии XIX века на барбетную схему полностью не перешла сама Великобритания. В последнем случае для принятия окончательного решения понадобился практический эксперимент: в 1889-94 годах по практически идентичным, за исключением как раз конструкции орудийных установок, проектам была построена серия из семи барбетных броненосцев типа «Ройял Соверен» и восьмого — «Худа» — с башнями Коулза. В итоге «Худ» оказался по сравнению со своими систершипами настолько неудачен, что его сочли пригодным лишь для службы в сравнительно спокойном Средиземном море, так как дополнительная масса башен заставила конструкторов снизить высоту надводного борта почти на 2 метра, обеспечив «Худу» весьма условную мореходность. После этого башенные установки в их изначальном виде ни в английском, ни в каком либо другом ведущем флоте для расположения орудий главного калибра практически не применялись.
По указанным выше причинам барбетные установки получали на протяжении 1880-х и в начале 1890-х годов всё более и более широкое распространение — пока, наконец, в последнем десятилетии XIX века на барбетную схему полностью не перешла сама Великобритания. В последнем случае для принятия окончательного решения понадобился практический эксперимент: в 1889-94 годах по практически идентичным, за исключением как раз конструкции орудийных установок, проектам была построена серия из семи барбетных броненосцев типа «Ройял Соверен» и восьмого — «Худа» — с башнями Коулза. В итоге «Худ» оказался по сравнению со своими систершипами настолько неудачен, что его сочли пригодным лишь для службы в сравнительно спокойном Средиземном море, так как дополнительная масса башен заставила конструкторов снизить высоту надводного борта почти на 2 метра, обеспечив «Худу» весьма условную мореходность. После этого башенные установки в их изначальном виде ни в английском, ни в каком либо другом ведущем флоте для расположения орудий главного калибра практически не применялись.
Башенные установки современного типа представляют собой комбинацию барбета — подбашенного отделения — и башенноподобного противоснарядного прикрытия орудий — боевого отделения, (англ. gunhouse), причём лишь башенная часть является подвижной, что позволило существенно снизить массу установки в целом при обеспечении полноценной защиты как самого орудия, так и механизмы подачи и заряжания. С расположенными под ватерлинией снарядными погребами они соединялись бронированными колодцами, по которым лифты доставляли боеприпасы к орудию, причём заряжание могло осуществляться в любом положении башни и, часто, при любом угле вертикальной наводки орудия.
Впервые такая комбинация кольцевого барбета и башни была использована ещё в середине 1860-х годов на спроектированных под руководством Дюпюи де Лома броненосных таранах типа «Сербер», но массовое распространение получила лишь к рубежу XIX—XX веков, совместно с другими новшествами, обеспечившими такой установке превосходство в эффективности как по отношению к классическим башенным, так и традиционным барбетным.
Схемы размещения артиллерии
После того, как к концу 1870-х годов общепризнанным стандартом стало расположение артиллерии главного калибра на верхней палубе в башенных или барбетных установках, стали рождаться самые различные схемы их взаимного расположения. В целом среди них можно было выделить:
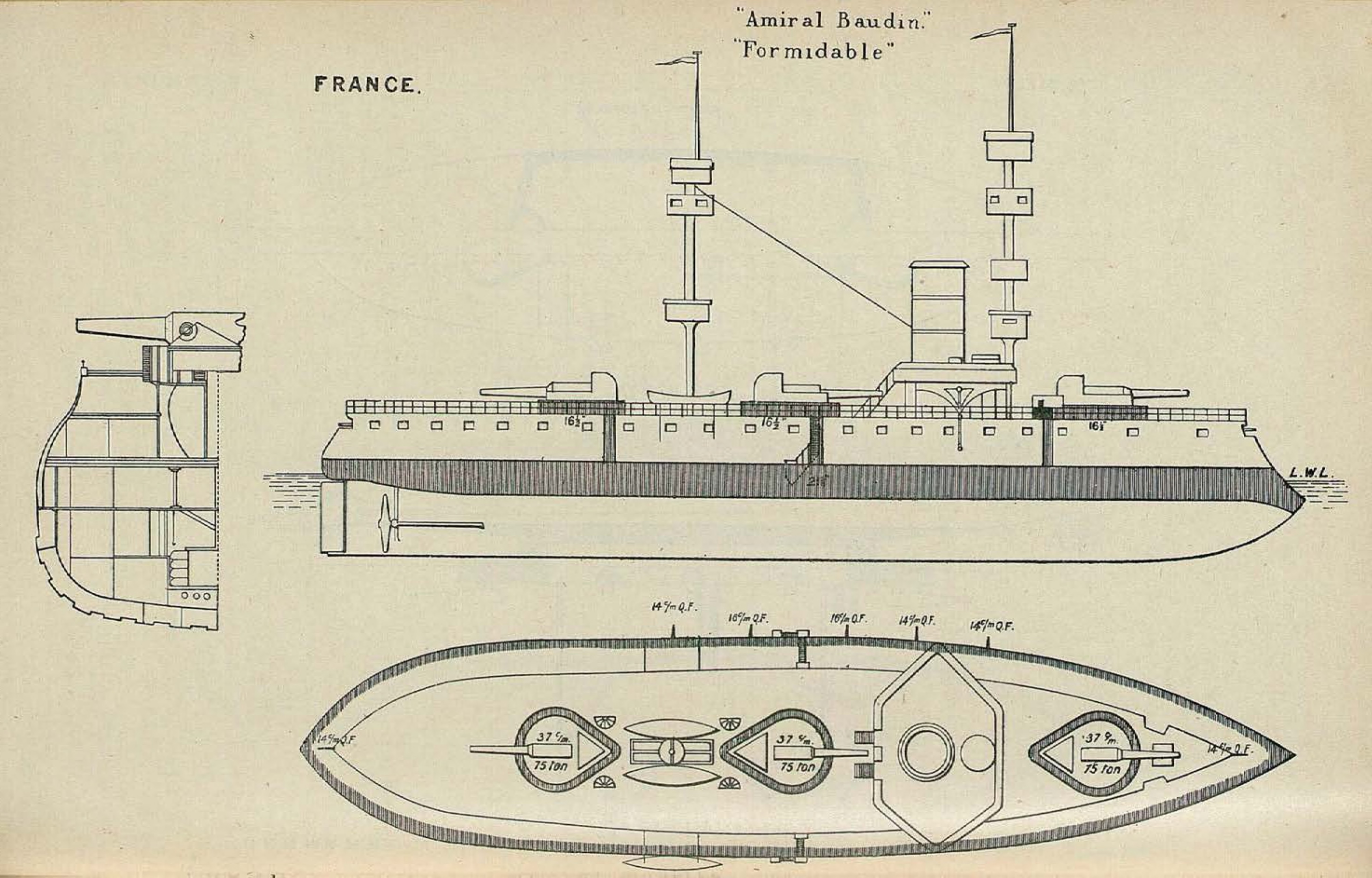
- Линейная схема — все орудийные установки главного калибра установлены в диаметральной плоскости корабля и могут вести огонь на борт, но носовой и кормовой огонь сравнительно слаб. Будучи применена уже в первых проектах башенных кораблей (четырёхбашенный «Принц Альберт» в Великобритании, многобашенные мониторы в США), линейная схема оказалась вполне рациональна и получила широкое распространение, именно по ней впоследствии строилось большинство эскадренных броненосцев устоявшегося типа (см. ниже). Ещё позднее на её основе была создана линейно-возвышенная схема, при которой артиллерия располагалась на двух уровнях, так, что башни верхнего яруса могли стрелять поверх нижних, что устраняло отмеченную выше характерную для линейной схемы слабость продольного огня.
- «Эшелонная» схема — орудийные установки размещены по диагонали со смещением к бортам, обычно в середине корабля («Инфлексибл», «Дуилио», «Италия») — но иногда с выносом в носовую часть («Дин-Юань») или разнесением по оконечностям (крейсер «Мэн»). В теории такое расположение орудий должно было обеспечить всей артиллерии корабля максимально мощный погонный и ретирадный обстрел, при сохранении возможности наведения всех орудий на борт. На практике безопасно вести огонь можно было лишь на борт, при стрельбе же в оконечности, особенно поверх палубы, часто существовал большой риск повреждения собственных палуб и надстроек, что существенно ограничивало возможные секторы обстрела. При этом орудийные установки располагались в непосредственной близости от борта и ввиду этого были более уязвимы для снарядов противника, чем находящиеся в диаметральной плоскости.
- Орудийные установки размещены по углам равнобедренного треугольника, обычно обращённого остриём к корме. Эта схема встречалась, например, на французском броненосце «Адмирал Дюперре», построенных во Франции для греческого флота броненосцах береговой обороны типа «Идра», германских «Зигфридах» или русских кораблях типа «Чесма». Как правило. такое расположение ставило целью обеспечение сильного носового огня, в ущерб бортовому и кормовому залпу, в этом отношении соответствуя требованиям таранной тактики. Впрочем, не всегда — например, русские черноморские броненосцы вообще не могли вести огонь по курсу в силу слабости палубы; такое расположение артиллерии в данном случае, скорее всего, было выбрано с целью боевых действий в Босфоре, где был бы востребован огонь с обоих бортов. Так, в ходе выбора проекта даже рассматривался четырёхбашенный вариант этих кораблей, с размещением орудий по две на носу и на корме. При наведении орудий, расположенных в углах у основания треугольника, на траверз, корабль с такой схемой размещения артиллерии получал довольно сильный крен. Расположение вооружения германского «Заксена» также может считаться разновидностью этой схемы, но в данном случае остриё треугольника было обращёно к носу.
- Ромбовидное расположение орудийных установок — в теории эта схема, характерная в основном для французского кораблестроения, должна была обеспечить равномерно мощный огонь в любом направлении — три орудийные установки из четырёх, на практике же из-за разрушительного воздействия дульных газов проявлялись такие же ограничения, как и для эшелонной схемы, так что огонь всё же получался неравномерным: по три установки на борт и лишь две — на острых курсовых углах. Считалось, что такое расположение орудий позволяло устранить недостаток линейного их расположения, когда при мощном бортовом огне корабль имел слабый продольный — что в теории позволяло более маневренному противнику держаться с носа или кормы броненосца и, подвергаясь сравнительно слабому ответному огню, отвечать ему мощными бортовыми залпами, что было особенно неприятно для французов ввиду их пристрастия к одноорудийным барбетным установкам, при линейном расположении которых продольный огонь мог вестись лишь одним-единственным орудием.
- Эти построения имели определённый смысл в период сразу после Лиссы, когда считалось, что бой двух броненосных эскадр неминуемо распадётся на дуэли отдельных броненосцев. Однако на практике большая часть сражений эпохи брони и пара проходила в кильватерных колоннах, а при таком построении зайти с носа или кормы одного из кораблей колонны означало подвергнуть себя опасности немедленного таранного удара со стороны его мателота, что существенно снижало вероятность описанной выше ситуации. В результате эта схема расположения артиллерии стала более типичной для крейсеров — «истребителей торговли», для которых дуэль с равным кораблём «один на один» со свободным маневрированием была всё же более реальна, чем для броненосцев, а возможность ведения огня сразу в четырёх направлениях могла иметь смысл при отражении одновременной атаки нескольких более слабых противников. С другой стороны, подобная схема обеспечивала большую гибкость тактического маневрирования и позволяла перестраивать эскадру из построения в построения без необходимости терять часть огневой мощи.
На кораблях с большим количеством башен могли также встречаться всевозможные гибридные схемы расположения. Например, на некоторых ранних дредноутах могли встречаться схемы расположения артиллерии, сочетающие в себе черты ромбовидной и линейной, либо линейно-возвышенной, схемы, а также линейной и эшелонной.
 Несколько особняком стоят также однобашенные корабли, у которых единственная артиллерийская установка могла располагаться как в центре корпуса (американские мониторы и их последователи), так и с сильным смещением к носу (британский броненосец «Виктория», французский броненосец береговой обороны «Фульминант» и другие), либо — уникальный случай — к корме (японский крейсер «Мацусима», с тремя своими систершипами, имевшими по одному орудию в носу, образовывавший своего рода «составной броненосец»). Если в первом случае единственная орудийная установка имела практически круговой обстрел, то в остальных всё зависело в основном от конфигурации надстроек. Например, на «Фульминанте» расположенная позади башни надстройка была настолько узка, что в теории позволяла хотя бы одному из башенных орудий вести огонь в кормовом секторе обстрела. У английских кораблей, напротив, надстройка часто была массивной и орудия могли вести огонь лишь в секторе от прямо по носу до немного за траверз.
Несколько особняком стоят также однобашенные корабли, у которых единственная артиллерийская установка могла располагаться как в центре корпуса (американские мониторы и их последователи), так и с сильным смещением к носу (британский броненосец «Виктория», французский броненосец береговой обороны «Фульминант» и другие), либо — уникальный случай — к корме (японский крейсер «Мацусима», с тремя своими систершипами, имевшими по одному орудию в носу, образовывавший своего рода «составной броненосец»). Если в первом случае единственная орудийная установка имела практически круговой обстрел, то в остальных всё зависело в основном от конфигурации надстроек. Например, на «Фульминанте» расположенная позади башни надстройка была настолько узка, что в теории позволяла хотя бы одному из башенных орудий вести огонь в кормовом секторе обстрела. У английских кораблей, напротив, надстройка часто была массивной и орудия могли вести огонь лишь в секторе от прямо по носу до немного за траверз.
Вспомогательная артиллерия
 С самого начала существования броненосцев многим из их создателей было ясно, что в реальном бою не любая цель будет достойна снаряда главного калибра. Например, на французских кораблях 1860-х и 1870-х годов наряду с основным вооружением из 194…270 мм казематированных или расположенных в барбетах орудий имелось также несколько более лёгких орудий калибром 120…164 мм, открыто установленных на верхней палубе. Эти орудия предназначались для стрельбы по небронированным кораблям и также использования в качестве салютных. Та же самая картина наблюдалась и на первых английских броненосцах, которые несли вспомогательную артиллерию калибра около 7 дюймов, обычно прикрывавшую секторы, в которых не могли вести огонь орудия главного калибра. Между тем, к началу 1870-х годов ценность вспомогательной артиллерии была поставлена под сомнение. Корабли этого периода, в особенности английские, часто были вооружены только тяжёлыми орудиями, основной причиной чего было недостаточное совершенство тогдашних среднекалиберных орудий и недостаточное поражающее действие их снарядов. В результате все 1870-е и 1880-е годы отношение к вспомогательной артиллерии среднего калибра постоянно колебалось: то её признавали необходимой и устанавливали в большом количестве и ассортименте, то закладывали корабли вообще без неё.
С самого начала существования броненосцев многим из их создателей было ясно, что в реальном бою не любая цель будет достойна снаряда главного калибра. Например, на французских кораблях 1860-х и 1870-х годов наряду с основным вооружением из 194…270 мм казематированных или расположенных в барбетах орудий имелось также несколько более лёгких орудий калибром 120…164 мм, открыто установленных на верхней палубе. Эти орудия предназначались для стрельбы по небронированным кораблям и также использования в качестве салютных. Та же самая картина наблюдалась и на первых английских броненосцах, которые несли вспомогательную артиллерию калибра около 7 дюймов, обычно прикрывавшую секторы, в которых не могли вести огонь орудия главного калибра. Между тем, к началу 1870-х годов ценность вспомогательной артиллерии была поставлена под сомнение. Корабли этого периода, в особенности английские, часто были вооружены только тяжёлыми орудиями, основной причиной чего было недостаточное совершенство тогдашних среднекалиберных орудий и недостаточное поражающее действие их снарядов. В результате все 1870-е и 1880-е годы отношение к вспомогательной артиллерии среднего калибра постоянно колебалось: то её признавали необходимой и устанавливали в большом количестве и ассортименте, то закладывали корабли вообще без неё.
 После появления в середине 1870-х годов первых эффективных миноносцев появилась необходимость хоть как-то защитить корабли от их атак, для чего на них стали устанавливать устаревшие лёгкие орудия калибром около 4 дюймов в открытых палубных установках. Смысла в них было немного, так как низкая скорострельность и несовершенные механизмы горизонтальной наводки не позволяли поражать быстродвижущиеся цели, поэтому вскоре их заменили более лёгкими, но и намного более скорострельными 37-мм, затем 47-мм и 57-мм патронными орудиями, а также револьверными пушками и митральезами калибром 25…37 мм, а в некоторых флотах — даже пулемётами. Против минных катеров и миноносок этого периода водоизмещением в 20-30 тонн это было вполне действенное оружие, в особенности после появления к лёгким орудиями снарядов, начинённых взрывчатым веществом, кроме того, лёгкая артиллерия в теории могла оказаться полезной при нанесении таранного удара, когда по врагу должно было стрелять всё, что в принципе могло стрелять — от винтовок и револьверов до орудий главного калибра. Впоследствии калибр противоминной артиллерии постоянно рос вслед за размерами самих носителей минного оружия, и к начала XX века он доходил уже до 75 мм.
После появления в середине 1870-х годов первых эффективных миноносцев появилась необходимость хоть как-то защитить корабли от их атак, для чего на них стали устанавливать устаревшие лёгкие орудия калибром около 4 дюймов в открытых палубных установках. Смысла в них было немного, так как низкая скорострельность и несовершенные механизмы горизонтальной наводки не позволяли поражать быстродвижущиеся цели, поэтому вскоре их заменили более лёгкими, но и намного более скорострельными 37-мм, затем 47-мм и 57-мм патронными орудиями, а также револьверными пушками и митральезами калибром 25…37 мм, а в некоторых флотах — даже пулемётами. Против минных катеров и миноносок этого периода водоизмещением в 20-30 тонн это было вполне действенное оружие, в особенности после появления к лёгким орудиями снарядов, начинённых взрывчатым веществом, кроме того, лёгкая артиллерия в теории могла оказаться полезной при нанесении таранного удара, когда по врагу должно было стрелять всё, что в принципе могло стрелять — от винтовок и револьверов до орудий главного калибра. Впоследствии калибр противоминной артиллерии постоянно рос вслед за размерами самих носителей минного оружия, и к начала XX века он доходил уже до 75 мм.
 На рубеже 1880-х и 1890-х годов прогресс в области военно-морской техники позволил создать скорострельные среднекалиберные орудия нового поколения с патронным или раздельно-гильзовым заряжанием и гидравлическими противооткатными устройствами, калибром около 6 дюймов, которые при слаженной работе расчёта делали до 10 выстрелов в минуту — против 1…2 выстрелов в минуту у орудий главного калибра. Кроме того, новые станки с центральным штыром позволили наводить орудия намного быстрее, чем старые с бортовым, у которых ось вращения орудия не совпадала с центром масс поворотной части. Они тут же «вошли в моду» и стали устанавливаться как на всех вновь вводимых в строй эскадренных броненосцах, так и на старых кораблях в порядке модернизации. В сочетании с фугасными снарядами они оказались однозначно ценным дополнением к главному калибру, эффективным не только против безбронных кораблей, но и против броненосцев тех лет с их обширными небронированными участками борта, так что некоторые военно-морские теоретики даже считали их более сильным оружием, чем медленно заряжающиеся и неточные орудия главного калибра. Поначалу их устанавливали просто открыто на верхней палубе или за лёгким бортом, но впоследствии стали защищать бронёй казематов (английская школа) или даже выделять им отдельные вращающиеся башенки (французская школа), причём французские корабли этого периода зачастую выделялись своей мощной вспомогательной батареей.
На рубеже 1880-х и 1890-х годов прогресс в области военно-морской техники позволил создать скорострельные среднекалиберные орудия нового поколения с патронным или раздельно-гильзовым заряжанием и гидравлическими противооткатными устройствами, калибром около 6 дюймов, которые при слаженной работе расчёта делали до 10 выстрелов в минуту — против 1…2 выстрелов в минуту у орудий главного калибра. Кроме того, новые станки с центральным штыром позволили наводить орудия намного быстрее, чем старые с бортовым, у которых ось вращения орудия не совпадала с центром масс поворотной части. Они тут же «вошли в моду» и стали устанавливаться как на всех вновь вводимых в строй эскадренных броненосцах, так и на старых кораблях в порядке модернизации. В сочетании с фугасными снарядами они оказались однозначно ценным дополнением к главному калибру, эффективным не только против безбронных кораблей, но и против броненосцев тех лет с их обширными небронированными участками борта, так что некоторые военно-морские теоретики даже считали их более сильным оружием, чем медленно заряжающиеся и неточные орудия главного калибра. Поначалу их устанавливали просто открыто на верхней палубе или за лёгким бортом, но впоследствии стали защищать бронёй казематов (английская школа) или даже выделять им отдельные вращающиеся башенки (французская школа), причём французские корабли этого периода зачастую выделялись своей мощной вспомогательной батареей.
Так сложился классический тип вооружения эскадренного броненосца (см. ниже): орудия трёх различных калибров — главного, среднего и противоминного, каждый из которых в бою исполнял свою роль.
Броненосные тараны
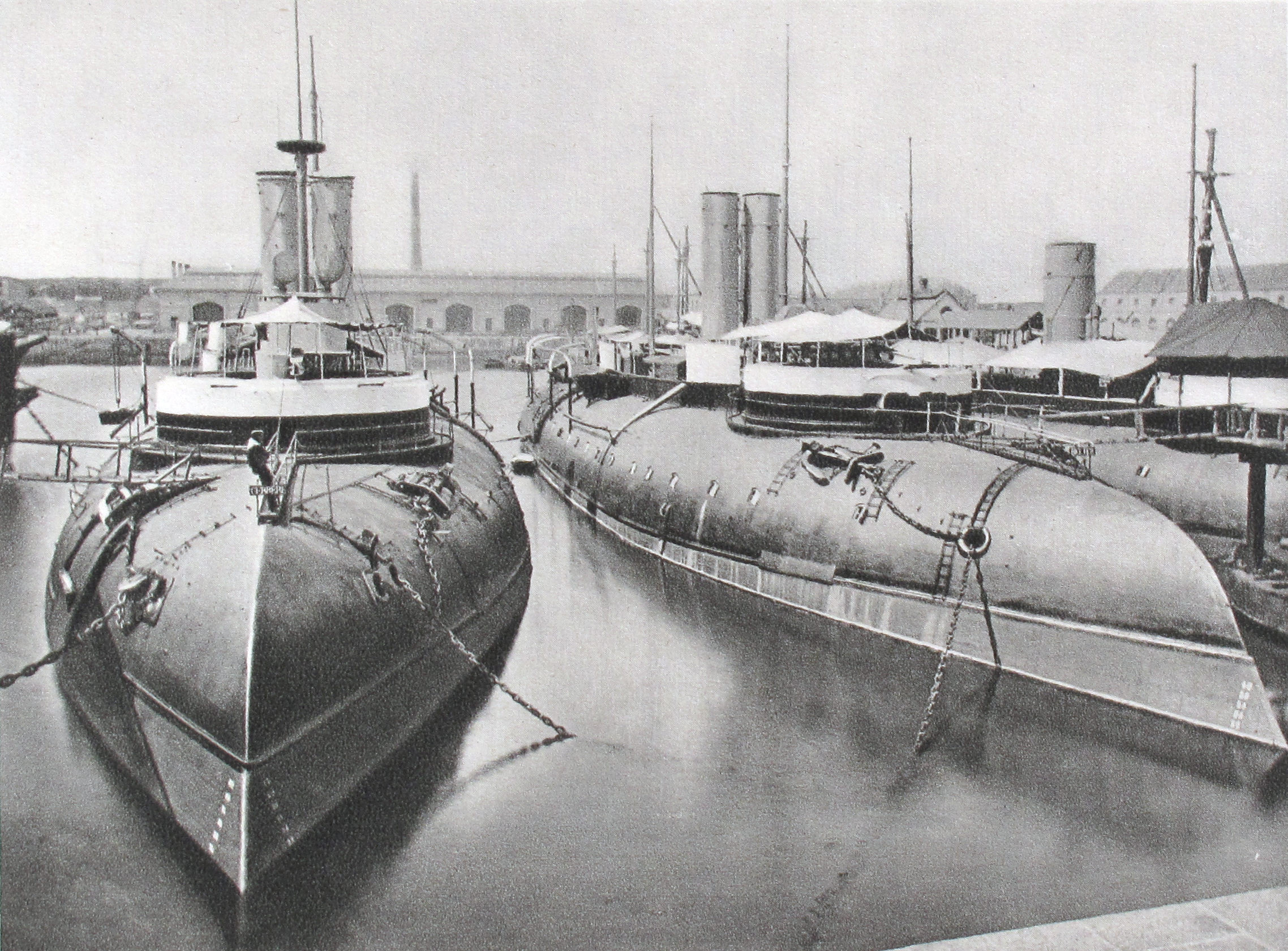
 Удачные таранные атаки в первых схватках броненосцев привели к тому, что этот вид боя стал считаться очень перспективным, поскольку уровень артиллерии пока ещё не позволял ей решать все задачи. Таранами снабжались все виды броненосцев, а также были построены специальные таранные броненосцы или броненосные тараны, приспособленные для таранных атак. Для этого они, кроме тарана, оснащались ещё одним-двумя орудиями как можно большего калибра (английские корабли типа «Виктория» имели пару 413 мм орудий), приспособленными для стрельбы вперед — в направлении цели. Появление торпед и скорострельной артиллерии положило конец их эволюции в 1880-х годах. Тем не менее, таран считался действенным оружием вплоть до Цусимы.
Удачные таранные атаки в первых схватках броненосцев привели к тому, что этот вид боя стал считаться очень перспективным, поскольку уровень артиллерии пока ещё не позволял ей решать все задачи. Таранами снабжались все виды броненосцев, а также были построены специальные таранные броненосцы или броненосные тараны, приспособленные для таранных атак. Для этого они, кроме тарана, оснащались ещё одним-двумя орудиями как можно большего калибра (английские корабли типа «Виктория» имели пару 413 мм орудий), приспособленными для стрельбы вперед — в направлении цели. Появление торпед и скорострельной артиллерии положило конец их эволюции в 1880-х годах. Тем не менее, таран считался действенным оружием вплоть до Цусимы.
Эскадренные броненосцы
К концу XIX века взгляды на новые корабли постепенно устоялись, приведя к возникновению так называемых «эскадренных броненосцев», тяжелых артиллерийских кораблей, приспособленных к ведению артиллерийского боя в составе эскадр. Данный термин русского языка происходит из французской терминологии — cuirasse d’escadre. В английском языке ранние броненосцы обычно обозначаются как Ironclads, а корабли устоявшегося типа, соответствующие французским и русским эскадренным броненосцам, с 1892 года получили в Royal Navy обозначение Battleships.
Развитие артиллерии привело к тому, что противостоять ей могла броня только очень большой толщины — более 300 мм, которой однако было невозможно защитить весь борт, настолько она была бы тяжелой. Бронирование стали сводить к узкому поясу, защищавшему ватерлинию, оставляя без защиты оконечности.
В отношении конструкции броневой защиты укоренились два подхода — французский, при котором броней, пусть и не очень толстой, покрывается большая часть надводного борта, и английский, при котором броня сосредоточена узким поясом. Изобретение в 1885 г. фугасного снаряда позволило производить большие разрушения в незащищенных отсеках, что ставило в уязвимое положение корабли с английской системой бронирования, к которым относилась, в частности, большая часть кораблей русского флота.
С другой стороны, пушки способные бороться с такой броней, были очень тяжелы и обладали невысокой скорострельностью и точностью, поскольку приводились в действие гидроприводом, медленным и неточным. Постепенно все производители броненосцев отказались от появившихся в 1860-х и 70-х годах крупных орудий (до 16 и даже 17-18 дюймов калибром) в пользу более длинноствольных и легких систем. Вслед за Англией — законодательницей корабельной моды того времени, большинство флотов взяло 12 дюймов за стандарт орудий главного калибра. Не совсем удачная попытка британцев оторваться от конкурентов в серии кораблей «Ройял Соверен», с 13,5-дюймовыми (343 мм) орудиями (впоследствии заменённые), лишь утвердила этот выбор. На кораблях обычно ставили четыре 12-дюймовых (305мм) орудия в двух башнях в носу и корме корабля. Однако были и исключения. Так, германские броненосцы имели главный калибр в 11-дюймов (280мм), американские 13-дюймов (330 мм). Были и броненосцы с тремя сдвоенными артиллерийскими установками (серии «Екатерина II» и «Бранденбург»), и одной одноорудийной (Гангут, Мацусима). Также стоит вспомнить весьма необычные американские броненосцы «Кирсардж» и «Кентукки». На этом типе броненосцев впервые использовано оригинальное расположение артиллерии в двухъярусных башнях. Теоретически весьма выгодное, на практике оно оказалось неудачным из-за не возможности вести одновременный огонь из 330-мм и 203-мм пушек. башни вышли слишком тяжелыми (чем, ко всему прочему, негативно влияли на остойчивость корабля), с огромными амбразурами. Несмотря на то, что в кораблях весьма скромного водоизмещения (11 600 т) удалось разместить колоссальную, для своего времени, огневую мощь (4х330 мм, 4×203 м, 14×152 мм, 6×76 мм орудия), сохранив при этом более чем достойное бронирование и приличную скорость, недостатки пересилили и в следующих сериях броненосцев от такой схемы отказались.
 Главную отличительную особенность эскадренных броненосцев составляла среднекалиберная скорострельная артиллерия, расположенная обычно в общем броневом каземате в средней части корабля или и индивидуальных «казематиках», иногда в два яруса; позднее на некоторых кораблях часть среднекалиберных орудий по примеру главного калибра переместилась в башни, что, однако, едва ли было обосновано с точки зрения соотношения массы и сложности башенной установки с тем вкладом, который среднекалиберные орудия вносили в огневую мощь корабля. Воззрения того времени предполагали очень небольшие дистанции и скорости боя, позволяя дифференцировать артиллерию по назначению, поэтому в теории средний калибр должен был являть собою едва ли не основную силу корабля. Против старых броненосцев и первых эскадренных броненосцев, имевших обширные участки борта, вообще не защищённые бронёй, средний калибр был вполне действеннен и его наличие в составе вооружения корабля было вполне оправдано. Однако после того, как в конце XIX века покрывать бронёй, пусть сравнительно тонкой — но всё же неуязвимой для артиллерии среднего калибра, стали практически весь надводный борт, средний калибр оказался не в состоянии нанести современным кораблям противника существенных повреждений, при этом он не только занимал немалое место и тоннаж, но и мешал пристрелке орудий главного калибра, для борьбы же с миноносцами его поражающая способность была излишней, а скорострельность недостаточной. Позднее данная идея трансформировалась в установку на корабли орудий «промежуточных» калибров в 8-10 дюймов (203—254 мм), однако на практике они оказались почти так же бесполезны.
Главную отличительную особенность эскадренных броненосцев составляла среднекалиберная скорострельная артиллерия, расположенная обычно в общем броневом каземате в средней части корабля или и индивидуальных «казематиках», иногда в два яруса; позднее на некоторых кораблях часть среднекалиберных орудий по примеру главного калибра переместилась в башни, что, однако, едва ли было обосновано с точки зрения соотношения массы и сложности башенной установки с тем вкладом, который среднекалиберные орудия вносили в огневую мощь корабля. Воззрения того времени предполагали очень небольшие дистанции и скорости боя, позволяя дифференцировать артиллерию по назначению, поэтому в теории средний калибр должен был являть собою едва ли не основную силу корабля. Против старых броненосцев и первых эскадренных броненосцев, имевших обширные участки борта, вообще не защищённые бронёй, средний калибр был вполне действеннен и его наличие в составе вооружения корабля было вполне оправдано. Однако после того, как в конце XIX века покрывать бронёй, пусть сравнительно тонкой — но всё же неуязвимой для артиллерии среднего калибра, стали практически весь надводный борт, средний калибр оказался не в состоянии нанести современным кораблям противника существенных повреждений, при этом он не только занимал немалое место и тоннаж, но и мешал пристрелке орудий главного калибра, для борьбы же с миноносцами его поражающая способность была излишней, а скорострельность недостаточной. Позднее данная идея трансформировалась в установку на корабли орудий «промежуточных» калибров в 8-10 дюймов (203—254 мм), однако на практике они оказались почти так же бесполезны.
Появление и развитие миноносцев заставило вооружать корабли все большим количеством противоминной артиллерии калибра 37-47 мм, а по мере их увеличения в размерах 76-104 мм. Кроме того, броненосцы нередко вооружались одним-двумя торпедными аппаратами для скрытного удара во время боя, а также продолжали оснащаться таранами, поскольку считалось, что они все ещё способны сблизиться для таранного удара, хотя уже русско-японская война показала невозможность этого.
Типичный броненосец того времени представлял собой корабль с водоизмещением от 11 до 17 тысяч тонн, способный развивать скорость до 18 узлов. В качестве силовой установки на всех броненосцах стояли паровые машины тройного расширения, работавшие на два (реже три) вала.
Дальнейшее техническое усовершенствование конструкций броненосцев включало в себя увеличение площади бронирования, увеличения числа орудийных башен, что вело к увеличению водоизмещения, которое в начале XX века составляло от 10000 до 17000 т. Главный калибр орудий 280—330 мм (и даже 343 мм, заменённые позже на 305 мм с большей длиной ствола), броневой пояс 229—450 мм, реже более 500 мм. Классические примеры таких броненосцев — английские «Кинг Эдуард VII» 1903, французские «Републик» 1902, итальянские «Реджина Маргерита» 1901, германские «Дойчланд» 1904, российский «Князь Потёмкин-Таврический» 1900, американский «Джорджия» 1906, японский «Микаса» 1900.

Крупнейшим сражением эскадренных броненосцев было Цусимское сражение 14 мая 1905 в ходе Русско-японской войны 1904—1905. Оно продемонстрировало не только недостатки в организации русского флота, но и возможности артиллерии главного калибра, которые раньше недооценивались, и которые легли в основу кораблей нового типа, названных по родоначальнику класса дредноутами, а позже — линкорами. В России броненосцы были в 1907 году просто переименованы в линкоры. В частности, броненосец «Князь Потемкин-Таврический» стал линкором «Св. Пантелеймон».
Мощнейшими в истории броненосцами можно считать японские «Аки» и «Сацума», французские «Дантон», австро-венгерские типа «Радецкий», а также английские «Лорд Нельсон», иногда к броненосцам относят линейные корабли типа «Кавати». Японские представляли собой промежуточные корабли, включающие в себя элементы и броненосцев (промежуточные и средние калибры артиллерии) и линкоров («Кавачи» чаще называют первым японским дредноутом, за 12 12-дюймовых орудий главного калибра, однако стволы их были разной длины и соответственно баллистики, поэтому такая классификация не совсем верна), говорили скорее об отставании самых восточных кораблестроителей как в плане инженерной мысли, так и экономических возможностей. Английские, заложенные ещё до дредноутов, были пережитком прошлого.
Историческое значение
Появление броненосных кораблей полностью изменило баланс сил на море, как с точки зрения значения различных характеристик самих кораблей, так и по соотношению друг с другом различных морских держав.
К 1850-х годам неоспоримое лидерство в области морской силы принадлежало британскому флоту — 85 деревянных линейных кораблей. Второе место с большим отрывом занимала Франция — 45 линейных кораблей, из которых примерно половина, однако, ещё находилась на различных стадиях постройки. Третья позиция в военно-морской «табели о рангах» принадлежала России с её 50 линейными кораблями, правда, разделёнными между двумя крайне удалёнными друг от друга военно-морскими театрами — Черноморским и Балтийским. Остальные страны существенно уступали как по количественному, так и по качественному составу флотов: количество линейных кораблей исчислялось в них в лучшем случае единицами — за исключение Турции с её 17 линейными кораблями, из которых фактически готовы выйти в море были лишь 6.
Уже через какое-то десятилетие этот расклад сил претерпел самые радикальные изменения. Раньше приступившая к строительству броненосцев Франция теперь уже существенно обгоняла Англию если не по качественным, то, во всяком случае, по количественным показателям своего броненосного флота, обладание которым теперь стало новым мерилом силы государства на море. Впоследствии Британия сумела практически восстановить исходное соотношение, однако говорить о соблюдении «двойного стандарта силы» — гарантированного превосходства Королевского флота над потенциально враждебным Англии союзом любых двух иностранных держав — со временем становилось всё труднее. Россия, напротив, к этому времени по сути потеряла статус великой морской державы, до самого конца 1860-х годов (см. статьи Парижский мирный договор (1856) и Лондонская конвенция (1871)) оказавшись запертой в тесной акватории Балтийского моря с флотом из ограниченного количества хотя и броненосных, но предназначенных исключительно для защиты собственного побережья ограниченно мореходных кораблей. Русский флот «открытого моря» этого периода сводился к крейсерским силам, представленными в основном небронированными винтовыми клиперами. В ещё худшем положении оказалась некогда могущественная на море Османская империя, долгое время вообще не имевшая современных боевых кораблей. Появляются новые силы: США обзаводятся мощным мониторным флотом, не прекращая попыток вывести его в океан; переживает ренессанс морская сила Италии, к 1880-м годам получившей возможность сделать серьёзную заявку на роль одной из ведущих держав Средиземноморья; начинает практически с чистого листа строительство флота находящаяся в процессе объединения Германия; обзаводится уже в 1860-х годах современными броненосцами даже Япония, как бы предвещая грядущее коренное изменение сложившегося порядка на Дальнем Востоке.
На смену устоявшимся типам боевых кораблей, внутри каждого из классов практически идентичных между собой вне зависимости от национальной принадлежности и места постройки, пришли бесконечно разнообразные типы броненосцев, отражавшие наметившиеся к этому времени национальные школы проектирования и тактики боевого применения броненосных кораблей. Намного большая роль стала приходиться на техническую составляющую флота, стало едва ли не решающим влияние технических качеств кораблей на исход их боевого столкновения. Коренным образом изменилось соотношение между кораблями различных классов. В эпоху паруса в большинстве случаев большие размеры корабля означали большую скорость за счёт бо́льших количества парусов и их площади, а также большего размера команды; например, парусные линейные корабли без труда могли догнать лёгкий бриг. На паровом флоте, в особенности — после появления брони и тяжёлой артиллерии, ситуация сложилась совершенно обратная: скорость корабля стала в общем случае тем больше, чем меньше были его размеры и водоизмещение. С другой стороны, если парусные фрегат или корвет несли по сути те же орудия, что и линейный корабль, хотя и в меньшем количестве, деревом своих бортов примерно в той же степени были защищены от его огня, что и он от ответного с их стороны, и при крайней необходимости вполне могли вступить с ним в неравный, но и не безнадёжный бой, то теперь броненосные корабли оказались по сути неуязвимы для любых орудий кроме тех, которые несли они сами. В результате пришедшие на смену фрегатам и корветам паровые крейсера, даже несущие облегчённую броневую защиту, оказались неизмеримо слабее любого полноценного броненосца не только в количественном, но и в качественном отношении, и не были пригодны для участия в генеральном сражении броненосных флотов в какой либо роли кроме обеспечения разведки и охранения транспортных судов. Безбронный корабль же, вне зависимости от своих размеров и вооружения, мог претендовать в лучшем случае на роль рейдера для уничтожения вражеского торгового флота.
Не подтвердила практика и целесообразности строительства небольших кораблей с полноценным бронированием, соответствующих броненосцу примерно в той степени, в которой прежние фрегат и корвет соответствовали линейному кораблю — они оказывались заведомо неполноценными и в качестве броненосца, и в качестве крейсера, не имея ни достаточно мощного вооружения, ни хорошего хода, чего не искупала даже несколько меньшая цена постройки. Единственной нишей, где применение таких кораблей было более или менее оправдано, была береговая оборона и служба на заморских станциях, где они вполне успешно могли отражать вражеские броненосные крейсера или такие же слабые броненосцы второго класса из состава флотов второстепенных держав.
Если раньше индивидуальная сила отдельно взятого корабля мало что означала, поскольку в любом случае составляла лишь малую часть от общей силы эскадры, то в эпоху броненосцев ей начинают уделять первостепенное внимание: после Лиссы эскадренное сражение начинает рассыпаться на отдельные схватки броненосцев друг с другом, в которых слабейший практически неизбежно обречён на поражение. Эти воззрения в том или ином виде просуществуют до Русско-японской войны, окончательно показавшей преимущества эскадренного боя при централизованном управлении огнём всей эскадры.
Техника развивалась очень быстро, поэтому даже один и тот же корабль, прошедший перевооружение, или даже просто основательную модернизацию, зачастую приобретал качественно новые боевые качества, что существенно затрудняло оценку сил флота вероятного противника, ранее абсолютно очевидную и целиком основанную на количестве кораблей и орудий на них. Достаточно упомянуть, к примеру, что на корабле с огнетрубными котлами на разведение паров требовалось около суток, а с пришедшими им на смену водотрубными — лишь несколько часов, что, естественно, полностью меняло его тактические возможности. Некоторое время в качестве показателя мощи корабля могли использоваться калибр артиллерии или толщина пробиваемой ей на полигоне брони, однако уже вскоре появление скорострельных орудий самых различных конструкций, новых сортов порохов, начинённых всё более и более мощной взрывчаткой фугасных снарядов, различных систем приводов наведения, систем управления огнём и тому подобного сделало такое сравнение малопродуктивным, требуя принципиально нового подхода к оценке боевых качеств корабельного состава флота, их сравнению, анализу и выработке программы для дальнейшего развития с учётом всех новинок техники и с учётом постоянно растущего объёма информации в этой области. Совершенно не случайно научный подход к такого рода анализу зародился именно в эпоху брони и пара. Из искусства, постигаемого только на практике, военно-морское дело стало становиться наукой, изучаемой и предподаваемой в стенах академий — первая из них открылась в США в 1884 году.
Основные события
К числу примечательных событий мировой и российской военно-морской истории с участием броненосцев можно отнести:
- Первое сражение между кораблями броненосного типа состоялось в ходе Гражданской войны в США 9 марта 1862 на Хемптонском рейде между кораблями «USS Monitor» и «CSS Virginia» (Merrimac), в ходе которого ни одному из кораблей не удалось нанести серьёзный урон кораблю противника
- Первый бой броненосных флотов у острова Лисса 16 июля 1866 (ныне о. Вис, Хорватия) в ходе Австро-Итальянской войны 1866—1867.
- Цусимское сражение 14 мая 1905 в ходе Русско-японской войны 1904—1905.
- Восстание на броненосце Черноморского флота «Князь Потёмкин-Таврический» во время революции 1905—1907 годов.
Первый российский броненосец «Адмирал Лазарев» был в 1871 году спущен на воду в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе.
См. также
- Корабль-черепаха
- Монитор
- Линейный корабль (парусный)
- Линкор
- Дредноут
- Список линейных кораблей русского флота
- Броненосцы: Гражданская Война в США
- Карманный линкор — официально классифицировался как «броненосец»
Напишите отзыв о статье "Броненосец"
Примечания
Комментарии
- ↑ Станки, у которых боевой штырь (вертикальная ось вращения) вынесен значительно вперёд по отношению к общему центру тяжести орудия, откатной части и поворотной части станка. Наведение орудия по горизонтали осуществлялось за счёт перекатывания роликов поворотной рамы станка по погону (рельсу) на палубе. За счёт выноса оси вращения вперёд, к борту, такие станки обеспечивали большие углы горизонтальной наводки при умеренных размерах орудийных портов, но при этом орудия на них очень медленно наводились на цель.
- ↑ «Станки, у которых боевой штырь (вертикальная ось вращения) находится в центре штырового основания, причём общий центр тяжести орудия, откатной части и поворотной части станка лежит на вертикали, проходящей через вертикальную ось вращения станка или же находится вблизи этой оси. Станки [такого] рода, по сравнению со станками [на переднем штыре], имеют то важное преимущество, что их поворотный механизм работает значительно быстрее и легче, но зато в случае установки в закрытой батарее требуют для получения того же угла обстрела более широких портов, что вредно в смысле увеличения поражаемости батареи. Для устранения этого недостатка станки на центральном штыре снабжают особыми броневыми щитами, называемыми башнеподобными.» — И. А. Яцын, «Курс морской артиллерии», 1915 год.
Литература
- Броненосный флот // Военная энциклопедия : [в 18 т.] / под ред. В. Ф. Новицкого [и др.]. — СПб. ; [М.] : Тип. т-ва И. В. Сытина, 1911—1915.</span>
- Ловягин Р. М.,. Броненосец, военный корабль // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- Conway’s All the World’s Fighting Ships, 1860—1905. — London: Conway Maritime Press, 1980. — ISBN 0-85177-133-5.
- Паркс, Оскар. Линкоры Британской империи. Том 2. «Период проб и ошибок». — СПб.: Галея Принт, 2002. — 106 с. — ISBN 5-8172-0059-7.
- Паркс О. Линкоры Британской империи. Ч.III. Тараны и орудия-монстры. — СПб.: Галея Принт, 2004. — ISBN 5-8172-0086-4.
- Паркс, Оскар. Линкоры Британской империи. Том 4. Его величество стандарт. — СПб.: Галея Принт, 2005. — 120 с. — ISBN 5-8172-0099-6.
- Паркс О. Линкоры Британской империи. Ч.V. На рубеже столетий. — СПб.: Галея Принт, 2005. — ISBN 5-8172-0100-3.
- [www.vokrugsveta.ru/vs/article/6528/ В. Щербаков. Век броненосцев и дредноутов]
Отрывок, характеризующий Броненосец
Во всю дорогу Петя приготавливался к тому, как он, как следует большому и офицеру, не намекая на прежнее знакомство, будет держать себя с Денисовым. Но как только Денисов улыбнулся ему, Петя тотчас же просиял, покраснел от радости и, забыв приготовленную официальность, начал рассказывать о том, как он проехал мимо французов, и как он рад, что ему дано такое поручение, и что он был уже в сражении под Вязьмой, и что там отличился один гусар.– Ну, я г'ад тебя видеть, – перебил его Денисов, и лицо его приняло опять озабоченное выражение.
– Михаил Феоклитыч, – обратился он к эсаулу, – ведь это опять от немца. Он пг'и нем состоит. – И Денисов рассказал эсаулу, что содержание бумаги, привезенной сейчас, состояло в повторенном требовании от генерала немца присоединиться для нападения на транспорт. – Ежели мы его завтг'а не возьмем, они у нас из под носа выг'вут, – заключил он.
В то время как Денисов говорил с эсаулом, Петя, сконфуженный холодным тоном Денисова и предполагая, что причиной этого тона было положение его панталон, так, чтобы никто этого не заметил, под шинелью поправлял взбившиеся панталоны, стараясь иметь вид как можно воинственнее.
– Будет какое нибудь приказание от вашего высокоблагородия? – сказал он Денисову, приставляя руку к козырьку и опять возвращаясь к игре в адъютанта и генерала, к которой он приготовился, – или должен я оставаться при вашем высокоблагородии?
– Приказания?.. – задумчиво сказал Денисов. – Да ты можешь ли остаться до завтрашнего дня?
– Ах, пожалуйста… Можно мне при вас остаться? – вскрикнул Петя.
– Да как тебе именно велено от генег'ала – сейчас вег'нуться? – спросил Денисов. Петя покраснел.
– Да он ничего не велел. Я думаю, можно? – сказал он вопросительно.
– Ну, ладно, – сказал Денисов. И, обратившись к своим подчиненным, он сделал распоряжения о том, чтоб партия шла к назначенному у караулки в лесу месту отдыха и чтобы офицер на киргизской лошади (офицер этот исполнял должность адъютанта) ехал отыскивать Долохова, узнать, где он и придет ли он вечером. Сам же Денисов с эсаулом и Петей намеревался подъехать к опушке леса, выходившей к Шамшеву, с тем, чтобы взглянуть на то место расположения французов, на которое должно было быть направлено завтрашнее нападение.
– Ну, бог'ода, – обратился он к мужику проводнику, – веди к Шамшеву.
Денисов, Петя и эсаул, сопутствуемые несколькими казаками и гусаром, который вез пленного, поехали влево через овраг, к опушке леса.
Дождик прошел, только падал туман и капли воды с веток деревьев. Денисов, эсаул и Петя молча ехали за мужиком в колпаке, который, легко и беззвучно ступая своими вывернутыми в лаптях ногами по кореньям и мокрым листьям, вел их к опушке леса.
Выйдя на изволок, мужик приостановился, огляделся и направился к редевшей стене деревьев. У большого дуба, еще не скинувшего листа, он остановился и таинственно поманил к себе рукою.
Денисов и Петя подъехали к нему. С того места, на котором остановился мужик, были видны французы. Сейчас за лесом шло вниз полубугром яровое поле. Вправо, через крутой овраг, виднелась небольшая деревушка и барский домик с разваленными крышами. В этой деревушке и в барском доме, и по всему бугру, в саду, у колодцев и пруда, и по всей дороге в гору от моста к деревне, не более как в двухстах саженях расстояния, виднелись в колеблющемся тумане толпы народа. Слышны были явственно их нерусские крики на выдиравшихся в гору лошадей в повозках и призывы друг другу.
– Пленного дайте сюда, – негромко сказал Денисоп, не спуская глаз с французов.
Казак слез с лошади, снял мальчика и вместе с ним подошел к Денисову. Денисов, указывая на французов, спрашивал, какие и какие это были войска. Мальчик, засунув свои озябшие руки в карманы и подняв брови, испуганно смотрел на Денисова и, несмотря на видимое желание сказать все, что он знал, путался в своих ответах и только подтверждал то, что спрашивал Денисов. Денисов, нахмурившись, отвернулся от него и обратился к эсаулу, сообщая ему свои соображения.
Петя, быстрыми движениями поворачивая голову, оглядывался то на барабанщика, то на Денисова, то на эсаула, то на французов в деревне и на дороге, стараясь не пропустить чего нибудь важного.
– Пг'идет, не пг'идет Долохов, надо бг'ать!.. А? – сказал Денисов, весело блеснув глазами.
– Место удобное, – сказал эсаул.
– Пехоту низом пошлем – болотами, – продолжал Денисов, – они подлезут к саду; вы заедете с казаками оттуда, – Денисов указал на лес за деревней, – а я отсюда, с своими гусаг'ами. И по выстг'елу…
– Лощиной нельзя будет – трясина, – сказал эсаул. – Коней увязишь, надо объезжать полевее…
В то время как они вполголоса говорили таким образом, внизу, в лощине от пруда, щелкнул один выстрел, забелелся дымок, другой и послышался дружный, как будто веселый крик сотен голосов французов, бывших на полугоре. В первую минуту и Денисов и эсаул подались назад. Они были так близко, что им показалось, что они были причиной этих выстрелов и криков. Но выстрелы и крики не относились к ним. Низом, по болотам, бежал человек в чем то красном. Очевидно, по нем стреляли и на него кричали французы.
– Ведь это Тихон наш, – сказал эсаул.
– Он! он и есть!
– Эка шельма, – сказал Денисов.
– Уйдет! – щуря глаза, сказал эсаул.
Человек, которого они называли Тихоном, подбежав к речке, бултыхнулся в нее так, что брызги полетели, и, скрывшись на мгновенье, весь черный от воды, выбрался на четвереньках и побежал дальше. Французы, бежавшие за ним, остановились.
– Ну ловок, – сказал эсаул.
– Экая бестия! – с тем же выражением досады проговорил Денисов. – И что он делал до сих пор?
– Это кто? – спросил Петя.
– Это наш пластун. Я его посылал языка взять.
– Ах, да, – сказал Петя с первого слова Денисова, кивая головой, как будто он все понял, хотя он решительно не понял ни одного слова.
Тихон Щербатый был один из самых нужных людей в партии. Он был мужик из Покровского под Гжатью. Когда, при начале своих действий, Денисов пришел в Покровское и, как всегда, призвав старосту, спросил о том, что им известно про французов, староста отвечал, как отвечали и все старосты, как бы защищаясь, что они ничего знать не знают, ведать не ведают. Но когда Денисов объяснил им, что его цель бить французов, и когда он спросил, не забредали ли к ним французы, то староста сказал, что мародеры бывали точно, но что у них в деревне только один Тишка Щербатый занимался этими делами. Денисов велел позвать к себе Тихона и, похвалив его за его деятельность, сказал при старосте несколько слов о той верности царю и отечеству и ненависти к французам, которую должны блюсти сыны отечества.
– Мы французам худого не делаем, – сказал Тихон, видимо оробев при этих словах Денисова. – Мы только так, значит, по охоте баловались с ребятами. Миродеров точно десятка два побили, а то мы худого не делали… – На другой день, когда Денисов, совершенно забыв про этого мужика, вышел из Покровского, ему доложили, что Тихон пристал к партии и просился, чтобы его при ней оставили. Денисов велел оставить его.
Тихон, сначала исправлявший черную работу раскладки костров, доставления воды, обдирания лошадей и т. п., скоро оказал большую охоту и способность к партизанской войне. Он по ночам уходил на добычу и всякий раз приносил с собой платье и оружие французское, а когда ему приказывали, то приводил и пленных. Денисов отставил Тихона от работ, стал брать его с собою в разъезды и зачислил в казаки.
Тихон не любил ездить верхом и всегда ходил пешком, никогда не отставая от кавалерии. Оружие его составляли мушкетон, который он носил больше для смеха, пика и топор, которым он владел, как волк владеет зубами, одинаково легко выбирая ими блох из шерсти и перекусывая толстые кости. Тихон одинаково верно, со всего размаха, раскалывал топором бревна и, взяв топор за обух, выстрагивал им тонкие колышки и вырезывал ложки. В партии Денисова Тихон занимал свое особенное, исключительное место. Когда надо было сделать что нибудь особенно трудное и гадкое – выворотить плечом в грязи повозку, за хвост вытащить из болота лошадь, ободрать ее, залезть в самую середину французов, пройти в день по пятьдесят верст, – все указывали, посмеиваясь, на Тихона.
– Что ему, черту, делается, меренина здоровенный, – говорили про него.
Один раз француз, которого брал Тихон, выстрелил в него из пистолета и попал ему в мякоть спины. Рана эта, от которой Тихон лечился только водкой, внутренне и наружно, была предметом самых веселых шуток во всем отряде и шуток, которым охотно поддавался Тихон.
– Что, брат, не будешь? Али скрючило? – смеялись ему казаки, и Тихон, нарочно скорчившись и делая рожи, притворяясь, что он сердится, самыми смешными ругательствами бранил французов. Случай этот имел на Тихона только то влияние, что после своей раны он редко приводил пленных.
Тихон был самый полезный и храбрый человек в партии. Никто больше его не открыл случаев нападения, никто больше его не побрал и не побил французов; и вследствие этого он был шут всех казаков, гусаров и сам охотно поддавался этому чину. Теперь Тихон был послан Денисовым, в ночь еще, в Шамшево для того, чтобы взять языка. Но, или потому, что он не удовлетворился одним французом, или потому, что он проспал ночь, он днем залез в кусты, в самую середину французов и, как видел с горы Денисов, был открыт ими.
Поговорив еще несколько времени с эсаулом о завтрашнем нападении, которое теперь, глядя на близость французов, Денисов, казалось, окончательно решил, он повернул лошадь и поехал назад.
– Ну, бг'ат, тепег'ь поедем обсушимся, – сказал он Пете.
Подъезжая к лесной караулке, Денисов остановился, вглядываясь в лес. По лесу, между деревьев, большими легкими шагами шел на длинных ногах, с длинными мотающимися руками, человек в куртке, лаптях и казанской шляпе, с ружьем через плечо и топором за поясом. Увидав Денисова, человек этот поспешно швырнул что то в куст и, сняв с отвисшими полями мокрую шляпу, подошел к начальнику. Это был Тихон. Изрытое оспой и морщинами лицо его с маленькими узкими глазами сияло самодовольным весельем. Он, высоко подняв голову и как будто удерживаясь от смеха, уставился на Денисова.
– Ну где пг'опадал? – сказал Денисов.
– Где пропадал? За французами ходил, – смело и поспешно отвечал Тихон хриплым, но певучим басом.
– Зачем же ты днем полез? Скотина! Ну что ж, не взял?..
– Взять то взял, – сказал Тихон.
– Где ж он?
– Да я его взял сперва наперво на зорьке еще, – продолжал Тихон, переставляя пошире плоские, вывернутые в лаптях ноги, – да и свел в лес. Вижу, не ладен. Думаю, дай схожу, другого поаккуратнее какого возьму.
– Ишь, шельма, так и есть, – сказал Денисов эсаулу. – Зачем же ты этого не пг'ивел?
– Да что ж его водить то, – сердито и поспешно перебил Тихон, – не гожающий. Разве я не знаю, каких вам надо?
– Эка бестия!.. Ну?..
– Пошел за другим, – продолжал Тихон, – подполоз я таким манером в лес, да и лег. – Тихон неожиданно и гибко лег на брюхо, представляя в лицах, как он это сделал. – Один и навернись, – продолжал он. – Я его таким манером и сграбь. – Тихон быстро, легко вскочил. – Пойдем, говорю, к полковнику. Как загалдит. А их тут четверо. Бросились на меня с шпажками. Я на них таким манером топором: что вы, мол, Христос с вами, – вскрикнул Тихон, размахнув руками и грозно хмурясь, выставляя грудь.
– То то мы с горы видели, как ты стречка задавал через лужи то, – сказал эсаул, суживая свои блестящие глаза.
Пете очень хотелось смеяться, но он видел, что все удерживались от смеха. Он быстро переводил глаза с лица Тихона на лицо эсаула и Денисова, не понимая того, что все это значило.
– Ты дуг'ака то не представляй, – сказал Денисов, сердито покашливая. – Зачем пег'вого не пг'ивел?
Тихон стал чесать одной рукой спину, другой голову, и вдруг вся рожа его растянулась в сияющую глупую улыбку, открывшую недостаток зуба (за что он и прозван Щербатый). Денисов улыбнулся, и Петя залился веселым смехом, к которому присоединился и сам Тихон.
– Да что, совсем несправный, – сказал Тихон. – Одежонка плохенькая на нем, куда же его водить то. Да и грубиян, ваше благородие. Как же, говорит, я сам анаральский сын, не пойду, говорит.
– Экая скотина! – сказал Денисов. – Мне расспросить надо…
– Да я его спрашивал, – сказал Тихон. – Он говорит: плохо зн аком. Наших, говорит, и много, да всё плохие; только, говорит, одна названия. Ахнете, говорит, хорошенько, всех заберете, – заключил Тихон, весело и решительно взглянув в глаза Денисова.
– Вот я те всыплю сотню гог'ячих, ты и будешь дуг'ака то ког'чить, – сказал Денисов строго.
– Да что же серчать то, – сказал Тихон, – что ж, я не видал французов ваших? Вот дай позатемняет, я табе каких хошь, хоть троих приведу.
– Ну, поедем, – сказал Денисов, и до самой караулки он ехал, сердито нахмурившись и молча.
Тихон зашел сзади, и Петя слышал, как смеялись с ним и над ним казаки о каких то сапогах, которые он бросил в куст.
Когда прошел тот овладевший им смех при словах и улыбке Тихона, и Петя понял на мгновенье, что Тихон этот убил человека, ему сделалось неловко. Он оглянулся на пленного барабанщика, и что то кольнуло его в сердце. Но эта неловкость продолжалась только одно мгновенье. Он почувствовал необходимость повыше поднять голову, подбодриться и расспросить эсаула с значительным видом о завтрашнем предприятии, с тем чтобы не быть недостойным того общества, в котором он находился.
Посланный офицер встретил Денисова на дороге с известием, что Долохов сам сейчас приедет и что с его стороны все благополучно.
Денисов вдруг повеселел и подозвал к себе Петю.
– Ну, г'асскажи ты мне пг'о себя, – сказал он.
Петя при выезде из Москвы, оставив своих родных, присоединился к своему полку и скоро после этого был взят ординарцем к генералу, командовавшему большим отрядом. Со времени своего производства в офицеры, и в особенности с поступления в действующую армию, где он участвовал в Вяземском сражении, Петя находился в постоянно счастливо возбужденном состоянии радости на то, что он большой, и в постоянно восторженной поспешности не пропустить какого нибудь случая настоящего геройства. Он был очень счастлив тем, что он видел и испытал в армии, но вместе с тем ему все казалось, что там, где его нет, там то теперь и совершается самое настоящее, геройское. И он торопился поспеть туда, где его не было.
Когда 21 го октября его генерал выразил желание послать кого нибудь в отряд Денисова, Петя так жалостно просил, чтобы послать его, что генерал не мог отказать. Но, отправляя его, генерал, поминая безумный поступок Пети в Вяземском сражении, где Петя, вместо того чтобы ехать дорогой туда, куда он был послан, поскакал в цепь под огонь французов и выстрелил там два раза из своего пистолета, – отправляя его, генерал именно запретил Пете участвовать в каких бы то ни было действиях Денисова. От этого то Петя покраснел и смешался, когда Денисов спросил, можно ли ему остаться. До выезда на опушку леса Петя считал, что ему надобно, строго исполняя свой долг, сейчас же вернуться. Но когда он увидал французов, увидал Тихона, узнал, что в ночь непременно атакуют, он, с быстротою переходов молодых людей от одного взгляда к другому, решил сам с собою, что генерал его, которого он до сих пор очень уважал, – дрянь, немец, что Денисов герой, и эсаул герой, и что Тихон герой, и что ему было бы стыдно уехать от них в трудную минуту.
Уже смеркалось, когда Денисов с Петей и эсаулом подъехали к караулке. В полутьме виднелись лошади в седлах, казаки, гусары, прилаживавшие шалашики на поляне и (чтобы не видели дыма французы) разводившие красневший огонь в лесном овраге. В сенях маленькой избушки казак, засучив рукава, рубил баранину. В самой избе были три офицера из партии Денисова, устроивавшие стол из двери. Петя снял, отдав сушить, свое мокрое платье и тотчас принялся содействовать офицерам в устройстве обеденного стола.
Через десять минут был готов стол, покрытый салфеткой. На столе была водка, ром в фляжке, белый хлеб и жареная баранина с солью.
Сидя вместе с офицерами за столом и разрывая руками, по которым текло сало, жирную душистую баранину, Петя находился в восторженном детском состоянии нежной любви ко всем людям и вследствие того уверенности в такой же любви к себе других людей.
– Так что же вы думаете, Василий Федорович, – обратился он к Денисову, – ничего, что я с вами останусь на денек? – И, не дожидаясь ответа, он сам отвечал себе: – Ведь мне велено узнать, ну вот я и узнаю… Только вы меня пустите в самую… в главную. Мне не нужно наград… А мне хочется… – Петя стиснул зубы и оглянулся, подергивая кверху поднятой головой и размахивая рукой.
– В самую главную… – повторил Денисов, улыбаясь.
– Только уж, пожалуйста, мне дайте команду совсем, чтобы я командовал, – продолжал Петя, – ну что вам стоит? Ах, вам ножик? – обратился он к офицеру, хотевшему отрезать баранины. И он подал свой складной ножик.
Офицер похвалил ножик.
– Возьмите, пожалуйста, себе. У меня много таких… – покраснев, сказал Петя. – Батюшки! Я и забыл совсем, – вдруг вскрикнул он. – У меня изюм чудесный, знаете, такой, без косточек. У нас маркитант новый – и такие прекрасные вещи. Я купил десять фунтов. Я привык что нибудь сладкое. Хотите?.. – И Петя побежал в сени к своему казаку, принес торбы, в которых было фунтов пять изюму. – Кушайте, господа, кушайте.
– А то не нужно ли вам кофейник? – обратился он к эсаулу. – Я у нашего маркитанта купил, чудесный! У него прекрасные вещи. И он честный очень. Это главное. Я вам пришлю непременно. А может быть еще, у вас вышли, обились кремни, – ведь это бывает. Я взял с собою, у меня вот тут… – он показал на торбы, – сто кремней. Я очень дешево купил. Возьмите, пожалуйста, сколько нужно, а то и все… – И вдруг, испугавшись, не заврался ли он, Петя остановился и покраснел.
Он стал вспоминать, не сделал ли он еще каких нибудь глупостей. И, перебирая воспоминания нынешнего дня, воспоминание о французе барабанщике представилось ему. «Нам то отлично, а ему каково? Куда его дели? Покормили ли его? Не обидели ли?» – подумал он. Но заметив, что он заврался о кремнях, он теперь боялся.
«Спросить бы можно, – думал он, – да скажут: сам мальчик и мальчика пожалел. Я им покажу завтра, какой я мальчик! Стыдно будет, если я спрошу? – думал Петя. – Ну, да все равно!» – и тотчас же, покраснев и испуганно глядя на офицеров, не будет ли в их лицах насмешки, он сказал:
– А можно позвать этого мальчика, что взяли в плен? дать ему чего нибудь поесть… может…
– Да, жалкий мальчишка, – сказал Денисов, видимо, не найдя ничего стыдного в этом напоминании. – Позвать его сюда. Vincent Bosse его зовут. Позвать.
– Я позову, – сказал Петя.
– Позови, позови. Жалкий мальчишка, – повторил Денисов.
Петя стоял у двери, когда Денисов сказал это. Петя пролез между офицерами и близко подошел к Денисову.
– Позвольте вас поцеловать, голубчик, – сказал он. – Ах, как отлично! как хорошо! – И, поцеловав Денисова, он побежал на двор.
– Bosse! Vincent! – прокричал Петя, остановясь у двери.
– Вам кого, сударь, надо? – сказал голос из темноты. Петя отвечал, что того мальчика француза, которого взяли нынче.
– А! Весеннего? – сказал казак.
Имя его Vincent уже переделали: казаки – в Весеннего, а мужики и солдаты – в Висеню. В обеих переделках это напоминание о весне сходилось с представлением о молоденьком мальчике.
– Он там у костра грелся. Эй, Висеня! Висеня! Весенний! – послышались в темноте передающиеся голоса и смех.
– А мальчонок шустрый, – сказал гусар, стоявший подле Пети. – Мы его покормили давеча. Страсть голодный был!
В темноте послышались шаги и, шлепая босыми ногами по грязи, барабанщик подошел к двери.
– Ah, c'est vous! – сказал Петя. – Voulez vous manger? N'ayez pas peur, on ne vous fera pas de mal, – прибавил он, робко и ласково дотрогиваясь до его руки. – Entrez, entrez. [Ах, это вы! Хотите есть? Не бойтесь, вам ничего не сделают. Войдите, войдите.]
– Merci, monsieur, [Благодарю, господин.] – отвечал барабанщик дрожащим, почти детским голосом и стал обтирать о порог свои грязные ноги. Пете многое хотелось сказать барабанщику, но он не смел. Он, переминаясь, стоял подле него в сенях. Потом в темноте взял его за руку и пожал ее.
– Entrez, entrez, – повторил он только нежным шепотом.
«Ах, что бы мне ему сделать!» – проговорил сам с собою Петя и, отворив дверь, пропустил мимо себя мальчика.
Когда барабанщик вошел в избушку, Петя сел подальше от него, считая для себя унизительным обращать на него внимание. Он только ощупывал в кармане деньги и был в сомненье, не стыдно ли будет дать их барабанщику.
От барабанщика, которому по приказанию Денисова дали водки, баранины и которого Денисов велел одеть в русский кафтан, с тем, чтобы, не отсылая с пленными, оставить его при партии, внимание Пети было отвлечено приездом Долохова. Петя в армии слышал много рассказов про необычайные храбрость и жестокость Долохова с французами, и потому с тех пор, как Долохов вошел в избу, Петя, не спуская глаз, смотрел на него и все больше подбадривался, подергивая поднятой головой, с тем чтобы не быть недостойным даже и такого общества, как Долохов.
Наружность Долохова странно поразила Петю своей простотой.
Денисов одевался в чекмень, носил бороду и на груди образ Николая чудотворца и в манере говорить, во всех приемах выказывал особенность своего положения. Долохов же, напротив, прежде, в Москве, носивший персидский костюм, теперь имел вид самого чопорного гвардейского офицера. Лицо его было чисто выбрито, одет он был в гвардейский ваточный сюртук с Георгием в петлице и в прямо надетой простой фуражке. Он снял в углу мокрую бурку и, подойдя к Денисову, не здороваясь ни с кем, тотчас же стал расспрашивать о деле. Денисов рассказывал ему про замыслы, которые имели на их транспорт большие отряды, и про присылку Пети, и про то, как он отвечал обоим генералам. Потом Денисов рассказал все, что он знал про положение французского отряда.
– Это так, но надо знать, какие и сколько войск, – сказал Долохов, – надо будет съездить. Не зная верно, сколько их, пускаться в дело нельзя. Я люблю аккуратно дело делать. Вот, не хочет ли кто из господ съездить со мной в их лагерь. У меня мундиры с собою.
– Я, я… я поеду с вами! – вскрикнул Петя.
– Совсем и тебе не нужно ездить, – сказал Денисов, обращаясь к Долохову, – а уж его я ни за что не пущу.
– Вот прекрасно! – вскрикнул Петя, – отчего же мне не ехать?..
– Да оттого, что незачем.
– Ну, уж вы меня извините, потому что… потому что… я поеду, вот и все. Вы возьмете меня? – обратился он к Долохову.
– Отчего ж… – рассеянно отвечал Долохов, вглядываясь в лицо французского барабанщика.
– Давно у тебя молодчик этот? – спросил он у Денисова.
– Нынче взяли, да ничего не знает. Я оставил его пг'и себе.
– Ну, а остальных ты куда деваешь? – сказал Долохов.
– Как куда? Отсылаю под г'асписки! – вдруг покраснев, вскрикнул Денисов. – И смело скажу, что на моей совести нет ни одного человека. Разве тебе тг'удно отослать тг'идцать ли, тг'иста ли человек под конвоем в гог'од, чем маг'ать, я пг'ямо скажу, честь солдата.
– Вот молоденькому графчику в шестнадцать лет говорить эти любезности прилично, – с холодной усмешкой сказал Долохов, – а тебе то уж это оставить пора.
– Что ж, я ничего не говорю, я только говорю, что я непременно поеду с вами, – робко сказал Петя.
– А нам с тобой пора, брат, бросить эти любезности, – продолжал Долохов, как будто он находил особенное удовольствие говорить об этом предмете, раздражавшем Денисова. – Ну этого ты зачем взял к себе? – сказал он, покачивая головой. – Затем, что тебе его жалко? Ведь мы знаем эти твои расписки. Ты пошлешь их сто человек, а придут тридцать. Помрут с голоду или побьют. Так не все ли равно их и не брать?
Эсаул, щуря светлые глаза, одобрительно кивал головой.
– Это все г'авно, тут Рассуждать нечего. Я на свою душу взять не хочу. Ты говог'ишь – помг'ут. Ну, хог'ошо. Только бы не от меня.
Долохов засмеялся.
– Кто же им не велел меня двадцать раз поймать? А ведь поймают – меня и тебя, с твоим рыцарством, все равно на осинку. – Он помолчал. – Однако надо дело делать. Послать моего казака с вьюком! У меня два французских мундира. Что ж, едем со мной? – спросил он у Пети.
– Я? Да, да, непременно, – покраснев почти до слез, вскрикнул Петя, взглядывая на Денисова.
Опять в то время, как Долохов заспорил с Денисовым о том, что надо делать с пленными, Петя почувствовал неловкость и торопливость; но опять не успел понять хорошенько того, о чем они говорили. «Ежели так думают большие, известные, стало быть, так надо, стало быть, это хорошо, – думал он. – А главное, надо, чтобы Денисов не смел думать, что я послушаюсь его, что он может мной командовать. Непременно поеду с Долоховым во французский лагерь. Он может, и я могу».
На все убеждения Денисова не ездить Петя отвечал, что он тоже привык все делать аккуратно, а не наобум Лазаря, и что он об опасности себе никогда не думает.
– Потому что, – согласитесь сами, – если не знать верно, сколько там, от этого зависит жизнь, может быть, сотен, а тут мы одни, и потом мне очень этого хочется, и непременно, непременно поеду, вы уж меня не удержите, – говорил он, – только хуже будет…
Одевшись в французские шинели и кивера, Петя с Долоховым поехали на ту просеку, с которой Денисов смотрел на лагерь, и, выехав из леса в совершенной темноте, спустились в лощину. Съехав вниз, Долохов велел сопровождавшим его казакам дожидаться тут и поехал крупной рысью по дороге к мосту. Петя, замирая от волнения, ехал с ним рядом.
– Если попадемся, я живым не отдамся, у меня пистолет, – прошептал Петя.
– Не говори по русски, – быстрым шепотом сказал Долохов, и в ту же минуту в темноте послышался оклик: «Qui vive?» [Кто идет?] и звон ружья.
Кровь бросилась в лицо Пети, и он схватился за пистолет.
– Lanciers du sixieme, [Уланы шестого полка.] – проговорил Долохов, не укорачивая и не прибавляя хода лошади. Черная фигура часового стояла на мосту.
– Mot d'ordre? [Отзыв?] – Долохов придержал лошадь и поехал шагом.
– Dites donc, le colonel Gerard est ici? [Скажи, здесь ли полковник Жерар?] – сказал он.
– Mot d'ordre! – не отвечая, сказал часовой, загораживая дорогу.
– Quand un officier fait sa ronde, les sentinelles ne demandent pas le mot d'ordre… – крикнул Долохов, вдруг вспыхнув, наезжая лошадью на часового. – Je vous demande si le colonel est ici? [Когда офицер объезжает цепь, часовые не спрашивают отзыва… Я спрашиваю, тут ли полковник?]
И, не дожидаясь ответа от посторонившегося часового, Долохов шагом поехал в гору.
Заметив черную тень человека, переходящего через дорогу, Долохов остановил этого человека и спросил, где командир и офицеры? Человек этот, с мешком на плече, солдат, остановился, близко подошел к лошади Долохова, дотрогиваясь до нее рукою, и просто и дружелюбно рассказал, что командир и офицеры были выше на горе, с правой стороны, на дворе фермы (так он называл господскую усадьбу).
Проехав по дороге, с обеих сторон которой звучал от костров французский говор, Долохов повернул во двор господского дома. Проехав в ворота, он слез с лошади и подошел к большому пылавшему костру, вокруг которого, громко разговаривая, сидело несколько человек. В котелке с краю варилось что то, и солдат в колпаке и синей шинели, стоя на коленях, ярко освещенный огнем, мешал в нем шомполом.
– Oh, c'est un dur a cuire, [С этим чертом не сладишь.] – говорил один из офицеров, сидевших в тени с противоположной стороны костра.
– Il les fera marcher les lapins… [Он их проберет…] – со смехом сказал другой. Оба замолкли, вглядываясь в темноту на звук шагов Долохова и Пети, подходивших к костру с своими лошадьми.
– Bonjour, messieurs! [Здравствуйте, господа!] – громко, отчетливо выговорил Долохов.
Офицеры зашевелились в тени костра, и один, высокий офицер с длинной шеей, обойдя огонь, подошел к Долохову.
– C'est vous, Clement? – сказал он. – D'ou, diable… [Это вы, Клеман? Откуда, черт…] – но он не докончил, узнав свою ошибку, и, слегка нахмурившись, как с незнакомым, поздоровался с Долоховым, спрашивая его, чем он может служить. Долохов рассказал, что он с товарищем догонял свой полк, и спросил, обращаясь ко всем вообще, не знали ли офицеры чего нибудь о шестом полку. Никто ничего не знал; и Пете показалось, что офицеры враждебно и подозрительно стали осматривать его и Долохова. Несколько секунд все молчали.
– Si vous comptez sur la soupe du soir, vous venez trop tard, [Если вы рассчитываете на ужин, то вы опоздали.] – сказал с сдержанным смехом голос из за костра.
Долохов отвечал, что они сыты и что им надо в ночь же ехать дальше.
Он отдал лошадей солдату, мешавшему в котелке, и на корточках присел у костра рядом с офицером с длинной шеей. Офицер этот, не спуская глаз, смотрел на Долохова и переспросил его еще раз: какого он был полка? Долохов не отвечал, как будто не слыхал вопроса, и, закуривая коротенькую французскую трубку, которую он достал из кармана, спрашивал офицеров о том, в какой степени безопасна дорога от казаков впереди их.
– Les brigands sont partout, [Эти разбойники везде.] – отвечал офицер из за костра.
Долохов сказал, что казаки страшны только для таких отсталых, как он с товарищем, но что на большие отряды казаки, вероятно, не смеют нападать, прибавил он вопросительно. Никто ничего не ответил.
«Ну, теперь он уедет», – всякую минуту думал Петя, стоя перед костром и слушая его разговор.
Но Долохов начал опять прекратившийся разговор и прямо стал расспрашивать, сколько у них людей в батальоне, сколько батальонов, сколько пленных. Спрашивая про пленных русских, которые были при их отряде, Долохов сказал:
– La vilaine affaire de trainer ces cadavres apres soi. Vaudrait mieux fusiller cette canaille, [Скверное дело таскать за собой эти трупы. Лучше бы расстрелять эту сволочь.] – и громко засмеялся таким странным смехом, что Пете показалось, французы сейчас узнают обман, и он невольно отступил на шаг от костра. Никто не ответил на слова и смех Долохова, и французский офицер, которого не видно было (он лежал, укутавшись шинелью), приподнялся и прошептал что то товарищу. Долохов встал и кликнул солдата с лошадьми.
«Подадут или нет лошадей?» – думал Петя, невольно приближаясь к Долохову.
Лошадей подали.
– Bonjour, messieurs, [Здесь: прощайте, господа.] – сказал Долохов.
Петя хотел сказать bonsoir [добрый вечер] и не мог договорить слова. Офицеры что то шепотом говорили между собою. Долохов долго садился на лошадь, которая не стояла; потом шагом поехал из ворот. Петя ехал подле него, желая и не смея оглянуться, чтоб увидать, бегут или не бегут за ними французы.
Выехав на дорогу, Долохов поехал не назад в поле, а вдоль по деревне. В одном месте он остановился, прислушиваясь.
– Слышишь? – сказал он.
Петя узнал звуки русских голосов, увидал у костров темные фигуры русских пленных. Спустившись вниз к мосту, Петя с Долоховым проехали часового, который, ни слова не сказав, мрачно ходил по мосту, и выехали в лощину, где дожидались казаки.
– Ну, теперь прощай. Скажи Денисову, что на заре, по первому выстрелу, – сказал Долохов и хотел ехать, но Петя схватился за него рукою.
– Нет! – вскрикнул он, – вы такой герой. Ах, как хорошо! Как отлично! Как я вас люблю.
– Хорошо, хорошо, – сказал Долохов, но Петя не отпускал его, и в темноте Долохов рассмотрел, что Петя нагибался к нему. Он хотел поцеловаться. Долохов поцеловал его, засмеялся и, повернув лошадь, скрылся в темноте.
Х
Вернувшись к караулке, Петя застал Денисова в сенях. Денисов в волнении, беспокойстве и досаде на себя, что отпустил Петю, ожидал его.
– Слава богу! – крикнул он. – Ну, слава богу! – повторял он, слушая восторженный рассказ Пети. – И чег'т тебя возьми, из за тебя не спал! – проговорил Денисов. – Ну, слава богу, тепег'ь ложись спать. Еще вздг'емнем до утг'а.
– Да… Нет, – сказал Петя. – Мне еще не хочется спать. Да я и себя знаю, ежели засну, так уж кончено. И потом я привык не спать перед сражением.
Петя посидел несколько времени в избе, радостно вспоминая подробности своей поездки и живо представляя себе то, что будет завтра. Потом, заметив, что Денисов заснул, он встал и пошел на двор.
На дворе еще было совсем темно. Дождик прошел, но капли еще падали с деревьев. Вблизи от караулки виднелись черные фигуры казачьих шалашей и связанных вместе лошадей. За избушкой чернелись две фуры, у которых стояли лошади, и в овраге краснелся догоравший огонь. Казаки и гусары не все спали: кое где слышались, вместе с звуком падающих капель и близкого звука жевания лошадей, негромкие, как бы шепчущиеся голоса.
Петя вышел из сеней, огляделся в темноте и подошел к фурам. Под фурами храпел кто то, и вокруг них стояли, жуя овес, оседланные лошади. В темноте Петя узнал свою лошадь, которую он называл Карабахом, хотя она была малороссийская лошадь, и подошел к ней.
– Ну, Карабах, завтра послужим, – сказал он, нюхая ее ноздри и целуя ее.
– Что, барин, не спите? – сказал казак, сидевший под фурой.
– Нет; а… Лихачев, кажется, тебя звать? Ведь я сейчас только приехал. Мы ездили к французам. – И Петя подробно рассказал казаку не только свою поездку, но и то, почему он ездил и почему он считает, что лучше рисковать своей жизнью, чем делать наобум Лазаря.
– Что же, соснули бы, – сказал казак.
– Нет, я привык, – отвечал Петя. – А что, у вас кремни в пистолетах не обились? Я привез с собою. Не нужно ли? Ты возьми.
Казак высунулся из под фуры, чтобы поближе рассмотреть Петю.
– Оттого, что я привык все делать аккуратно, – сказал Петя. – Иные так, кое как, не приготовятся, потом и жалеют. Я так не люблю.
– Это точно, – сказал казак.
– Да еще вот что, пожалуйста, голубчик, наточи мне саблю; затупи… (но Петя боялся солгать) она никогда отточена не была. Можно это сделать?
– Отчего ж, можно.
Лихачев встал, порылся в вьюках, и Петя скоро услыхал воинственный звук стали о брусок. Он влез на фуру и сел на край ее. Казак под фурой точил саблю.
– А что же, спят молодцы? – сказал Петя.
– Кто спит, а кто так вот.
– Ну, а мальчик что?
– Весенний то? Он там, в сенцах, завалился. Со страху спится. Уж рад то был.
Долго после этого Петя молчал, прислушиваясь к звукам. В темноте послышались шаги и показалась черная фигура.
– Что точишь? – спросил человек, подходя к фуре.
– А вот барину наточить саблю.
– Хорошее дело, – сказал человек, который показался Пете гусаром. – У вас, что ли, чашка осталась?
– А вон у колеса.
Гусар взял чашку.
– Небось скоро свет, – проговорил он, зевая, и прошел куда то.
Петя должен бы был знать, что он в лесу, в партии Денисова, в версте от дороги, что он сидит на фуре, отбитой у французов, около которой привязаны лошади, что под ним сидит казак Лихачев и натачивает ему саблю, что большое черное пятно направо – караулка, и красное яркое пятно внизу налево – догоравший костер, что человек, приходивший за чашкой, – гусар, который хотел пить; но он ничего не знал и не хотел знать этого. Он был в волшебном царстве, в котором ничего не было похожего на действительность. Большое черное пятно, может быть, точно была караулка, а может быть, была пещера, которая вела в самую глубь земли. Красное пятно, может быть, был огонь, а может быть – глаз огромного чудовища. Может быть, он точно сидит теперь на фуре, а очень может быть, что он сидит не на фуре, а на страшно высокой башне, с которой ежели упасть, то лететь бы до земли целый день, целый месяц – все лететь и никогда не долетишь. Может быть, что под фурой сидит просто казак Лихачев, а очень может быть, что это – самый добрый, храбрый, самый чудесный, самый превосходный человек на свете, которого никто не знает. Может быть, это точно проходил гусар за водой и пошел в лощину, а может быть, он только что исчез из виду и совсем исчез, и его не было.
Что бы ни увидал теперь Петя, ничто бы не удивило его. Он был в волшебном царстве, в котором все было возможно.
Он поглядел на небо. И небо было такое же волшебное, как и земля. На небе расчищало, и над вершинами дерев быстро бежали облака, как будто открывая звезды. Иногда казалось, что на небе расчищало и показывалось черное, чистое небо. Иногда казалось, что эти черные пятна были тучки. Иногда казалось, что небо высоко, высоко поднимается над головой; иногда небо спускалось совсем, так что рукой можно было достать его.
Петя стал закрывать глаза и покачиваться.
Капли капали. Шел тихий говор. Лошади заржали и подрались. Храпел кто то.
– Ожиг, жиг, ожиг, жиг… – свистела натачиваемая сабля. И вдруг Петя услыхал стройный хор музыки, игравшей какой то неизвестный, торжественно сладкий гимн. Петя был музыкален, так же как Наташа, и больше Николая, но он никогда не учился музыке, не думал о музыке, и потому мотивы, неожиданно приходившие ему в голову, были для него особенно новы и привлекательны. Музыка играла все слышнее и слышнее. Напев разрастался, переходил из одного инструмента в другой. Происходило то, что называется фугой, хотя Петя не имел ни малейшего понятия о том, что такое фуга. Каждый инструмент, то похожий на скрипку, то на трубы – но лучше и чище, чем скрипки и трубы, – каждый инструмент играл свое и, не доиграв еще мотива, сливался с другим, начинавшим почти то же, и с третьим, и с четвертым, и все они сливались в одно и опять разбегались, и опять сливались то в торжественно церковное, то в ярко блестящее и победное.
«Ах, да, ведь это я во сне, – качнувшись наперед, сказал себе Петя. – Это у меня в ушах. А может быть, это моя музыка. Ну, опять. Валяй моя музыка! Ну!..»
Он закрыл глаза. И с разных сторон, как будто издалека, затрепетали звуки, стали слаживаться, разбегаться, сливаться, и опять все соединилось в тот же сладкий и торжественный гимн. «Ах, это прелесть что такое! Сколько хочу и как хочу», – сказал себе Петя. Он попробовал руководить этим огромным хором инструментов.
«Ну, тише, тише, замирайте теперь. – И звуки слушались его. – Ну, теперь полнее, веселее. Еще, еще радостнее. – И из неизвестной глубины поднимались усиливающиеся, торжественные звуки. – Ну, голоса, приставайте!» – приказал Петя. И сначала издалека послышались голоса мужские, потом женские. Голоса росли, росли в равномерном торжественном усилии. Пете страшно и радостно было внимать их необычайной красоте.
С торжественным победным маршем сливалась песня, и капли капали, и вжиг, жиг, жиг… свистела сабля, и опять подрались и заржали лошади, не нарушая хора, а входя в него.
Петя не знал, как долго это продолжалось: он наслаждался, все время удивлялся своему наслаждению и жалел, что некому сообщить его. Его разбудил ласковый голос Лихачева.
– Готово, ваше благородие, надвое хранцуза распластаете.
Петя очнулся.
– Уж светает, право, светает! – вскрикнул он.
Невидные прежде лошади стали видны до хвостов, и сквозь оголенные ветки виднелся водянистый свет. Петя встряхнулся, вскочил, достал из кармана целковый и дал Лихачеву, махнув, попробовал шашку и положил ее в ножны. Казаки отвязывали лошадей и подтягивали подпруги.
– Вот и командир, – сказал Лихачев. Из караулки вышел Денисов и, окликнув Петю, приказал собираться.
Быстро в полутьме разобрали лошадей, подтянули подпруги и разобрались по командам. Денисов стоял у караулки, отдавая последние приказания. Пехота партии, шлепая сотней ног, прошла вперед по дороге и быстро скрылась между деревьев в предрассветном тумане. Эсаул что то приказывал казакам. Петя держал свою лошадь в поводу, с нетерпением ожидая приказания садиться. Обмытое холодной водой, лицо его, в особенности глаза горели огнем, озноб пробегал по спине, и во всем теле что то быстро и равномерно дрожало.
– Ну, готово у вас все? – сказал Денисов. – Давай лошадей.
Лошадей подали. Денисов рассердился на казака за то, что подпруги были слабы, и, разбранив его, сел. Петя взялся за стремя. Лошадь, по привычке, хотела куснуть его за ногу, но Петя, не чувствуя своей тяжести, быстро вскочил в седло и, оглядываясь на тронувшихся сзади в темноте гусар, подъехал к Денисову.
– Василий Федорович, вы мне поручите что нибудь? Пожалуйста… ради бога… – сказал он. Денисов, казалось, забыл про существование Пети. Он оглянулся на него.
– Об одном тебя пг'ошу, – сказал он строго, – слушаться меня и никуда не соваться.
Во все время переезда Денисов ни слова не говорил больше с Петей и ехал молча. Когда подъехали к опушке леса, в поле заметно уже стало светлеть. Денисов поговорил что то шепотом с эсаулом, и казаки стали проезжать мимо Пети и Денисова. Когда они все проехали, Денисов тронул свою лошадь и поехал под гору. Садясь на зады и скользя, лошади спускались с своими седоками в лощину. Петя ехал рядом с Денисовым. Дрожь во всем его теле все усиливалась. Становилось все светлее и светлее, только туман скрывал отдаленные предметы. Съехав вниз и оглянувшись назад, Денисов кивнул головой казаку, стоявшему подле него.
– Сигнал! – проговорил он.
Казак поднял руку, раздался выстрел. И в то же мгновение послышался топот впереди поскакавших лошадей, крики с разных сторон и еще выстрелы.
В то же мгновение, как раздались первые звуки топота и крика, Петя, ударив свою лошадь и выпустив поводья, не слушая Денисова, кричавшего на него, поскакал вперед. Пете показалось, что вдруг совершенно, как середь дня, ярко рассвело в ту минуту, как послышался выстрел. Он подскакал к мосту. Впереди по дороге скакали казаки. На мосту он столкнулся с отставшим казаком и поскакал дальше. Впереди какие то люди, – должно быть, это были французы, – бежали с правой стороны дороги на левую. Один упал в грязь под ногами Петиной лошади.
У одной избы столпились казаки, что то делая. Из середины толпы послышался страшный крик. Петя подскакал к этой толпе, и первое, что он увидал, было бледное, с трясущейся нижней челюстью лицо француза, державшегося за древко направленной на него пики.
– Ура!.. Ребята… наши… – прокричал Петя и, дав поводья разгорячившейся лошади, поскакал вперед по улице.
Впереди слышны были выстрелы. Казаки, гусары и русские оборванные пленные, бежавшие с обеих сторон дороги, все громко и нескладно кричали что то. Молодцеватый, без шапки, с красным нахмуренным лицом, француз в синей шинели отбивался штыком от гусаров. Когда Петя подскакал, француз уже упал. Опять опоздал, мелькнуло в голове Пети, и он поскакал туда, откуда слышались частые выстрелы. Выстрелы раздавались на дворе того барского дома, на котором он был вчера ночью с Долоховым. Французы засели там за плетнем в густом, заросшем кустами саду и стреляли по казакам, столпившимся у ворот. Подъезжая к воротам, Петя в пороховом дыму увидал Долохова с бледным, зеленоватым лицом, кричавшего что то людям. «В объезд! Пехоту подождать!» – кричал он, в то время как Петя подъехал к нему.
– Подождать?.. Ураааа!.. – закричал Петя и, не медля ни одной минуты, поскакал к тому месту, откуда слышались выстрелы и где гуще был пороховой дым. Послышался залп, провизжали пустые и во что то шлепнувшие пули. Казаки и Долохов вскакали вслед за Петей в ворота дома. Французы в колеблющемся густом дыме одни бросали оружие и выбегали из кустов навстречу казакам, другие бежали под гору к пруду. Петя скакал на своей лошади вдоль по барскому двору и, вместо того чтобы держать поводья, странно и быстро махал обеими руками и все дальше и дальше сбивался с седла на одну сторону. Лошадь, набежав на тлевший в утреннем свето костер, уперлась, и Петя тяжело упал на мокрую землю. Казаки видели, как быстро задергались его руки и ноги, несмотря на то, что голова его не шевелилась. Пуля пробила ему голову.
Переговоривши с старшим французским офицером, который вышел к нему из за дома с платком на шпаге и объявил, что они сдаются, Долохов слез с лошади и подошел к неподвижно, с раскинутыми руками, лежавшему Пете.
– Готов, – сказал он, нахмурившись, и пошел в ворота навстречу ехавшему к нему Денисову.
– Убит?! – вскрикнул Денисов, увидав еще издалека то знакомое ему, несомненно безжизненное положение, в котором лежало тело Пети.
– Готов, – повторил Долохов, как будто выговаривание этого слова доставляло ему удовольствие, и быстро пошел к пленным, которых окружили спешившиеся казаки. – Брать не будем! – крикнул он Денисову.
Денисов не отвечал; он подъехал к Пете, слез с лошади и дрожащими руками повернул к себе запачканное кровью и грязью, уже побледневшее лицо Пети.
«Я привык что нибудь сладкое. Отличный изюм, берите весь», – вспомнилось ему. И казаки с удивлением оглянулись на звуки, похожие на собачий лай, с которыми Денисов быстро отвернулся, подошел к плетню и схватился за него.
В числе отбитых Денисовым и Долоховым русских пленных был Пьер Безухов.
О той партии пленных, в которой был Пьер, во время всего своего движения от Москвы, не было от французского начальства никакого нового распоряжения. Партия эта 22 го октября находилась уже не с теми войсками и обозами, с которыми она вышла из Москвы. Половина обоза с сухарями, который шел за ними первые переходы, была отбита казаками, другая половина уехала вперед; пеших кавалеристов, которые шли впереди, не было ни одного больше; они все исчезли. Артиллерия, которая первые переходы виднелась впереди, заменилась теперь огромным обозом маршала Жюно, конвоируемого вестфальцами. Сзади пленных ехал обоз кавалерийских вещей.
От Вязьмы французские войска, прежде шедшие тремя колоннами, шли теперь одной кучей. Те признаки беспорядка, которые заметил Пьер на первом привале из Москвы, теперь дошли до последней степени.
Дорога, по которой они шли, с обеих сторон была уложена мертвыми лошадьми; оборванные люди, отсталые от разных команд, беспрестанно переменяясь, то присоединялись, то опять отставали от шедшей колонны.
Несколько раз во время похода бывали фальшивые тревоги, и солдаты конвоя поднимали ружья, стреляли и бежали стремглав, давя друг друга, но потом опять собирались и бранили друг друга за напрасный страх.
Эти три сборища, шедшие вместе, – кавалерийское депо, депо пленных и обоз Жюно, – все еще составляли что то отдельное и цельное, хотя и то, и другое, и третье быстро таяло.
В депо, в котором было сто двадцать повозок сначала, теперь оставалось не больше шестидесяти; остальные были отбиты или брошены. Из обоза Жюно тоже было оставлено и отбито несколько повозок. Три повозки были разграблены набежавшими отсталыми солдатами из корпуса Даву. Из разговоров немцев Пьер слышал, что к этому обозу ставили караул больше, чем к пленным, и что один из их товарищей, солдат немец, был расстрелян по приказанию самого маршала за то, что у солдата нашли серебряную ложку, принадлежавшую маршалу.
Больше же всего из этих трех сборищ растаяло депо пленных. Из трехсот тридцати человек, вышедших из Москвы, теперь оставалось меньше ста. Пленные еще более, чем седла кавалерийского депо и чем обоз Жюно, тяготили конвоирующих солдат. Седла и ложки Жюно, они понимали, что могли для чего нибудь пригодиться, но для чего было голодным и холодным солдатам конвоя стоять на карауле и стеречь таких же холодных и голодных русских, которые мерли и отставали дорогой, которых было велено пристреливать, – это было не только непонятно, но и противно. И конвойные, как бы боясь в том горестном положении, в котором они сами находились, не отдаться бывшему в них чувству жалости к пленным и тем ухудшить свое положение, особенно мрачно и строго обращались с ними.
В Дорогобуже, в то время как, заперев пленных в конюшню, конвойные солдаты ушли грабить свои же магазины, несколько человек пленных солдат подкопались под стену и убежали, но были захвачены французами и расстреляны.
Прежний, введенный при выходе из Москвы, порядок, чтобы пленные офицеры шли отдельно от солдат, уже давно был уничтожен; все те, которые могли идти, шли вместе, и Пьер с третьего перехода уже соединился опять с Каратаевым и лиловой кривоногой собакой, которая избрала себе хозяином Каратаева.
С Каратаевым, на третий день выхода из Москвы, сделалась та лихорадка, от которой он лежал в московском гошпитале, и по мере того как Каратаев ослабевал, Пьер отдалялся от него. Пьер не знал отчего, но, с тех пор как Каратаев стал слабеть, Пьер должен был делать усилие над собой, чтобы подойти к нему. И подходя к нему и слушая те тихие стоны, с которыми Каратаев обыкновенно на привалах ложился, и чувствуя усилившийся теперь запах, который издавал от себя Каратаев, Пьер отходил от него подальше и не думал о нем.
В плену, в балагане, Пьер узнал не умом, а всем существом своим, жизнью, что человек сотворен для счастья, что счастье в нем самом, в удовлетворении естественных человеческих потребностей, и что все несчастье происходит не от недостатка, а от излишка; но теперь, в эти последние три недели похода, он узнал еще новую, утешительную истину – он узнал, что на свете нет ничего страшного. Он узнал, что так как нет положения, в котором бы человек был счастлив и вполне свободен, так и нет положения, в котором бы он был бы несчастлив и несвободен. Он узнал, что есть граница страданий и граница свободы и что эта граница очень близка; что тот человек, который страдал оттого, что в розовой постели его завернулся один листок, точно так же страдал, как страдал он теперь, засыпая на голой, сырой земле, остужая одну сторону и пригревая другую; что, когда он, бывало, надевал свои бальные узкие башмаки, он точно так же страдал, как теперь, когда он шел уже босой совсем (обувь его давно растрепалась), ногами, покрытыми болячками. Он узнал, что, когда он, как ему казалось, по собственной своей воле женился на своей жене, он был не более свободен, чем теперь, когда его запирали на ночь в конюшню. Из всего того, что потом и он называл страданием, но которое он тогда почти не чувствовал, главное были босые, стертые, заструпелые ноги. (Лошадиное мясо было вкусно и питательно, селитренный букет пороха, употребляемого вместо соли, был даже приятен, холода большого не было, и днем на ходу всегда бывало жарко, а ночью были костры; вши, евшие тело, приятно согревали.) Одно было тяжело в первое время – это ноги.
Во второй день перехода, осмотрев у костра свои болячки, Пьер думал невозможным ступить на них; но когда все поднялись, он пошел, прихрамывая, и потом, когда разогрелся, пошел без боли, хотя к вечеру страшнее еще было смотреть на ноги. Но он не смотрел на них и думал о другом.
Теперь только Пьер понял всю силу жизненности человека и спасительную силу перемещения внимания, вложенную в человека, подобную тому спасительному клапану в паровиках, который выпускает лишний пар, как только плотность его превышает известную норму.
Он не видал и не слыхал, как пристреливали отсталых пленных, хотя более сотни из них уже погибли таким образом. Он не думал о Каратаеве, который слабел с каждым днем и, очевидно, скоро должен был подвергнуться той же участи. Еще менее Пьер думал о себе. Чем труднее становилось его положение, чем страшнее была будущность, тем независимее от того положения, в котором он находился, приходили ему радостные и успокоительные мысли, воспоминания и представления.
22 го числа, в полдень, Пьер шел в гору по грязной, скользкой дороге, глядя на свои ноги и на неровности пути. Изредка он взглядывал на знакомую толпу, окружающую его, и опять на свои ноги. И то и другое было одинаково свое и знакомое ему. Лиловый кривоногий Серый весело бежал стороной дороги, изредка, в доказательство своей ловкости и довольства, поджимая заднюю лапу и прыгая на трех и потом опять на всех четырех бросаясь с лаем на вороньев, которые сидели на падали. Серый был веселее и глаже, чем в Москве. Со всех сторон лежало мясо различных животных – от человеческого до лошадиного, в различных степенях разложения; и волков не подпускали шедшие люди, так что Серый мог наедаться сколько угодно.
Дождик шел с утра, и казалось, что вот вот он пройдет и на небе расчистит, как вслед за непродолжительной остановкой припускал дождик еще сильнее. Напитанная дождем дорога уже не принимала в себя воды, и ручьи текли по колеям.
Пьер шел, оглядываясь по сторонам, считая шаги по три, и загибал на пальцах. Обращаясь к дождю, он внутренне приговаривал: ну ка, ну ка, еще, еще наддай.
Ему казалось, что он ни о чем не думает; но далеко и глубоко где то что то важное и утешительное думала его душа. Это что то было тончайшее духовное извлечение из вчерашнего его разговора с Каратаевым.
Вчера, на ночном привале, озябнув у потухшего огня, Пьер встал и перешел к ближайшему, лучше горящему костру. У костра, к которому он подошел, сидел Платон, укрывшись, как ризой, с головой шинелью, и рассказывал солдатам своим спорым, приятным, но слабым, болезненным голосом знакомую Пьеру историю. Было уже за полночь. Это было то время, в которое Каратаев обыкновенно оживал от лихорадочного припадка и бывал особенно оживлен. Подойдя к костру и услыхав слабый, болезненный голос Платона и увидав его ярко освещенное огнем жалкое лицо, Пьера что то неприятно кольнуло в сердце. Он испугался своей жалости к этому человеку и хотел уйти, но другого костра не было, и Пьер, стараясь не глядеть на Платона, подсел к костру.
– Что, как твое здоровье? – спросил он.
– Что здоровье? На болезнь плакаться – бог смерти не даст, – сказал Каратаев и тотчас же возвратился к начатому рассказу.
– …И вот, братец ты мой, – продолжал Платон с улыбкой на худом, бледном лице и с особенным, радостным блеском в глазах, – вот, братец ты мой…
Пьер знал эту историю давно, Каратаев раз шесть ему одному рассказывал эту историю, и всегда с особенным, радостным чувством. Но как ни хорошо знал Пьер эту историю, он теперь прислушался к ней, как к чему то новому, и тот тихий восторг, который, рассказывая, видимо, испытывал Каратаев, сообщился и Пьеру. История эта была о старом купце, благообразно и богобоязненно жившем с семьей и поехавшем однажды с товарищем, богатым купцом, к Макарью.
Остановившись на постоялом дворе, оба купца заснули, и на другой день товарищ купца был найден зарезанным и ограбленным. Окровавленный нож найден был под подушкой старого купца. Купца судили, наказали кнутом и, выдернув ноздри, – как следует по порядку, говорил Каратаев, – сослали в каторгу.
– И вот, братец ты мой (на этом месте Пьер застал рассказ Каратаева), проходит тому делу годов десять или больше того. Живет старичок на каторге. Как следовает, покоряется, худого не делает. Только у бога смерти просит. – Хорошо. И соберись они, ночным делом, каторжные то, так же вот как мы с тобой, и старичок с ними. И зашел разговор, кто за что страдает, в чем богу виноват. Стали сказывать, тот душу загубил, тот две, тот поджег, тот беглый, так ни за что. Стали старичка спрашивать: ты за что, мол, дедушка, страдаешь? Я, братцы мои миленькие, говорит, за свои да за людские грехи страдаю. А я ни душ не губил, ни чужого не брал, акромя что нищую братию оделял. Я, братцы мои миленькие, купец; и богатство большое имел. Так и так, говорит. И рассказал им, значит, как все дело было, по порядку. Я, говорит, о себе не тужу. Меня, значит, бог сыскал. Одно, говорит, мне свою старуху и деток жаль. И так то заплакал старичок. Случись в их компании тот самый человек, значит, что купца убил. Где, говорит, дедушка, было? Когда, в каком месяце? все расспросил. Заболело у него сердце. Подходит таким манером к старичку – хлоп в ноги. За меня ты, говорит, старичок, пропадаешь. Правда истинная; безвинно напрасно, говорит, ребятушки, человек этот мучится. Я, говорит, то самое дело сделал и нож тебе под голова сонному подложил. Прости, говорит, дедушка, меня ты ради Христа.
Каратаев замолчал, радостно улыбаясь, глядя на огонь, и поправил поленья.
– Старичок и говорит: бог, мол, тебя простит, а мы все, говорит, богу грешны, я за свои грехи страдаю. Сам заплакал горючьми слезьми. Что же думаешь, соколик, – все светлее и светлее сияя восторженной улыбкой, говорил Каратаев, как будто в том, что он имел теперь рассказать, заключалась главная прелесть и все значение рассказа, – что же думаешь, соколик, объявился этот убийца самый по начальству. Я, говорит, шесть душ загубил (большой злодей был), но всего мне жальче старичка этого. Пускай же он на меня не плачется. Объявился: списали, послали бумагу, как следовает. Место дальнее, пока суд да дело, пока все бумаги списали как должно, по начальствам, значит. До царя доходило. Пока что, пришел царский указ: выпустить купца, дать ему награждения, сколько там присудили. Пришла бумага, стали старичка разыскивать. Где такой старичок безвинно напрасно страдал? От царя бумага вышла. Стали искать. – Нижняя челюсть Каратаева дрогнула. – А его уж бог простил – помер. Так то, соколик, – закончил Каратаев и долго, молча улыбаясь, смотрел перед собой.
Не самый рассказ этот, но таинственный смысл его, та восторженная радость, которая сияла в лице Каратаева при этом рассказе, таинственное значение этой радости, это то смутно и радостно наполняло теперь душу Пьера.
– A vos places! [По местам!] – вдруг закричал голос.
Между пленными и конвойными произошло радостное смятение и ожидание чего то счастливого и торжественного. Со всех сторон послышались крики команды, и с левой стороны, рысью объезжая пленных, показались кавалеристы, хорошо одетые, на хороших лошадях. На всех лицах было выражение напряженности, которая бывает у людей при близости высших властей. Пленные сбились в кучу, их столкнули с дороги; конвойные построились.
– L'Empereur! L'Empereur! Le marechal! Le duc! [Император! Император! Маршал! Герцог!] – и только что проехали сытые конвойные, как прогремела карета цугом, на серых лошадях. Пьер мельком увидал спокойное, красивое, толстое и белое лицо человека в треугольной шляпе. Это был один из маршалов. Взгляд маршала обратился на крупную, заметную фигуру Пьера, и в том выражении, с которым маршал этот нахмурился и отвернул лицо, Пьеру показалось сострадание и желание скрыть его.
Генерал, который вел депо, с красным испуганным лицом, погоняя свою худую лошадь, скакал за каретой. Несколько офицеров сошлось вместе, солдаты окружили их. У всех были взволнованно напряженные лица.
– Qu'est ce qu'il a dit? Qu'est ce qu'il a dit?.. [Что он сказал? Что? Что?..] – слышал Пьер.
Во время проезда маршала пленные сбились в кучу, и Пьер увидал Каратаева, которого он не видал еще в нынешнее утро. Каратаев в своей шинельке сидел, прислонившись к березе. В лице его, кроме выражения вчерашнего радостного умиления при рассказе о безвинном страдании купца, светилось еще выражение тихой торжественности.
Каратаев смотрел на Пьера своими добрыми, круглыми глазами, подернутыми теперь слезою, и, видимо, подзывал его к себе, хотел сказать что то. Но Пьеру слишком страшно было за себя. Он сделал так, как будто не видал его взгляда, и поспешно отошел.
Когда пленные опять тронулись, Пьер оглянулся назад. Каратаев сидел на краю дороги, у березы; и два француза что то говорили над ним. Пьер не оглядывался больше. Он шел, прихрамывая, в гору.
Сзади, с того места, где сидел Каратаев, послышался выстрел. Пьер слышал явственно этот выстрел, но в то же мгновение, как он услыхал его, Пьер вспомнил, что он не кончил еще начатое перед проездом маршала вычисление о том, сколько переходов оставалось до Смоленска. И он стал считать. Два французские солдата, из которых один держал в руке снятое, дымящееся ружье, пробежали мимо Пьера. Они оба были бледны, и в выражении их лиц – один из них робко взглянул на Пьера – было что то похожее на то, что он видел в молодом солдате на казни. Пьер посмотрел на солдата и вспомнил о том, как этот солдат третьего дня сжег, высушивая на костре, свою рубаху и как смеялись над ним.
Собака завыла сзади, с того места, где сидел Каратаев. «Экая дура, о чем она воет?» – подумал Пьер.
Солдаты товарищи, шедшие рядом с Пьером, не оглядывались, так же как и он, на то место, с которого послышался выстрел и потом вой собаки; но строгое выражение лежало на всех лицах.
Депо, и пленные, и обоз маршала остановились в деревне Шамшеве. Все сбилось в кучу у костров. Пьер подошел к костру, поел жареного лошадиного мяса, лег спиной к огню и тотчас же заснул. Он спал опять тем же сном, каким он спал в Можайске после Бородина.
Опять события действительности соединялись с сновидениями, и опять кто то, сам ли он или кто другой, говорил ему мысли, и даже те же мысли, которые ему говорились в Можайске.
«Жизнь есть всё. Жизнь есть бог. Все перемещается и движется, и это движение есть бог. И пока есть жизнь, есть наслаждение самосознания божества. Любить жизнь, любить бога. Труднее и блаженнее всего любить эту жизнь в своих страданиях, в безвинности страданий».
«Каратаев» – вспомнилось Пьеру.
И вдруг Пьеру представился, как живой, давно забытый, кроткий старичок учитель, который в Швейцарии преподавал Пьеру географию. «Постой», – сказал старичок. И он показал Пьеру глобус. Глобус этот был живой, колеблющийся шар, не имеющий размеров. Вся поверхность шара состояла из капель, плотно сжатых между собой. И капли эти все двигались, перемещались и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другие, стремясь к тому же, сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались с нею.
– Вот жизнь, – сказал старичок учитель.
«Как это просто и ясно, – подумал Пьер. – Как я мог не знать этого прежде».
– В середине бог, и каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших размерах отражать его. И растет, сливается, и сжимается, и уничтожается на поверхности, уходит в глубину и опять всплывает. Вот он, Каратаев, вот разлился и исчез. – Vous avez compris, mon enfant, [Понимаешь ты.] – сказал учитель.
– Vous avez compris, sacre nom, [Понимаешь ты, черт тебя дери.] – закричал голос, и Пьер проснулся.
Он приподнялся и сел. У костра, присев на корточках, сидел француз, только что оттолкнувший русского солдата, и жарил надетое на шомпол мясо. Жилистые, засученные, обросшие волосами, красные руки с короткими пальцами ловко поворачивали шомпол. Коричневое мрачное лицо с насупленными бровями ясно виднелось в свете угольев.
– Ca lui est bien egal, – проворчал он, быстро обращаясь к солдату, стоявшему за ним. – …brigand. Va! [Ему все равно… разбойник, право!]
И солдат, вертя шомпол, мрачно взглянул на Пьера. Пьер отвернулся, вглядываясь в тени. Один русский солдат пленный, тот, которого оттолкнул француз, сидел у костра и трепал по чем то рукой. Вглядевшись ближе, Пьер узнал лиловую собачонку, которая, виляя хвостом, сидела подле солдата.
– А, пришла? – сказал Пьер. – А, Пла… – начал он и не договорил. В его воображении вдруг, одновременно, связываясь между собой, возникло воспоминание о взгляде, которым смотрел на него Платон, сидя под деревом, о выстреле, слышанном на том месте, о вое собаки, о преступных лицах двух французов, пробежавших мимо его, о снятом дымящемся ружье, об отсутствии Каратаева на этом привале, и он готов уже был понять, что Каратаев убит, но в то же самое мгновенье в его душе, взявшись бог знает откуда, возникло воспоминание о вечере, проведенном им с красавицей полькой, летом, на балконе своего киевского дома. И все таки не связав воспоминаний нынешнего дня и не сделав о них вывода, Пьер закрыл глаза, и картина летней природы смешалась с воспоминанием о купанье, о жидком колеблющемся шаре, и он опустился куда то в воду, так что вода сошлась над его головой.
Перед восходом солнца его разбудили громкие частые выстрелы и крики. Мимо Пьера пробежали французы.
– Les cosaques! [Казаки!] – прокричал один из них, и через минуту толпа русских лиц окружила Пьера.
Долго не мог понять Пьер того, что с ним было. Со всех сторон он слышал вопли радости товарищей.
– Братцы! Родимые мои, голубчики! – плача, кричали старые солдаты, обнимая казаков и гусар. Гусары и казаки окружали пленных и торопливо предлагали кто платья, кто сапоги, кто хлеба. Пьер рыдал, сидя посреди их, и не мог выговорить ни слова; он обнял первого подошедшего к нему солдата и, плача, целовал его.
Долохов стоял у ворот разваленного дома, пропуская мимо себя толпу обезоруженных французов. Французы, взволнованные всем происшедшим, громко говорили между собой; но когда они проходили мимо Долохова, который слегка хлестал себя по сапогам нагайкой и глядел на них своим холодным, стеклянным, ничего доброго не обещающим взглядом, говор их замолкал. С другой стороны стоял казак Долохова и считал пленных, отмечая сотни чертой мела на воротах.
– Сколько? – спросил Долохов у казака, считавшего пленных.
– На вторую сотню, – отвечал казак.
– Filez, filez, [Проходи, проходи.] – приговаривал Долохов, выучившись этому выражению у французов, и, встречаясь глазами с проходившими пленными, взгляд его вспыхивал жестоким блеском.
Денисов, с мрачным лицом, сняв папаху, шел позади казаков, несших к вырытой в саду яме тело Пети Ростова.
С 28 го октября, когда начались морозы, бегство французов получило только более трагический характер замерзающих и изжаривающихся насмерть у костров людей и продолжающих в шубах и колясках ехать с награбленным добром императора, королей и герцогов; но в сущности своей процесс бегства и разложения французской армии со времени выступления из Москвы нисколько не изменился.
От Москвы до Вязьмы из семидесятитрехтысячной французской армии, не считая гвардии (которая во всю войну ничего не делала, кроме грабежа), из семидесяти трех тысяч осталось тридцать шесть тысяч (из этого числа не более пяти тысяч выбыло в сражениях). Вот первый член прогрессии, которым математически верно определяются последующие.
Французская армия в той же пропорции таяла и уничтожалась от Москвы до Вязьмы, от Вязьмы до Смоленска, от Смоленска до Березины, от Березины до Вильны, независимо от большей или меньшей степени холода, преследования, заграждения пути и всех других условий, взятых отдельно. После Вязьмы войска французские вместо трех колонн сбились в одну кучу и так шли до конца. Бертье писал своему государю (известно, как отдаленно от истины позволяют себе начальники описывать положение армии). Он писал:
«Je crois devoir faire connaitre a Votre Majeste l'etat de ses troupes dans les differents corps d'annee que j'ai ete a meme d'observer depuis deux ou trois jours dans differents passages. Elles sont presque debandees. Le nombre des soldats qui suivent les drapeaux est en proportion du quart au plus dans presque tous les regiments, les autres marchent isolement dans differentes directions et pour leur compte, dans l'esperance de trouver des subsistances et pour se debarrasser de la discipline. En general ils regardent Smolensk comme le point ou ils doivent se refaire. Ces derniers jours on a remarque que beaucoup de soldats jettent leurs cartouches et leurs armes. Dans cet etat de choses, l'interet du service de Votre Majeste exige, quelles que soient ses vues ulterieures qu'on rallie l'armee a Smolensk en commencant a la debarrasser des non combattans, tels que hommes demontes et des bagages inutiles et du materiel de l'artillerie qui n'est plus en proportion avec les forces actuelles. En outre les jours de repos, des subsistances sont necessaires aux soldats qui sont extenues par la faim et la fatigue; beaucoup sont morts ces derniers jours sur la route et dans les bivacs. Cet etat de choses va toujours en augmentant et donne lieu de craindre que si l'on n'y prete un prompt remede, on ne soit plus maitre des troupes dans un combat. Le 9 November, a 30 verstes de Smolensk».
[Долгом поставляю донести вашему величеству о состоянии корпусов, осмотренных мною на марше в последние три дня. Они почти в совершенном разброде. Только четвертая часть солдат остается при знаменах, прочие идут сами по себе разными направлениями, стараясь сыскать пропитание и избавиться от службы. Все думают только о Смоленске, где надеются отдохнуть. В последние дни много солдат побросали патроны и ружья. Какие бы ни были ваши дальнейшие намерения, но польза службы вашего величества требует собрать корпуса в Смоленске и отделить от них спешенных кавалеристов, безоружных, лишние обозы и часть артиллерии, ибо она теперь не в соразмерности с числом войск. Необходимо продовольствие и несколько дней покоя; солдаты изнурены голодом и усталостью; в последние дни многие умерли на дороге и на биваках. Такое бедственное положение беспрестанно усиливается и заставляет опасаться, что, если не будут приняты быстрые меры для предотвращения зла, мы скоро не будем иметь войска в своей власти в случае сражения. 9 ноября, в 30 верстах от Смоленка.]
Ввалившись в Смоленск, представлявшийся им обетованной землей, французы убивали друг друга за провиант, ограбили свои же магазины и, когда все было разграблено, побежали дальше.
Все шли, сами не зная, куда и зачем они идут. Еще менее других знал это гений Наполеона, так как никто ему не приказывал. Но все таки он и его окружающие соблюдали свои давнишние привычки: писались приказы, письма, рапорты, ordre du jour [распорядок дня]; называли друг друга:
«Sire, Mon Cousin, Prince d'Ekmuhl, roi de Naples» [Ваше величество, брат мой, принц Экмюльский, король Неаполитанский.] и т.д. Но приказы и рапорты были только на бумаге, ничто по ним не исполнялось, потому что не могло исполняться, и, несмотря на именование друг друга величествами, высочествами и двоюродными братьями, все они чувствовали, что они жалкие и гадкие люди, наделавшие много зла, за которое теперь приходилось расплачиваться. И, несмотря на то, что они притворялись, будто заботятся об армии, они думали только каждый о себе и о том, как бы поскорее уйти и спастись.
Действия русского и французского войск во время обратной кампании от Москвы и до Немана подобны игре в жмурки, когда двум играющим завязывают глаза и один изредка звонит колокольчиком, чтобы уведомить о себе ловящего. Сначала тот, кого ловят, звонит, не боясь неприятеля, но когда ему приходится плохо, он, стараясь неслышно идти, убегает от своего врага и часто, думая убежать, идет прямо к нему в руки.
Сначала наполеоновские войска еще давали о себе знать – это было в первый период движения по Калужской дороге, но потом, выбравшись на Смоленскую дорогу, они побежали, прижимая рукой язычок колокольчика, и часто, думая, что они уходят, набегали прямо на русских.
При быстроте бега французов и за ними русских и вследствие того изнурения лошадей, главное средство приблизительного узнавания положения, в котором находится неприятель, – разъезды кавалерии, – не существовало. Кроме того, вследствие частых и быстрых перемен положений обеих армий, сведения, какие и были, не могли поспевать вовремя. Если второго числа приходило известие о том, что армия неприятеля была там то первого числа, то третьего числа, когда можно было предпринять что нибудь, уже армия эта сделала два перехода и находилась совсем в другом положении.
Одна армия бежала, другая догоняла. От Смоленска французам предстояло много различных дорог; и, казалось бы, тут, простояв четыре дня, французы могли бы узнать, где неприятель, сообразить что нибудь выгодное и предпринять что нибудь новое. Но после четырехдневной остановки толпы их опять побежали не вправо, не влево, но, без всяких маневров и соображений, по старой, худшей дороге, на Красное и Оршу – по пробитому следу.
Ожидая врага сзади, а не спереди, французы бежали, растянувшись и разделившись друг от друга на двадцать четыре часа расстояния. Впереди всех бежал император, потом короли, потом герцоги. Русская армия, думая, что Наполеон возьмет вправо за Днепр, что было одно разумно, подалась тоже вправо и вышла на большую дорогу к Красному. И тут, как в игре в жмурки, французы наткнулись на наш авангард. Неожиданно увидав врага, французы смешались, приостановились от неожиданности испуга, но потом опять побежали, бросая своих сзади следовавших товарищей. Тут, как сквозь строй русских войск, проходили три дня, одна за одной, отдельные части французов, сначала вице короля, потом Даву, потом Нея. Все они побросали друг друга, побросали все свои тяжести, артиллерию, половину народа и убегали, только по ночам справа полукругами обходя русских.
Ней, шедший последним (потому что, несмотря на несчастное их положение или именно вследствие его, им хотелось побить тот пол, который ушиб их, он занялся нзрыванием никому не мешавших стен Смоленска), – шедший последним, Ней, с своим десятитысячным корпусом, прибежал в Оршу к Наполеону только с тысячью человеками, побросав и всех людей, и все пушки и ночью, украдучись, пробравшись лесом через Днепр.
От Орши побежали дальше по дороге к Вильно, точно так же играя в жмурки с преследующей армией. На Березине опять замешались, многие потонули, многие сдались, но те, которые перебрались через реку, побежали дальше. Главный начальник их надел шубу и, сев в сани, поскакал один, оставив своих товарищей. Кто мог – уехал тоже, кто не мог – сдался или умер.
Казалось бы, в этой то кампании бегства французов, когда они делали все то, что только можно было, чтобы погубить себя; когда ни в одном движении этой толпы, начиная от поворота на Калужскую дорогу и до бегства начальника от армии, не было ни малейшего смысла, – казалось бы, в этот период кампании невозможно уже историкам, приписывающим действия масс воле одного человека, описывать это отступление в их смысле. Но нет. Горы книг написаны историками об этой кампании, и везде описаны распоряжения Наполеона и глубокомысленные его планы – маневры, руководившие войском, и гениальные распоряжения его маршалов.
Отступление от Малоярославца тогда, когда ему дают дорогу в обильный край и когда ему открыта та параллельная дорога, по которой потом преследовал его Кутузов, ненужное отступление по разоренной дороге объясняется нам по разным глубокомысленным соображениям. По таким же глубокомысленным соображениям описывается его отступление от Смоленска на Оршу. Потом описывается его геройство при Красном, где он будто бы готовится принять сражение и сам командовать, и ходит с березовой палкой и говорит:
– J'ai assez fait l'Empereur, il est temps de faire le general, [Довольно уже я представлял императора, теперь время быть генералом.] – и, несмотря на то, тотчас же после этого бежит дальше, оставляя на произвол судьбы разрозненные части армии, находящиеся сзади.
Потом описывают нам величие души маршалов, в особенности Нея, величие души, состоящее в том, что он ночью пробрался лесом в обход через Днепр и без знамен и артиллерии и без девяти десятых войска прибежал в Оршу.
И, наконец, последний отъезд великого императора от геройской армии представляется нам историками как что то великое и гениальное. Даже этот последний поступок бегства, на языке человеческом называемый последней степенью подлости, которой учится стыдиться каждый ребенок, и этот поступок на языке историков получает оправдание.
Тогда, когда уже невозможно дальше растянуть столь эластичные нити исторических рассуждений, когда действие уже явно противно тому, что все человечество называет добром и даже справедливостью, является у историков спасительное понятие о величии. Величие как будто исключает возможность меры хорошего и дурного. Для великого – нет дурного. Нет ужаса, который бы мог быть поставлен в вину тому, кто велик.
– «C'est grand!» [Это величественно!] – говорят историки, и тогда уже нет ни хорошего, ни дурного, а есть «grand» и «не grand». Grand – хорошо, не grand – дурно. Grand есть свойство, по их понятиям, каких то особенных животных, называемых ими героями. И Наполеон, убираясь в теплой шубе домой от гибнущих не только товарищей, но (по его мнению) людей, им приведенных сюда, чувствует que c'est grand, и душа его покойна.
«Du sublime (он что то sublime видит в себе) au ridicule il n'y a qu'un pas», – говорит он. И весь мир пятьдесят лет повторяет: «Sublime! Grand! Napoleon le grand! Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas». [величественное… От величественного до смешного только один шаг… Величественное! Великое! Наполеон великий! От величественного до смешного только шаг.]
И никому в голову не придет, что признание величия, неизмеримого мерой хорошего и дурного, есть только признание своей ничтожности и неизмеримой малости.
Для нас, с данной нам Христом мерой хорошего и дурного, нет неизмеримого. И нет величия там, где нет простоты, добра и правды.
Кто из русских людей, читая описания последнего периода кампании 1812 года, не испытывал тяжелого чувства досады, неудовлетворенности и неясности. Кто не задавал себе вопросов: как не забрали, не уничтожили всех французов, когда все три армии окружали их в превосходящем числе, когда расстроенные французы, голодая и замерзая, сдавались толпами и когда (как нам рассказывает история) цель русских состояла именно в том, чтобы остановить, отрезать и забрать в плен всех французов.
Каким образом то русское войско, которое, слабее числом французов, дало Бородинское сражение, каким образом это войско, с трех сторон окружавшее французов и имевшее целью их забрать, не достигло своей цели? Неужели такое громадное преимущество перед нами имеют французы, что мы, с превосходными силами окружив, не могли побить их? Каким образом это могло случиться?
История (та, которая называется этим словом), отвечая на эти вопросы, говорит, что это случилось оттого, что Кутузов, и Тормасов, и Чичагов, и тот то, и тот то не сделали таких то и таких то маневров.
Но отчего они не сделали всех этих маневров? Отчего, ежели они были виноваты в том, что не достигнута была предназначавшаяся цель, – отчего их не судили и не казнили? Но, даже ежели и допустить, что виною неудачи русских были Кутузов и Чичагов и т. п., нельзя понять все таки, почему и в тех условиях, в которых находились русские войска под Красным и под Березиной (в обоих случаях русские были в превосходных силах), почему не взято в плен французское войско с маршалами, королями и императорами, когда в этом состояла цель русских?
Объяснение этого странного явления тем (как то делают русские военные историки), что Кутузов помешал нападению, неосновательно потому, что мы знаем, что воля Кутузова не могла удержать войска от нападения под Вязьмой и под Тарутиным.
Почему то русское войско, которое с слабейшими силами одержало победу под Бородиным над неприятелем во всей его силе, под Красным и под Березиной в превосходных силах было побеждено расстроенными толпами французов?
Если цель русских состояла в том, чтобы отрезать и взять в плен Наполеона и маршалов, и цель эта не только не была достигнута, и все попытки к достижению этой цели всякий раз были разрушены самым постыдным образом, то последний период кампании совершенно справедливо представляется французами рядом побед и совершенно несправедливо представляется русскими историками победоносным.
Русские военные историки, настолько, насколько для них обязательна логика, невольно приходят к этому заключению и, несмотря на лирические воззвания о мужестве и преданности и т. д., должны невольно признаться, что отступление французов из Москвы есть ряд побед Наполеона и поражений Кутузова.
Но, оставив совершенно в стороне народное самолюбие, чувствуется, что заключение это само в себе заключает противуречие, так как ряд побед французов привел их к совершенному уничтожению, а ряд поражений русских привел их к полному уничтожению врага и очищению своего отечества.
Источник этого противуречия лежит в том, что историками, изучающими события по письмам государей и генералов, по реляциям, рапортам, планам и т. п., предположена ложная, никогда не существовавшая цель последнего периода войны 1812 года, – цель, будто бы состоявшая в том, чтобы отрезать и поймать Наполеона с маршалами и армией.
Цели этой никогда не было и не могло быть, потому что она не имела смысла, и достижение ее было совершенно невозможно.
Цель эта не имела никакого смысла, во первых, потому, что расстроенная армия Наполеона со всей возможной быстротой бежала из России, то есть исполняла то самое, что мог желать всякий русский. Для чего же было делать различные операции над французами, которые бежали так быстро, как только они могли?
Во вторых, бессмысленно было становиться на дороге людей, всю свою энергию направивших на бегство.
В третьих, бессмысленно было терять свои войска для уничтожения французских армий, уничтожавшихся без внешних причин в такой прогрессии, что без всякого загораживания пути они не могли перевести через границу больше того, что они перевели в декабре месяце, то есть одну сотую всего войска.
В четвертых, бессмысленно было желание взять в плен императора, королей, герцогов – людей, плен которых в высшей степени затруднил бы действия русских, как то признавали самые искусные дипломаты того времени (J. Maistre и другие). Еще бессмысленнее было желание взять корпуса французов, когда свои войска растаяли наполовину до Красного, а к корпусам пленных надо было отделять дивизии конвоя, и когда свои солдаты не всегда получали полный провиант и забранные уже пленные мерли с голода.
Весь глубокомысленный план о том, чтобы отрезать и поймать Наполеона с армией, был подобен тому плану огородника, который, выгоняя из огорода потоптавшую его гряды скотину, забежал бы к воротам и стал бы по голове бить эту скотину. Одно, что можно бы было сказать в оправдание огородника, было бы то, что он очень рассердился. Но это нельзя было даже сказать про составителей проекта, потому что не они пострадали от потоптанных гряд.
Но, кроме того, что отрезывание Наполеона с армией было бессмысленно, оно было невозможно.
Невозможно это было, во первых, потому что, так как из опыта видно, что движение колонн на пяти верстах в одном сражении никогда не совпадает с планами, то вероятность того, чтобы Чичагов, Кутузов и Витгенштейн сошлись вовремя в назначенное место, была столь ничтожна, что она равнялась невозможности, как то и думал Кутузов, еще при получении плана сказавший, что диверсии на большие расстояния не приносят желаемых результатов.
Во вторых, невозможно было потому, что, для того чтобы парализировать ту силу инерции, с которой двигалось назад войско Наполеона, надо было без сравнения большие войска, чем те, которые имели русские.
В третьих, невозможно это было потому, что военное слово отрезать не имеет никакого смысла. Отрезать можно кусок хлеба, но не армию. Отрезать армию – перегородить ей дорогу – никак нельзя, ибо места кругом всегда много, где можно обойти, и есть ночь, во время которой ничего не видно, в чем могли бы убедиться военные ученые хоть из примеров Красного и Березины. Взять же в плен никак нельзя без того, чтобы тот, кого берут в плен, на это не согласился, как нельзя поймать ласточку, хотя и можно взять ее, когда она сядет на руку. Взять в плен можно того, кто сдается, как немцы, по правилам стратегии и тактики. Но французские войска совершенно справедливо не находили этого удобным, так как одинаковая голодная и холодная смерть ожидала их на бегстве и в плену.
В четвертых же, и главное, это было невозможно потому, что никогда, с тех пор как существует мир, не было войны при тех страшных условиях, при которых она происходила в 1812 году, и русские войска в преследовании французов напрягли все свои силы и не могли сделать большего, не уничтожившись сами.
В движении русской армии от Тарутина до Красного выбыло пятьдесят тысяч больными и отсталыми, то есть число, равное населению большого губернского города. Половина людей выбыла из армии без сражений.
И об этом то периоде кампании, когда войска без сапог и шуб, с неполным провиантом, без водки, по месяцам ночуют в снегу и при пятнадцати градусах мороза; когда дня только семь и восемь часов, а остальное ночь, во время которой не может быть влияния дисциплины; когда, не так как в сраженье, на несколько часов только люди вводятся в область смерти, где уже нет дисциплины, а когда люди по месяцам живут, всякую минуту борясь с смертью от голода и холода; когда в месяц погибает половина армии, – об этом то периоде кампании нам рассказывают историки, как Милорадович должен был сделать фланговый марш туда то, а Тормасов туда то и как Чичагов должен был передвинуться туда то (передвинуться выше колена в снегу), и как тот опрокинул и отрезал, и т. д., и т. д.
Русские, умиравшие наполовину, сделали все, что можно сделать и должно было сделать для достижения достойной народа цели, и не виноваты в том, что другие русские люди, сидевшие в теплых комнатах, предполагали сделать то, что было невозможно.
Все это странное, непонятное теперь противоречие факта с описанием истории происходит только оттого, что историки, писавшие об этом событии, писали историю прекрасных чувств и слов разных генералов, а не историю событий.
Для них кажутся очень занимательны слова Милорадовича, награды, которые получил тот и этот генерал, и их предположения; а вопрос о тех пятидесяти тысячах, которые остались по госпиталям и могилам, даже не интересует их, потому что не подлежит их изучению.
А между тем стоит только отвернуться от изучения рапортов и генеральных планов, а вникнуть в движение тех сотен тысяч людей, принимавших прямое, непосредственное участие в событии, и все, казавшиеся прежде неразрешимыми, вопросы вдруг с необыкновенной легкостью и простотой получают несомненное разрешение.
Цель отрезывания Наполеона с армией никогда не существовала, кроме как в воображении десятка людей. Она не могла существовать, потому что она была бессмысленна, и достижение ее было невозможно.
Цель народа была одна: очистить свою землю от нашествия. Цель эта достигалась, во первых, сама собою, так как французы бежали, и потому следовало только не останавливать это движение. Во вторых, цель эта достигалась действиями народной войны, уничтожавшей французов, и, в третьих, тем, что большая русская армия шла следом за французами, готовая употребить силу в случае остановки движения французов.
Русская армия должна была действовать, как кнут на бегущее животное. И опытный погонщик знал, что самое выгодное держать кнут поднятым, угрожая им, а не по голове стегать бегущее животное.
Когда человек видит умирающее животное, ужас охватывает его: то, что есть он сам, – сущность его, в его глазах очевидно уничтожается – перестает быть. Но когда умирающее есть человек, и человек любимый – ощущаемый, тогда, кроме ужаса перед уничтожением жизни, чувствуется разрыв и духовная рана, которая, так же как и рана физическая, иногда убивает, иногда залечивается, но всегда болит и боится внешнего раздражающего прикосновения.
После смерти князя Андрея Наташа и княжна Марья одинаково чувствовали это. Они, нравственно согнувшись и зажмурившись от грозного, нависшего над ними облака смерти, не смели взглянуть в лицо жизни. Они осторожно берегли свои открытые раны от оскорбительных, болезненных прикосновений. Все: быстро проехавший экипаж по улице, напоминание об обеде, вопрос девушки о платье, которое надо приготовить; еще хуже, слово неискреннего, слабого участия болезненно раздражало рану, казалось оскорблением и нарушало ту необходимую тишину, в которой они обе старались прислушиваться к незамолкшему еще в их воображении страшному, строгому хору, и мешало вглядываться в те таинственные бесконечные дали, которые на мгновение открылись перед ними.
Только вдвоем им было не оскорбительно и не больно. Они мало говорили между собой. Ежели они говорили, то о самых незначительных предметах. И та и другая одинаково избегали упоминания о чем нибудь, имеющем отношение к будущему.
Признавать возможность будущего казалось им оскорблением его памяти. Еще осторожнее они обходили в своих разговорах все то, что могло иметь отношение к умершему. Им казалось, что то, что они пережили и перечувствовали, не могло быть выражено словами. Им казалось, что всякое упоминание словами о подробностях его жизни нарушало величие и святыню совершившегося в их глазах таинства.
Беспрестанные воздержания речи, постоянное старательное обхождение всего того, что могло навести на слово о нем: эти остановки с разных сторон на границе того, чего нельзя было говорить, еще чище и яснее выставляли перед их воображением то, что они чувствовали.
Но чистая, полная печаль так же невозможна, как чистая и полная радость. Княжна Марья, по своему положению одной независимой хозяйки своей судьбы, опекунши и воспитательницы племянника, первая была вызвана жизнью из того мира печали, в котором она жила первые две недели. Она получила письма от родных, на которые надо было отвечать; комната, в которую поместили Николеньку, была сыра, и он стал кашлять. Алпатыч приехал в Ярославль с отчетами о делах и с предложениями и советами переехать в Москву в Вздвиженский дом, который остался цел и требовал только небольших починок. Жизнь не останавливалась, и надо было жить. Как ни тяжело было княжне Марье выйти из того мира уединенного созерцания, в котором она жила до сих пор, как ни жалко и как будто совестно было покинуть Наташу одну, – заботы жизни требовали ее участия, и она невольно отдалась им. Она поверяла счеты с Алпатычем, советовалась с Десалем о племяннике и делала распоряжения и приготовления для своего переезда в Москву.
Наташа оставалась одна и с тех пор, как княжна Марья стала заниматься приготовлениями к отъезду, избегала и ее.
Княжна Марья предложила графине отпустить с собой Наташу в Москву, и мать и отец радостно согласились на это предложение, с каждым днем замечая упадок физических сил дочери и полагая для нее полезным и перемену места, и помощь московских врачей.
– Я никуда не поеду, – отвечала Наташа, когда ей сделали это предложение, – только, пожалуйста, оставьте меня, – сказала она и выбежала из комнаты, с трудом удерживая слезы не столько горя, сколько досады и озлобления.
После того как она почувствовала себя покинутой княжной Марьей и одинокой в своем горе, Наташа большую часть времени, одна в своей комнате, сидела с ногами в углу дивана, и, что нибудь разрывая или переминая своими тонкими, напряженными пальцами, упорным, неподвижным взглядом смотрела на то, на чем останавливались глаза. Уединение это изнуряло, мучило ее; но оно было для нее необходимо. Как только кто нибудь входил к ней, она быстро вставала, изменяла положение и выражение взгляда и бралась за книгу или шитье, очевидно с нетерпением ожидая ухода того, кто помешал ей.
Ей все казалось, что она вот вот сейчас поймет, проникнет то, на что с страшным, непосильным ей вопросом устремлен был ее душевный взгляд.
В конце декабря, в черном шерстяном платье, с небрежно связанной пучком косой, худая и бледная, Наташа сидела с ногами в углу дивана, напряженно комкая и распуская концы пояса, и смотрела на угол двери.
Она смотрела туда, куда ушел он, на ту сторону жизни. И та сторона жизни, о которой она прежде никогда не думала, которая прежде ей казалась такою далекою, невероятною, теперь была ей ближе и роднее, понятнее, чем эта сторона жизни, в которой все было или пустота и разрушение, или страдание и оскорбление.
Она смотрела туда, где она знала, что был он; но она не могла его видеть иначе, как таким, каким он был здесь. Она видела его опять таким же, каким он был в Мытищах, у Троицы, в Ярославле.
Она видела его лицо, слышала его голос и повторяла его слова и свои слова, сказанные ему, и иногда придумывала за себя и за него новые слова, которые тогда могли бы быть сказаны.
Вот он лежит на кресле в своей бархатной шубке, облокотив голову на худую, бледную руку. Грудь его страшно низка и плечи подняты. Губы твердо сжаты, глаза блестят, и на бледном лбу вспрыгивает и исчезает морщина. Одна нога его чуть заметно быстро дрожит. Наташа знает, что он борется с мучительной болью. «Что такое эта боль? Зачем боль? Что он чувствует? Как у него болит!» – думает Наташа. Он заметил ее вниманье, поднял глаза и, не улыбаясь, стал говорить.
«Одно ужасно, – сказал он, – это связать себя навеки с страдающим человеком. Это вечное мученье». И он испытующим взглядом – Наташа видела теперь этот взгляд – посмотрел на нее. Наташа, как и всегда, ответила тогда прежде, чем успела подумать о том, что она отвечает; она сказала: «Это не может так продолжаться, этого не будет, вы будете здоровы – совсем».
Она теперь сначала видела его и переживала теперь все то, что она чувствовала тогда. Она вспомнила продолжительный, грустный, строгий взгляд его при этих словах и поняла значение упрека и отчаяния этого продолжительного взгляда.
«Я согласилась, – говорила себе теперь Наташа, – что было бы ужасно, если б он остался всегда страдающим. Я сказала это тогда так только потому, что для него это было бы ужасно, а он понял это иначе. Он подумал, что это для меня ужасно бы было. Он тогда еще хотел жить – боялся смерти. И я так грубо, глупо сказала ему. Я не думала этого. Я думала совсем другое. Если бы я сказала то, что думала, я бы сказала: пускай бы он умирал, все время умирал бы перед моими глазами, я была бы счастлива в сравнении с тем, что я теперь. Теперь… Ничего, никого нет. Знал ли он это? Нет. Не знал и никогда не узнает. И теперь никогда, никогда уже нельзя поправить этого». И опять он говорил ей те же слова, но теперь в воображении своем Наташа отвечала ему иначе. Она останавливала его и говорила: «Ужасно для вас, но не для меня. Вы знайте, что мне без вас нет ничего в жизни, и страдать с вами для меня лучшее счастие». И он брал ее руку и жал ее так, как он жал ее в тот страшный вечер, за четыре дня перед смертью. И в воображении своем она говорила ему еще другие нежные, любовные речи, которые она могла бы сказать тогда, которые она говорила теперь. «Я люблю тебя… тебя… люблю, люблю…» – говорила она, судорожно сжимая руки, стискивая зубы с ожесточенным усилием.
И сладкое горе охватывало ее, и слезы уже выступали в глаза, но вдруг она спрашивала себя: кому она говорит это? Где он и кто он теперь? И опять все застилалось сухим, жестким недоумением, и опять, напряженно сдвинув брови, она вглядывалась туда, где он был. И вот, вот, ей казалось, она проникает тайну… Но в ту минуту, как уж ей открывалось, казалось, непонятное, громкий стук ручки замка двери болезненно поразил ее слух. Быстро и неосторожно, с испуганным, незанятым ею выражением лица, в комнату вошла горничная Дуняша.
– Пожалуйте к папаше, скорее, – сказала Дуняша с особенным и оживленным выражением. – Несчастье, о Петре Ильиче… письмо, – всхлипнув, проговорила она.
Кроме общего чувства отчуждения от всех людей, Наташа в это время испытывала особенное чувство отчуждения от лиц своей семьи. Все свои: отец, мать, Соня, были ей так близки, привычны, так будничны, что все их слова, чувства казались ей оскорблением того мира, в котором она жила последнее время, и она не только была равнодушна, но враждебно смотрела на них. Она слышала слова Дуняши о Петре Ильиче, о несчастии, но не поняла их.
«Какое там у них несчастие, какое может быть несчастие? У них все свое старое, привычное и покойное», – мысленно сказала себе Наташа.
Когда она вошла в залу, отец быстро выходил из комнаты графини. Лицо его было сморщено и мокро от слез. Он, видимо, выбежал из той комнаты, чтобы дать волю давившим его рыданиям. Увидав Наташу, он отчаянно взмахнул руками и разразился болезненно судорожными всхлипываниями, исказившими его круглое, мягкое лицо.
– Пе… Петя… Поди, поди, она… она… зовет… – И он, рыдая, как дитя, быстро семеня ослабевшими ногами, подошел к стулу и упал почти на него, закрыв лицо руками.
Вдруг как электрический ток пробежал по всему существу Наташи. Что то страшно больно ударило ее в сердце. Она почувствовала страшную боль; ей показалось, что что то отрывается в ней и что она умирает. Но вслед за болью она почувствовала мгновенно освобождение от запрета жизни, лежавшего на ней. Увидав отца и услыхав из за двери страшный, грубый крик матери, она мгновенно забыла себя и свое горе. Она подбежала к отцу, но он, бессильно махая рукой, указывал на дверь матери. Княжна Марья, бледная, с дрожащей нижней челюстью, вышла из двери и взяла Наташу за руку, говоря ей что то. Наташа не видела, не слышала ее. Она быстрыми шагами вошла в дверь, остановилась на мгновение, как бы в борьбе с самой собой, и подбежала к матери.
Графиня лежала на кресле, странно неловко вытягиваясь, и билась головой об стену. Соня и девушки держали ее за руки.
– Наташу, Наташу!.. – кричала графиня. – Неправда, неправда… Он лжет… Наташу! – кричала она, отталкивая от себя окружающих. – Подите прочь все, неправда! Убили!.. ха ха ха ха!.. неправда!
Наташа стала коленом на кресло, нагнулась над матерью, обняла ее, с неожиданной силой подняла, повернула к себе ее лицо и прижалась к ней.
– Маменька!.. голубчик!.. Я тут, друг мой. Маменька, – шептала она ей, не замолкая ни на секунду.
Она не выпускала матери, нежно боролась с ней, требовала подушки, воды, расстегивала и разрывала платье на матери.
– Друг мой, голубушка… маменька, душенька, – не переставая шептала она, целуя ее голову, руки, лицо и чувствуя, как неудержимо, ручьями, щекоча ей нос и щеки, текли ее слезы.
Графиня сжала руку дочери, закрыла глаза и затихла на мгновение. Вдруг она с непривычной быстротой поднялась, бессмысленно оглянулась и, увидав Наташу, стала из всех сил сжимать ее голову. Потом она повернула к себе ее морщившееся от боли лицо и долго вглядывалась в него.
– Наташа, ты меня любишь, – сказала она тихим, доверчивым шепотом. – Наташа, ты не обманешь меня? Ты мне скажешь всю правду?
Наташа смотрела на нее налитыми слезами глазами, и в лице ее была только мольба о прощении и любви.
– Друг мой, маменька, – повторяла она, напрягая все силы своей любви на то, чтобы как нибудь снять с нее на себя излишек давившего ее горя.
И опять в бессильной борьбе с действительностью мать, отказываясь верить в то, что она могла жить, когда был убит цветущий жизнью ее любимый мальчик, спасалась от действительности в мире безумия.
Наташа не помнила, как прошел этот день, ночь, следующий день, следующая ночь. Она не спала и не отходила от матери. Любовь Наташи, упорная, терпеливая, не как объяснение, не как утешение, а как призыв к жизни, всякую секунду как будто со всех сторон обнимала графиню. На третью ночь графиня затихла на несколько минут, и Наташа закрыла глаза, облокотив голову на ручку кресла. Кровать скрипнула. Наташа открыла глаза. Графиня сидела на кровати и тихо говорила.
– Как я рада, что ты приехал. Ты устал, хочешь чаю? – Наташа подошла к ней. – Ты похорошел и возмужал, – продолжала графиня, взяв дочь за руку.
– Маменька, что вы говорите!..
– Наташа, его нет, нет больше! – И, обняв дочь, в первый раз графиня начала плакать.
Княжна Марья отложила свой отъезд. Соня, граф старались заменить Наташу, но не могли. Они видели, что она одна могла удерживать мать от безумного отчаяния. Три недели Наташа безвыходно жила при матери, спала на кресле в ее комнате, поила, кормила ее и не переставая говорила с ней, – говорила, потому что один нежный, ласкающий голос ее успокоивал графиню.
Душевная рана матери не могла залечиться. Смерть Пети оторвала половину ее жизни. Через месяц после известия о смерти Пети, заставшего ее свежей и бодрой пятидесятилетней женщиной, она вышла из своей комнаты полумертвой и не принимающею участия в жизни – старухой. Но та же рана, которая наполовину убила графиню, эта новая рана вызвала Наташу к жизни.
Душевная рана, происходящая от разрыва духовного тела, точно так же, как и рана физическая, как ни странно это кажется, после того как глубокая рана зажила и кажется сошедшейся своими краями, рана душевная, как и физическая, заживает только изнутри выпирающею силой жизни.
Так же зажила рана Наташи. Она думала, что жизнь ее кончена. Но вдруг любовь к матери показала ей, что сущность ее жизни – любовь – еще жива в ней. Проснулась любовь, и проснулась жизнь.
Последние дни князя Андрея связали Наташу с княжной Марьей. Новое несчастье еще более сблизило их. Княжна Марья отложила свой отъезд и последние три недели, как за больным ребенком, ухаживала за Наташей. Последние недели, проведенные Наташей в комнате матери, надорвали ее физические силы.
Однажды княжна Марья, в середине дня, заметив, что Наташа дрожит в лихорадочном ознобе, увела ее к себе и уложила на своей постели. Наташа легла, но когда княжна Марья, опустив сторы, хотела выйти, Наташа подозвала ее к себе.
– Мне не хочется спать. Мари, посиди со мной.
– Ты устала – постарайся заснуть.
– Нет, нет. Зачем ты увела меня? Она спросит.
– Ей гораздо лучше. Она нынче так хорошо говорила, – сказала княжна Марья.
Наташа лежала в постели и в полутьме комнаты рассматривала лицо княжны Марьи.
«Похожа она на него? – думала Наташа. – Да, похожа и не похожа. Но она особенная, чужая, совсем новая, неизвестная. И она любит меня. Что у ней на душе? Все доброе. Но как? Как она думает? Как она на меня смотрит? Да, она прекрасная».
– Маша, – сказала она, робко притянув к себе ее руку. – Маша, ты не думай, что я дурная. Нет? Маша, голубушка. Как я тебя люблю. Будем совсем, совсем друзьями.
И Наташа, обнимая, стала целовать руки и лицо княжны Марьи. Княжна Марья стыдилась и радовалась этому выражению чувств Наташи.
С этого дня между княжной Марьей и Наташей установилась та страстная и нежная дружба, которая бывает только между женщинами. Они беспрестанно целовались, говорили друг другу нежные слова и большую часть времени проводили вместе. Если одна выходила, то другаябыла беспокойна и спешила присоединиться к ней. Они вдвоем чувствовали большее согласие между собой, чем порознь, каждая сама с собою. Между ними установилось чувство сильнейшее, чем дружба: это было исключительное чувство возможности жизни только в присутствии друг друга.
Иногда они молчали целые часы; иногда, уже лежа в постелях, они начинали говорить и говорили до утра. Они говорили большей частию о дальнем прошедшем. Княжна Марья рассказывала про свое детство, про свою мать, про своего отца, про свои мечтания; и Наташа, прежде с спокойным непониманием отворачивавшаяся от этой жизни, преданности, покорности, от поэзии христианского самоотвержения, теперь, чувствуя себя связанной любовью с княжной Марьей, полюбила и прошедшее княжны Марьи и поняла непонятную ей прежде сторону жизни. Она не думала прилагать к своей жизни покорность и самоотвержение, потому что она привыкла искать других радостей, но она поняла и полюбила в другой эту прежде непонятную ей добродетель. Для княжны Марьи, слушавшей рассказы о детстве и первой молодости Наташи, тоже открывалась прежде непонятная сторона жизни, вера в жизнь, в наслаждения жизни.
Они всё точно так же никогда не говорили про него с тем, чтобы не нарушать словами, как им казалось, той высоты чувства, которая была в них, а это умолчание о нем делало то, что понемногу, не веря этому, они забывали его.
Наташа похудела, побледнела и физически так стала слаба, что все постоянно говорили о ее здоровье, и ей это приятно было. Но иногда на нее неожиданно находил не только страх смерти, но страх болезни, слабости, потери красоты, и невольно она иногда внимательно разглядывала свою голую руку, удивляясь на ее худобу, или заглядывалась по утрам в зеркало на свое вытянувшееся, жалкое, как ей казалось, лицо. Ей казалось, что это так должно быть, и вместе с тем становилось страшно и грустно.
Один раз она скоро взошла наверх и тяжело запыхалась. Тотчас же невольно она придумала себе дело внизу и оттуда вбежала опять наверх, пробуя силы и наблюдая за собой.