Эдуард I
| Эдуард I Длинноногий Edward I Longshanks<tr><td colspan="2" style="text-align: center; border-top: solid darkgray 1px;">  </td></tr> </td></tr>
<tr><td colspan="2" style="text-align: center; border-top: solid darkgray 1px;"> | |||
| |||
|---|---|---|---|
| 20 ноября 1272 — 7 июля 1307 | |||
| Коронация: | 19 августа 1274 | ||
| Предшественник: | Генрих III | ||
| Преемник: | Эдуард II | ||
| Рождение: | 17 июня 1239 Вестминстер, Лондон, Королевство Англия | ||
| Смерть: | 7 июля 1307 (68 лет) Брафф-бай-Сандс, Камбрия, Королевство Англия | ||
| Место погребения: | Вестминстерское аббатство, Лондон | ||
| Род: | Плантагенеты | ||
| Отец: | Генрих III | ||
| Мать: | Элеонора Провансская | ||
| Супруга: | 1-я: Элеонора Кастильская 2-я: Маргарита Французская | ||
| Дети: | От 1-го брака: сыновья: Иоанн, Генрих, Альфонс, Эдуард II дочери: Элеонора, Иоанна, Джулиана, Иоанна, Маргарита, Беренгария, Мария, Изабелла, Алиса, Елизавета, Беатриса, Бланка От 2-го брака: сыновья: Томас Бразертон, Эдмунд Вудсток дочь: Элеонора | ||
Эдуард I Длинноногий (англ. Edward I «Longshanks», 17 июня 1239 — 7 июля 1307) — король Англии в 1272—1307 годах из династии Плантагенетов.
Эдуард был четвёртым королём Англии с таким именем (более того, назван в честь предыдущего, Эдуарда Исповедника), позднее ему присвоили номер I, считая началом современной английской монархии восшествие на престол Вильгельма Завоевателя (1066 год). Таким образом, три англосаксонских Эдуарда остались в истории без номеров, но с прозвищами (Старший, Мученик и Исповедник).
Содержание
Вступление
Эдуард — старший сын короля Генриха III, во время правления отца участвовал в политических интригах, в том числе и в открытом восстании английских баронов. В 1259 году он на короткое время примкнул к движению баронов за реформы, поддерживающих Оксфордские условия. После примирения с отцом он оставался лояльным ему в ходе последующего вооружённого конфликта, известного как Баронская война. После битвы при Льюисе Эдуард стал заложником восставших баронов, но спустя несколько месяцев сбежал и присоединился к войне против Симона де Монфора. После гибели Монфора в битве при Ившеме (1265 год) восстание угасло. После успокоения Англии Эдуард присоединился к Восьмому крестовому походу, отправившись в Святую землю (хотя многие историки выделяют поход Эдуарда в качестве отдельного крестового похода). В 1272 году, когда Эдуард находился на пути домой, умер Генрих III. 19 августа 1274 года Эдуард был коронован[1].
При короле укрепилась центральная власть, стал регулярно созываться парламент, появилась серия законодательных актов, регулирующих сферы преступлений и отношений собственности. Король подавил небольшое восстание в Уэльсе в 1276—1277 годах, а на второе восстание (1282-83 годы) ответил полномасштабным завоеванием. Эдуард покорил Уэльс и поставил его под английское управление, построил множество замков и городов в сельской местности и заселил их англичанами[2].
Во внешней политике сначала играл роль миротворца, пытаясь собрать новый Крестовый поход. В 1286 году Эдуард предотвратил франко-арагонский конфликт, разорвав перемирие с Францией. С падением Акры в 1291 году его роль изменилась, и после захвата Гаскони королём Франции Филиппом IV Эдуард сколотил антифранцузский союз, военные действия которого окончились неудачей. В 1299 году Эдуард заключил мир с Францией.
После смерти в 1290 году шотландской королевы Маргарет Эдуард вмешался как арбитр в борьбу за шотландское наследство и определил преемником Маргарет Иоанна I Баллиоля, затем вторгся в Шотландию, заточил Баллиоля в Тауэр, в 1298 году разбил восстание Уильяма Уоллеса, захватил и казнил Уоллеса (1305 год), однако вскоре Роберт I Брюс поднял новое восстание и после смерти Эдуарда изгнал англичан из Шотландии[3].
В середине 1290-х годов продолжающиеся военные действия привели к невыносимому росту налогов и Эдуард столкнулся с оппозицией, как со стороны властей, так и со стороны церкви. Кризис был преодолён, но проблемы остались нерешёнными.
Эдуард I умер в 1307 году во время очередного похода в Шотландию, оставив своему сыну и наследнику Эдуарду II множество финансовых и политических проблем, в том числе и продолжающуюся войну с Шотландией[4].
По меркам того времени Эдуард был высоким человеком, за что получил прозвище «Длинноногий». Благодаря высокому росту и своему темпераменту он производил устрашающее впечатление на окружающих, внушая страх современникам. Подданные уважали его за то, что он воплощал в себе идею средневекового короля, как солдат, правитель[5] и верующий человек[6], но другие критиковали его за бескомпромиссное отношение к титулованному дворянству.
Оценки настоящего времени расходятся между собой, считается, что у Эдуарда было много достижений за время своего правления, среди них восстановление королевской власти после режима Генриха III, основание парламента как постоянного органа власти, создание функционирующей системы роста налогов, реформы закона посредством издания актов[7]. Критикуют Эдуарда в частности за жестокие военные действия против шотландцев[8] и изгнание евреев из Англии в 1290 году[9].
Ранние годы
Эдуард родился в Вестминстерском дворце в ночь[~ 1] с 17 на 18 июня 1239 года. Его родителями были король Генрих III и Элеонора Провансская. Хотя маленький принц серьёзно болел по разным причинам в 1246, 1247 и в 1251 годах, он рос здоровым и сильным[6]. Эдуард был на попечении у Хьюго Гиффорда — отца будущего канцлера Годфри Гиффорда, после смерти Гиффорда в 1246 году его заменил Бартоломео Пекке[10]. Среди друзей детства были его двоюродный брат Генри Алеманнский, сын брата короля Генриха Ричарда Корнуэльского[6]. Генри Алеманнский остался близким товарищем Эдуарда, пройдя с ним и гражданскую войну, и Крестовый поход[11].
В 1254 году английский престол опасался кастильского вторжения в находившуюся в подчинении Англии провинцию Гасконь, что побудило Генриха III устроить политический брак его 15-летнего старшего сына Эдуарда и Элеоноры, которая была дочерью короля Кастилии (Фердинанда III) и единокровной сестрой короля Кастилии Альфонсо X[12]. 1 ноября 1254 году Эдуард и Элеонора поженились в кастильском аббатстве Санта-Мария ла Реал де лас Уельгас[13]. Как часть брачного соглашения юный принц получил ежегодную выплату в 15 тысяч марок[14].
Подарки короля Генриха были очень солидными, но всё же Эдуард обрёл лишь малую долю независимости. Ещё в 1249 году Эдуард получил Гасконь, но годом раньше Симон де Монфор, 6-й граф Лестер стал королевским представителем в этой провинции и, следовательно, извлекал из неё доходы, так что de facto у Эдуарда не было никакой власти в Гаскони[15]. В 1254 году принц получил земельный надел: большую часть Ирландии и земли в Англии и Уэльсе, включая марку Честер, однако король Генрих III сохранил частичный контроль над этими землями (особенно над Ирландией), так что власть Эдуарда над этими землями была ограничена[16], и король присваивал большую часть доходов с этих владений.[17].
В период с 1254 по 1257 годы Эдуард находился под влиянием родственников своей матери, известных как Савойский дом[18] Наиболее знаменитым из них был Пьер Савойский, дядя матери Эдуарда.[19]. После 1257 года он всё больше начал переходить под влияние Пуатевинов (фракция Лузиньянов) — братьев его отца, возглавляемых Уильямом де Валансом[~ 2]. Две группы влиятельных иностранцев были обижены английской аристократией и в последующие годы стали центром баронского реформаторского движения[20]. Известны истории о непокорном и вспыльчивом поведении Эдуарда и его родичей Лузиньянов, что подняло вопросы о личных качествах наследника короля. События следующего года стали образующими для характера Эдуарда[21].
Ранние политические устремления
 Уже в 1255 году Эдуард начал показывать независимость в политических делах. В Гаскони он принял сторону семейства Солер в конфликте между Солерами и Коломбами. Этот шаг Эдуарда вошёл в противоречие с политикой равновесия между локальными группировками, проводимой его отцом[23]. В мае 1258 года группа магнатов подписала документ о реформе королевского правительства (так называемые «Оксфордские провизии»). Реформа в основном была направлена против Лузиньянов. Эдуард остался на стороне своих политических союзников и решительно выступил против «Оксфордских провизий». Реформаторы достигли своей цели по ограничению влияния Лузиньянов и политическая позиция Эдуарда постепенно начала меняться. В марте 1259 году Эдуард вошёл в союз с одним из главных реформаторов Ричардом де Клером, 6-м графом Хартфорд, 2-м графом Глостер. Затем 15 октября 1259г принц объявил о своей поддержке целей баронов и о поддержке их лидера Симона де Монфора[24].
Уже в 1255 году Эдуард начал показывать независимость в политических делах. В Гаскони он принял сторону семейства Солер в конфликте между Солерами и Коломбами. Этот шаг Эдуарда вошёл в противоречие с политикой равновесия между локальными группировками, проводимой его отцом[23]. В мае 1258 года группа магнатов подписала документ о реформе королевского правительства (так называемые «Оксфордские провизии»). Реформа в основном была направлена против Лузиньянов. Эдуард остался на стороне своих политических союзников и решительно выступил против «Оксфордских провизий». Реформаторы достигли своей цели по ограничению влияния Лузиньянов и политическая позиция Эдуарда постепенно начала меняться. В марте 1259 году Эдуард вошёл в союз с одним из главных реформаторов Ричардом де Клером, 6-м графом Хартфорд, 2-м графом Глостер. Затем 15 октября 1259г принц объявил о своей поддержке целей баронов и о поддержке их лидера Симона де Монфора[24].
Эдуард поддержал Монфора из прагматических соображений, поскольку Монфор мог поддержать принца в Гаскони[25]. Когда в ноябре король оставил Францию, Эдуард перешёл к открытому неповиновению. Принц провёл несколько встреч с реформаторами и поддержал их дело, благодаря чему его отец пришёл к выводу, что Эдуард замышляет путч[26]. Когда король вернулся во Францию, он сначала отказался видеть сына, но граф Корнуольский и епископ Кентербери переубедили короля, Эдуард и Генрих окончательно пришли к согласию[27]. Эдуард был послан за границу и в ноябре 1260 года присоединился к Лузиньянам, нашедшим убежище во Франции[28].
В начале 1262 года Эдуард вернулся в Англию и порвал с несколькими из его бывших союзников Лузиньянов по финансовым причинам. В следующем году король Генрих отправил наследника в Уэльс в кампанию против Лливелина ап Грифида, кампания имела ограниченный успех[29]. В апреле 1262 года в Англию вернулся Симон де Монфор (который с 1261 года был за пределами страны) и снова поднял баронское движение за реформы[30]. В переломный момент, когда казалось, что король вновь удовлетворит требования баронов, Эдуард начал восстанавливать контроль над ситуацией. Эдуард твёрдо защищал королевские права его отца[31]. Он воссоединился с теми, от кого отвернулся годами раньше — среди них был друг его детства Генри Алеманнский и Джон де Варенн, граф Суррей. Принц отбил у мятежников Виндзорский замок[32]. При посредничестве короля Франции Людовика IX между двумя сторонами были заключены «Амьенские соглашения», очень благосклонно воспринятые роялистами, но посеявшие семена будущего конфликта из-за их неприятия баронами[33].
Гражданская война
В 1264—1267 годах произошёл вооружённый конфликт, известный как баронские войны, между силами баронов, возглавляемых Симоном де Монфором и роялистами, оставшимися верными королю. Первой сценой войны стал город Глостер, который Эдуард попытался отбить у противника. С приходом на помощь восставшим Роберта де Феррерса, графа Дерби, Эдуард пошёл на перемирие, которое он позднее разорвал. Затем принц взял город Нортгемптон, обороняемый сыном де Монфора Симоном, после этого Эдуард предпринял карательную кампанию против земель графа Дерби[34]. Силы баронов и роялистов встретились в решающей битве при Льюисе 14 мая 1264 года. Эдуард, возглавив правое крыло, держался стойко и вскоре разбил лондонский контингент сил Монфора. Однако он предпринял неразумное преследование рассеявшегося противника и, вернувшись, обнаружил, что оставшиеся королевские войска разгромлены[35]. В соответствии с Льюисскими соглашениями, Эдуард и его двоюродный брат Генри Алеманнский были выданы Монфору и стали его пленниками[36].
 Эдуард оставался в плену до марта и даже после освобождения оставался под строгим надзором[37]. 28 мая ему удалось совершить побег и присоединиться к графу Глостеру[~ 3], который недавно принял сторону короля[38] Поддержка, оказываемая де Монфору, начала ослабевать, и Эдуард сравнительно легко завоевал Вустер и Глостер[39]. Тем временем Монфор заключил союз с валлийским вождём Лливелином ап Гриффидом и двинулся на восток, чтобы присоединиться к войску своего сына Симона. Эдуард внезапно атаковал молодого Монфора на квартирах его войска в замке Кенилворт, после этого он отрезал силы графа Лестера[40]. Вскоре войска противников встретились во втором значительном сражении баронских войн — в битве при Ившеме 4 августа 1265 года. Армия де Монфора уступала королевским силам по численности, его войска были разбиты, а сам он убит на поле боя. Тело барона было расчленено[41].
Эдуард оставался в плену до марта и даже после освобождения оставался под строгим надзором[37]. 28 мая ему удалось совершить побег и присоединиться к графу Глостеру[~ 3], который недавно принял сторону короля[38] Поддержка, оказываемая де Монфору, начала ослабевать, и Эдуард сравнительно легко завоевал Вустер и Глостер[39]. Тем временем Монфор заключил союз с валлийским вождём Лливелином ап Гриффидом и двинулся на восток, чтобы присоединиться к войску своего сына Симона. Эдуард внезапно атаковал молодого Монфора на квартирах его войска в замке Кенилворт, после этого он отрезал силы графа Лестера[40]. Вскоре войска противников встретились во втором значительном сражении баронских войн — в битве при Ившеме 4 августа 1265 года. Армия де Монфора уступала королевским силам по численности, его войска были разбиты, а сам он убит на поле боя. Тело барона было расчленено[41].
Из-за обмана графа Дерби в Глостере Эдуард приобрёл репутацию ненадёжного политика. Но в ходе летней кампании он извлёк урок из своих ошибок и вступил на путь, который принёс ему уважение и даже восхищение современников[42]. Со смертью де Монфора война не закончилась, и Эдуард продолжил участие в кампаниях. Во время Рождества он пришёл к согласию с юным Монфором и его союзниками на острове Аксхольм в Линкольншире, а в марте предпринял успешный штурм Пяти портов[43]. Часть повстанцев укрепилась в практически неприступном замке Кенилворт и не сдавалась, пока под давлением папы не были составлено примирительное «Кенилвортское заключение»[~ 4]. В апреле казалось, что если Глостер присоединится к движению сторонников реформ, то война продолжится, но после принятия условий «Кенилвортского заключения» стороны пришли к согласию. Эдуард принял скромное участие в переговорах по урегулированию, сосредоточившись на подготовке к Крестовому походу[44].
Крестовый поход и наследование престола
[~ 5]24 июня 1268 года на церемонии Эдуард принял крест похода, вместе со своим братом Эдмундом и двоюродным братом Генри Алеманнским. Среди присоединившихся к Восьмому крестовому походу были бывшие противники Эдуарда: например граф Глостер, хотя граф в итоге так и не отправился в поход.[45] После усмирения страны на первое место вышла проблема финансирования.[46] Король Франции Людовик IX предоставил ссуду в 17 500 фунтов,[47] но этого было недостаточно, остаток был собран с налога, взимаемого с мирян[47], которым они не облагались с 1237 года. В мае 1270 года Парламент утвердил налог двадцатой частью движимого имущества, взамен король согласился подтвердить великую хартию вольностей и ввёл ограничения на кредиты, предоставляемые евреями[48]. 20 августа Эдуард отплыл из Дувра во Францию. Историки не могут определить точного числа его войска, возможно Эдуард захватил с собой 225 рыцарей, всего у него было меньше тысячи людей[46].
Первоначально крестоносцы собирались освободить осаждённую христианскую твердыню Акру, но Людовик IX решил отправиться в Тунис. Французский король и его брат Карл Анжуйский, король Сицилии, решили атаковать эмират, чтобы основать форпост в Северной Африке[49]. Однако эти планы провалились, когда французские войска были охвачены эпидемией болезни[~ 6], 25 августа оборвавшей жизнь самого Людовика. В это время Эдуард и прибыл в Тунис. Карл уже подписал договор с эмиром и собирался вернуться на Сицилию. Крестовый поход был отложен до следующей весны, но после опустошительного шторма, обрушившегося на берег Сицилии, Карл Анжуйский и наследник Людовика Филипп III раздумали предпринимать какие-либо дальнейшие кампании[50]. Эдуард решил продолжать один и 9 мая 1271 года высадился у Акры.
 К этому времени ситуация в Святой земле оставалась нестабильной. Иерусалим снова пал в 1244 году, а Акра была центром христианского государства[51]. Мусульманские государства перешли в наступление под командой мамелюка Бейбарса и сейчас они угрожали Акре. Хотя люди Эдуарда стали важной частью гарнизона у них были лишь небольшие шансы выстоять против превосходящих сил Бейбарса. Первоначальный рейд против близкого St. Georges-de-Lebeyne оказался тщетным[52]. Христиане послали посольство к монголам и те предприняли атаку на Алеппо на севере, что помогло отвлечь силы Бейбарса[53]. В ноябре Эдуард предпринял рейд на Какун, что помогло удержать плацдарм в направлении Иерусалима, но в итоге монгольское наступление и рейд на Какун провалились. Положение стало казаться всё более и более безнадёжным и в мае 1272 года король Кипра Гуго III, бывший одновременно королём Иерусалима, подписал десятилетнее перемирие с Бейбарсом[54]. Сначала Эдуард проигнорировал перемирие, но покушение со стороны мусульманского ассасина в июне побудило его оставить участие в каких бы то ни было дальнейших кампаниях. Хотя Эдуард и сумел убить ассасина, он был ранен ударом кинжала в руку, возможно кинжал был отравлен и Эдуард в течение последующих месяцев был серьёзно болен[~ 7].
К этому времени ситуация в Святой земле оставалась нестабильной. Иерусалим снова пал в 1244 году, а Акра была центром христианского государства[51]. Мусульманские государства перешли в наступление под командой мамелюка Бейбарса и сейчас они угрожали Акре. Хотя люди Эдуарда стали важной частью гарнизона у них были лишь небольшие шансы выстоять против превосходящих сил Бейбарса. Первоначальный рейд против близкого St. Georges-de-Lebeyne оказался тщетным[52]. Христиане послали посольство к монголам и те предприняли атаку на Алеппо на севере, что помогло отвлечь силы Бейбарса[53]. В ноябре Эдуард предпринял рейд на Какун, что помогло удержать плацдарм в направлении Иерусалима, но в итоге монгольское наступление и рейд на Какун провалились. Положение стало казаться всё более и более безнадёжным и в мае 1272 года король Кипра Гуго III, бывший одновременно королём Иерусалима, подписал десятилетнее перемирие с Бейбарсом[54]. Сначала Эдуард проигнорировал перемирие, но покушение со стороны мусульманского ассасина в июне побудило его оставить участие в каких бы то ни было дальнейших кампаниях. Хотя Эдуард и сумел убить ассасина, он был ранен ударом кинжала в руку, возможно кинжал был отравлен и Эдуард в течение последующих месяцев был серьёзно болен[~ 7].
24 сентября Эдуард покинул Акру. Прибыв на Сицилию он узнал о смерти отца, последовавшей 16 ноября[55]. Эдуард был серьёзно опечален этой новостью, но вместо того, чтобы поторопиться домой он неспешно двинулся на север. Его здоровье всё ещё оставалось подорванным, и не было настоятельной необходимости торопиться[56], так как политическая ситуация в Англии оставалась стабильной после переворотов середины столетия[~ 8]. Эдуард был провозглашён королём после смерти отца раньше его собственной коронации согласно обычному юридическому порядку. В отсутствии Эдуарда страной управлял королевский совет, возглавляемый Робертом Барнеллом[57]. Новый король проделал путь по суше через Италию и Францию, среди прочих дел он нанёс визит папе в Риме и подавил восстание в Гаскони[58]. 2 августа 1274 года он высадился на побережье Англии и 19 августа 1274 года был коронован[1].
Правление
Администрация и законы
По возвращении домой Эдуард незамедлительно принялся за административные дела, его главной заботой стало восстановление порядка и королевской власти после бедствий, постигнувших страну в ходе правления его отца[59]. Он немедленно принялся за обширные кадровые перестановки административного персонала, наиболее важным шагом стало назначение Роберта Барнелла в качестве канцлера, Барнелл занимал этот пост до 1292 года и был одним из ближайших товарищей короля[60]. Затем Эдуард заменил большинство локальных управленцев, таких как конфискаторов и шерифов[61]. Следующим шагом стала подготовка к повсеместному расследованию согласно жалобам на злоупотребления со стороны королевских офицеров. Одним из итогов стало создание так называемых «Сотенных свитков», согласно административному подразделению на сотни[~ 9].
 Второй целью расследования стало определение ущерба земельных владений и прав короны в ходе правления Генриха III[62]. Список сотен сформулировал базу для дальнейших легальных расследований под названием процесс лат. Quo warranto (По какому приговору?). Целью этих расследований стало определение какие из местных органов власти следует сохранить[~ 10]. Если у ответчика не было королевского разрешения, чтобы доказать своё право (вольность) то согласно судебному решению короны основанному на сочинениях влиятельного правоведа XIII столетия Генри де Брактона — это право переходило обратно к королю. Это породило переполох среди аристократии, которая настаивала на том, что они уже длительное время пользуются ими же составленными разрешениями[63]. В 1290 году был достигнут окончательный компромисс, вольность рассматривалась законной, если можно было показать, что ею пользовались со времени коронации короля Ричарда I в 1189 году[64]. Королевский выигрыш благодаря статуту лат. Quo warranto был незначительным, у дворян были отобраны лишь некоторые вольности[65]. Несмотря на это Эдуард одержал значительную победу, так как был чётко установлен принцип, что все вольности по существу происходят от короны[66].
Второй целью расследования стало определение ущерба земельных владений и прав короны в ходе правления Генриха III[62]. Список сотен сформулировал базу для дальнейших легальных расследований под названием процесс лат. Quo warranto (По какому приговору?). Целью этих расследований стало определение какие из местных органов власти следует сохранить[~ 10]. Если у ответчика не было королевского разрешения, чтобы доказать своё право (вольность) то согласно судебному решению короны основанному на сочинениях влиятельного правоведа XIII столетия Генри де Брактона — это право переходило обратно к королю. Это породило переполох среди аристократии, которая настаивала на том, что они уже длительное время пользуются ими же составленными разрешениями[63]. В 1290 году был достигнут окончательный компромисс, вольность рассматривалась законной, если можно было показать, что ею пользовались со времени коронации короля Ричарда I в 1189 году[64]. Королевский выигрыш благодаря статуту лат. Quo warranto был незначительным, у дворян были отобраны лишь некоторые вольности[65]. Несмотря на это Эдуард одержал значительную победу, так как был чётко установлен принцип, что все вольности по существу происходят от короны[66].
Статут 1290 года Quo warranto был всего лишь частью обширной законотворческой деятельности, ставшей одним из наиболее важных вкладов сделанных в ходе правления Эдуарда.[6]. Эта эра законотворчества уже началась со времён баронского реформаторского движения. Статут Мальборо (1267 год) содержал элементы, как Оксфордских условий, так и Кенилуортского заключения[67]. Составление Списков Сотен было закончено вскоре после выпуска Первого вестминстерского статута, утвердившего королевскую прерогативу и обрисовавшего ограничения свобод[68]. В статутах Мёртвой руки (1279 год) был поднят вопрос о предотвращении передачи земель в собственность церкви[69]. Первый пункт Второго вестминстерского статута (1285 год), известный как лат. De donis conditionalibus, рассматривал вопрос о семейных правах на землю и о майоратах (наследовании земли без права отчуждения)[70]. Статут торговцев (1285 год) обосновал права организаций по взысканию долгов[71]. Винчестерский статут (1285 год) рассматривал вопросы сохранения мира на местном уровне[72]. Статут Quia Emptores (1290 год) выпущенный вместе со статутом лат. Quo warranto устранял споры о земле, происходящие в результате отчуждения арендованной земли в ходе сдачи её в аренду самим арендатором[73]. Время принятия великих статутов закончилась со смертью Роберта Барнелла в 1292 году[74].
Валлийские войны
Лливелин ап Грифид наслаждался благоприятным для него положением, установившимся после баронских войн. Благодаря договору в Монтгомери (1267 год) он официально завладел завоёванными им четырьмя кантревами восточного Гвинеда[~ 11] и его титул принца Уэльского был признан Генрихом III[75][76]. Тем не менее, вооружённые конфликты не прекращались, в частности с несколькими ущемлёнными лордами марки, такими как граф Глостер, Роджер Мортимер и Хэмфри де Богун, 3-й граф Херефорд[77]. Ситуация ещё более обострилась после того как младший брат Лливелина Давид и Грифид ап Гвенвинвин из Поуиса после провалившейся попытки покушения на Лливелина перебежал к англичанам в 1274 году[78]. Сославшись на продолжающиеся военные действия и на укрывательство английским королём его врагов, Лливелин отказался приносить вассальную присягу Эдуарду.[79] Сам Эдуард воспринял как провокацию планируемый брак Лливелина и Элеоноры, дочери Симона де Монфора.[80] В ноябре 1276 года был объявлена война.[81] Действиями англичан руководили Мортимер, Эдмунд Ланкастер (брат Эдуарда)[~ 12] и Уильям де Бошан, граф Уорик. Соотечественники Лливелина оказали ему лишь слабую поддержку[82]. В июле 1277 года Эдуард вторгся с силой в 15.500 человек, из которых 9 тысяч были валлийцами[83]. В ходе кампании так и не произошло генерального сражения. Лливелин вскоре понял, что у него нет другого выбора кроме сдачи.[83] Согласно договору в Аберконуи (ноябрь 1277 года) Лливелину остался только западный Гвинед, хотя ему было позволено сохранить титул принца Уэльского[84].
В 1282 году война разгорелась вновь. В ней участвовали не только валлийцы, противники короля Эдуарда получали широкую поддержку, подогреваемую попытками навязать английские законы жителям Уэльса[85]. В отличие от предыдущей кампании, носящей скорее карательный характер, эта кампания стала для Эдуарда завоевательной[86]. Война началась с восстания Давида, который был неудовлетворён вознаграждением, полученным от Эдуарда в 1277 году[87]. Вскоре Лливелин и другие валлийские вожди присоединились к Давиду. Сначала успех в войне сопутствовал восставшим. В июне Глостер потерпел поражение в битве при Лландейло-Ваур[88]. 6 ноября в то время когда архиепископ Кентерберийский Джон Пэкхэм вёл мирные переговоры, Люк де Тани, командир Англси решил предпринять внезапную атаку. Был построен понтонный мост, однако люди Тани вскоре после переправы попали в валлийскую засаду и понесли тяжкие потери в битве у Мойл-и-Дон[89]. 11 декабря Лливелин был завлечён в ловушку и погиб в битве у моста Оревин[90], успехи валлийцев на этом закончились. Окончательное подчинение валлийцев произошло после захвата в плен Давида в июне 1283 года, он был переправлен в Шрусбери и казнён как изменник следующей осенью[91].
 Следующие восстания произошли в 1287—1288 годах и более серьёзное в 1294—1295 годах под руководством Мадога ап Лливелина, дальнего родственника Лливелина ап Грифида. Последнее восстание привлекло личное внимание Эдуарда, но в обоих случаях восстания были подавлены[6]. Согласно статуту Рудлана (1284 год) владения Лливелина включалась в территорию Англии, Уэльс получал административную систему, подобную английской, порядок в округах поддерживался шерифами[92]. Английский закон был введён в силу для уголовных дел, хотя валлийцам было позволено улаживать некоторые споры о собственности по своим собственным законам[93]. В 1277 году Эдуард начал полномасштабную программу создания английских поселений в Уэльсе, после 1283 года заселение резко увеличилось. Были основаны новые города, такие как Флинт, Аберистуит и Ридлан[2]. Также было положено начало масштабному строительству замков. Это задание было поручено мастеру Джеймсу из Сен-Джорджа, маститому архитектору, которого Эдуард повстречал в Савойе по возвращении из крестового похода. Среди главных построек были замки Бомарис, Карнарвон, Конуи и Харлех[94]. Его программа строительства замков положила начало повсеместному использованию в Европе бойниц для лучников в стенах замков под влиянием восточного опыта, полученного в крестовых походах[95]. В этой связи были введена в употребление идея концентрического замка, четыре замка из восьми, основанных Эдуардом в Уэльсе были построены согласно этому дизайну[96][97]. В 1284 в замке Карнарвон на свет появился сын Эдуарда (впоследствии король Эдуард II). В 1301 году он стал первым английским принцем, получившим титул принца Уэльского[~ 13].
Следующие восстания произошли в 1287—1288 годах и более серьёзное в 1294—1295 годах под руководством Мадога ап Лливелина, дальнего родственника Лливелина ап Грифида. Последнее восстание привлекло личное внимание Эдуарда, но в обоих случаях восстания были подавлены[6]. Согласно статуту Рудлана (1284 год) владения Лливелина включалась в территорию Англии, Уэльс получал административную систему, подобную английской, порядок в округах поддерживался шерифами[92]. Английский закон был введён в силу для уголовных дел, хотя валлийцам было позволено улаживать некоторые споры о собственности по своим собственным законам[93]. В 1277 году Эдуард начал полномасштабную программу создания английских поселений в Уэльсе, после 1283 года заселение резко увеличилось. Были основаны новые города, такие как Флинт, Аберистуит и Ридлан[2]. Также было положено начало масштабному строительству замков. Это задание было поручено мастеру Джеймсу из Сен-Джорджа, маститому архитектору, которого Эдуард повстречал в Савойе по возвращении из крестового похода. Среди главных построек были замки Бомарис, Карнарвон, Конуи и Харлех[94]. Его программа строительства замков положила начало повсеместному использованию в Европе бойниц для лучников в стенах замков под влиянием восточного опыта, полученного в крестовых походах[95]. В этой связи были введена в употребление идея концентрического замка, четыре замка из восьми, основанных Эдуардом в Уэльсе были построены согласно этому дизайну[96][97]. В 1284 в замке Карнарвон на свет появился сын Эдуарда (впоследствии король Эдуард II). В 1301 году он стал первым английским принцем, получившим титул принца Уэльского[~ 13].
Дипломатия и война на континенте
После своего возвращения в Англию в 1274 году Эдуард никогда более не участвовал в крестовых походах, но он утверждал, что у него есть намерение принять участие и в 1287 году он принял знак креста[98]. Это намерение до 1291 года руководило его иностранной политикой. Для того чтобы поднять европейцев на полномасштабный крестовый поход необходимо было предотвратить конфликт между великими принцами на континенте. Главным препятствием к этому виделся конфликт между французским домом Анжу и королевством Арагон в Испании. В 1282 году жители Палермо восстали против Карла Анжуйского, обратились за помощью к Педро III, королю Арагонскому и в ходе так называемой «сицилийской вечерни», перебили всех французов, после чего короновали Педро III как короля Сицилии. В разгоревшейся войне Карл Салернский, сын Карла Анжуйского, попал в плен к арагонцам[99]. Французы начали составлять план наступления на Арагон, в этом уже виделась перспектива полномасштабной европейской войны. Для Эдуарда было настоятельно важным предотвратить войну и в 1286 году в Париже он разорвал перемирие с Францией, что способствовало освобождению Карла Анжуйского[100]. Однако усилия Эдуарда оказались неэффективными. В 1291 году мамелюки опрокинули его планы, взяв Акру — последнюю христианскую твердыню в Святой земле[101].
 После падения Акры Эдуард сменил свою роль в международных отношениях с роли дипломата на роль антагониста. Долгое время он был глубоко вовлечён в дела своего собственного герцогства Гасконского. В 1278 году он учредил комиссию по расследованию, которое он доверил своим приближенным Отто де Грандсону и Роберту Барнеллу. В итоге сенешаль Люк де Тани был смещён со своего поста[102]. В 1286 году он самолично посетил регион и провёл там почти три года[103]. Исконной проблемой был статус Гаскони в составе французского королевства, и роль Эдуарда сводилась к роли вассала французского короля. Во время своей дипломатической миссии в 1286 году Эдуард принёс вассальную присягу новому королю Филиппу IV, но в 1294 году Филипп объявил Гасконь конфискованной после того как Эдуард отказался явиться к нему для обсуждения недавнего конфликта между английскими, гасконскими и французскими моряками (что завершилось захватом нескольких французских судов и разграблением французского порта Ла-Рошель)[104].
После падения Акры Эдуард сменил свою роль в международных отношениях с роли дипломата на роль антагониста. Долгое время он был глубоко вовлечён в дела своего собственного герцогства Гасконского. В 1278 году он учредил комиссию по расследованию, которое он доверил своим приближенным Отто де Грандсону и Роберту Барнеллу. В итоге сенешаль Люк де Тани был смещён со своего поста[102]. В 1286 году он самолично посетил регион и провёл там почти три года[103]. Исконной проблемой был статус Гаскони в составе французского королевства, и роль Эдуарда сводилась к роли вассала французского короля. Во время своей дипломатической миссии в 1286 году Эдуард принёс вассальную присягу новому королю Филиппу IV, но в 1294 году Филипп объявил Гасконь конфискованной после того как Эдуард отказался явиться к нему для обсуждения недавнего конфликта между английскими, гасконскими и французскими моряками (что завершилось захватом нескольких французских судов и разграблением французского порта Ла-Рошель)[104].
В последующей войне Эдуард спланировал атаку с двух направлений. Пока английские войска, наступали на Гасконь, Эдуард заключил альянсы с принцами Нидерландов, Германии и Бургундии, которым следовало атаковать французов с севера[6]. Эти союзы оказались неустойчивыми. В то же время Эдуард столкнулся с проблемами у себя дома, как в Уэльсе, так и в Шотландии. Только в августе 1297 года он смог отплыть во Фландрию, но его союзники к этому времени потерпели поражение[105]. Германская поддержка так никогда и не воплотилась в жизнь и Эдуард был вынужден искать мир. Его женитьба на французской принцессе Маргарите в 1299 году положила конец войне, в целом его континентальный план обошёлся дорого[~ 14] для Англии и оказался бесплодным.
Великий повод
В 1280-х годах Англия и Шотландия сосуществовали относительно мирно.[106] Вопрос вассальной присяги в Шотландии не принял такую остроту как в Уэльсе, в 1278 году король Шотландии Александр III принёс присягу Эдуарду I, но вероятно только за земли, которые он получил от Эдуарда в Англии[107]. В начале 1290-х годов в Шотландии произошёл династический кризис так как в 1281—1284 годах умерли два сына и дочь Александра, а в 1286 году умер и сам Александр. Трон Шотландии унаследовала трёхлетняя Маргарет Мейд из Норвегии, рождённая в 1283 году от дочери Александра Маргарет и норвежского короля Эрика II[108]. Согласно Биргамскому договору Маргарет должна была выйти замуж за годовалого Эдуарда Карнарвонского, сына Эдуарда I, но Шотландия должна была остаться свободной от сюзеренитета английского короля.[109][110]
Осенью 1290 года Маргарет в возрасте семи лет отплыла из Норвегии в Шотландию, но в пути заболела и умерла на Оркнейских островах[111][112]. Шотландия осталась без наследника, что породило династический спор известный как Великий Повод.[~ 15] Хотя около 14-ти человек заявили о своём праве на титул, главный спор разгорелся между Джоном Баллиолем и Робертом Брюсом[113]. Шотландские магнаты попросили Эдуарда выступить арбитром в споре[114]. В Биргеме, в перспективе союза между двумя королевствами вопрос о сюзеренитете не был важным для Эдуарда. Он настаивал на том, что если он должен разрешить спор, то его надлежит признать в качестве шотландского верховного феодального правителя.[115] Шотландцы не были настроены на подобную уступку, и Эдуард получил ответ, что с тех пор, как Шотландия осталась без короля, никто не уполномочен принять такое решение[116]. Проблема была обойдена после того как соперники согласились передать королевство в руки Эдуарду, пока не будет найден полноправный наследник[117]. После длительного обсуждения решение было принято 17 ноября 1292 года в пользу Джона Баллиоля[~ 16].
Даже после утверждения Баллиоля Эдуард продолжал настаивать на своей власти над Шотландией. Вопреки протестам шотландцев, Эдуард согласился провести слушания апелляционных жалоб на судебные решения, вынесенные регентским советом[~ 17], управлявшим Шотландией в ходе междуцарствия[118]. Следующей провокацией стало процесс Макдуфа, сына Малкольма, графа Файфа. Эдуард потребовал от Баллиоля лично явиться перед английским парламентом и ответить на обвинения[119]. Шотландский король выполнил это требование. Последней каплей стало требование Эдуарда к шотландским магнатам нести военную службу в войне с Францией[120]. Это было неприемлемо, и шотландцы в 1295 году заключили союз с Францией и предприняли безуспешную атаку на Карлайл[121]. Эдуард в ответ в 1296 году вторгся в Шотландию и после ряда кровопролитных атак взял город Берик[122]. В битве при Данбаре в 1296 шотландское сопротивление было решительно сломлено[123]. Эдуард конфисковал шотландский коронационный Камень Судьбы и перевёз его в Вестминстер, сверг с престола Баллиоля и поместил его в лондонский Тауэр, поставил англичан управлять страной[6]. Кампания увенчалась большим успехом, но английский триумф был только временным[124].
Финансы, парламент и изгнание евреев
Частые военные кампании Эдуарда нанесли большой финансовый ущерб стране[125]. Было несколько путей собрать деньги для войны, включая таможенные пошлины, денежные ссуды и светские субсидии. В 1275 году Эдуард заключил соглашение с английским торговым сообществом, что закрепило постоянную пошлину на шерсть. В 1303 году подобное соглашение было заключено с иностранными торговцами, в обмен на некоторые права и привилегии.[126] Таможенные доходы были поручены Риккарди, группы банкиров в Лукке (Италия)[127], в обмен за их положение кредиторов короны, что обеспечило финансовую поддержку в ходе Валлийских войн. Когда была развязана война с Францией, французский король конфисковал финансовые активы Риккарди и банк обанкротился.[128] После этого роль кредитора английской короны взял на себя Фрескобальди из Флоренции.[129]
Другим источником финансовых пополнений для короны были английские евреи. Король мог облагать евреев налогами, как он хотел, так как это считалось его личной прерогативой[130]. С 1280 года евреи стали эксплуатироваться финансово, как они ещё никогда не эксплуатировались короной, но они ещё могли участвовать в политических сделках с короной[131]. Благодаря их ростовщическому бизнесу (запрещённому для христиан) многие люди были должны им, что порождало большое народное негодование[132]. В 1275 году Эдуард выпустил Еврейский статут, который запрещал ростовщичество и вынуждал евреев заняться другими профессиями[133].
В 1279 году вместе с облавой на резчиков монет[~ 18] король приказал арестовать всех глав еврейских общин, и приблизительно 300 из них были казнены[135]. В 1280 году он обязал всех евреев посещать специальные проповеди, проводимые монахами-доминиканцами в надежде вынудить их перейти в христианскую веру, но все эти призывы остались втуне[136].
Окончательной атакой на евреев стал выпуск эдикта об изгнании (1290 года), где Эдуард официально приказал изгнать всех евреев из Англии[137]. Это не только дало доходы после присвоения королём еврейских займов и собственности, но и дало Эдуарду политический капитал для сделок 1290 года с парламентом о существенных светских субсидиях[138]. Изгнание, которое так и не было отменено вплоть до 1656 года[139], имело более ранние прецеденты в государствах Европы: французский король Филипп II Август изгнал всех евреев из своих земель в 1182 году, Жан I герцог Бретанский выпроводил евреев из своего герцогства в 1239 году, и в конце 1249 года Людовик IX изгнал евреев из королевских земель перед своим первым походом на Восток[140].
Одним из главных достижений режима правления Эдуарда I были реформы английского парламента и его превращение в источник сбора доходов[6]. В ходе своего правления Эдуард сохранял более или менее регулярный состав парламента[141]. Но в 1295 году произошла значимая перемена. Кроме палаты лордов, в парламент были призваны по два рыцаря от каждого округа и по два представителя от каждого города[142]. В представительстве общин в парламенте не было новинкой, новой оказалась власть, которую они получили. Если раньше от палаты общин ожидалось просто дать своё одобрение на решения уже принятые магнатами, теперь было объявлено, что парламентарии должны получить полное одобрение (лат. plena potestas) от своих общин, перед тем как дать одобрение на решения, принятые Парламентом.[143] Теперь король обладал полной поддержкой для того чтобы собирать субсидии со всего населения. Эти субсидии представляли собой налоги, взимаемые с определённой доли движимого имущества всех ленников[144]. В то время как Генрих III в ходе своего правления собирал четыре налога, Эдуард собирал девять[145]. Парламент в таком виде стал образцом для последующих парламентов и историки назвали собрание «Моделью парламента»[~ 19].
Конституционный кризис
Непрекращающиеся военные действия в 1290-х годах послужили причиной значительных финансовых требований Эдуарда ко своим подданным. До 1294 года король мог взимать только три налога, в период с 1294 по 1297 годы появились четыре дополнительных налога, благодаря чему было собрано 200 тыс. фунтов[146]. В дополнение взималась пища, шерсть и кожи, непопулярной была шерстяная повинность[147]. Налоговые запросы короля вызвали возмущение подданных, что в конечном итоге привело к возникновению сильной политической оппозиции. Первоначальное сопротивление было вызвано не налогами с мирян, а поборами с духовенства. В 1294 году Эдуард потребовал половину всех церковных прибылей. Это породило сопротивление, но король пригрозил поставить сопротивляющихся вне закона и его финансовое требование было всё же выполнено[148]. В это время место архиепископа Кентерберийского оставалось вакантным, так как Роберт Уинчесли пребывал в Италии, куда уехал для для получения рукоположения в сан епископа[~ 20]. Уинчесли вернулся в Англию в январе 1295 года и дал согласие на выплату другого платежа в ноябре того же года. Однако в 1296 году его позиция изменилась, когда он получил папскую буллу лат. Clericis laicos. Булла запрещала священникам платить светским властям без получения ясного согласия папы[149]. Когда духовенство, ссылаясь на буллу, отказалось платить, Эдуард ответил тем, что поставил духовенство вне закона[150]. Уинчесли, оказавшись перед противоречием между сохранением лояльности королю и исполнением папской буллы, оставил вопрос о плате на усмотрение самих священников, чтобы те платили, если считали это нужным[151]. К концу года появилась новая папская булла лат. Etsi de statu, позволяющая облагать налогом духовенство в случаях настоятельной необходимости[152].
Сопротивление со стороны мирян происходило по причине двух вопросов: королевских прав облагать налогами и требовать военной службы. В феврале 1297 года на заседании парламенте в Солсбери Роджер Бигод, 5-й граф Норфолк как маршал Англии опротестовал королевские повестки о явке на военную службу. Бигод заявлял, что военная повинность распространяется только на службу при особе короля, если же король намерен отплыть во Фландрию, то он не может посылать своих подданных в Гасконь[154]. В июле Бигод и констебль Англии Хемфри де Богун, граф Хартфорд представили серию жалоб, известных как «Увещевания», в них опротестовывались грабительские суммы налогов[155]. Обескураженный Эдуард затребовал утверждение ещё одного налога. Это выглядело провокацией, так как король искал согласие только с небольшой группой магнатов, а не с представителями общин в Парламенте[156]. Пока Эдуард находился в деревне Уинчесли (Восточный Суссекс), готовя кампанию во Фландрии, Бигод и Бонун захватили казначейство, чтобы предотвратить сбор налогов[157]. Когда король покинул страну с сильно урезанным войском, страна оказалась на грани гражданской войны[158][159]. Ситуация разрешилась поражением англичан в битве на Стирлингском мосту. Новые угрозы стране сплотили короля и магнатов[160]. Эдуард подписал лат. Confirmatio cartarum- подтверждение Великой Хартии вольностей и Лесной Хартии, после чего дворянство согласилось служить королю во время шотландской кампании[161].Эдуард: Ради Бога, сэр граф, идите [или в поход] или на виселицу
Бигод: Согласно той же присяге, король, я никогда не пойду ни [в поход] ни на виселицу.
Хроники Уолтера из Гинсборо— [153]
Разногласия Эдуарда и оппозиции не прекратились с завершением победоносной Фолкиркской кампании. В последующие годы Эдуард соблюдал сделанные им обещания, особенно в поддержании Лесной Хартии[~ 21]. В 1301 году парламент вынудил его оценить королевские леса, но в 1305 году он получил папскую буллу, освобождающую его от этой уступки.[162] В конченом итоге это повлекло за собой крах оппозиции королю. Де Богун умер в конце 1298 года, после возвращения с Фолкиркской кампании[163]. Бигод пришёл к взаимовыгодному соглашению с королём. Бездетный Бигод сделал Эдуарда своим наследником в обмен на щедрую ежегодную выплату[164]. Эдуард отомстил и архиепископу Уинчесли, в 1305 году новым папой стал Клемент V, он был родом из Гаскони и симпатизировал королю, поэтому архиепископу пришлось оставить свой пост ввиду подстрекательства Эдуарда[165].
Последние годы
Казалось, что проблема с Шотландией разрешилась, когда Эдуард оставил страну в 1296 году, но сопротивление вскоре возобновилось под предводительством Уильяма Уоллеса, наделённого способностями стратега и харизмой. 11 сентября 1297 года многочисленный английский отряд под командой Джона де Варена, графа Суррея и Хага де Крессингема был в битве на Стирлингском мосту разбит меньшим по численности шотландским отрядом, возглавляемым Уоллесом и Эндрю Морем[166]. Это поражение шокировало Англию, незамедлительно началась подготовка к карательной экспедиции. Как только Эдуард вернулся из Фландрии, он выступил на север[167]. 22 июня 1298 года Эдуард разбил войско Уоллеса в битве при Фолкирке[168], после битвы при Ившеме в 1265 году он не сражался в столь масштабных битвах. Однако Эдуард не воспользовался благоприятным моментом, и в следующем году шотландцы захватили замок Стирлинг[169]. Хотя Эдуард провёл два года (1300 и 1301) в кампании в Шотландии, его противники не вступали с ним в открытую битву, предпочитая вместо этого силами малых групп совершать набеги на английскую территорию[170]. Англичане попытались покорить Шотландию другими способами. В 1303 году между Англией и Францией было заключено мирное соглашение, тем самым франко-шотландский союз был решительно разорван[171]. Роберт Брюс, внук претендента на престол (1291), зимой 1301—1302 годов перешёл на сторону англичан[172]. К 1304 году большая часть знати заявила о своей верности Эдуарду, в этом же году англичане взяли обратно замок Стирлинг[173]. Вскоре была одержана важная психологическая победа: Уильям Уоллес был предан сэром Джоном де Ментейтом, его выдали англичанам, которые отвезли Уоллеса в Лондон и предали его там публичной казни[174]. Большая часть Шотландии перешла под английский контроль, и Эдуард поставил англичан и шотландцев-ренегатов управлять страной[175].
10 февраля 1306 года ситуация вновь обострилась, когда Роберт Брюс убил своего конкурента Джона Комина и несколькими неделями после этого 25 марта короновал себя как короля Шотландии[176]. Брюс начал кампанию с целью добиться независимости Шотландии, что стало неожиданностью для англичан[177]. В это время Эдуард страдал от болезни и вместо того, чтобы самому возглавить экспедицию, он дал разные военные задания Эймеру де Валенсу и Генри Перси, в то время как главное королевское войско возглавил принц Уэльский[178]. Первоначально успех сопутствовал англичанам, 19 июня в битве при Метвене Эймер де Валенс разбил Брюса наголову[179]. Брюс был вынужден скрываться, в то время как силы англичан вновь захватили утраченные было ими земли и замки[180]. Эдуард с крайней жестокостью обошёлся с союзниками Брюса, стало ясным, что он рассматривает конфликт как подавление восстания изменивших ему подданных, а не как войну между двумя странами[181]. Эта жестокость возымела обратный эффект, она не помогла подчинить шотландцев, усилилась поддержка Брюсу[182]. В феврале 1307 года Брюс снова начал собирать людей, в мае он разбил Эймера де Валенса в битве при Лаудон-Хилл[183]. Немного оправившийся Эдуард сам двинулся на север. Однако в пути он подхватил дизентерию, его состояние ухудшилось. 6 июля он разбил лагерь у Браф-бай-Сэндс, южнее шотландской границы. Когда слуги пришли к нему наутро, чтобы приподнять его для приёма пищи, он скончался у них на руках[184].
Появилось множество историй о последней воле Эдуарда на смертном одре. Согласно традиционной версии, он попросил, чтобы его сердце было перенесено в Святую Землю вместе с армией, воюющей с неверными. Более сомнительная история повествует, что король пожелал, чтобы его тело выварили, извлекли кости и несли их вместе с армией, пока шотландцы не будут покорены[185]. Другие сведения о его кончине вызывают больше доверия, согласно одной из хроник Эдуард призвал к себе графов Линкольна и Уорика, Эймера де Валенса и Роберта Клиффорда и попросил их присматривать за его сыном Эдуардом. Им также следовало предотвратить возвращение Пирса Гавестона в Англию[186]. Эту последнюю волю отца сын проигнорировал и немедленно призвал к себе своего фаворита, находящегося в изгнании[187]. Тело Эдуарда I было отправлено на юг и после длительного промежутка времени было 27 октября захоронено в Вестминстерском аббатстве[185]. Новый король Эдуард II оставался на севере до августа, но затем оставил руководство кампанией и направился на юг[188]. 25 февраля 1308 года он был коронован[189].
Характер и оценки
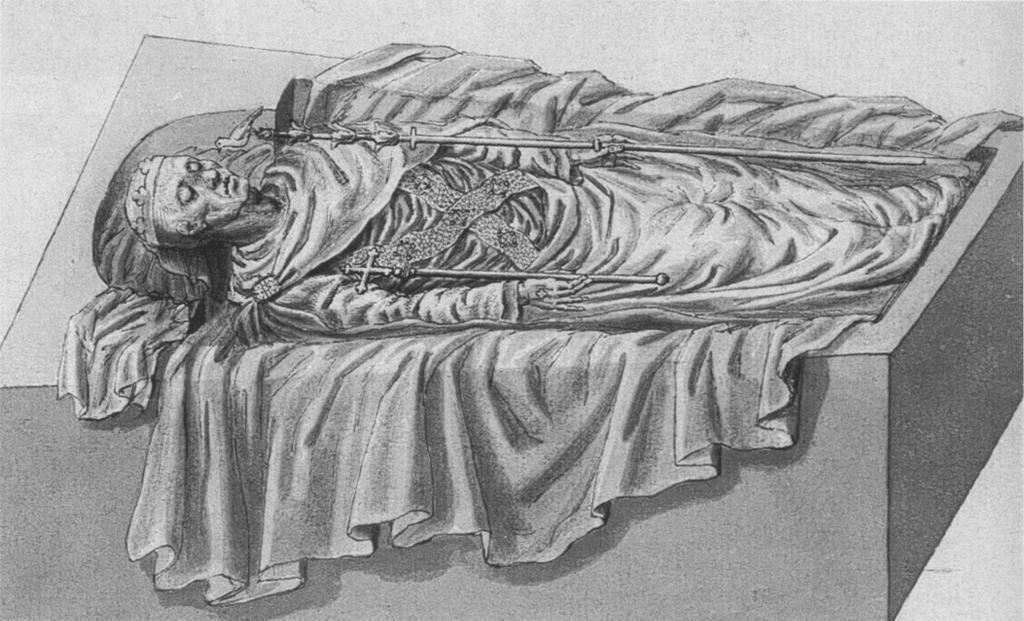 У Эдуарда был внушительный вид, благодаря росту в 6 футов 2 дюйма (188 см) он возвышался над своими современниками. У него была репутация человека с суровым характером, он вызывал страх у окружающих. Существует рассказ о том, как декан капитула Собора Святого Павла, вступивший в конфликт с Эдуардом по вопросу о повышении налогов в 1295 году, упал и умер в присутствии короля[190]. Его ужас был небезосновательным: Эдуард мог проявить неистовый характер. Когда наследник попросил пожаловать графский титул своему фавориту Пьеру Гавестону, король, придя в ярость, вырвал из шевелюры сына полные горсти волос.[191] Некоторые из современников считали Эдуарда устрашающим, особенно в его ранние годы. Песнь Льюиса (1264) описывает Эдуарда как леопарда, этот хищник обычно считается мощным и непредсказуемым[192]. Несмотря на такие черты характера, современники Эдуарда считали его способным и даже идеальным правителем[193]. Хотя подданные не любили Эдуарда, одновременно с этим они его побаивались и уважали[194]. Король оправдал ожидания подданных, выступив в роли настоящего солдата и воплотив в себе общепризнанные рыцарские идеалы[5]. С религиозной точки зрения он также оправдал ожидания, регулярно посещая церковь и широко раздавая милостыню[6].
У Эдуарда был внушительный вид, благодаря росту в 6 футов 2 дюйма (188 см) он возвышался над своими современниками. У него была репутация человека с суровым характером, он вызывал страх у окружающих. Существует рассказ о том, как декан капитула Собора Святого Павла, вступивший в конфликт с Эдуардом по вопросу о повышении налогов в 1295 году, упал и умер в присутствии короля[190]. Его ужас был небезосновательным: Эдуард мог проявить неистовый характер. Когда наследник попросил пожаловать графский титул своему фавориту Пьеру Гавестону, король, придя в ярость, вырвал из шевелюры сына полные горсти волос.[191] Некоторые из современников считали Эдуарда устрашающим, особенно в его ранние годы. Песнь Льюиса (1264) описывает Эдуарда как леопарда, этот хищник обычно считается мощным и непредсказуемым[192]. Несмотря на такие черты характера, современники Эдуарда считали его способным и даже идеальным правителем[193]. Хотя подданные не любили Эдуарда, одновременно с этим они его побаивались и уважали[194]. Король оправдал ожидания подданных, выступив в роли настоящего солдата и воплотив в себе общепризнанные рыцарские идеалы[5]. С религиозной точки зрения он также оправдал ожидания, регулярно посещая церковь и широко раздавая милостыню[6].
Взгляды современных историков менее однозначны. Епископ Уильям Стаббс, принадлежащий к либеральной историографической традиции, положительно оценивает Эдуарда как короля, который целенаправленно шёл к созданию конституционного правительства; по словам Стаббса, «функционирование государства как саморегулируемого политического организма — в значительной мере дело рук Эдуарда»[195]. Ученик Стаббса Т. Ф. Тут выдвинул другую точку зрения. По его мнению, «даже парламентская система выросла в подчинении королю. Это была не уступка народу, взывающему о свободе, а прагматичный ход самодержца, желающего использовать народные массы как инструмент контроля над своими традиционными врагами в среде влиятельных баронов»[196]. Ф. М. Поуик предложил более позитивную точку зрения в своих обширных трудах об Эдуарде I в книгах «King Henry III and the Lord Edward» (1947) и «The Thirteenth Century» (1953)[6]. К. Б. Макфарлейн, наоборот, критикует ограничительную политику Эдуарда по отношении к графам и заключает, что «он принадлежал больше прошлому, чем будущему»[197].
В 1988 году Майкл Прествич выпустил работу, которая была впоследствии охарактеризована как «первое научное исследование, посвященное исключительно политической карьере Эдуарда I».[198] В этой влиятельной[199] работе Прествича делается попытка рассмотреть Эдуарда с позиций его времени. Автор приходит к выводу, что правление Эдуарда было великим[200]. Особенно выделяется его вклад в развитие законодательства, парламента и работоспособной системы налогообложения, а также его военные успехи[7]. В то же время он оставил наследство в виде финансовых затруднений, политического недоверия и неразрешённой ситуации в Шотландии. Первопричины катастроф в ходе правления Эдуарда II, возможно, следует искать в правлении Эдуарда I[4]. Другие современные историки более склоняются к критике Эдуарда за его ошибки, в частности, за его жестокое обращение с евреями[9]. Также имеет место значительная разница между взглядами английской и шотландской историографии. Г. Барроу в своей биографии Роберта Брюса обвиняет Эдуарда в беспощадной эксплуатации Шотландии, лишившейся лидера, с целью поставить это королевство под свой феодальный контроль[8]. Эта точка зрения отражена и в массовой культуре; примером служит фильм «Храброе сердце» (1995 год), где король Эдуард Длинноногий изображается как жестокосердный тиран[201].
Имя и прозвища
Имя Эдуард англосаксонского происхождения и не являлось общеупотребительным среди новой английской аристократии, образовавшейся после норманнского завоевания. Король Генрих III почитал короля Эдуарда Исповедника и решил назвать своего первенца в его честь[202]. Хотя Эдуард был первым королём, носившим это имя в эпоху после норманнского завоевания, он не был первым английским королём с именем Эдуард, так как до него три англосаксонских короля носили это имя: Эдуард Старый, Эдуард Мученик и Эдуард Исповедник. Во время Эдуарда I обозначение королей по номерам широко не использовалось, он был известен просто как «король Эдуард», «король Эдуард, сын короля Генриха» или как «король Эдуард, первый с этим именем после [норманнского] Завоевания». Только после того как его сын и внук (обоих звали Эдуардами) наследовали английский престол, имя «Эдуард I» стало общеупотребительным[203].
Прозвище «Длинноногий» Эдуард получил за свой высокий рост. 2 мая 1774 лондонское Антикварное общество вскрыло могилу Эдуарда в Вестминстерском аббатстве. Согласно их отчёту, тело короля хорошо сохранилось за предыдущие 467 лет, рост тела составил 6 футов 2 дюйма (188 см)[204]. С таким ростом он должен был возвышаться над большинством своих современников[205]. Другое прозвище Эдуарда было «Молот шотландцев». Оно произошло от надписи на его могиле на латыни лат. Edwardus Primus Scottorum Malleus hic est, 1308. Pactum Serva (Здесь [лежит] Эдуард I Молот шотландцев. Держите обет.)[206] Эта надпись, отсылающая к многочисленным походам Эдуарда против шотландцев в последние годы его правления, является сравнительно поздней: вероятно, она сделана в XVI столетии[207]. Юрист XVII века Эдвард Кук называл Эдуарда «английским Юстинианом», таким образом отдавая должное законотворческим инициативам короля, сравнивая его с прославленным законодателем византийским императором Юстинианом I. В отличие от Юстиниана, Эдуард не кодифицировал законы, но, как отмечает Уильям Стаббс, «если иметь в виду важность и долговечность его законотворчества и значимость его места в истории права», такое сравнение вполне корректно[208].
Потомки
Элеонора Кастильская ушла из жизни 28 ноября 1290 года. Эдуард был очень предан жене и был глубоко потрясён её смертью. Его скорбь нашла своё отражение в возведении 12-ти крестов Элеоноры, каждый был построен в местах ночных остановок похоронного кортежа[209]. Как часть мирного соглашения между Англией и Францией Эдуарду пришлось взять в жёны французскую принцессу Маргариту. Брак был заключён в 1299 году[210].
У Эдуарда и Элеоноры было по меньшей мере 14 детей, возможно более 16-ти. Пять дочерей дожили до зрелого возраста, но только один из сыновей пережил отца — будущий король Эдуард II. Эдуард I опасался, что его сын не состоится как наследник престола и решил сослать фаворита принца Пирса Гавестона[211]. От Маргариты у Эдуарда было двое сыновей, доживших до зрелого возраста, и дочь, умершая в детстве[212].
| Дети от Элеоноры Кастильской | |||
|---|---|---|---|
| Имя | Дата рождения | Дата смерти | Примечания |
| Дочь | 1255 | 1255 | Родилась мёртвой или умерла сразу после рождения |
| Екатерина | 1261/63 | 5 сент. 1264 | Похоронена в Вестминстерском аббатстве. |
| Джоанна | янв. 1265 | 7 сент. 1265 | Похоронена в Вестминстерском аббатстве. |
| Джон | 13/14 июля 1266 | 3 авг. 1271 | Умер в Уоллингфорде, будучи на попечении у своего двоюродного деда Ричарда, графа Корнуолльского. Похоронен в Вестминстерском аббатстве. |
| Генри | 6 мая 1268 | 14/16 окт. 1274 | Похоронен в Вестминстерском аббатстве. |
| Элеонора, графиня Бара (1269—1298) | 18 июня 1269 | 19 авг. 1298 | Замужем в 1293 за Генрихом III, графом Бара, в браке было двое детей. Похоронена в Вестминстерском аббатстве. |
| Дочь | 1271 | 1271 | Умерла после рождения, во время пребывания Эдуарда и Элеоноры в Акре. |
| Джоанна Акрская | 1272 | 23 апр. 1307 | Первый раз замужем (1290) за Гилбертом де Клером, 6-м графом Хартфорда, умершим в 1295, второй раз замужем (1297) за Ральфом де Монтермером, 1-м бароном де Монтермер. Четверо детей от Клера и трое от Мортермера. |
| Альфонсо, граф Честер | 23/24 нояб. 1273 | 19 авг. 1284 | Похоронен в Вестминстерском аббатстве. |
| Маргарита Английская | Приблизительно 15 мар. 1275 |
После 11 Mar. 1333 |
Замужем (1290) за Жаном II, герцогом Брабантским. Один сын. |
| Беренгария | 1 мая 1276 | 6—27 июня 1278 | Похоронена в Вестминстерском аббатстве. |
| Дочь | 3 янв. 1278 | 3 янв. 1278 | Мало сведений об этом ребёнке. |
| Мария | 11/12 мар. 1279 | 29 мая 1332 | Бенедиктинская монахиня в Амсбури, Уилтшир, где вероятно и была захоронена. |
| Сын | 1280/81 | 1280/81 | Мало сведений об этом ребёнке. |
| Елизавета Рудланская | 7 авг. 1282 | 5 мая 1316 | Первый раз замужем (1297) Иоанном I, графом Голландским (ум. в 1299 году), второй раз замужем (1302) за Хамфри де Богуном, 4-м графом Херефордом. Первый брак бездетен, в браке с де Богуном десять детей. |
| Эдуард | 25 апр. 1284 | 21 сент. 1327 | Унаследовал от отца престол Англии. В 1308 году женился на Изабелле Французской, в браке родилось четверо детей. |
| Дети от Маргариты Французской | |||
| Имя | Дата рождения | Дата смерти | Примечания |
| Томас Бразертон, 1-й граф Норфолк | 1 июня 1300 | 4 августа 1338 | Похоронен в аббатстве Бери-Сент-Эдмендс. 1-я жена Элис Хейлс, есть потомство. 2-я жена Мэри Бревес, брак бездетен.[213] |
| Эдмунд Вудсток, 1-й граф Кент | 1 августа 1301 | 19 марта 1330 | Жена: Маргарет Уэйк, 3-я баронесса Уэйк из Лидделла, есть потомство.[214] |
| Элеонора | 6 мая 1306 | 1310 | Родилась в Винчестере, умерла в Амесбури. |
Эдуард в культуре
 О жизни Эдуарда написана пьеса Джорджа Пила «Знаменитые хроники короля Эдуарда I» в эпоху драматургии елизаветинского времени.
О жизни Эдуарда написана пьеса Джорджа Пила «Знаменитые хроники короля Эдуарда I» в эпоху драматургии елизаветинского времени.
Эдуард весьма нелестно отображён в нескольких романах с современным местом действия, включая четыре романа «Brothers of Gwynedd» Эллис Питерс, «The Reckoning and Falls the Shadow» Шэрона Пенмана (en), «The Wallace» и «The Bruce Trilogy» Найджела Трэнтера (en) и в трилогии «Brethren» Робин Янг, художественное повествование об Эдуарде и его участии в секретной организации Ордена рыцарей-храмовников.
Завоеванию Уэльса и стойкому сопротивлению его жителей посвящена поэма «The Bards of Wales» (1875) венгерского поэта Яноша Араня как ответ на политику Австрии по отношению к Венгрии после подавления Венгерской революции 1848-49.
В фильме «Храброе сердце» (1995) актёр Патрик Макгуэн изображает Эдуарда как жестокого тирана, порабощающего Шотландию. В фильме «The Bruce» (1996) он изображён актёром Брайаном Блесседом как идеалист, стремящийся к объединению англосаксов и норманнов в своём королевстве. Майкл Ренье (en) сыграл роль Эдуарда в фильме «The Black Rose», по мотивам романа Томаса Б. Костейна. Дональд Самптер играет роль Эдуарда в комедийной драме 2008 года «Heist».
Напишите отзыв о статье "Эдуард I"
Комментарии
- ↑ Источники указывают время рождения как ночь с 17-го на 18-е июня. Таким образом, точная дата рождения принца неизвестна. Morris 2008, С. 2
- ↑ Изабелла Ангулемская, жена короля Иоанна Безземельного и мать короля Генриха III после смерти супруга вышла замуж за Гуго X де Лузиньяна. Prestwich 2005, С. 94
- ↑ "Это был Гилберт де Клер, 6-й граф Хартфорд, сын Ричарда де Клера 5-го графа Хартфорд, 6-го графа Глостер
- ↑ Согласно Заключению повстанцы получили возможность выкупить обратно свои конфискованные поместья, уровень выплат зависел от масштаба их участи в Баронских войнах. Prestwich 2007, С. 117
- ↑ Ряд историков объединяют его с Восьмым Крестовым походом. Здесь речь идёт о кампании принца Эдуарда в Акре
- ↑ Дизентерии или тифа
- ↑ История о том, как королева Элеонора высосала яд из раны Эдуарда составлена позднее Prestwich 1997, С. 78. Согласно другим отчётам Джон де Вески увёл плачущую Элеонору, а рану высосал другой близкий друг Эдуарда Отто де Грандсон.Morris 2008, С. 101
- ↑ Хотя и нет достоверных письменных свидетельств, возможно, что соглашение было достигнуто до отбытия Эдуарда,Morris 2008, С. 104
- ↑ Немногие уцелевшие документы из Списков Сотен показывают масштабность проекта. Вопрос об этом рассматривается в: Helen Cam. The Hundred and the Hundred Rolls: An Outline of Local Government in Medieval England. — New. — London: Merlin Press, 1963.
- ↑ В частности королевские судьи особенно выделили графа Глостера, который в предыдущие годы безжалостно попирал королевские права. Sutherland 1963, pp. 146–7
- ↑ Область, известная также как Перведвлад («Центр страны»), находится в северо-восточном Уэльсе
- ↑ Ланкастера в апреле сменил Пейна де Шаворта на его должности. Powicke 1962, С. 409
- ↑ Этот титул стал традиционным титулом для всех наследников английского престола. Принц Эдуард не был королевским наследником, но стал им после смерти в 1284 году своего старшего брата Альфонсо, графа Честера Prestwich 1997, pp. 126–7
- ↑ Согласно Прествичу общие потери составили 400 тыс. фунтов стерлингов.Prestwich 1972, С. 172
- ↑ Сам термин ведён в 18-м веке. Morris 2008, С. 253
- ↑ Хотя принцип первородства не обязательно применим к наследникам по женской линии, нет сомнений, что права Баллиоля на престол были самыми весомыми.Prestwich 1997, pp. 358, 367
- ↑ Советом хранителей короны
- ↑ Так как золотые и серебряные монеты стирались со временем, мошенники отрезали кусочки от монет, выдавая их потом за стёршиеся. См. статью en:Coin clipping
- ↑ Термин был введён Уильямом Стабсом. Morris 2008, pp. 283–4
- ↑ Оно затянулось ввиду длительных выборов Папы римского Powicke 1962, С. 671
- ↑ Полный текст Хартии с дополнительной информацией можно найти здесь: Jones, Graham [info.sjc.ox.ac.uk/forests/Carta.htm The Charter of the Forest of King Henry III]. St John's College, Oxford. Проверено 17 июля 2009. [www.webcitation.org/618ZR7qYy Архивировано из первоисточника 23 августа 2011].
Примечания
- ↑ 1 2 Powicke 1962, С. 226
- ↑ 1 2 Prestwich 1997, С. 216
- ↑ [skyelander.orgfree.com/bruce2.html Robert the Bruce & Battle of Bannockburn, pt.2]
- ↑ 1 2 Prestwich 1997, С. 565–6
- ↑ 1 2 Prestwich 1980, С. 37
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prestwich (2004).
- ↑ 1 2 Prestwich 1997, С. 558–65
- ↑ 1 2 Barrow 1965, С. 44
- ↑ 1 2 Morris 2008, С. 170–1
- ↑ Prestwich 1997, pp. 5–6
- ↑ Prestwich 1997, pp. 46, 69
- ↑ Morris 2008, pp. 14–8
- ↑ Morris 2008, С. 20
- ↑ Prestwich 1997, С. 10
- ↑ Prestwich 1997, pp. 7–8
- ↑ Prestwich 1997, pp. 11–4
- ↑ Prestwich 1997, С. 11–4
- ↑ Prestwich 2007, С. 96
- ↑ Morris 2008, С. 7
- ↑ Prestwich 2007, С. 95
- ↑ Prestwich 1997, С. 23
- ↑ Morris 2008, С. 22
- ↑ Prestwich 1997, pp. 15–6
- ↑ Carpenter, David (1985). «The Lord Edward's oath to aid and counsel Simon de Montfort, 15 October 1259». Bulletin of the Institute of Historical Research 58: 226–37.
- ↑ Prestwich 1997, pp. 31–2
- ↑ Prestwich 1997, pp. 32–3
- ↑ Morris 2008, pp. 44–5
- ↑ Prestwich 1997, С. 34
- ↑ Powicke 1962, pp. 171–2
- ↑ Maddicott 1994, С. 225
- ↑ Powicke 1962, pp. 178
- ↑ Prestwich 1997, С. 41
- ↑ Prestwich 2007, С. 113
- ↑ Prestwich 1997, pp. 42–3
- ↑ Sadler 2008, pp. 55–69
- ↑ Maddicott, John (1983). «[www.jstor.org/stable/569785 The Mise of Lewes, 1264]». English Historical Review 98 (388): 588–603. DOI:10.2307/569785.
- ↑ Prestwich 1997, pp. 47–8
- ↑ Prestwich 1997, pp. 48–9.
- ↑ Prestwich 1997, pp. 49–50
- ↑ Powicke 1962, pp. 201–2
- ↑ Sadler 2008, pp. 105–9
- ↑ Morris 2008, pp. 75–6
- ↑ Prestwich 1997, С. 55
- ↑ Prestwich 1997, С. 63
- ↑ Morris 2008, pp. 83, 90–2
- ↑ 1 2 Prestwich 1997, С. 71
- ↑ 1 2 Prestwich 1997, С. 72
- ↑ Maddicott John. The Crusade Taxation of 1268-70 and the Development of Parliament // Thirteenth Century England II / P. R. Coss & S. D. Lloyd (eds.). — Woodbridge: Boydell Press, 1989. — P. 93–117. — ISBN 0851155138.
- ↑ Riley-Smith 2005, С. 210
- ↑ Riley-Smith 2005, С. 211
- ↑ Morris 2008, С. 95
- ↑ Prestwich 1997, С. 76
- ↑ Morris 2008, pp. 97–8
- ↑ Prestwich 1997, С. 77
- ↑ Prestwich 1997, pp. 78, 82
- ↑ Prestwich 1997, С. 82
- ↑ Carpenter 2003, С. 466
- ↑ Prestwich 1997, pp. 82–5
- ↑ Morris 2008, pp. 116–7
- ↑ Prestwich 1997, С. 92
- ↑ Prestwich 1997, С. 93
- ↑ Morris 2008, С. 115
- ↑ Sutherland 1963, С. 14
- ↑ Powicke 1962, pp. 378–9
- ↑ Sutherland 1963, С. 188
- ↑ Sutherland 1963, С. 149
- ↑ Brand Paul. Kings, Barons and Justices: The Making and Enforcement of Legislation in Thirteenth-Century England. — Cambridge: Cambridge University Press, 2003. — ISBN 0521372461.
- ↑ Plucknett 1949, pp. 29–30
- ↑ Plucknett 1949, pp. 94–8
- ↑ Prestwich 1997, С. 273
- ↑ Plucknett 1949, pp. 140–4
- ↑ Prestwich 1997, pp. 280–1
- ↑ Plucknett 1949, pp. 45, 102–4
- ↑ Prestwich 1997, С. 293
- ↑ Carpenter 2003, С. 386
- ↑ Morris 2008, С. 132
- ↑ Davies 2000, pp. 322–3
- ↑ Prestwich 1997, С. 175
- ↑ Prestwich 1997, pp. 174–5
- ↑ Davies 2000, С. 327
- ↑ Powicke 1962, С. 409
- ↑ Prestwich 2007, С. 150
- ↑ 1 2 Prestwich 2007, С. 151
- ↑ Powicke 1962, С. 413
- ↑ Davies Rees. Law and national identity in thirteenth century Wales // Welsh Society and Nationhood / R. R. Davies, R. A. Griffiths, I. G. Jones & K. O. Morgan (eds.). — Cardiff: University of Wales Press, 1984. — P. 51–69. — ISBN 0708308902.
- ↑ Prestwich 1997, С. 188
- ↑ Davies 2000, С. 348
- ↑ Morris 2008, С. 180
- ↑ Prestwich 1997, С. 191–2
- ↑ Davies 2000, С. 353
- ↑ Carpenter 2003, С. 510
- ↑ Carpenter 2003, С. 511
- ↑ Davies 2000, С. 368
- ↑ Prestwich 1997, С. 160
- ↑ Cathcart King 1988, С. 84
- ↑ Cathcart King 1988, С. 83
- ↑ Friar 2003, С. 77
- ↑ Prestwich 1997, pp. 326–8
- ↑ Powicke 1962, pp. 252–3
- ↑ Prestwich 1997, pp. 323–5
- ↑ Prestwich 1997, С. 329
- ↑ Prestwich 1997, С. 304
- ↑ Morris 2008, С. 204–17
- ↑ Morris 2009, pp. 265–70
- ↑ Prestwich 1997, С. 392
- ↑ Carpenter 2003, С. 518
- ↑ Prestwich 1997, С. 357
- ↑ Barrow 1965, pp. 3–4
- ↑ Prestwich 1997, С. 361
- ↑ Morris 2009, С. 235
- ↑ Barrow 1965, С. 42
- ↑ Morris 2009, С. 237
- ↑ Prestwich 2007, С. 231
- ↑ Powicke 1962, С. 601
- ↑ Prestwich 1997, pp. 361–3
- ↑ Barrow 1965, С. 45
- ↑ Prestwich 1997, С. 365
- ↑ Prestwich 1997, С. 370
- ↑ Prestwich 1997, С. 371
- ↑ Barrow 1965, pp. 86–8
- ↑ Barrow 1965, pp. 88–91, 99
- ↑ Barrow 1965, pp. 99–100
- ↑ Prestwich 1997, pp. 471–3
- ↑ Prestwich 1997, С. 376
- ↑ Harriss 1975, С. 49
- ↑ Brown 1989, pp. 65–6
- ↑ Prestwich 1997, pp. 99–100
- ↑ Brown 1989, pp. 80–1
- ↑ Prestwich 1997, С. 403
- ↑ Prestwich 1997, С. 344
- ↑ Prestwich 1997, pp. 344–5
- ↑ Morris 2008, С. 86
- ↑ Powicke 1962, С. 322
- ↑ Prestwich 1997, С. plate 14
- ↑ Morris 2008, pp. 170–1
- ↑ Morris 2008, pp. 226
- ↑ Morris 2008, pp. 226–8
- ↑ Prestwich 1997, С. 345 Powicke 1962, С. 513
- ↑ Prestwich 1997, С. 346
- ↑ Morris 2009, С. 226
- ↑ Powicke 1962, С. 342
- ↑ Brown 1989, С. 185
- ↑ Harriss 1975, pp. 41–2
- ↑ Brown 1989, С. 70–1
- ↑ Brown 1989, С. 71
- ↑ Prestwich 1972, С. 179
- ↑ Harriss 1975, С. 57
- ↑ Prestwich 1997, pp. 403–4
- ↑ Powicke 1962, С. 674
- ↑ Powicke 1962, С. 675
- ↑ Prestwich 1997, С. 417
- ↑ Prestwich 1997, С. 430
- ↑ The chronicle of Walter of Guisborough / Harry Rothwell. — London: Camden Society, 1957. — Vol. 89. — P. 289–90.
- ↑ Prestwich 1972, С. 251
- ↑ Harriss 1975, С. 61.
- ↑ Prestwich 1997, С. 422
- ↑ Powicke 1962, С. 682
- ↑ Prestwich 1997, С. 425
- ↑ Powicke 1962, С. 683
- ↑ Prestwich 1997, С. 427
- ↑ Prestwich 2007, С. 170
- ↑ Prestwich 1997, pp. 525–6, 547–8
- ↑ Powicke 1962, С. 697
- ↑ Prestwich 1997, pp. 537–8
- ↑ Prestwich 2007, С. 175
- ↑ Barrow 1965, pp. 123–6
- ↑ Powicke 1962, pp. 688–9
- ↑ Prestwich 1997, С. 479
- ↑ Watson 1998, pp. 92–3
- ↑ Prestwich 2007, С. 233
- ↑ Prestwich 2007, С. 497
- ↑ Prestwich 2007, С. 496
- ↑ Powicke 1962, pp. 709–11
- ↑ Watson 1998, pp. 211–
- ↑ Powicke 1962, pp. 711–3
- ↑ Barrow 1965, pp. 206–7, 212–3
- ↑ Prestwich 2007, С. 506
- ↑ Prestwich 1997, pp. 506–7
- ↑ Barrow 1965, С. 216
- ↑ Prestwich 1997, pp. 507–8
- ↑ Prestwich 1997, pp. 508–9
- ↑ Prestwich 2007, С. 239
- ↑ Barrow 1965, С. 244
- ↑ Prestwich 1997, pp. 556–7
- ↑ 1 2 Hudson M.E. Crown of a Thousand Years. — Crown Publishers, Inc., 1978. — P. 48. — ISBN 0-517-534525.
- ↑ Prestwich 1997, С. 557
- ↑ Morris 2008, С. 377
- ↑ Barrow 1965, С. 246
- ↑ Prestwich 2007, С. 179
- ↑ Prestwich 2007, С. 177
- ↑ Prestwich 1997, С. 552
- ↑ Prestwich 1997, С. 24
- ↑ Prestwich 1997, С. 559
- ↑ Prestwich 1980, С. 41
- ↑ Stubbs 1880, С. 111
- ↑ Tout T.F. Chapters in the Administrative History of Mediaeval England: The Wardrobe, the Chamber and the Small Seals. — Manchester: Manchester University Press, 1920. — Vol. ii. — P. 190.
- ↑ McFarlane K.B. The Nobility of Later Medieval England. — London: Hambledon, 1981. — P. 267. — ISBN 0950688258.
- ↑ Denton, J.H. (1989). «[www.jstor.org/stable/572793 Review: Edward I, by Michael Prestwich]» (subscription required). English Historical Review xcix (413): 981–4. DOI:10.1093/ehr/CIV.413.981. Проверено 2009-08-03.
- ↑ Carpenter 2003, С. 566
- ↑ Prestwich 1997, С. 567
- ↑ Tunzelmann, Alex von. [www.guardian.co.uk/film/2008/jul/30/3 Braveheart: dancing peasants, gleaming teeth and a cameo from Fabio], The Guardian (31 июля 2008). Проверено 3 августа 2009.
- ↑ Carpenter, David (2007). «King Henry III and Saint Edward the Confessor: the origins of the cult». English Historical Review cxxii: 865–91. DOI:10.1093/ehr/cem214.
- ↑ Morris 2008, pp. xv–xvi
- ↑ Prestwich 1997, С. 566–7. Оригинал доклада можно найти в: Ayloffe, J. (1786). «An Account of the Body of King Edward the First, as it appeared on opening his Tomb in the year 1774». Archeologia iii: 386, 398–412.
- ↑ Carpenter 2003, С. 467
- ↑ Morris 2009, С. 378, речь идёт об обете отомстить за восстание Роберта Брюса.
- ↑ Prestwich 1997, С. 566
- ↑ Stubbs 1880, С. 114
- ↑ Morris 2008, pp. 230–1
- ↑ Prestwich 1997, pp. 395–6
- ↑ Powicke 1962, С. 719
- ↑ The information on Edward’s children with Eleanor is based on Parsons, John Carmi (1984). «The Year of Eleanor of Castile's Birth and her Children by Edward I». Medieval Studies XLVI: 245–65.
- ↑ Waugh, Scott L. (2004), [dx.doi.org/10.1093%2Fref%3Aodnb%2F27196 "Thomas, 1st Earl of Norfolk (1300–1338)"], Oxford Dictionary of National Biography, Oxford: Oxford University Press, DOI 10.1093/ref:odnb/27196
- ↑ Waugh, Scott L. (2004), [dx.doi.org/10.1093%2Fref%3Aodnb%2F8506 "Edmund, first earl of Kent (1301–1330)"], Edmund, first earl of Kent (1301–1330), Oxford: Oxford University Press, DOI 10.1093/ref:odnb/8506
Ссылки
- [www.royal.gov.uk/HistoryoftheMonarchy/KingsandQueensofEngland/ThePlantagenets/EdwardILongshanks.aspx Edward I of England at royal.gov.uk]
- [www.gtj.org.uk/en/item10/28985 Images of the castles of Edward I in Wales]
- [www.heritageandhistory.com/contents1a/2009/03/king-edward-i-monument/ King Edward I Monument]
Литература
- Артур Брайант. Эпоха рыцарства в истории Англии. — Москва: Евразия, 2001. — ISBN 5807100859.
- Азимов Айзек. История Франции = The Shaping of France / Под ред. А. Б. Васильева. — Москва: Центрполиграф, 2007. — С. 90-116. — 270 с. — ISBN 978-5-9524-3075-4.
- Конский П. А.,. Эдуард I // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- Barrow G. W. S. Robert Bruce and the Community of the Realm of Scotland. — London: Eyre & Spottiswoode.
- Carpenter David. The Struggle for Mastery: Britain, 1066-1284. — Oxford: Oxford University Press. — ISBN 0195220005.
- Davies R. R. The Age of Conquest: Wales, 1063-1415. — Oxford: Oxford University Press. — ISBN 0198208782.
- Maddicott John. Simon de Montfort. — Cambridge: Cambridge University Press. — ISBN 0521374936.
- Morris Marc. A Great and Terrible King: Edward I and the Forging of Britain. — updated. — London: Hutchinson. — ISBN 9780091796846.
- Plucknett T. F. T. Legislation of Edward I. — Oxford: The Clarendon Press.
- Powicke F. M. The Thirteenth Century: 1216-1307. — Oxford: Clarendon. — ISBN 0192852493.
- Powicke F. M. King Henry III and the Lord Edward: The Community of the Realm in the Thirteenth Century. — Oxford: Clarendon Press.
- Powicke F. M. The Thirteenth Century: 1216-1307. — 2nd. — Oxford: Clarendon Press.
- Prestwich Michael. War, Politics and Finance under Edward I. — London: Faber and Faber. — ISBN 0571090427.
- Prestwich Michael. Edward I. — updated. — New Haven: Yale University Press. — ISBN 0300072090.
- Prestwich, Michael (2004), [dx.doi.org/10.1093%2Fref%3Aodnb%2F8517 "Edward I (1239–1307)"], Oxford Dictionary of National Biography, Oxford: Oxford University Press, DOI 10.1093/ref:odnb/8517
- Prestwich Michael. Plantagenet England: 1225-1360. — new. — Oxford: Oxford University Press. — ISBN 0198228449.
- Raban Sandra. England under Edward I and Edward II. — Oxford: Blackwell. — ISBN 0631203575.
- Jonathan Riley-Smith. The Crusades: A History. — London: Continuum. — ISBN 0826472699.
- Sadler John. The Second Barons' War: Simon de Motfort and the Battles of Lewes and Evesham. — Barnsley: Pen & Sword Military. — ISBN 1844158314.
- Stubbs William (ed.). Chronicles of the Reigns of Edward I and Edward II. — London: Longman.
- Sutherland Donald. Quo Warranto Proceedings in the Reign of Edward I, 1278-1294. — Oxford: Clarendon Press.
- Watson Fiona J. Under the Hammer: Edward I and the Throne of Scotland, 1286-1307. — East Linton: Tuckwell Press. — ISBN 1862320314.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эта статья входит в число хороших статей русскоязычного раздела Википедии. |
| Статья содержит короткие («гарвардские») ссылки на публикации, не указанные или неправильно описанные в библиографическом разделе. Список неработающих ссылок: Barrow 1965, Brown 1989, Carpenter 2003, Cathcart King 1988, Davies 2000, Friar 2003, Harriss 1975, Maddicott 1994, Morris 2008, Morris 2009, Plucknett 1949, Powicke 1962, Prestwich 1972, Prestwich 1980, Prestwich 1997, Prestwich 2005, Prestwich 2007, Riley-Smith 2005, Sadler 2008, Stubbs 1880, Sutherland 1963, Watson 1998 Пожалуйста, исправьте ссылки согласно инструкции к шаблону {{sfn}} и дополните библиографический раздел корректными описаниями цитируемых публикаций, следуя руководствам ВП:Сноски и ВП:Ссылки на источники.
|
Отрывок, характеризующий Эдуард I
Но положим, что так называемая наука имеет возможность примирить все противоречия и имеет для исторических лиц и событий неизменное мерило хорошего и дурного.Положим, что Александр мог сделать все иначе. Положим, что он мог, по предписанию тех, которые обвиняют его, тех, которые профессируют знание конечной цели движения человечества, распорядиться по той программе народности, свободы, равенства и прогресса (другой, кажется, нет), которую бы ему дали теперешние обвинители. Положим, что эта программа была бы возможна и составлена и что Александр действовал бы по ней. Что же сталось бы тогда с деятельностью всех тех людей, которые противодействовали тогдашнему направлению правительства, – с деятельностью, которая, по мнению историков, хороша и полезна? Деятельности бы этой не было; жизни бы не было; ничего бы не было.
Если допустить, что жизнь человеческая может управляться разумом, – то уничтожится возможность жизни.
Если допустить, как то делают историки, что великие люди ведут человечество к достижению известных целей, состоящих или в величии России или Франции, или в равновесии Европы, или в разнесении идей революции, или в общем прогрессе, или в чем бы то ни было, то невозможно объяснить явлений истории без понятий о случае и о гении.
Если цель европейских войн начала нынешнего столетия состояла в величии России, то эта цель могла быть достигнута без всех предшествовавших войн и без нашествия. Если цель – величие Франции, то эта цель могла быть достигнута и без революции, и без империи. Если цель – распространение идей, то книгопечатание исполнило бы это гораздо лучше, чем солдаты. Если цель – прогресс цивилизации, то весьма легко предположить, что, кроме истребления людей и их богатств, есть другие более целесообразные пути для распространения цивилизации.
Почему же это случилось так, а не иначе?
Потому что это так случилось. «Случай сделал положение; гений воспользовался им», – говорит история.
Но что такое случай? Что такое гений?
Слова случай и гений не обозначают ничего действительно существующего и потому не могут быть определены. Слова эти только обозначают известную степень понимания явлений. Я не знаю, почему происходит такое то явление; думаю, что не могу знать; потому не хочу знать и говорю: случай. Я вижу силу, производящую несоразмерное с общечеловеческими свойствами действие; не понимаю, почему это происходит, и говорю: гений.
Для стада баранов тот баран, который каждый вечер отгоняется овчаром в особый денник к корму и становится вдвое толще других, должен казаться гением. И то обстоятельство, что каждый вечер именно этот самый баран попадает не в общую овчарню, а в особый денник к овсу, и что этот, именно этот самый баран, облитый жиром, убивается на мясо, должно представляться поразительным соединением гениальности с целым рядом необычайных случайностей.
Но баранам стоит только перестать думать, что все, что делается с ними, происходит только для достижения их бараньих целей; стоит допустить, что происходящие с ними события могут иметь и непонятные для них цели, – и они тотчас же увидят единство, последовательность в том, что происходит с откармливаемым бараном. Ежели они и не будут знать, для какой цели он откармливался, то, по крайней мере, они будут знать, что все случившееся с бараном случилось не нечаянно, и им уже не будет нужды в понятии ни о случае, ни о гении.
Только отрешившись от знаний близкой, понятной цели и признав, что конечная цель нам недоступна, мы увидим последовательность и целесообразность в жизни исторических лиц; нам откроется причина того несоразмерного с общечеловеческими свойствами действия, которое они производят, и не нужны будут нам слова случай и гений.
Стоит только признать, что цель волнений европейских народов нам неизвестна, а известны только факты, состоящие в убийствах, сначала во Франции, потом в Италии, в Африке, в Пруссии, в Австрии, в Испании, в России, и что движения с запада на восток и с востока на запад составляют сущность и цель этих событий, и нам не только не нужно будет видеть исключительность и гениальность в характерах Наполеона и Александра, но нельзя будет представить себе эти лица иначе, как такими же людьми, как и все остальные; и не только не нужно будет объяснять случайностию тех мелких событий, которые сделали этих людей тем, чем они были, но будет ясно, что все эти мелкие события были необходимы.
Отрешившись от знания конечной цели, мы ясно поймем, что точно так же, как ни к одному растению нельзя придумать других, более соответственных ему, цвета и семени, чем те, которые оно производит, точно так же невозможно придумать других двух людей, со всем их прошедшим, которое соответствовало бы до такой степени, до таких мельчайших подробностей тому назначению, которое им предлежало исполнить.
Основной, существенный смысл европейских событий начала нынешнего столетия есть воинственное движение масс европейских народов с запада на восток и потом с востока на запад. Первым зачинщиком этого движения было движение с запада на восток. Для того чтобы народы запада могли совершить то воинственное движение до Москвы, которое они совершили, необходимо было: 1) чтобы они сложились в воинственную группу такой величины, которая была бы в состоянии вынести столкновение с воинственной группой востока; 2) чтобы они отрешились от всех установившихся преданий и привычек и 3) чтобы, совершая свое воинственное движение, они имели во главе своей человека, который, и для себя и для них, мог бы оправдывать имеющие совершиться обманы, грабежи и убийства, которые сопутствовали этому движению.
И начиная с французской революции разрушается старая, недостаточно великая группа; уничтожаются старые привычки и предания; вырабатываются, шаг за шагом, группа новых размеров, новые привычки и предания, и приготовляется тот человек, который должен стоять во главе будущего движения и нести на себе всю ответственность имеющего совершиться.
Человек без убеждений, без привычек, без преданий, без имени, даже не француз, самыми, кажется, странными случайностями продвигается между всеми волнующими Францию партиями и, не приставая ни к одной из них, выносится на заметное место.
Невежество сотоварищей, слабость и ничтожество противников, искренность лжи и блестящая и самоуверенная ограниченность этого человека выдвигают его во главу армии. Блестящий состав солдат итальянской армии, нежелание драться противников, ребяческая дерзость и самоуверенность приобретают ему военную славу. Бесчисленное количество так называемых случайностей сопутствует ему везде. Немилость, в которую он впадает у правителей Франции, служит ему в пользу. Попытки его изменить предназначенный ему путь не удаются: его не принимают на службу в Россию, и не удается ему определение в Турцию. Во время войн в Италии он несколько раз находится на краю гибели и всякий раз спасается неожиданным образом. Русские войска, те самые, которые могут разрушить его славу, по разным дипломатическим соображениям, не вступают в Европу до тех пор, пока он там.
По возвращении из Италии он находит правительство в Париже в том процессе разложения, в котором люди, попадающие в это правительство, неизбежно стираются и уничтожаются. И сам собой для него является выход из этого опасного положения, состоящий в бессмысленной, беспричинной экспедиции в Африку. Опять те же так называемые случайности сопутствуют ему. Неприступная Мальта сдается без выстрела; самые неосторожные распоряжения увенчиваются успехом. Неприятельский флот, который не пропустит после ни одной лодки, пропускает целую армию. В Африке над безоружными почти жителями совершается целый ряд злодеяний. И люди, совершающие злодеяния эти, и в особенности их руководитель, уверяют себя, что это прекрасно, что это слава, что это похоже на Кесаря и Александра Македонского и что это хорошо.
Тот идеал славы и величия, состоящий в том, чтобы не только ничего не считать для себя дурным, но гордиться всяким своим преступлением, приписывая ему непонятное сверхъестественное значение, – этот идеал, долженствующий руководить этим человеком и связанными с ним людьми, на просторе вырабатывается в Африке. Все, что он ни делает, удается ему. Чума не пристает к нему. Жестокость убийства пленных не ставится ему в вину. Ребячески неосторожный, беспричинный и неблагородный отъезд его из Африки, от товарищей в беде, ставится ему в заслугу, и опять неприятельский флот два раза упускает его. В то время как он, уже совершенно одурманенный совершенными им счастливыми преступлениями, готовый для своей роли, без всякой цели приезжает в Париж, то разложение республиканского правительства, которое могло погубить его год тому назад, теперь дошло до крайней степени, и присутствие его, свежего от партий человека, теперь только может возвысить его.
Он не имеет никакого плана; он всего боится; но партии ухватываются за него и требуют его участия.
Он один, с своим выработанным в Италии и Египте идеалом славы и величия, с своим безумием самообожания, с своею дерзостью преступлений, с своею искренностью лжи, – он один может оправдать то, что имеет совершиться.
Он нужен для того места, которое ожидает его, и потому, почти независимо от его воли и несмотря на его нерешительность, на отсутствие плана, на все ошибки, которые он делает, он втягивается в заговор, имеющий целью овладение властью, и заговор увенчивается успехом.
Его вталкивают в заседание правителей. Испуганный, он хочет бежать, считая себя погибшим; притворяется, что падает в обморок; говорит бессмысленные вещи, которые должны бы погубить его. Но правители Франции, прежде сметливые и гордые, теперь, чувствуя, что роль их сыграна, смущены еще более, чем он, говорят не те слова, которые им нужно бы было говорить, для того чтоб удержать власть и погубить его.
Случайность, миллионы случайностей дают ему власть, и все люди, как бы сговорившись, содействуют утверждению этой власти. Случайности делают характеры тогдашних правителей Франции, подчиняющимися ему; случайности делают характер Павла I, признающего его власть; случайность делает против него заговор, не только не вредящий ему, но утверждающий его власть. Случайность посылает ему в руки Энгиенского и нечаянно заставляет его убить, тем самым, сильнее всех других средств, убеждая толпу, что он имеет право, так как он имеет силу. Случайность делает то, что он напрягает все силы на экспедицию в Англию, которая, очевидно, погубила бы его, и никогда не исполняет этого намерения, а нечаянно нападает на Мака с австрийцами, которые сдаются без сражения. Случайность и гениальность дают ему победу под Аустерлицем, и случайно все люди, не только французы, но и вся Европа, за исключением Англии, которая и не примет участия в имеющих совершиться событиях, все люди, несмотря на прежний ужас и отвращение к его преступлениям, теперь признают за ним его власть, название, которое он себе дал, и его идеал величия и славы, который кажется всем чем то прекрасным и разумным.
Как бы примериваясь и приготовляясь к предстоящему движению, силы запада несколько раз в 1805 м, 6 м, 7 м, 9 м году стремятся на восток, крепчая и нарастая. В 1811 м году группа людей, сложившаяся во Франции, сливается в одну огромную группу с серединными народами. Вместе с увеличивающейся группой людей дальше развивается сила оправдания человека, стоящего во главе движения. В десятилетний приготовительный период времени, предшествующий большому движению, человек этот сводится со всеми коронованными лицами Европы. Разоблаченные владыки мира не могут противопоставить наполеоновскому идеалу славы и величия, не имеющего смысла, никакого разумного идеала. Один перед другим, они стремятся показать ему свое ничтожество. Король прусский посылает свою жену заискивать милости великого человека; император Австрии считает за милость то, что человек этот принимает в свое ложе дочь кесарей; папа, блюститель святыни народов, служит своей религией возвышению великого человека. Не столько сам Наполеон приготовляет себя для исполнения своей роли, сколько все окружающее готовит его к принятию на себя всей ответственности того, что совершается и имеет совершиться. Нет поступка, нет злодеяния или мелочного обмана, который бы он совершил и который тотчас же в устах его окружающих не отразился бы в форме великого деяния. Лучший праздник, который могут придумать для него германцы, – это празднование Иены и Ауерштета. Не только он велик, но велики его предки, его братья, его пасынки, зятья. Все совершается для того, чтобы лишить его последней силы разума и приготовить к его страшной роли. И когда он готов, готовы и силы.
Нашествие стремится на восток, достигает конечной цели – Москвы. Столица взята; русское войско более уничтожено, чем когда нибудь были уничтожены неприятельские войска в прежних войнах от Аустерлица до Ваграма. Но вдруг вместо тех случайностей и гениальности, которые так последовательно вели его до сих пор непрерывным рядом успехов к предназначенной цели, является бесчисленное количество обратных случайностей, от насморка в Бородине до морозов и искры, зажегшей Москву; и вместо гениальности являются глупость и подлость, не имеющие примеров.
Нашествие бежит, возвращается назад, опять бежит, и все случайности постоянно теперь уже не за, а против него.
Совершается противодвижение с востока на запад с замечательным сходством с предшествовавшим движением с запада на восток. Те же попытки движения с востока на запад в 1805 – 1807 – 1809 годах предшествуют большому движению; то же сцепление и группу огромных размеров; то же приставание серединных народов к движению; то же колебание в середине пути и та же быстрота по мере приближения к цели.
Париж – крайняя цель достигнута. Наполеоновское правительство и войска разрушены. Сам Наполеон не имеет больше смысла; все действия его очевидно жалки и гадки; но опять совершается необъяснимая случайность: союзники ненавидят Наполеона, в котором они видят причину своих бедствий; лишенный силы и власти, изобличенный в злодействах и коварствах, он бы должен был представляться им таким, каким он представлялся им десять лет тому назад и год после, – разбойником вне закона. Но по какой то странной случайности никто не видит этого. Роль его еще не кончена. Человека, которого десять лет тому назад и год после считали разбойником вне закона, посылают в два дня переезда от Франции на остров, отдаваемый ему во владение с гвардией и миллионами, которые платят ему за что то.
Движение народов начинает укладываться в свои берега. Волны большого движения отхлынули, и на затихшем море образуются круги, по которым носятся дипломаты, воображая, что именно они производят затишье движения.
Но затихшее море вдруг поднимается. Дипломатам кажется, что они, их несогласия, причиной этого нового напора сил; они ждут войны между своими государями; положение им кажется неразрешимым. Но волна, подъем которой они чувствуют, несется не оттуда, откуда они ждут ее. Поднимается та же волна, с той же исходной точки движения – Парижа. Совершается последний отплеск движения с запада; отплеск, который должен разрешить кажущиеся неразрешимыми дипломатические затруднения и положить конец воинственному движению этого периода.
Человек, опустошивший Францию, один, без заговора, без солдат, приходит во Францию. Каждый сторож может взять его; но, по странной случайности, никто не только не берет, но все с восторгом встречают того человека, которого проклинали день тому назад и будут проклинать через месяц.
Человек этот нужен еще для оправдания последнего совокупного действия.
Действие совершено. Последняя роль сыграна. Актеру велено раздеться и смыть сурьму и румяны: он больше не понадобится.
И проходят несколько лет в том, что этот человек, в одиночестве на своем острове, играет сам перед собой жалкую комедию, мелочно интригует и лжет, оправдывая свои деяния, когда оправдание это уже не нужно, и показывает всему миру, что такое было то, что люди принимали за силу, когда невидимая рука водила им.
Распорядитель, окончив драму и раздев актера, показал его нам.
– Смотрите, чему вы верили! Вот он! Видите ли вы теперь, что не он, а Я двигал вас?
Но, ослепленные силой движения, люди долго не понимали этого.
Еще большую последовательность и необходимость представляет жизнь Александра I, того лица, которое стояло во главе противодвижения с востока на запад.
Что нужно для того человека, который бы, заслоняя других, стоял во главе этого движения с востока на запад?
Нужно чувство справедливости, участие к делам Европы, но отдаленное, не затемненное мелочными интересами; нужно преобладание высоты нравственной над сотоварищами – государями того времени; нужна кроткая и привлекательная личность; нужно личное оскорбление против Наполеона. И все это есть в Александре I; все это подготовлено бесчисленными так называемыми случайностями всей его прошедшей жизни: и воспитанием, и либеральными начинаниями, и окружающими советниками, и Аустерлицем, и Тильзитом, и Эрфуртом.
Во время народной войны лицо это бездействует, так как оно не нужно. Но как скоро является необходимость общей европейской войны, лицо это в данный момент является на свое место и, соединяя европейские народы, ведет их к цели.
Цель достигнута. После последней войны 1815 года Александр находится на вершине возможной человеческой власти. Как же он употребляет ее?
Александр I, умиротворитель Европы, человек, с молодых лет стремившийся только к благу своих народов, первый зачинщик либеральных нововведений в своем отечестве, теперь, когда, кажется, он владеет наибольшей властью и потому возможностью сделать благо своих народов, в то время как Наполеон в изгнании делает детские и лживые планы о том, как бы он осчастливил человечество, если бы имел власть, Александр I, исполнив свое призвание и почуяв на себе руку божию, вдруг признает ничтожность этой мнимой власти, отворачивается от нее, передает ее в руки презираемых им и презренных людей и говорит только:
– «Не нам, не нам, а имени твоему!» Я человек тоже, как и вы; оставьте меня жить, как человека, и думать о своей душе и о боге.
Как солнце и каждый атом эфира есть шар, законченный в самом себе и вместе с тем только атом недоступного человеку по огромности целого, – так и каждая личность носит в самой себе свои цели и между тем носит их для того, чтобы служить недоступным человеку целям общим.
Пчела, сидевшая на цветке, ужалила ребенка. И ребенок боится пчел и говорит, что цель пчелы состоит в том, чтобы жалить людей. Поэт любуется пчелой, впивающейся в чашечку цветка, и говорит, цель пчелы состоит во впивании в себя аромата цветов. Пчеловод, замечая, что пчела собирает цветочную пыль к приносит ее в улей, говорит, что цель пчелы состоит в собирании меда. Другой пчеловод, ближе изучив жизнь роя, говорит, что пчела собирает пыль для выкармливанья молодых пчел и выведения матки, что цель ее состоит в продолжении рода. Ботаник замечает, что, перелетая с пылью двудомного цветка на пестик, пчела оплодотворяет его, и ботаник в этом видит цель пчелы. Другой, наблюдая переселение растений, видит, что пчела содействует этому переселению, и этот новый наблюдатель может сказать, что в этом состоит цель пчелы. Но конечная цель пчелы не исчерпывается ни тою, ни другой, ни третьей целью, которые в состоянии открыть ум человеческий. Чем выше поднимается ум человеческий в открытии этих целей, тем очевиднее для него недоступность конечной цели.
Человеку доступно только наблюдение над соответственностью жизни пчелы с другими явлениями жизни. То же с целями исторических лиц и народов.
Свадьба Наташи, вышедшей в 13 м году за Безухова, было последнее радостное событие в старой семье Ростовых. В тот же год граф Илья Андреевич умер, и, как это всегда бывает, со смертью его распалась старая семья.
События последнего года: пожар Москвы и бегство из нее, смерть князя Андрея и отчаяние Наташи, смерть Пети, горе графини – все это, как удар за ударом, падало на голову старого графа. Он, казалось, не понимал и чувствовал себя не в силах понять значение всех этих событий и, нравственно согнув свою старую голову, как будто ожидал и просил новых ударов, которые бы его покончили. Он казался то испуганным и растерянным, то неестественно оживленным и предприимчивым.
Свадьба Наташи на время заняла его своей внешней стороной. Он заказывал обеды, ужины и, видимо, хотел казаться веселым; но веселье его не сообщалось, как прежде, а, напротив, возбуждало сострадание в людях, знавших и любивших его.
После отъезда Пьера с женой он затих и стал жаловаться на тоску. Через несколько дней он заболел и слег в постель. С первых дней его болезни, несмотря на утешения докторов, он понял, что ему не вставать. Графиня, не раздеваясь, две недели провела в кресле у его изголовья. Всякий раз, как она давала ему лекарство, он, всхлипывая, молча целовал ее руку. В последний день он, рыдая, просил прощения у жены и заочно у сына за разорение именья – главную вину, которую он за собой чувствовал. Причастившись и особоровавшись, он тихо умер, и на другой день толпа знакомых, приехавших отдать последний долг покойнику, наполняла наемную квартиру Ростовых. Все эти знакомые, столько раз обедавшие и танцевавшие у него, столько раз смеявшиеся над ним, теперь все с одинаковым чувством внутреннего упрека и умиления, как бы оправдываясь перед кем то, говорили: «Да, там как бы то ни было, а прекрасжейший был человек. Таких людей нынче уж не встретишь… А у кого ж нет своих слабостей?..»
Именно в то время, когда дела графа так запутались, что нельзя было себе представить, чем это все кончится, если продолжится еще год, он неожиданно умер.
Николай был с русскими войсками в Париже, когда к нему пришло известие о смерти отца. Он тотчас же подал в отставку и, не дожидаясь ее, взял отпуск и приехал в Москву. Положение денежных дел через месяц после смерти графа совершенно обозначилось, удивив всех громадностию суммы разных мелких долгов, существования которых никто и не подозревал. Долгов было вдвое больше, чем имения.
Родные и друзья советовали Николаю отказаться от наследства. Но Николай в отказе от наследства видел выражение укора священной для него памяти отца и потому не хотел слышать об отказе и принял наследство с обязательством уплаты долгов.
Кредиторы, так долго молчавшие, будучи связаны при жизни графа тем неопределенным, но могучим влиянием, которое имела на них его распущенная доброта, вдруг все подали ко взысканию. Явилось, как это всегда бывает, соревнование – кто прежде получит, – и те самые люди, которые, как Митенька и другие, имели безденежные векселя – подарки, явились теперь самыми требовательными кредиторами. Николаю не давали ни срока, ни отдыха, и те, которые, по видимому, жалели старика, бывшего виновником их потери (если были потери), теперь безжалостно накинулись на очевидно невинного перед ними молодого наследника, добровольно взявшего на себя уплату.
Ни один из предполагаемых Николаем оборотов не удался; имение с молотка было продано за полцены, а половина долгов оставалась все таки не уплаченною. Николай взял предложенные ему зятем Безуховым тридцать тысяч для уплаты той части долгов, которые он признавал за денежные, настоящие долги. А чтобы за оставшиеся долги не быть посаженным в яму, чем ему угрожали кредиторы, он снова поступил на службу.
Ехать в армию, где он был на первой вакансии полкового командира, нельзя было потому, что мать теперь держалась за сына, как за последнюю приманку жизни; и потому, несмотря на нежелание оставаться в Москве в кругу людей, знавших его прежде, несмотря на свое отвращение к статской службе, он взял в Москве место по статской части и, сняв любимый им мундир, поселился с матерью и Соней на маленькой квартире, на Сивцевом Вражке.
Наташа и Пьер жили в это время в Петербурге, не имея ясного понятия о положении Николая. Николай, заняв у зятя деньги, старался скрыть от него свое бедственное положение. Положение Николая было особенно дурно потому, что своими тысячью двумястами рублями жалованья он не только должен был содержать себя, Соню и мать, но он должен был содержать мать так, чтобы она не замечала, что они бедны. Графиня не могла понять возможности жизни без привычных ей с детства условий роскоши и беспрестанно, не понимая того, как это трудно было для сына, требовала то экипажа, которого у них не было, чтобы послать за знакомой, то дорогого кушанья для себя и вина для сына, то денег, чтобы сделать подарок сюрприз Наташе, Соне и тому же Николаю.
Соня вела домашнее хозяйство, ухаживала за теткой, читала ей вслух, переносила ее капризы и затаенное нерасположение и помогала Николаю скрывать от старой графини то положение нужды, в котором они находились. Николай чувствовал себя в неоплатном долгу благодарности перед Соней за все, что она делала для его матери, восхищался ее терпением и преданностью, но старался отдаляться от нее.
Он в душе своей как будто упрекал ее за то, что она была слишком совершенна, и за то, что не в чем было упрекать ее. В ней было все, за что ценят людей; но было мало того, что бы заставило его любить ее. И он чувствовал, что чем больше он ценит, тем меньше любит ее. Он поймал ее на слове, в ее письме, которым она давала ему свободу, и теперь держал себя с нею так, как будто все то, что было между ними, уже давным давно забыто и ни в каком случае не может повториться.
Положение Николая становилось хуже и хуже. Мысль о том, чтобы откладывать из своего жалованья, оказалась мечтою. Он не только не откладывал, но, удовлетворяя требования матери, должал по мелочам. Выхода из его положения ему не представлялось никакого. Мысль о женитьбе на богатой наследнице, которую ему предлагали его родственницы, была ему противна. Другой выход из его положения – смерть матери – никогда не приходила ему в голову. Он ничего не желал, ни на что не надеялся; и в самой глубине души испытывал мрачное и строгое наслаждение в безропотном перенесении своего положения. Он старался избегать прежних знакомых с их соболезнованием и предложениями оскорбительной помощи, избегал всякого рассеяния и развлечения, даже дома ничем не занимался, кроме раскладывания карт с своей матерью, молчаливыми прогулками по комнате и курением трубки за трубкой. Он как будто старательно соблюдал в себе то мрачное настроение духа, в котором одном он чувствовал себя в состоянии переносить свое положение.
В начале зимы княжна Марья приехала в Москву. Из городских слухов она узнала о положении Ростовых и о том, как «сын жертвовал собой для матери», – так говорили в городе.
«Я и не ожидала от него другого», – говорила себе княжна Марья, чувствуя радостное подтверждение своей любви к нему. Вспоминая свои дружеские и почти родственные отношения ко всему семейству, она считала своей обязанностью ехать к ним. Но, вспоминая свои отношения к Николаю в Воронеже, она боялась этого. Сделав над собой большое усилие, она, однако, через несколько недель после своего приезда в город приехала к Ростовым.
Николай первый встретил ее, так как к графине можно было проходить только через его комнату. При первом взгляде на нее лицо Николая вместо выражения радости, которую ожидала увидать на нем княжна Марья, приняло невиданное прежде княжной выражение холодности, сухости и гордости. Николай спросил о ее здоровье, проводил к матери и, посидев минут пять, вышел из комнаты.
Когда княжна выходила от графини, Николай опять встретил ее и особенно торжественно и сухо проводил до передней. Он ни слова не ответил на ее замечания о здоровье графини. «Вам какое дело? Оставьте меня в покое», – говорил его взгляд.
– И что шляется? Чего ей нужно? Терпеть не могу этих барынь и все эти любезности! – сказал он вслух при Соне, видимо не в силах удерживать свою досаду, после того как карета княжны отъехала от дома.
– Ах, как можно так говорить, Nicolas! – сказала Соня, едва скрывая свою радость. – Она такая добрая, и maman так любит ее.
Николай ничего не отвечал и хотел бы вовсе не говорить больше о княжне. Но со времени ее посещения старая графиня всякий день по нескольку раз заговаривала о ней.
Графиня хвалила ее, требовала, чтобы сын съездил к ней, выражала желание видеть ее почаще, но вместе с тем всегда становилась не в духе, когда она о ней говорила.
Николай старался молчать, когда мать говорила о княжне, но молчание его раздражало графиню.
– Она очень достойная и прекрасная девушка, – говорила она, – и тебе надо к ней съездить. Все таки ты увидишь кого нибудь; а то тебе скука, я думаю, с нами.
– Да я нисколько не желаю, маменька.
– То хотел видеть, а теперь не желаю. Я тебя, мой милый, право, не понимаю. То тебе скучно, то ты вдруг никого не хочешь видеть.
– Да я не говорил, что мне скучно.
– Как же, ты сам сказал, что ты и видеть ее не желаешь. Она очень достойная девушка и всегда тебе нравилась; а теперь вдруг какие то резоны. Всё от меня скрывают.
– Да нисколько, маменька.
– Если б я тебя просила сделать что нибудь неприятное, а то я тебя прошу съездить отдать визит. Кажется, и учтивость требует… Я тебя просила и теперь больше не вмешиваюсь, когда у тебя тайны от матери.
– Да я поеду, если вы хотите.
– Мне все равно; я для тебя желаю.
Николай вздыхал, кусая усы, и раскладывал карты, стараясь отвлечь внимание матери на другой предмет.
На другой, на третий и на четвертый день повторялся тот же и тот же разговор.
После своего посещения Ростовых и того неожиданного, холодного приема, сделанного ей Николаем, княжна Марья призналась себе, что она была права, не желая ехать первая к Ростовым.
«Я ничего и не ожидала другого, – говорила она себе, призывая на помощь свою гордость. – Мне нет никакого дела до него, и я только хотела видеть старушку, которая была всегда добра ко мне и которой я многим обязана».
Но она не могла успокоиться этими рассуждениями: чувство, похожее на раскаяние, мучило ее, когда она вспоминала свое посещение. Несмотря на то, что она твердо решилась не ездить больше к Ростовым и забыть все это, она чувствовала себя беспрестанно в неопределенном положении. И когда она спрашивала себя, что же такое было то, что мучило ее, она должна была признаваться, что это были ее отношения к Ростову. Его холодный, учтивый тон не вытекал из его чувства к ней (она это знала), а тон этот прикрывал что то. Это что то ей надо было разъяснить; и до тех пор она чувствовала, что не могла быть покойна.
В середине зимы она сидела в классной, следя за уроками племянника, когда ей пришли доложить о приезде Ростова. С твердым решением не выдавать своей тайны и не выказать своего смущения она пригласила m lle Bourienne и с ней вместе вышла в гостиную.
При первом взгляде на лицо Николая она увидала, что он приехал только для того, чтобы исполнить долг учтивости, и решилась твердо держаться в том самом тоне, в котором он обратится к ней.
Они заговорили о здоровье графини, об общих знакомых, о последних новостях войны, и когда прошли те требуемые приличием десять минут, после которых гость может встать, Николай поднялся, прощаясь.
Княжна с помощью m lle Bourienne выдержала разговор очень хорошо; но в самую последнюю минуту, в то время как он поднялся, она так устала говорить о том, до чего ей не было дела, и мысль о том, за что ей одной так мало дано радостей в жизни, так заняла ее, что она в припадке рассеянности, устремив вперед себя свои лучистые глаза, сидела неподвижно, не замечая, что он поднялся.
Николай посмотрел на нее и, желая сделать вид, что он не замечает ее рассеянности, сказал несколько слов m lle Bourienne и опять взглянул на княжну. Она сидела так же неподвижно, и на нежном лице ее выражалось страдание. Ему вдруг стало жалко ее и смутно представилось, что, может быть, он был причиной той печали, которая выражалась на ее лице. Ему захотелось помочь ей, сказать ей что нибудь приятное; но он не мог придумать, что бы сказать ей.
– Прощайте, княжна, – сказал он. Она опомнилась, вспыхнула и тяжело вздохнула.
– Ах, виновата, – сказала она, как бы проснувшись. – Вы уже едете, граф; ну, прощайте! А подушку графине?
– Постойте, я сейчас принесу ее, – сказала m lle Bourienne и вышла из комнаты.
Оба молчали, изредка взглядывая друг на друга.
– Да, княжна, – сказал, наконец, Николай, грустно улыбаясь, – недавно кажется, а сколько воды утекло с тех пор, как мы с вами в первый раз виделись в Богучарове. Как мы все казались в несчастии, – а я бы дорого дал, чтобы воротить это время… да не воротишь.
Княжна пристально глядела ему в глаза своим лучистым взглядом, когда он говорил это. Она как будто старалась понять тот тайный смысл его слов, который бы объяснил ей его чувство к ней.
– Да, да, – сказала она, – но вам нечего жалеть прошедшего, граф. Как я понимаю вашу жизнь теперь, вы всегда с наслаждением будете вспоминать ее, потому что самоотвержение, которым вы живете теперь…
– Я не принимаю ваших похвал, – перебил он ее поспешно, – напротив, я беспрестанно себя упрекаю; но это совсем неинтересный и невеселый разговор.
И опять взгляд его принял прежнее сухое и холодное выражение. Но княжна уже увидала в нем опять того же человека, которого она знала и любила, и говорила теперь только с этим человеком.
– Я думала, что вы позволите мне сказать вам это, – сказала она. – Мы так сблизились с вами… и с вашим семейством, и я думала, что вы не почтете неуместным мое участие; но я ошиблась, – сказала она. Голос ее вдруг дрогнул. – Я не знаю почему, – продолжала она, оправившись, – вы прежде были другой и…
– Есть тысячи причин почему (он сделал особое ударение на слово почему). Благодарю вас, княжна, – сказал он тихо. – Иногда тяжело.
«Так вот отчего! Вот отчего! – говорил внутренний голос в душе княжны Марьи. – Нет, я не один этот веселый, добрый и открытый взгляд, не одну красивую внешность полюбила в нем; я угадала его благородную, твердую, самоотверженную душу, – говорила она себе. – Да, он теперь беден, а я богата… Да, только от этого… Да, если б этого не было…» И, вспоминая прежнюю его нежность и теперь глядя на его доброе и грустное лицо, она вдруг поняла причину его холодности.
– Почему же, граф, почему? – вдруг почти вскрикнула она невольно, подвигаясь к нему. – Почему, скажите мне? Вы должны сказать. – Он молчал. – Я не знаю, граф, вашего почему, – продолжала она. – Но мне тяжело, мне… Я признаюсь вам в этом. Вы за что то хотите лишить меня прежней дружбы. И мне это больно. – У нее слезы были в глазах и в голосе. – У меня так мало было счастия в жизни, что мне тяжела всякая потеря… Извините меня, прощайте. – Она вдруг заплакала и пошла из комнаты.
– Княжна! постойте, ради бога, – вскрикнул он, стараясь остановить ее. – Княжна!
Она оглянулась. Несколько секунд они молча смотрели в глаза друг другу, и далекое, невозможное вдруг стало близким, возможным и неизбежным.
……
Осенью 1814 го года Николай женился на княжне Марье и с женой, матерью и Соней переехал на житье в Лысые Горы.
В три года он, не продавая именья жены, уплатил оставшиеся долги и, получив небольшое наследство после умершей кузины, заплатил и долг Пьеру.
Еще через три года, к 1820 му году, Николай так устроил свои денежные дела, что прикупил небольшое именье подле Лысых Гор и вел переговоры о выкупе отцовского Отрадного, что составляло его любимую мечту.
Начав хозяйничать по необходимости, он скоро так пристрастился к хозяйству, что оно сделалось для него любимым и почти исключительным занятием. Николай был хозяин простой, не любил нововведений, в особенности английских, которые входили тогда в моду, смеялся над теоретическими сочинениями о хозяйстве, не любил заводов, дорогих производств, посевов дорогих хлебов и вообще не занимался отдельно ни одной частью хозяйства. У него перед глазами всегда было только одно именье, а не какая нибудь отдельная часть его. В именье же главным предметом был не азот и не кислород, находящиеся в почве и воздухе, не особенный плуг и назем, а то главное орудие, чрез посредство которого действует и азот, и кислород, и назем, и плуг – то есть работник мужик. Когда Николай взялся за хозяйство и стал вникать в различные его части, мужик особенно привлек к себе его внимание; мужик представлялся ему не только орудием, но и целью и судьею. Он сначала всматривался в мужика, стараясь понять, что ему нужно, что он считает дурным и хорошим, и только притворялся, что распоряжается и приказывает, в сущности же только учился у мужиков и приемам, и речам, и суждениям о том, что хорошо и что дурно. И только тогда, когда понял вкусы и стремления мужика, научился говорить его речью и понимать тайный смысл его речи, когда почувствовал себя сроднившимся с ним, только тогда стал он смело управлять им, то есть исполнять по отношению к мужикам ту самую должность, исполнение которой от него требовалось. И хозяйство Николая приносило самые блестящие результаты.
Принимая в управление имение, Николай сразу, без ошибки, по какому то дару прозрения, назначал бурмистром, старостой, выборным тех самых людей, которые были бы выбраны самими мужиками, если б они могли выбирать, и начальники его никогда не переменялись. Прежде чем исследовать химические свойства навоза, прежде чем вдаваться в дебет и кредит (как он любил насмешливо говорить), он узнавал количество скота у крестьян и увеличивал это количество всеми возможными средствами. Семьи крестьян он поддерживал в самых больших размерах, не позволяя делиться. Ленивых, развратных и слабых он одинаково преследовал и старался изгонять из общества.
При посевах и уборке сена и хлебов он совершенно одинаково следил за своими и мужицкими полями. И у редких хозяев были так рано и хорошо посеяны и убраны поля и так много дохода, как у Николая.
С дворовыми он не любил иметь никакого дела, называл их дармоедами и, как все говорили, распустил и избаловал их; когда надо было сделать какое нибудь распоряжение насчет дворового, в особенности когда надо было наказывать, он бывал в нерешительности и советовался со всеми в доме; только когда возможно было отдать в солдаты вместо мужика дворового, он делал это без малейшего колебания. Во всех же распоряжениях, касавшихся мужиков, он никогда не испытывал ни малейшего сомнения. Всякое распоряжение его – он это знал – будет одобрено всеми против одного или нескольких.
Он одинаково не позволял себе утруждать или казнить человека потому только, что ему этого так хотелось, как и облегчать и награждать человека потому, что в этом состояло его личное желание. Он не умел бы сказать, в чем состояло это мерило того, что должно и чего не должно; но мерило это в его душе было твердо и непоколебимо.
Он часто говаривал с досадой о какой нибудь неудаче или беспорядке: «С нашим русским народом», – и воображал себе, что он терпеть не может мужика.
Но он всеми силами души любил этот наш русский народ и его быт и потому только понял и усвоил себе тот единственный путь и прием хозяйства, которые приносили хорошие результаты.
Графиня Марья ревновала своего мужа к этой любви его и жалела, что не могла в ней участвовать, но не могла понять радостей и огорчений, доставляемых ему этим отдельным, чуждым для нее миром. Она не могла понять, отчего он бывал так особенно оживлен и счастлив, когда он, встав на заре и проведя все утро в поле или на гумне, возвращался к ее чаю с посева, покоса или уборки. Она не понимала, чем он восхищался, рассказывая с восторгом про богатого хозяйственного мужика Матвея Ермишина, который всю ночь с семьей возил снопы, и еще ни у кого ничего не было убрано, а у него уже стояли одонья. Она не понимала, отчего он так радостно, переходя от окна к балкону, улыбался под усами и подмигивал, когда на засыхающие всходы овса выпадал теплый частый дождик, или отчего, когда в покос или уборку угрожающая туча уносилась ветром, он, красный, загорелый и в поту, с запахом полыни и горчавки в волосах, приходя с гумна, радостно потирая руки, говорил: «Ну еще денек, и мое и крестьянское все будет в гумне».
Еще менее могла она понять, почему он, с его добрым сердцем, с его всегдашнею готовностью предупредить ее желания, приходил почти в отчаяние, когда она передавала ему просьбы каких нибудь баб или мужиков, обращавшихся к ней, чтобы освободить их от работ, почему он, добрый Nicolas, упорно отказывал ей, сердито прося ее не вмешиваться не в свое дело. Она чувствовала, что у него был особый мир, страстно им любимый, с какими то законами, которых она не понимала.
Когда она иногда, стараясь понять его, говорила ему о его заслуге, состоящей в том, что он делает добро своих подданных, он сердился и отвечал: «Вот уж нисколько: никогда и в голову мне не приходит; и для их блага вот чего не сделаю. Все это поэзия и бабьи сказки, – все это благо ближнего. Мне нужно, чтобы наши дети не пошли по миру; мне надо устроить наше состояние, пока я жив; вот и все. Для этого нужен порядок, нужна строгость… Вот что!» – говорил он, сжимая свой сангвинический кулак. «И справедливость, разумеется, – прибавлял он, – потому что если крестьянин гол и голоден, и лошаденка у него одна, так он ни на себя, ни на меня не сработает».
И, должно быть, потому, что Николай не позволял себе мысли о том, что он делает что нибудь для других, для добродетели, – все, что он делал, было плодотворно: состояние его быстро увеличивалось; соседние мужики приходили просить его, чтобы он купил их, и долго после его смерти в народе хранилась набожная память об его управлении. «Хозяин был… Наперед мужицкое, а потом свое. Ну и потачки не давал. Одно слово – хозяин!»
Одно, что мучило Николая по отношению к его хозяйничанию, это была его вспыльчивость в соединении с старой гусарской привычкой давать волю рукам. В первое время он не видел в этом ничего предосудительного, но на второй год своей женитьбы его взгляд на такого рода расправы вдруг изменился.
Однажды летом из Богучарова был вызван староста, заменивший умершего Дрона, обвиняемый в разных мошенничествах и неисправностях. Николай вышел к нему на крыльцо, и с первых ответов старосты в сенях послышались крики и удары. Вернувшись к завтраку домой, Николай подошел к жене, сидевшей с низко опущенной над пяльцами головой, и стал рассказывать ей, по обыкновению, все то, что занимало его в это утро, и между прочим и про богучаровского старосту. Графиня Марья, краснея, бледнея и поджимая губы, сидела все так же, опустив голову, и ничего не отвечала на слова мужа.
– Эдакой наглый мерзавец, – говорил он, горячась при одном воспоминании. – Ну, сказал бы он мне, что был пьян, не видал… Да что с тобой, Мари? – вдруг спросил он.
Графиня Марья подняла голову, хотела что то сказать, но опять поспешно потупилась и собрала губы.
– Что ты? что с тобой, дружок мой?..
Некрасивая графиня Марья всегда хорошела, когда плакала. Она никогда не плакала от боли или досады, но всегда от грусти и жалости. И когда она плакала, лучистые глаза ее приобретали неотразимую прелесть.
Как только Николай взял ее за руку, она не в силах была удержаться и заплакала.
– Nicolas, я видела… он виноват, но ты, зачем ты! Nicolas!.. – И она закрыла лицо руками.
Николай замолчал, багрово покраснел и, отойдя от нее, молча стал ходить по комнате. Он понял, о чем она плакала; но вдруг он не мог в душе своей согласиться с ней, что то, с чем он сжился с детства, что он считал самым обыкновенным, – было дурно.
«Любезности это, бабьи сказки, или она права?» – спрашивал он сам себя. Не решив сам с собою этого вопроса, он еще раз взглянул на ее страдающее и любящее лицо и вдруг понял, что она была права, а он давно уже виноват сам перед собою.
– Мари, – сказал он тихо, подойдя к ней, – этого больше не будет никогда; даю тебе слово. Никогда, – повторил он дрогнувшим голосом, как мальчик, который просит прощения.
Слезы еще чаще полились из глаз графини. Она взяла руку мужа и поцеловала ее.
– Nicolas, когда ты разбил камэ? – чтобы переменить разговор, сказала она, разглядывая его руку, на которой был перстень с головой Лаокоона.
– Нынче; все то же. Ах, Мари, не напоминай мне об этом. – Он опять вспыхнул. – Даю тебе честное слово, что этого больше не будет. И пусть это будет мне память навсегда, – сказал он, указывая на разбитый перстень.
С тех пор, как только при объяснениях со старостами и приказчиками кровь бросалась ему в лицо и руки начинали сжиматься в кулаки, Николай вертел разбитый перстень на пальце и опускал глаза перед человеком, рассердившим его. Однако же раза два в год он забывался и тогда, придя к жене, признавался и опять давал обещание, что уже теперь это было последний раз.
– Мари, ты, верно, меня презираешь? – говорил он ей. – Я стою этого.
– Ты уйди, уйди поскорее, ежели чувствуешь себя не в силах удержаться, – с грустью говорила графиня Марья, стараясь утешить мужа.
В дворянском обществе губернии Николай был уважаем, но не любим. Дворянские интересы не занимали его. И за это то одни считали его гордым, другие – глупым человеком. Все время его летом, с весеннего посева и до уборки, проходило в занятиях по хозяйству. Осенью он с тою же деловою серьезностию, с которою занимался хозяйством, предавался охоте, уходя на месяц и на два в отъезд с своей охотой. Зимой он ездил по другим деревням и занимался чтением. Чтение его составляли книги преимущественно исторические, выписывавшиеся им ежегодно на известную сумму. Он составлял себе, как говорил, серьезную библиотеку и за правило поставлял прочитывать все те книги, которые он покупал. Он с значительным видом сиживал в кабинете за этим чтением, сперва возложенным на себя как обязанность, а потом сделавшимся привычным занятием, доставлявшим ему особого рода удовольствие и сознание того, что он занят серьезным делом. За исключением поездок по делам, бо льшую часть времени зимой он проводил дома, сживаясь с семьей и входя в мелкие отношения между матерью и детьми. С женой он сходился все ближе и ближе, с каждым днем открывая в ней новые душевные сокровища.
Соня со времени женитьбы Николая жила в его доме. Еще перед своей женитьбой Николай, обвиняя себя и хваля ее, рассказал своей невесте все, что было между ним и Соней. Он просил княжну Марью быть ласковой и доброй с его кузиной. Графиня Марья чувствовала вполне вину своего мужа; чувствовала и свою вину перед Соней; думала, что ее состояние имело влияние на выбор Николая, не могла ни в чем упрекнуть Соню, желала любить ее; но не только не любила, а часто находила против нее в своей душе злые чувства и не могла преодолеть их.
Однажды она разговорилась с другом своим Наташей о Соне и о своей к ней несправедливости.
– Знаешь что, – сказала Наташа, – вот ты много читала Евангелие; там есть одно место прямо о Соне.
– Что? – с удивлением спросила графиня Марья.
– «Имущему дастся, а у неимущего отнимется», помнишь? Она – неимущий: за что? не знаю; в ней нет, может быть, эгоизма, – я не знаю, но у нее отнимется, и все отнялось. Мне ее ужасно жалко иногда; я ужасно желала прежде, чтобы Nicolas женился на ней; но я всегда как бы предчувствовала, что этого не будет. Она пустоцвет, знаешь, как на клубнике? Иногда мне ее жалко, а иногда я думаю, что она не чувствует этого, как чувствовали бы мы.
И несмотря на то, что графиня Марья толковала Наташе, что эти слова Евангелия надо понимать иначе, – глядя на Соню, она соглашалась с объяснением, данным Наташей. Действительно, казалось, что Соня не тяготится своим положением и совершенно примирилась с своим назначением пустоцвета. Она дорожила, казалось, не столько людьми, сколько всей семьей. Она, как кошка, прижилась не к людям, а к дому. Она ухаживала за старой графиней, ласкала и баловала детей, всегда была готова оказать те мелкие услуги, на которые она была способна; но все это принималось невольно с слишком слабою благодарностию…
Усадьба Лысых Гор была вновь отстроена, но уже не на ту ногу, на которой она была при покойном князе.
Постройки, начатые во времена нужды, были более чем просты. Огромный дом, на старом каменном фундаменте, был деревянный, оштукатуренный только снутри. Большой поместительный дом с некрашеным дощатым полом был меблирован самыми простыми жесткими диванами и креслами, столами и стульями из своих берез и работы своих столяров. Дом был поместителен, с комнатами для дворни и отделениями для приезжих. Родные Ростовых и Болконских иногда съезжались гостить в Лысые Горы семьями, на своих шестнадцати лошадях, с десятками слуг, и жили месяцами. Кроме того, четыре раза в год, в именины и рожденья хозяев, съезжалось до ста человек гостей на один два дня. Остальное время года шла ненарушимо правильная жизнь с обычными занятиями, чаями, завтраками, обедами, ужинами из домашней провизии.
Выл канун зимнего Николина дня, 5 е декабря 1820 года. В этот год Наташа с детьми и мужем с начала осени гостила у брата. Пьер был в Петербурге, куда он поехал по своим особенным делам, как он говорил, на три недели, и где он теперь проживал уже седьмую. Его ждали каждую минуту.
5 го декабря, кроме семейства Безуховых, у Ростовых гостил еще старый друг Николая, отставной генерал Василий Федорович Денисов.
6 го числа, в день торжества, в который съедутся гости, Николай знал, что ему придется снять бешмет, надеть сюртук и с узкими носками узкие сапоги и ехать в новую построенную им церковь, а потом принимать поздравления и предлагать закуски и говорить о дворянских выборах и урожае; но канун дня он еще считал себя вправе провести обычно. До обеда Николай поверил счеты бурмистра из рязанской деревни, по именью племянника жены, написал два письма по делам и прошелся на гумно, скотный и конный дворы. Приняв меры против ожидаемого на завтра общего пьянства по случаю престольного праздника, он пришел к обеду и, не успев с глазу на глаз переговорить с женою, сел за длинный стол в двадцать приборов, за который собрались все домашние. За столом были мать, жившая при ней старушка Белова, жена, трое детей, гувернантка, гувернер, племянник с своим гувернером, Соня, Денисов, Наташа, ее трое детей, их гувернантка и старичок Михаил Иваныч, архитектор князя, живший в Лысых Горах на покое.
Графиня Марья сидела на противоположном конце стола. Как только муж сел на свое место, по тому жесту, с которым он, сняв салфетку, быстро передвинул стоявшие перед ним стакан и рюмку, графиня Марья решила, что он не в духе, как это иногда с ним бывает, в особенности перед супом и когда он прямо с хозяйства придет к обеду. Графиня Марья знала очень хорошо это его настроение, и, когда она сама была в хорошем расположении, она спокойно ожидала, пока он поест супу, и тогда уже начинала говорить с ним и заставляла его признаваться, что он без причины был не в духе; но нынче она совершенно забыла это свое наблюдение; ей стало больно, что он без причины на нее сердится, и она почувствовала себя несчастной. Она спросила его, где он был. Он отвечал. Она еще спросила, все ли в порядке по хозяйству. Он неприятно поморщился от ее ненатурального тона и поспешно ответил.
«Так я не ошибалась, – подумала графиня Марья, – и за что он на меня сердится?» В тоне, которым он отвечал ей, графиня Марья слышала недоброжелательство к себе и желание прекратить разговор. Она чувствовала, что ее слова были неестественны; но она не могла удержаться, чтобы не сделать еще несколько вопросов.
Разговор за обедом благодаря Денисову скоро сделался общим и оживленным, и графиня Марья не говорила с мужем. Когда вышли из за стола и пришли благодарить старую графиню, графиня Марья поцеловала, подставляя свою руку, мужа и спросила, за что он на нее сердится.
– У тебя всегда странные мысли; и не думал сердиться, – сказал он.
Но слово всегда отвечало графине Марье: да, сержусь и не хочу сказать.
Николай жил с своей женой так хорошо, что даже Соня и старая графиня, желавшие из ревности несогласия между ними, не могли найти предлога для упрека; но и между ними бывали минуты враждебности. Иногда, именно после самых счастливых периодов, на них находило вдруг чувство отчужденности и враждебности; это чувство являлось чаще всего во времена беременности графини Марьи. Теперь она находилась в этом периоде.
– Ну, messieurs et mesdames, – сказал Николай громко и как бы весело (графине Марье казалось, что это нарочно, чтобы ее оскорбить), – я с шести часов на ногах. Завтра уж надо страдать, а нынче пойти отдохнуть. – И, не сказав больше ничего графине Марье, он ушел в маленькую диванную и лег на диван.
«Вот это всегда так, – думала графиня Марья. – Со всеми говорит, только не со мною. Вижу, вижу, что я ему противна. Особенно в этом положении». Она посмотрела на свой высокий живот и в зеркало на свое желто бледное, исхудавшее лицо с более, чем когда нибудь, большими глазами.
И все ей стало неприятно: и крик и хохот Денисова, и разговор Наташи, и в особенности тот взгляд, который на нее поспешно бросила Соня.
Соня всегда была первым предлогом, который избирала графиня Марья для своего раздражения.
Посидев с гостями и не понимая ничего из того, что они говорили, она потихоньку вышла и пошла в детскую.
Дети на стульях ехали в Москву и пригласили ее с собою. Она села, поиграла с ними, но мысль о муже и о беспричинной досаде его не переставая мучила ее. Она встала и пошла, с трудом ступая на цыпочки, в маленькую диванную.
«Может, он не спит; я объяснюсь с ним», – сказала она себе. Андрюша, старший мальчик, подражая ей, пошел за ней на цыпочках. Графиня Марья не заметила его.
– Chere Marie, il dort, je crois; il est si fatigue, [Мари, он спит, кажется; он устал.] – сказала (как казалось графине Марье везде ей встречавшаяся) Соня в большой диванной. – Андрюша не разбудил бы его.
Графиня Марья оглянулась, увидала за собой Андрюшу, почувствовала, что Соня права, и именно от этого вспыхнула и, видимо, с трудом удержалась от жесткого слова. Она ничего не сказала и, чтобы не послушаться ее, сделала знак рукой, чтобы Андрюша не шумел, а все таки шел за ней, и подошла к двери. Соня прошла в другую дверь. Из комнаты, в которой спал Николай, слышалось его ровное, знакомое жене до малейших оттенков дыхание. Она, слыша это дыхание, видела перед собой его гладкий красивый лоб, усы, все лицо, на которое она так часто подолгу глядела, когда он спал, в тишине ночи. Николай вдруг пошевелился и крякнул. И в то же мгновение Андрюша из за двери закричал:
– Папенька, маменька тут стоит.
Графиня Марья побледнела от испуга и стала делать знаки сыну. Он замолк, и с минуту продолжалось страшное для графини Марьи молчание. Она знала, как не любил Николай, чтобы его будили. Вдруг за дверью послышалось новое кряхтение, движение, и недовольный голос Николая сказал:
– Ни минуты не дадут покоя. Мари, ты? Зачем ты привела его сюда?
– Я подошла только посмотреть, я не видала… извини…
Николай прокашлялся и замолк. Графиня Марья отошла от двери и проводила сына в детскую. Через пять минут маленькая черноглазая трехлетняя Наташа, любимица отца, узнав от брата, что папенька спит в маленькой диванной, не замеченная матерью, побежала к отцу. Черноглазая девочка смело скрыпнула дверью, подошла энергическими шажками тупых ножек к дивану и, рассмотрев положение отца, спавшего к ней спиною, поднялась на цыпочки и поцеловала лежавшую под головой руку отца. Николай обернулся с умиленной улыбкой на лице.
– Наташа, Наташа! – слышался из двери испуганный шепот графини Марьи, – папенька спать хочет.
– Нет, мама, он не хочет спать, – с убедительностью отвечала маленькая Наташа, – он смеется.
Николай спустил ноги, поднялся и взял на руки дочь.
– Взойди, Маша, – сказал он жене. Графиня Марья вошла в комнату и села подле мужа.
– Я и не видала, как он за мной прибежал, – робко сказала она. – Я так…
Николай, держа одной рукой дочь, поглядел на жену и, заметив виноватое выражение ее лица, другой рукой обнял ее и поцеловал в волоса.
– Можно целовать мама ? – спросил он у Наташи.
Наташа застенчиво улыбнулась.
– Опять, – сказала она, с повелительным жестом указывая на то место, куда Николай поцеловал жену.
– Я не знаю, отчего ты думаешь, что я не в духе, – сказал Николай, отвечая на вопрос, который, он знал, был в душе его жены.
– Ты не можешь себе представить, как я бываю несчастна, одинока, когда ты такой. Мне все кажется…
– Мари, полно, глупости. Как тебе не совестно, – сказал он весело.
– Мне кажется, что ты не можешь любить меня, что я так дурна… и всегда… а теперь… в этом по…
– Ах, какая ты смешная! Не по хорошу мил, а по милу хорош. Это только Malvina и других любят за то, что они красивы; а жену разве я люблю? Я не люблю, а так, не знаю, как тебе сказать. Без тебя и когда вот так у нас какая то кошка пробежит, я как будто пропал и ничего не могу. Ну, что я люблю палец свой? Я не люблю, а попробуй, отрежь его…
– Нет, я не так, но я понимаю. Так ты на меня не сердишься?
– Ужасно сержусь, – сказал он, улыбаясь, и, встав и оправив волосы, стал ходить по комнате.
– Ты знаешь, Мари, о чем я думал? – начал он, теперь, когда примирение было сделано, тотчас же начиная думать вслух при жене. Он не спрашивал о том, готова ли она слушать его; ему все равно было. Мысль пришла ему, стало быть, и ей. И он рассказал ей свое намерении уговорить Пьера остаться с ними до весны.
Графиня Марья выслушала его, сделала замечания и начала в свою очередь думать вслух свои мысли. Ее мысли были о детях.
– Как женщина видна уже теперь, – сказала она по французски, указывая на Наташу. – Вы нас, женщин, упрекаете в нелогичности. Вот она – наша логика. Я говорю: папа хочет спать, а она говорит: нет, он смеется. И она права, – сказала графиня Марья, счастливо улыбаясь.
– Да, да! – И Николай, взяв на свою сильную руку дочь, высоко поднял ее, посадил на плечо, перехватив за ножки, и стал с ней ходить по комнате. У отца и у дочери были одинаково бессмысленно счастливые лица.
– А знаешь, ты, может быть, несправедлив. Ты слишком любишь эту, – шепотом по французски сказала графиня Марья.
– Да, но что ж делать?.. Я стараюсь не показать…
В это время в сенях и передней послышались звуки блока и шагов, похожих на звуки приезда.
– Кто то приехал.
– Я уверена, что Пьер. Я пойду узнаю, – сказала графиня Марья и вышла из комнаты.
В ее отсутствие Николай позволил себе галопом прокатить дочь вокруг комнаты. Запыхавшись, он быстро скинул смеющуюся девочку и прижал ее к груди. Его прыжки напомнили ему танцы, и он, глядя на детское круглое счастливое личико, думал о том, какою она будет, когда он начнет вывозить ее старичком и, как, бывало, покойник отец танцовывал с дочерью Данилу Купора, пройдется с нею мазурку.
– Он, он, Nicolas, – сказала через несколько минут графиня Марья, возвращаясь в комнату. – Теперь ожила наша Наташа. Надо было видеть ее восторг и как ему досталось сейчас же за то, что он просрочил. – Ну, пойдем скорее, пойдем! Расстаньтесь же наконец, – сказала она, улыбаясь, глядя на девочку, жавшуюся к отцу. Николай вышел, держа дочь за руку.
Графиня Марья осталась в диванной.
– Никогда, никогда не поверила бы, – прошептала она сама с собой, – что можно быть так счастливой. – Лицо ее просияло улыбкой; но в то же самое время она вздохнула, и тихая грусть выразилась в ее глубоком взгляде. Как будто, кроме того счастья, которое она испытывала, было другое, недостижимое в этой жизни счастье, о котором она невольно вспомнила в эту минуту.
Х
Наташа вышла замуж ранней весной 1813 года, и у ней в 1820 году было уже три дочери и один сын, которого она страстно желала и теперь сама кормила. Она пополнела и поширела, так что трудно было узнать в этой сильной матери прежнюю тонкую, подвижную Наташу. Черты лица ее определились и имели выражение спокойной мягкости и ясности. В ее лице не было, как прежде, этого непрестанно горевшего огня оживления, составлявшего ее прелесть. Теперь часто видно было одно ее лицо и тело, а души вовсе не было видно. Видна была одна сильная, красивая и плодовитая самка. Очень редко зажигался в ней теперь прежний огонь. Это бывало только тогда, когда, как теперь, возвращался муж, когда выздоравливал ребенок или когда она с графиней Марьей вспоминала о князе Андрее (с мужем она, предполагая, что он ревнует ее к памяти князя Андрея, никогда не говорила о нем), и очень редко, когда что нибудь случайно вовлекало ее в пение, которое она совершенно оставила после замужества. И в те редкие минуты, когда прежний огонь зажигался в ее развившемся красивом теле, она бывала еще более привлекательна, чем прежде.
Со времени своего замужества Наташа жила с мужем в Москве, в Петербурге, и в подмосковной деревне, и у матери, то есть у Николая. В обществе молодую графиню Безухову видели мало, и те, которые видели, остались ею недовольны. Она не была ни мила, ни любезна. Наташа не то что любила уединение (она не знала, любила ли она или нет; ей даже казалось, что нет), но она, нося, рожая, кормя детей и принимая участие в каждой минуте жизни мужа, не могла удовлетворить этим потребностям иначе, как отказавшись от света. Все, знавшие Наташу до замужества, удивлялись происшедшей в ней перемене, как чему то необыкновенному. Одна старая графиня, материнским чутьем понявшая, что все порывы Наташи имели началом только потребность иметь семью, иметь мужа, как она, не столько шутя, сколько взаправду, кричала в Отрадном, мать удивлялась удивлению людей, не понимавших Наташи, и повторяла, что она всегда знала, что Наташа будет примерной женой и матерью.
– Она только до крайности доводит свою любовь к мужу и детям, – говорила графиня, – так что это даже глупо.
Наташа не следовала тому золотому правилу, проповедоваемому умными людьми, в особенности французами, и состоящему в том, что девушка, выходя замуж, не должна опускаться, не должна бросать свои таланты, должна еще более, чем в девушках, заниматься своей внешностью, должна прельщать мужа так же, как она прежде прельщала не мужа. Наташа, напротив, бросила сразу все свои очарованья, из которых у ней было одно необычайно сильное – пение. Она оттого и бросила его, что это было сильное очарованье. Она, то что называют, опустилась. Наташа не заботилась ни о своих манерах, ни о деликатности речей, ни о том, чтобы показываться мужу в самых выгодных позах, ни о своем туалете, ни о том, чтобы не стеснять мужа своей требовательностью. Она делала все противное этим правилам. Она чувствовала, что те очарования, которые инстинкт ее научал употреблять прежде, теперь только были бы смешны в глазах ее мужа, которому она с первой минуты отдалась вся – то есть всей душой, не оставив ни одного уголка не открытым для него. Она чувствовала, что связь ее с мужем держалась не теми поэтическими чувствами, которые привлекли его к ней, а держалась чем то другим, неопределенным, но твердым, как связь ее собственной души с ее телом.
Взбивать локоны, надевать роброны и петь романсы, для того чтобы привлечь к себе своего мужа, показалось бы ей так же странным, как украшать себя для того, чтобы быть самой собою довольной. Украшать же себя для того, чтобы нравиться другим, – может быть, теперь это и было бы приятно ей, – она не знала, – но было совершенно некогда. Главная же причина, по которой она не занималась ни пением, ни туалетом, ни обдумыванием своих слов, состояла в том, что ей было совершенно некогда заниматься этим.
Известно, что человек имеет способность погрузиться весь в один предмет, какой бы он ни казался ничтожный. И известно, что нет такого ничтожного предмета, который бы при сосредоточенном внимании, обращенном на него, не разросся до бесконечности.
Предмет, в который погрузилась вполне Наташа, – была семья, то есть муж, которого надо было держать так, чтобы он нераздельно принадлежал ей, дому, – и дети, которых надо было носить, рожать, кормить, воспитывать.
И чем больше она вникала, не умом, а всей душой, всем существом своим, в занимавший ее предмет, тем более предмет этот разрастался под ее вниманием, и тем слабее и ничтожнее казались ей ее силы, так что она их все сосредоточивала на одно и то же, и все таки не успевала сделать всего того, что ей казалось нужно.
Толки и рассуждения о правах женщин, об отношениях супругов, о свободе и правах их, хотя и не назывались еще, как теперь, вопросами, были тогда точно такие же, как и теперь; но эти вопросы не только не интересовали Наташу, но она решительно не понимала их.
Вопросы эти и тогда, как и теперь, существовали только для тех людей, которые в браке видят одно удовольствие, получаемое супругами друг от друга, то есть одно начало брака, а не все его значение, состоящее в семье.
Рассуждения эти и теперешние вопросы, подобные вопросам о том, каким образом получить как можно более удовольствия от обеда, тогда, как и теперь, не существуют для людей, для которых цель обеда есть питание и цель супружества – семья.
Если цель обеда – питание тела, то тот, кто съест вдруг два обеда, достигнет, может быть, большего удовольствия, но не достигнет цели, ибо оба обеда не переварятся желудком.
Если цель брака есть семья, то тот, кто захочет иметь много жен и мужей, может быть, получит много удовольствия, но ни в каком случае не будет иметь семьи.
Весь вопрос, ежели цель обеда есть питание, а цель брака – семья, разрешается только тем, чтобы не есть больше того, что может переварить желудок, и не иметь больше жен и мужей, чем столько, сколько нужно для семьи, то есть одной и одного. Наташе нужен был муж. Муж был дан ей. И муж дал ей семью. И в другом, лучшем муже она не только не видела надобности, но, так как все силы душевные ее были устремлены на то, чтобы служить этому мужу и семье, она и не могла себе представить и не видела никакого интереса в представлении о том, что бы было, если б было другое.
Наташа не любила общества вообще, но она тем более дорожила обществом родных – графини Марьи, брата, матери и Сони. Она дорожила обществом тех людей, к которым она, растрепанная, в халате, могла выйти большими шагами из детской с радостным лицом и показать пеленку с желтым вместо зеленого пятна, и выслушать утешения о том, что теперь ребенку гораздо лучше.
Наташа до такой степени опустилась, что ее костюмы, ее прическа, ее невпопад сказанные слова, ее ревность – она ревновала к Соне, к гувернантке, ко всякой красивой и некрасивой женщине – были обычным предметом шуток всех ее близких. Общее мнение было то, что Пьер был под башмаком своей жены, и действительно это было так. С самых первых дней их супружества Наташа заявила свои требования. Пьер удивился очень этому совершенно новому для него воззрению жены, состоящему в том, что каждая минута его жизни принадлежит ей и семье; Пьер удивился требованиям своей жены, но был польщен ими и подчинился им.
Подвластность Пьера заключалась в том, что он не смел не только ухаживать, но не смел с улыбкой говорить с другой женщиной, не смел ездить в клубы, на обеды так, для того чтобы провести время, не смел расходовать денег для прихоти, не смел уезжать на долгие сроки, исключая как по делам, в число которых жена включала и его занятия науками, в которых она ничего не понимала, но которым она приписывала большую важность. Взамен этого Пьер имел полное право у себя в доме располагать не только самим собой, как он хотел, но и всей семьею. Наташа у себя в доме ставила себя на ногу рабы мужа; и весь дом ходил на цыпочках, когда Пьер занимался – читал или писал в своем кабинете. Стоило Пьеру показать какое нибудь пристрастие, чтобы то, что он любил, постоянно исполнялось. Стоило ему выразить желание, чтобы Наташа вскакивала и бежала исполнять его.
- Родившиеся 17 июня
- Родившиеся в 1239 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Вестминстере
- Умершие 7 июля
- Умершие в 1307 году
- Умершие в Камбрии
- Короли Англии
- Крестоносцы
- Плантагенеты
- Графы Честер
- Правители Европы XIII века
- Претенденты на трон Шотландии
- Участники Восьмого крестового похода
- Умершие от дизентерии
- Похороненные в Вестминстерском аббатстве

