Хемингуэй, Эрнест
Эрнест Миллер Хемингуэй (англ. Ernest Miller Hemingway; 21 июля 1899 года, Оук-Парк, Иллинойс, США — 2 июля 1961 года, Кетчум, Айдахо, США) — американский писатель, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 года.
Широкое признание Хемингуэй получил благодаря как и своим романам и многочисленным рассказам — с одной стороны, так и своей жизни, полной приключений и неожиданностей, — с другой. Его стиль, краткий и насыщенный, значительно повлиял на литературу XX века.
Содержание
Биография
Детство
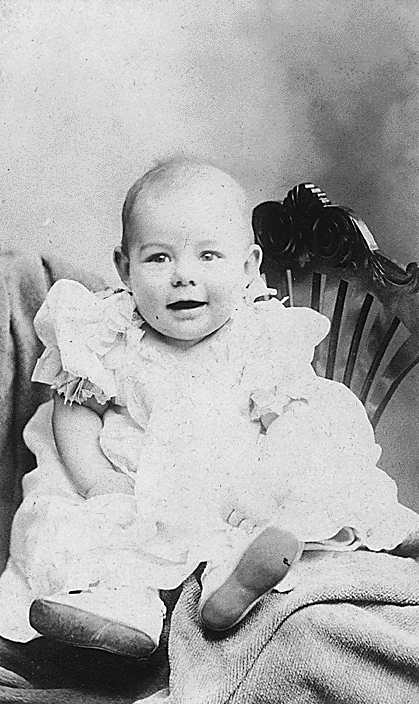 Эрнест Хемингуэй родился 21 июля 1899 года в привилегированном пригороде Чикаго — городке Оук-Парк (Иллинойс, США). Его отец Кларенс Эдмонт Хемингуэй был врачом, а мать Грейс Холл посвятила жизнь воспитанию детей.
Эрнест Хемингуэй родился 21 июля 1899 года в привилегированном пригороде Чикаго — городке Оук-Парк (Иллинойс, США). Его отец Кларенс Эдмонт Хемингуэй был врачом, а мать Грейс Холл посвятила жизнь воспитанию детей.
Отец с раннего детства пытался привить Эрнесту любовь к природе, мечтая о том, что тот пойдёт по его стопам и займётся медициной и естествознанием[1]. Когда Эрни было 3 года, отец подарил ему первую удочку и взял с собой на рыбалку. К 8 годам будущий писатель уже знал наизусть названия всех деревьев, цветов, птиц, рыб и зверей, которые обитали на Среднем Западе. Другим любимым занятием для Эрнеста стала литература. Мальчик часами сидел за книгами, которые мог найти в домашней библиотеке, особенно ему нравились работы Дарвина и историческая литература[2].
Миссис Хемингуэй мечтала о другом будущем для своего сына. Она заставляла его петь в церковном хоре и играть на виолончели. Много лет спустя, уже будучи пожилым человеком, Эрнест скажет:
Моя мать целый год не пускала меня в школу для того,чтобы я учился музыке. Она думала, что у меня есть способности, а у меня не было никакого таланта.
 Тем не менее сопротивление этому было подавлено матерью — Хемингуэй должен был ежедневно заниматься музыкой.
Тем не менее сопротивление этому было подавлено матерью — Хемингуэй должен был ежедневно заниматься музыкой.
У семьи, кроме зимнего дома в Оук-Парке, был ещё коттедж «Уиндмир» на озере Валлун. Каждое лето Хемингуэй с родителями, братьями и сёстрами отправлялся в эти тихие места. Для мальчика поездки в «Уиндмир» означали полную свободу. Его никто не заставлял играть на виолончели, и он мог заниматься своими делами — сидеть на берегу с удочкой, бродить по лесу, играть с детьми из индейского посёлка. В 1911 году, когда Эрнесту исполнилось 12 лет, дедушка Хемингуэй подарил ему однозарядное ружьё 20-го калибра. Этот подарок укрепил дружбу деда и внука. Мальчик обожал слушать рассказы старика и на всю жизнь сохранил о нём добрые воспоминания, часто перенося их в свои произведения в будущем[2].
Охота стала для Эрнеста главной страстью. Кларенс научил сына обращаться с оружием и выслеживать зверя. Одни из первых своих рассказов о Нике Адамсе, своём alter ego, Хемингуэй посвятит именно охоте и фигуре отца. Его личность, жизнь и трагический конец — Кларенс покончит жизнь самоубийством — будут всегда волновать писателя[3].
Юность
Школьное время
Будучи от природы здоровым и сильным юношей, Хемингуэй активно занимался боксом и футболом. Эрнест позже говорил:
Бокс научил меня никогда не оставаться лежать, всегда быть готовым вновь атаковать… быстро и жёстко, подобно быку.
В школьные годы Хемингуэй дебютировал в качестве писателя в небольшом школьном журнале «Скрижаль». Сначала был напечатан «Суд Маниту» — сочинение с северной экзотикой, кровью и индейским фольклором, а в следующем номере — новый рассказ «Всё дело в цвете кожи» — о закулисной и грязной коммерческой стороне бокса. Далее, в основном, публиковались репортажи о спортивных состязаниях, концертах. Особенно популярными были ехидные заметки о «светской жизни» Оук-Парка. В это время Хемингуэй уже твёрдо для себя решил, что будет писателем[2].
Полицейский репортёр
После выпуска из школы он решил не поступать в университет, как этого требовали родители, а переехал в Канзас-Сити, где устроился работать в местную газету The Kansas City Star. Здесь он отвечал за небольшой район города, в который входили главная больница, вокзал и полицейский участок. Молодой репортёр выезжал на все происшествия, знакомился с притонами, сталкивался с проститутками, наёмными убийцами и мошенниками, бывал на пожарах и в тюрьмах[4]. Эрнест Хемингуэй наблюдал, запоминал, старался понять мотивы человеческих поступков, улавливал манеру разговоров, жесты и запахи. Всё это откладывалось у него в памяти, чтобы потом стать сюжетами, деталями и диалогами его будущих рассказов. Здесь сформировался его литературный стиль и привычка быть всегда в центре событий. Редакторы газеты научили его точности и ясности языка и старались пресечь любое многословие и стилистические небрежности[5].
Первая мировая война
 Хемингуэй хотел служить в армии, однако из-за плохого зрения ему долго отказывали. Но он всё-таки сумел попасть на фронт Первой мировой войны в Италии, записавшись шофёром-добровольцем Красного Креста. В первый же день его пребывания в Милане Эрнеста и других новобранцев прямо с поезда бросили на расчистку территории взорванного завода боеприпасов. Через несколько лет он опишет свои впечатления от первого столкновения с войной в своей книге «Прощай, оружие!». На следующий день молодого Хемингуэя отправили в качестве водителя санитарной машины на фронт в отряд, дислоцировавшийся в городке Скио. Однако почти всё время здесь проходило в развлечениях: посещении салунов, игре в карты и бейсбол. Эрнест не смог долго терпеть такую жизнь и добился перевода на реку Пьяве, где стал заниматься обслуживанием армейских лавок. А вскоре он нашёл способ оказаться и на передовой, вызвавшись доставлять продукты солдатам прямо в окопы.
Хемингуэй хотел служить в армии, однако из-за плохого зрения ему долго отказывали. Но он всё-таки сумел попасть на фронт Первой мировой войны в Италии, записавшись шофёром-добровольцем Красного Креста. В первый же день его пребывания в Милане Эрнеста и других новобранцев прямо с поезда бросили на расчистку территории взорванного завода боеприпасов. Через несколько лет он опишет свои впечатления от первого столкновения с войной в своей книге «Прощай, оружие!». На следующий день молодого Хемингуэя отправили в качестве водителя санитарной машины на фронт в отряд, дислоцировавшийся в городке Скио. Однако почти всё время здесь проходило в развлечениях: посещении салунов, игре в карты и бейсбол. Эрнест не смог долго терпеть такую жизнь и добился перевода на реку Пьяве, где стал заниматься обслуживанием армейских лавок. А вскоре он нашёл способ оказаться и на передовой, вызвавшись доставлять продукты солдатам прямо в окопы.
8 июля 1918 года Хемингуэй, спасая раненого итальянского снайпера, попал под огонь австрийских пулемётов и миномётов, но остался жив. В госпитале из него извлекли 26 осколков, при этом на теле Эрнеста было более двухсот ран. Вскоре его перевезли в Милан, где простреленную коленную чашечку врачи заменили алюминиевым протезом.
Возвращение домой
21 января 1919 года Эрнест вернулся в США героем — о нём писали все центральные газеты как о первом американце, раненном на итальянском фронте. А король Италии наградил его серебряной медалью «За воинскую доблесть» и «Военным крестом». Сам же писатель позднее сказал:
Я был большим дураком, когда отправился на ту войну. Я думал, что мы спортивная команда, а австрийцы — другая команда, участвующая в состязании.
Почти целый год Хемингуэй провёл в кругу семьи, залечивая полученные раны и думая о своём будущем. 20 февраля 1920 года он переехал в Торонто (Канада), чтобы снова вернуться к журналистике. Его новый работодатель, газета «Торонто Стар», позволила молодому репортёру писать на любые темы, однако оплачивались лишь опубликованные материалы. Первые работы Эрнеста — «Кочующая выставка картин» и «Попробуйте побриться бесплатно» — высмеивали снобизм любителей искусства и предрассудки американцев. Позднее появились более серьёзные материалы о войне, о ветеранах, которые никому не нужны у себя дома, о гангстерах и глупых чиновниках[1].
В эти же годы у писателя разгорелся конфликт с матерью, которая не желала видеть в Эрнесте взрослого человека. Результатом нескольких ссор и стычек стало то, что Хемингуэй забрал все свои вещи из Оук-Парка и переехал в Чикаго. В этом городе он продолжил сотрудничать с «Toronto Star», параллельно занимаясь редакторской работой в журнале «Cooperative Commonwealth». 3 сентября 1921 года Эрнест женился на молодой пианистке Хэдли Ричардсон и вместе с ней отправился в Париж (Франция), в город, о котором он уже давно мечтал.
1920-е годы
Париж
 В Париже молодая чета Хемингуэев поселилась в небольшой квартирке на улице Кардинала Лемуана около площади Контрэскарп. В книге «Праздник, который всегда с тобой» Эрнест писал:
В Париже молодая чета Хемингуэев поселилась в небольшой квартирке на улице Кардинала Лемуана около площади Контрэскарп. В книге «Праздник, который всегда с тобой» Эрнест писал:
Здесь не было горячей воды и канализации. Зато из окна открывался хороший вид. На полу лежал хороший пружинный матрац, служивший нам удобной постелью. На стене висели картины, которые нам нравились. Квартира казалась светлой и уютной.
Хемингуэю предстояло много работать, чтобы иметь средства к существованию и позволять себе путешествия по миру в летние месяцы. И он начал еженедельно отправлять в «Toronto Star» свои рассказы. Редакция ждала от писателя зарисовок европейской жизни, деталей быта и нравов. Это давало Эрнесту возможность самому выбирать темы для очерков и отрабатывать на них свой стиль. Первыми работами Хемингуэя стали очерки, высмеивающие американских туристов, «золотую молодёжь» и прожигателей жизни, которые хлынули в послевоенную Европу за дешёвыми развлечениями («Вот он какой — Париж», «Американская богема в Париже» и т. п.)[1][4].
В 1923 году Эрнест познакомился с Сильвией Бич, хозяйкой книжной лавки «Шекспир и компания». Между ними завязались тёплые дружеские отношения. Хемингуэй часто проводил время в заведении Сильвии, брал напрокат книги, знакомился с парижской богемой, писателями и художниками, которые также являлись завсегдатаями лавки. Одним из самых интересных и значительных для молодого Эрнеста стало знакомство с Гертрудой Стайн. Она стала для Хемингуэя старшим и более опытным товарищем, с ней он советовался о том, что писал, часто беседовал о литературе. Гертруда пренебрежительно относилась к работе в газете и постоянно убеждала, что главное предназначение Эрнеста — быть писателем. С большим интересом Хемингуэй присматривался к Джеймсу Джойсу, частому гостю лавки Сильвии Бич. А когда роман Джойса «Улисс» был запрещён цензурой в США и Англии, он через своих друзей в Чикаго смог наладить нелегальную перевозку и распространение книг[5].
Генуя — Константинополь — Германия
Литературное признание
Первый настоящий писательский успех пришёл к Эрнесту Хемингуэю в 1926 году после выхода в свет «И восходит солнце» — пессимистичного, но в то же время блистательного романа о «потерянном поколении» молодых людей, живших во Франции и Испании 1920-х годов.

В 1927 году у Эрнеста Хемингуэя вышел сборник рассказов «Мужчины без женщин», а в 1933 — «Победитель не получает ничего». Они окончательно утвердили Хемингуэя в глазах читателей как уникального автора коротких рассказов[4]. Среди них стали особенно известными «Убийцы», «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера» и «Снега Килиманджаро».
И всё же большинству Хемингуэй стал памятен своим романом «Прощай, оружие!» (1929) — историей любви американского добровольца и английской медсестры, развивавшейся на фоне сражений Первой мировой войны. Книга имела в Америке небывалый успех — продажам не помешал даже экономический кризис.
1930-е годы
Флорида
В начале 1930 года Хемингуэй вернулся в США и поселился в городке Ки-Уэст, Флорида. Здесь он увлёкся рыболовством, путешествовал на своей яхте к Багамским островам, Кубе и писал новые рассказы. По мнению биографов[1][6], именно в это время к нему пришла слава большого писателя. Всё, отмеченное его авторством, достаточно быстро публиковалось и расходилось многочисленными тиражами. В доме, где он провёл несколько лучших лет жизни, создан музей писателя.
Осенью 1930 года Эрнест попал в серьёзную автокатастрофу, результатом которой стали переломы, травма головы и почти полугодичный период восстановления от травм. Писатель на время отказался от карандашей, которыми обычно работал, и начал печатать на машинке. В 1932 году он взялся за роман «Смерть после полудня», где с большой точностью описал корриду, представив её как ритуал и испытание мужества. Книга снова стала бестселлером, подтвердив статус Хемингуэя как американского писателя «номер один».
В 1933 году Хемингуэй взялся за сборник рассказов «Победитель не получает ничего», доходы от которого он планировал потратить на исполнение своей давней мечты — длительное сафари в Восточной Африке. Книга вновь удалась, и уже в конце того же года писатель отправился в путешествие.
Африка
Хемингуэй прибыл в район озера Танганьика, где нанял обслугу и проводников из числа представителей местных племён, разбил лагерь и начал выезжать на охоту. В январе 1934 года Эрнест, вернувшись из очередного сафари, заболел амёбной дизентерией. С каждым днём состояние писателя ухудшалось, он бредил, а организм был сильно обезвожен. Из Дар-эс-Салама за писателем был прислан специальный самолёт, который отвёз его в столицу территории. Здесь, в английском госпитале, он провёл неделю, пройдя курс активной терапии, после чего пошёл на поправку[1].
Тем не менее этот сезон охоты закончился для Хемингуэя удачно: он подстрелил трёх львов, среди его трофеев также оказались двадцать семь антилоп, крупный буйвол и другие африканские животные. Впечатления писателя от Танганьики зафиксированы в книге «Лев мисс Мэри», которую Хемингуэй посвятил своей жене и её долгой охоте на льва, а также в произведении «Зелёные холмы Африки» (1935). Произведения по сути являлись дневником Эрнеста как охотника и путешественника.
Гражданская война в Испании
В начале 1937 года писатель закончил очередную книгу — «Иметь и не иметь». В повести была дана авторская оценка событий эпохи Великой депрессии в США. Хемингуэй взглянул на проблему глазами человека, жителя Флориды, который, спасаясь от нужды, становится контрабандистом. Здесь впервые за много лет в творчестве писателя появилась социальная тема, во многом вызванная тревожной ситуацией в Испании. Там началась Гражданская война, которая очень сильно взволновала Эрнеста Хемингуэя. Он принял сторону республиканцев, боровшихся с генералом Франко, и организовал сбор пожертвований в их пользу. Собрав деньги, Эрнест обратился в Североамериканскую газетную ассоциацию с просьбой направить его в Мадрид для освещения хода боевых действий. В скором времени была собрана съёмочная группа во главе с кинорежиссёром Йорисом Ивенсом, которая намеревалась снять документальный фильм «Земля Испании». Сценаристом картины выступил Хемингуэй[1].
В самые тяжёлые дни войны Эрнест находился в осаждённом франкистами Мадриде, в отеле «Флорида», который на время стал Штабом интернационалистов и клубом корреспондентов. Во время бомбёжек и артобстрелов была написана единственная пьеса — «Пятая колонна» (1937) — о работе контрразведки. Здесь же он познакомился с американской журналисткой Мартой Геллхорн, которая по возвращении домой стала его третьей супругой. Из Мадрида писатель на некоторое время выезжал в Каталонию, так как бои под Барселоной отличались особой жестокостью. Здесь в одном из окопов Эрнест познакомился с французским писателем и лётчиком Антуаном де Сент-Экзюпери и командиром интернациональной бригады Гансом Кале.
 Впечатления от войны нашли отражение в одном из самых известных романов Хемингуэя — «По ком звонит колокол» (1940). В нём сочетаются яркость картин крушения республики, осмысление уроков истории, приведшей к такому финалу, и вера в то, что личность выстоит даже в трагические времена.
Впечатления от войны нашли отражение в одном из самых известных романов Хемингуэя — «По ком звонит колокол» (1940). В нём сочетаются яркость картин крушения республики, осмысление уроков истории, приведшей к такому финалу, и вера в то, что личность выстоит даже в трагические времена.
Вторая мировая война
В 1941 году Хемингуэй отправился в Балтимор, где на местной судоверфи купил большой морской катер, дав ему название «Пилар». Он перегнал судно на Кубу и занимался там морской рыбалкой до 7 декабря 1941 года, когда Япония напала на базу Пёрл-Харбор, и Тихий океан превратился в зону ведения активных боевых действий.
В 1941—1943 годах Эрнест Хемингуэй организовал контрразведку против нацистских шпионов на Кубе и охотился на своём катере за немецкими подводными лодками в Карибском море. После этого он возобновил свою журналистскую деятельность, переехав в Лондон в качестве корреспондента[7].
В 1944 году Хемингуэй участвовал в боевых полётах бомбардировщиков над Германией и оккупированной Францией. Во время высадки союзников в Нормандии добился разрешения участвовать в боевых и разведывательных действиях. Эрнест встал во главе отряда французских партизан численностью около 200 человек и участвовал в боях за Париж, Бельгию, Эльзас, в прорыве «линии Зигфрида».
Куба
В 1949 году писатель переехал на Кубу, где возобновил литературную деятельность. Ещё в 1940 году он приобрёл в пригороде Гаваны дом в поместье Финка Вихия (исп. Finca Vigía). Там была написана повесть «Старик и море» (1952). Книга говорит о героическом и обречённом противостоянии силам природы, о человеке, который одинок в мире, где ему остаётся рассчитывать только на собственное упорство, сталкиваясь с извечной несправедливостью судьбы. Аллегорическое повествование о старом рыбаке, сражающемся с акулами, которые растерзали пойманную им огромную рыбу, отмечено чертами, наиболее характерными для Хемингуэя как художника: неприязнью к интеллектуальной изысканности, приверженностью ситуациям, в которых наглядно проявляются нравственные ценности, скупым психологическим рисунком[8].
В 1953 году Эрнест Хемингуэй получил Пулитцеровскую премию за повесть «Старик и море». Это произведение повлияло также на присуждение Хемингуэю Нобелевской премии по литературе в 1954 году. В 1956 году Хемингуэй начал работу над автобиографической книгой о Париже 1920-х годов — «Праздник, который всегда с тобой», которая вышла только после смерти писателя.
Он продолжал путешествовать и в 1953 году в Африке попал в серьёзную авиакатастрофу.
Последние годы жизни
В 1960 году Хемингуэй покинул остров Куба и возвратился в США, в городок Кетчум (штат Айдахо).
Хемингуэй страдал от ряда серьёзных заболеваний, в том числе от гипертонии и диабета, однако для «лечения» его поместили в психиатрическую клинику Майо в г. Рочестер (США). Он погрузился в глубокую депрессию по поводу слежки. Ему казалось, что за ним всюду следуют агенты ФБР и что повсюду расставлены жучки, телефоны прослушиваются, почта прочитывается, банковский счёт постоянно проверяется. Он мог принять случайных прохожих за агентов. (в начале 1980-х годов, когда архивное дело Э. Хемингуэя в ФБР было рассекречено, факт слежки за писателем подтвердился — за последние пять лет жизни писателя в дело были добавлены два новых донесения; 2 июля 2011 года в рубрике «Мнения» газеты Нью-Йорк Таймс друг и биограф писателя А.Хотчнер высказал версию, что ФБР действительно активно следило за Хемингуэем[9]).
Хемингуэя пытались лечить по законам психиатрии. В качестве лечения применялась электросудорожная терапия. После 13 сеансов электрошока писатель потерял память и возможность творить[10][11]. Вот что сказал сам Хемингуэй:
Эти врачи, что делали мне электрошок, писателей не понимают… Пусть бы все психиатры поучились писать художественные произведения, чтобы понять, что значит быть писателем… какой был смысл в том, чтобы разрушать мой мозг и стирать мою память, которая представляет собой мой капитал, и выбрасывать меня на обочину жизни?
Во время лечения он звонил своему другу с телефона в коридоре клиники, чтобы сообщить, что жучки расставлены и в клинике. Попытки лечить его аналогичным образом были повторены и позже. Однако это не давало никаких результатов. Он не мог работать, пребывал в депрессии, страдал от паранойи и всё чаще поговаривал о самоубийстве. Были и попытки (например, неожиданный рывок в сторону пропеллера самолёта и т. п.), от которых удавалось его уберечь.
2 июля 1961 года в своём доме в Кетчуме, через несколько дней после выписки из клиники Майо, Хемингуэй застрелился из любимого ружья, не оставив предсмертной записки.
Семья
- 1. Первая жена — Элизабет Хедли Ричардсон (1891—1979).
- 2. Вторая жена — Паулина Пфайфер (1895—1951).
- 3. Третья жена — Марта Геллхорн (1908—1998).
- 4. Четвёртая жена — Мэри Уэлш (1908—1986).
Библиография
|
|
Экранизации
- Дело Макомбера (США, 1947 год)
- И восходит солнце (фильм) (США, 1957 год)
- Иметь и не иметь (фильм) (США, 1944 год)
- По ком звонит колокол (фильм) (США, 1943 год)
- Прощай, оружие! (фильм) (США, 1932 год)
- Прощай, оружие! (фильм) (США, 1957 год)
- Снега Килиманджаро (фильм) (США, 1952 год)
- Старик и море (фильм) (США, 1958 год)
- Старик и море (мультфильм) (Канада-Россия-Япония, 1999 год)
- Старик и море (фильм) (Россия, 2006 год) — продолжительность спектакля БДТ 01:32:28
- Убийцы (фильм) (США, 1946 год)
- Убийцы (фильм) (СССР, 1956 год, короткометражка: 19 минут)
- Убийцы (фильм) (США, 1964 год)
- Фиеста (фильм-спектакль) (СССР, 1971)
- В любви и войне по мотивам романа «Прощай, оружие!» (США, 1996 год)
Влияние и посвящения
В 1989 году Генри С. Виллард (англ. Henry S. Villard) и Джеймс Нагель (англ. James Nagel) опубликовали документальный роман «Хемингуэй в любви и войне: утраченный дневник Агнес фон Куровски» (англ. Hemingway in Love and War: The Lost Diary of Agnes von Kurowsky). Книга основана на письмах Агнес, а также корреспонденции самого Эрнеста, и рассказывает об их романтических отношениях во время Первой Мировой войны[13]. Медсестра Американского Красного Креста Агнес фон Куровски послужила прототипом Кэтрин Баркли — героини во многом автобиографичного романа Хемингуэя «Прощай, оружие!». В 1996 году по книге Вилларда и Нагеля Ричард Аттенборо снял фильм «В любви и войне», в котором молодого Хемингуэя сыграл Крис О’Доннелл.
В 1996 году российский журналист и писатель Игорь Михайлов снял документальный фильм «Париж Хемингуэя», рассказав о любимых местах писателя в Париже.
В 2011 году снят документальный фильм из цикла «Больше, чем любовь» (телеканал Культура и ООО «Студия „Фишка-фильм“», Россия, Москва): Эрнест Хемингуэй и Мэри Уэлш. «Старик и Мэри: Последняя ночь Эрнеста Хемингуэя» (режиссёр — Ирина Евтеева)[14].
В 2014 году Игорь Михайлов опубликовал в издательстве «Художественная литература» документальный роман «Роман с жизнью Эрнеста Хемингуэя».
Кубинский писатель Леонардо Падура поднимает тему жизни Хемингуэя на острове в художественном романе «Прощай, Хемингуэй!».
Как литературный персонаж в беллетристике Эрнест Хемингуэй выступает в ряде художественных романов американского журналиста и писателя Крэйга Макдональда[15].
В 1960-е годы в Сасово Рязанской области кубинскими курсантами лётного училища был установлен памятник Эрнесту Хемингуэю[16].
Жизни писателя посвящён ряд кинематографических работ. В 1996 году вышел фильм режиссёра Ричарда Аттенборо «В любви и войне», основанный на реальных событиях, описанных писателем в романе «Прощай, оружие!». Фильм режиссёра Филипа Кауфмана «Хемингуэй и Геллхорн» (2012), главные роли в котором сыграли Николь Кидман и Клайв Оуэн, повествует об отношениях Эрнеста Хемингуэя и его третьей жены Марты Геллхорн, вдохновившей его на написание самого романа «По ком звонит колокол». Образ писателя неоднократно использовался в художественном кино — как эпизодический персонаж, Хемингуэй появляется в фильме «Полночь в Париже» Вуди Аллена, «Модернисты» Алана Рудольфа, «Гений» Майкла Грандаджа, в нескольких эпизодах телевизионного сериала «Хроники молодого Индианы Джонса».
Напишите отзыв о статье "Хемингуэй, Эрнест"
Примечания
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Н. Я. Надеждин. Эрнест Хемингуэй: «Жизнь настоящего мужчины» / А. И. Осипенко. — М.: Майор, 2008. — 192 с. — (Неформальные биографии). — 2000 экз. — ISBN 978-5-98551-048-5.
- ↑ 1 2 3 Б. Т. Грибанов. Эрнест Хемингуэй. — М.: Феникс, 1984. — 544 с. — (Мужчина — миф). — 5000 экз. — ISBN 5-222-00224-1.
- ↑ L. Wagner-Martin. A Historical Guide to Ernest Hemingway. — New York: Oxford University Press, 2000. — ISBN 0-19-512151-1.
- ↑ 1 2 3 J. Meyers. Hemingway: A Biography. — London: Macmillan, 1985.
- ↑ 1 2 А. М. Паскуаль. Эрнест Хемингуэй / А. Беркова. — М.: АСТ, 2006. — 188 с. — (Биография и творчество). — 4000 экз. — ISBN 5-17-034527-5.
- ↑ J. R. Mellow. Hemingway: A Life Without Consequences. — New York: Houghton Mifflin, 1992. — ISBN 0-395-37777-3.
- ↑ Ю. Прапоров. Хемингуэй на Кубе. — М.: Советский писатель, 1982. — 576 с. — 100 000 экз.
- ↑ Н. Фуэнтес. Хемингуэй на Кубе. — М.: Радуга, 1988. — 448 с. — 50 000 экз. — ISBN 5-05-002190-1.
- ↑ The New York Times. [www.nytimes.com/2011/07/02/opinion/02hotchner.html?_r=1 Hemingway, Hounded by the Feds]. Проверено 1 июля 2011. [www.webcitation.org/65BbBOqKR Архивировано из первоисточника 4 февраля 2012].
- ↑ Семёненко П. [www.bodysekret.ru/health/new_health/hemingway.html Последний выстрел Хемингуэя]. Проверено 20 января 2010. [www.webcitation.org/61A3DMKmJ Архивировано из первоисточника 24 августа 2011].
- ↑ Эрнест Миллер Хемингуэй // [n-t.ru/nl/lt/hemingway.htm Лауреаты Нобелевской премии: Энциклопедия] / Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1992.
- ↑ [abook-club.ru/index.php/t25883.html Хемингуэя напечатают без купюр]
- ↑ Villard, Henry Serrano & Nagel, James. Hemingway in Love and War: The Lost Diary of Agnes von Kurowsky: Her letters, and Correspondence of Ernest Hemingway. ISBN 1-55553-057-5 H/B, ISBN 0-340-68898-X P/B.
- ↑ [www.tvkultura.ru/issue.html?id=116005 Больше, чем любовь. Эрнест Хемингуэй и Мэри Уэлш]. Телеканал «Культура» (07.12.2011). [www.webcitation.org/68cwOMFk0 Архивировано из первоисточника 23 июня 2012].
- ↑ McFarland, Ron. Appropriating Hemingway: Using him as a Fictional Character. United States: McFarland &Company Inc., 2014
- ↑ Крестьянинов, Иван. [voenternet.ru/soldat-ivan/2013/03/12/хемингуэй-кубинские-курсанты-и-райце/ Хемингуэй, кубинские курсанты и райцентр Сасово], Воентернет. Проверено 23 июня 2015.
Ссылки
| |
Хемингуэй, Эрнест Миллер в Викицитатнике? |
|---|
- [www.cubaweb.ru/ernest-heminguej-i-kuba/ Эрнест Хемингуэй и Куба]
- [www.peeep.us/b823c13e Париж Хемингуэя и не только…]
- Марианна Шатерникова. [www.chayka.org/oarticle.php?id=460 Те, кто его любил. Женщины Хемингуэя] // Чайка : журнал. — 15 марта 2002. — № 6(22).
- [univertv.ru/video/filologiya/literaturovedenie/zarubezhnaya_literatura/ernest_heminguej/ Эрнест Хемингуэй] — лауреат Нобелевской премии по литературе (1954)
- Писатель Эрнест Хемингуэй был завербован КГБ, но неудачно
- [www.jzl-life.ru/book/heminguej-5595590.html Эрнест Хемингуэй в серии ЖЗЛ]
- Балонова М. Г. [www.disser.h10.ru/balonovaMG.html Проблема героя в позднем творчестве Э. Хемингуэя (40—50-е гг.)]. Кандидатская диссертация. Нижний Новгород, 2002
- A. E. Hotchner. [www.nytimes.com/2011/07/02/opinion/02hotchner.html Hemingway, Hounded by the Feds]. The New York Times (1 июля 2011). [www.webcitation.org/61A3EYQm1 Архивировано из первоисточника 24 августа 2011].
- [getparalleltranslations.com/browse/%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%8D%D0%B9/32 Англо-русский параллельный перевод книг Эрнеста Хемингуэя]
- [vault.fbi.gov/ernest-miller-hemingway/ernest-hemingway-part-01-of-01/view FBI Records: The Vault, Subject: Ernest Hemingway]
- [www.topcrop.ru/persons/kak-nauchitsja-pisat-sovety-hemingujeja.html Эрнест Хемингуэй об искусстве писать в интервью Арнолду Сэмюэлсону]
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||
Отрывок, характеризующий Хемингуэй, Эрнест
– Не трогай, ты его испугаешь, он убьется. А?… Что тогда?… А?…Долохов обернулся, поправляясь и опять расперевшись руками.
– Ежели кто ко мне еще будет соваться, – сказал он, редко пропуская слова сквозь стиснутые и тонкие губы, – я того сейчас спущу вот сюда. Ну!…
Сказав «ну»!, он повернулся опять, отпустил руки, взял бутылку и поднес ко рту, закинул назад голову и вскинул кверху свободную руку для перевеса. Один из лакеев, начавший подбирать стекла, остановился в согнутом положении, не спуская глаз с окна и спины Долохова. Анатоль стоял прямо, разинув глаза. Англичанин, выпятив вперед губы, смотрел сбоку. Тот, который останавливал, убежал в угол комнаты и лег на диван лицом к стене. Пьер закрыл лицо, и слабая улыбка, забывшись, осталась на его лице, хоть оно теперь выражало ужас и страх. Все молчали. Пьер отнял от глаз руки: Долохов сидел всё в том же положении, только голова загнулась назад, так что курчавые волосы затылка прикасались к воротнику рубахи, и рука с бутылкой поднималась всё выше и выше, содрогаясь и делая усилие. Бутылка видимо опорожнялась и с тем вместе поднималась, загибая голову. «Что же это так долго?» подумал Пьер. Ему казалось, что прошло больше получаса. Вдруг Долохов сделал движение назад спиной, и рука его нервически задрожала; этого содрогания было достаточно, чтобы сдвинуть всё тело, сидевшее на покатом откосе. Он сдвинулся весь, и еще сильнее задрожали, делая усилие, рука и голова его. Одна рука поднялась, чтобы схватиться за подоконник, но опять опустилась. Пьер опять закрыл глаза и сказал себе, что никогда уж не откроет их. Вдруг он почувствовал, что всё вокруг зашевелилось. Он взглянул: Долохов стоял на подоконнике, лицо его было бледно и весело.
– Пуста!
Он кинул бутылку англичанину, который ловко поймал ее. Долохов спрыгнул с окна. От него сильно пахло ромом.
– Отлично! Молодцом! Вот так пари! Чорт вас возьми совсем! – кричали с разных сторон.
Англичанин, достав кошелек, отсчитывал деньги. Долохов хмурился и молчал. Пьер вскочил на окно.
Господа! Кто хочет со мною пари? Я то же сделаю, – вдруг крикнул он. – И пари не нужно, вот что. Вели дать бутылку. Я сделаю… вели дать.
– Пускай, пускай! – сказал Долохов, улыбаясь.
– Что ты? с ума сошел? Кто тебя пустит? У тебя и на лестнице голова кружится, – заговорили с разных сторон.
– Я выпью, давай бутылку рому! – закричал Пьер, решительным и пьяным жестом ударяя по столу, и полез в окно.
Его схватили за руки; но он был так силен, что далеко оттолкнул того, кто приблизился к нему.
– Нет, его так не уломаешь ни за что, – говорил Анатоль, – постойте, я его обману. Послушай, я с тобой держу пари, но завтра, а теперь мы все едем к***.
– Едем, – закричал Пьер, – едем!… И Мишку с собой берем…
И он ухватил медведя, и, обняв и подняв его, стал кружиться с ним по комнате.
Князь Василий исполнил обещание, данное на вечере у Анны Павловны княгине Друбецкой, просившей его о своем единственном сыне Борисе. О нем было доложено государю, и, не в пример другим, он был переведен в гвардию Семеновского полка прапорщиком. Но адъютантом или состоящим при Кутузове Борис так и не был назначен, несмотря на все хлопоты и происки Анны Михайловны. Вскоре после вечера Анны Павловны Анна Михайловна вернулась в Москву, прямо к своим богатым родственникам Ростовым, у которых она стояла в Москве и у которых с детства воспитывался и годами живал ее обожаемый Боренька, только что произведенный в армейские и тотчас же переведенный в гвардейские прапорщики. Гвардия уже вышла из Петербурга 10 го августа, и сын, оставшийся для обмундирования в Москве, должен был догнать ее по дороге в Радзивилов.
У Ростовых были именинницы Натальи, мать и меньшая дочь. С утра, не переставая, подъезжали и отъезжали цуги, подвозившие поздравителей к большому, всей Москве известному дому графини Ростовой на Поварской. Графиня с красивой старшею дочерью и гостями, не перестававшими сменять один другого, сидели в гостиной.
Графиня была женщина с восточным типом худого лица, лет сорока пяти, видимо изнуренная детьми, которых у ней было двенадцать человек. Медлительность ее движений и говора, происходившая от слабости сил, придавала ей значительный вид, внушавший уважение. Княгиня Анна Михайловна Друбецкая, как домашний человек, сидела тут же, помогая в деле принимания и занимания разговором гостей. Молодежь была в задних комнатах, не находя нужным участвовать в приеме визитов. Граф встречал и провожал гостей, приглашая всех к обеду.
«Очень, очень вам благодарен, ma chere или mon cher [моя дорогая или мой дорогой] (ma сherе или mon cher он говорил всем без исключения, без малейших оттенков как выше, так и ниже его стоявшим людям) за себя и за дорогих именинниц. Смотрите же, приезжайте обедать. Вы меня обидите, mon cher. Душевно прошу вас от всего семейства, ma chere». Эти слова с одинаковым выражением на полном веселом и чисто выбритом лице и с одинаково крепким пожатием руки и повторяемыми короткими поклонами говорил он всем без исключения и изменения. Проводив одного гостя, граф возвращался к тому или той, которые еще были в гостиной; придвинув кресла и с видом человека, любящего и умеющего пожить, молодецки расставив ноги и положив на колена руки, он значительно покачивался, предлагал догадки о погоде, советовался о здоровье, иногда на русском, иногда на очень дурном, но самоуверенном французском языке, и снова с видом усталого, но твердого в исполнении обязанности человека шел провожать, оправляя редкие седые волосы на лысине, и опять звал обедать. Иногда, возвращаясь из передней, он заходил через цветочную и официантскую в большую мраморную залу, где накрывали стол на восемьдесят кувертов, и, глядя на официантов, носивших серебро и фарфор, расставлявших столы и развертывавших камчатные скатерти, подзывал к себе Дмитрия Васильевича, дворянина, занимавшегося всеми его делами, и говорил: «Ну, ну, Митенька, смотри, чтоб всё было хорошо. Так, так, – говорил он, с удовольствием оглядывая огромный раздвинутый стол. – Главное – сервировка. То то…» И он уходил, самодовольно вздыхая, опять в гостиную.
– Марья Львовна Карагина с дочерью! – басом доложил огромный графинин выездной лакей, входя в двери гостиной.
Графиня подумала и понюхала из золотой табакерки с портретом мужа.
– Замучили меня эти визиты, – сказала она. – Ну, уж ее последнюю приму. Чопорна очень. Проси, – сказала она лакею грустным голосом, как будто говорила: «ну, уж добивайте!»
Высокая, полная, с гордым видом дама с круглолицей улыбающейся дочкой, шумя платьями, вошли в гостиную.
«Chere comtesse, il y a si longtemps… elle a ete alitee la pauvre enfant… au bal des Razoumowsky… et la comtesse Apraksine… j'ai ete si heureuse…» [Дорогая графиня, как давно… она должна была пролежать в постеле, бедное дитя… на балу у Разумовских… и графиня Апраксина… была так счастлива…] послышались оживленные женские голоса, перебивая один другой и сливаясь с шумом платьев и передвиганием стульев. Начался тот разговор, который затевают ровно настолько, чтобы при первой паузе встать, зашуметь платьями, проговорить: «Je suis bien charmee; la sante de maman… et la comtesse Apraksine» [Я в восхищении; здоровье мамы… и графиня Апраксина] и, опять зашумев платьями, пройти в переднюю, надеть шубу или плащ и уехать. Разговор зашел о главной городской новости того времени – о болезни известного богача и красавца Екатерининского времени старого графа Безухого и о его незаконном сыне Пьере, который так неприлично вел себя на вечере у Анны Павловны Шерер.
– Я очень жалею бедного графа, – проговорила гостья, – здоровье его и так плохо, а теперь это огорченье от сына, это его убьет!
– Что такое? – спросила графиня, как будто не зная, о чем говорит гостья, хотя она раз пятнадцать уже слышала причину огорчения графа Безухого.
– Вот нынешнее воспитание! Еще за границей, – проговорила гостья, – этот молодой человек предоставлен был самому себе, и теперь в Петербурге, говорят, он такие ужасы наделал, что его с полицией выслали оттуда.
– Скажите! – сказала графиня.
– Он дурно выбирал свои знакомства, – вмешалась княгиня Анна Михайловна. – Сын князя Василия, он и один Долохов, они, говорят, Бог знает что делали. И оба пострадали. Долохов разжалован в солдаты, а сын Безухого выслан в Москву. Анатоля Курагина – того отец как то замял. Но выслали таки из Петербурга.
– Да что, бишь, они сделали? – спросила графиня.
– Это совершенные разбойники, особенно Долохов, – говорила гостья. – Он сын Марьи Ивановны Долоховой, такой почтенной дамы, и что же? Можете себе представить: они втроем достали где то медведя, посадили с собой в карету и повезли к актрисам. Прибежала полиция их унимать. Они поймали квартального и привязали его спина со спиной к медведю и пустили медведя в Мойку; медведь плавает, а квартальный на нем.
– Хороша, ma chere, фигура квартального, – закричал граф, помирая со смеху.
– Ах, ужас какой! Чему тут смеяться, граф?
Но дамы невольно смеялись и сами.
– Насилу спасли этого несчастного, – продолжала гостья. – И это сын графа Кирилла Владимировича Безухова так умно забавляется! – прибавила она. – А говорили, что так хорошо воспитан и умен. Вот всё воспитание заграничное куда довело. Надеюсь, что здесь его никто не примет, несмотря на его богатство. Мне хотели его представить. Я решительно отказалась: у меня дочери.
– Отчего вы говорите, что этот молодой человек так богат? – спросила графиня, нагибаясь от девиц, которые тотчас же сделали вид, что не слушают. – Ведь у него только незаконные дети. Кажется… и Пьер незаконный.
Гостья махнула рукой.
– У него их двадцать незаконных, я думаю.
Княгиня Анна Михайловна вмешалась в разговор, видимо, желая выказать свои связи и свое знание всех светских обстоятельств.
– Вот в чем дело, – сказала она значительно и тоже полушопотом. – Репутация графа Кирилла Владимировича известна… Детям своим он и счет потерял, но этот Пьер любимый был.
– Как старик был хорош, – сказала графиня, – еще прошлого года! Красивее мужчины я не видывала.
– Теперь очень переменился, – сказала Анна Михайловна. – Так я хотела сказать, – продолжала она, – по жене прямой наследник всего именья князь Василий, но Пьера отец очень любил, занимался его воспитанием и писал государю… так что никто не знает, ежели он умрет (он так плох, что этого ждут каждую минуту, и Lorrain приехал из Петербурга), кому достанется это огромное состояние, Пьеру или князю Василию. Сорок тысяч душ и миллионы. Я это очень хорошо знаю, потому что мне сам князь Василий это говорил. Да и Кирилл Владимирович мне приходится троюродным дядей по матери. Он и крестил Борю, – прибавила она, как будто не приписывая этому обстоятельству никакого значения.
– Князь Василий приехал в Москву вчера. Он едет на ревизию, мне говорили, – сказала гостья.
– Да, но, entre nous, [между нами,] – сказала княгиня, – это предлог, он приехал собственно к графу Кирилле Владимировичу, узнав, что он так плох.
– Однако, ma chere, это славная штука, – сказал граф и, заметив, что старшая гостья его не слушала, обратился уже к барышням. – Хороша фигура была у квартального, я воображаю.
И он, представив, как махал руками квартальный, опять захохотал звучным и басистым смехом, колебавшим всё его полное тело, как смеются люди, всегда хорошо евшие и особенно пившие. – Так, пожалуйста же, обедать к нам, – сказал он.
Наступило молчание. Графиня глядела на гостью, приятно улыбаясь, впрочем, не скрывая того, что не огорчится теперь нисколько, если гостья поднимется и уедет. Дочь гостьи уже оправляла платье, вопросительно глядя на мать, как вдруг из соседней комнаты послышался бег к двери нескольких мужских и женских ног, грохот зацепленного и поваленного стула, и в комнату вбежала тринадцатилетняя девочка, запахнув что то короткою кисейною юбкою, и остановилась по средине комнаты. Очевидно было, она нечаянно, с нерассчитанного бега, заскочила так далеко. В дверях в ту же минуту показались студент с малиновым воротником, гвардейский офицер, пятнадцатилетняя девочка и толстый румяный мальчик в детской курточке.
Граф вскочил и, раскачиваясь, широко расставил руки вокруг бежавшей девочки.
– А, вот она! – смеясь закричал он. – Именинница! Ma chere, именинница!
– Ma chere, il y a un temps pour tout, [Милая, на все есть время,] – сказала графиня, притворяясь строгою. – Ты ее все балуешь, Elie, – прибавила она мужу.
– Bonjour, ma chere, je vous felicite, [Здравствуйте, моя милая, поздравляю вас,] – сказала гостья. – Quelle delicuse enfant! [Какое прелестное дитя!] – прибавила она, обращаясь к матери.
Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими детскими открытыми плечиками, которые, сжимаясь, двигались в своем корсаже от быстрого бега, с своими сбившимися назад черными кудрями, тоненькими оголенными руками и маленькими ножками в кружевных панталончиках и открытых башмачках, была в том милом возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка. Вывернувшись от отца, она подбежала к матери и, не обращая никакого внимания на ее строгое замечание, спрятала свое раскрасневшееся лицо в кружевах материной мантильи и засмеялась. Она смеялась чему то, толкуя отрывисто про куклу, которую вынула из под юбочки.
– Видите?… Кукла… Мими… Видите.
И Наташа не могла больше говорить (ей всё смешно казалось). Она упала на мать и расхохоталась так громко и звонко, что все, даже чопорная гостья, против воли засмеялись.
– Ну, поди, поди с своим уродом! – сказала мать, притворно сердито отталкивая дочь. – Это моя меньшая, – обратилась она к гостье.
Наташа, оторвав на минуту лицо от кружевной косынки матери, взглянула на нее снизу сквозь слезы смеха и опять спрятала лицо.
Гостья, принужденная любоваться семейною сценой, сочла нужным принять в ней какое нибудь участие.
– Скажите, моя милая, – сказала она, обращаясь к Наташе, – как же вам приходится эта Мими? Дочь, верно?
Наташе не понравился тон снисхождения до детского разговора, с которым гостья обратилась к ней. Она ничего не ответила и серьезно посмотрела на гостью.
Между тем всё это молодое поколение: Борис – офицер, сын княгини Анны Михайловны, Николай – студент, старший сын графа, Соня – пятнадцатилетняя племянница графа, и маленький Петруша – меньшой сын, все разместились в гостиной и, видимо, старались удержать в границах приличия оживление и веселость, которыми еще дышала каждая их черта. Видно было, что там, в задних комнатах, откуда они все так стремительно прибежали, у них были разговоры веселее, чем здесь о городских сплетнях, погоде и comtesse Apraksine. [о графине Апраксиной.] Изредка они взглядывали друг на друга и едва удерживались от смеха.
Два молодые человека, студент и офицер, друзья с детства, были одних лет и оба красивы, но не похожи друг на друга. Борис был высокий белокурый юноша с правильными тонкими чертами спокойного и красивого лица; Николай был невысокий курчавый молодой человек с открытым выражением лица. На верхней губе его уже показывались черные волосики, и во всем лице выражались стремительность и восторженность.
Николай покраснел, как только вошел в гостиную. Видно было, что он искал и не находил, что сказать; Борис, напротив, тотчас же нашелся и рассказал спокойно, шутливо, как эту Мими куклу он знал еще молодою девицей с неиспорченным еще носом, как она в пять лет на его памяти состарелась и как у ней по всему черепу треснула голова. Сказав это, он взглянул на Наташу. Наташа отвернулась от него, взглянула на младшего брата, который, зажмурившись, трясся от беззвучного смеха, и, не в силах более удерживаться, прыгнула и побежала из комнаты так скоро, как только могли нести ее быстрые ножки. Борис не рассмеялся.
– Вы, кажется, тоже хотели ехать, maman? Карета нужна? – .сказал он, с улыбкой обращаясь к матери.
– Да, поди, поди, вели приготовить, – сказала она, уливаясь.
Борис вышел тихо в двери и пошел за Наташей, толстый мальчик сердито побежал за ними, как будто досадуя на расстройство, происшедшее в его занятиях.
Из молодежи, не считая старшей дочери графини (которая была четырьмя годами старше сестры и держала себя уже, как большая) и гостьи барышни, в гостиной остались Николай и Соня племянница. Соня была тоненькая, миниатюрненькая брюнетка с мягким, отененным длинными ресницами взглядом, густой черною косой, два раза обвившею ее голову, и желтоватым оттенком кожи на лице и в особенности на обнаженных худощавых, но грациозных мускулистых руках и шее. Плавностью движений, мягкостью и гибкостью маленьких членов и несколько хитрою и сдержанною манерой она напоминала красивого, но еще не сформировавшегося котенка, который будет прелестною кошечкой. Она, видимо, считала приличным выказывать улыбкой участие к общему разговору; но против воли ее глаза из под длинных густых ресниц смотрели на уезжавшего в армию cousin [двоюродного брата] с таким девическим страстным обожанием, что улыбка ее не могла ни на мгновение обмануть никого, и видно было, что кошечка присела только для того, чтоб еще энергичнее прыгнуть и заиграть с своим соusin, как скоро только они так же, как Борис с Наташей, выберутся из этой гостиной.
– Да, ma chere, – сказал старый граф, обращаясь к гостье и указывая на своего Николая. – Вот его друг Борис произведен в офицеры, и он из дружбы не хочет отставать от него; бросает и университет и меня старика: идет в военную службу, ma chere. А уж ему место в архиве было готово, и всё. Вот дружба то? – сказал граф вопросительно.
– Да ведь война, говорят, объявлена, – сказала гостья.
– Давно говорят, – сказал граф. – Опять поговорят, поговорят, да так и оставят. Ma chere, вот дружба то! – повторил он. – Он идет в гусары.
Гостья, не зная, что сказать, покачала головой.
– Совсем не из дружбы, – отвечал Николай, вспыхнув и отговариваясь как будто от постыдного на него наклепа. – Совсем не дружба, а просто чувствую призвание к военной службе.
Он оглянулся на кузину и на гостью барышню: обе смотрели на него с улыбкой одобрения.
– Нынче обедает у нас Шуберт, полковник Павлоградского гусарского полка. Он был в отпуску здесь и берет его с собой. Что делать? – сказал граф, пожимая плечами и говоря шуточно о деле, которое, видимо, стоило ему много горя.
– Я уж вам говорил, папенька, – сказал сын, – что ежели вам не хочется меня отпустить, я останусь. Но я знаю, что я никуда не гожусь, кроме как в военную службу; я не дипломат, не чиновник, не умею скрывать того, что чувствую, – говорил он, всё поглядывая с кокетством красивой молодости на Соню и гостью барышню.
Кошечка, впиваясь в него глазами, казалась каждую секунду готовою заиграть и выказать всю свою кошачью натуру.
– Ну, ну, хорошо! – сказал старый граф, – всё горячится. Всё Бонапарте всем голову вскружил; все думают, как это он из поручиков попал в императоры. Что ж, дай Бог, – прибавил он, не замечая насмешливой улыбки гостьи.
Большие заговорили о Бонапарте. Жюли, дочь Карагиной, обратилась к молодому Ростову:
– Как жаль, что вас не было в четверг у Архаровых. Мне скучно было без вас, – сказала она, нежно улыбаясь ему.
Польщенный молодой человек с кокетливой улыбкой молодости ближе пересел к ней и вступил с улыбающейся Жюли в отдельный разговор, совсем не замечая того, что эта его невольная улыбка ножом ревности резала сердце красневшей и притворно улыбавшейся Сони. – В середине разговора он оглянулся на нее. Соня страстно озлобленно взглянула на него и, едва удерживая на глазах слезы, а на губах притворную улыбку, встала и вышла из комнаты. Всё оживление Николая исчезло. Он выждал первый перерыв разговора и с расстроенным лицом вышел из комнаты отыскивать Соню.
– Как секреты то этой всей молодежи шиты белыми нитками! – сказала Анна Михайловна, указывая на выходящего Николая. – Cousinage dangereux voisinage, [Бедовое дело – двоюродные братцы и сестрицы,] – прибавила она.
– Да, – сказала графиня, после того как луч солнца, проникнувший в гостиную вместе с этим молодым поколением, исчез, и как будто отвечая на вопрос, которого никто ей не делал, но который постоянно занимал ее. – Сколько страданий, сколько беспокойств перенесено за то, чтобы теперь на них радоваться! А и теперь, право, больше страха, чем радости. Всё боишься, всё боишься! Именно тот возраст, в котором так много опасностей и для девочек и для мальчиков.
– Всё от воспитания зависит, – сказала гостья.
– Да, ваша правда, – продолжала графиня. – До сих пор я была, слава Богу, другом своих детей и пользуюсь полным их доверием, – говорила графиня, повторяя заблуждение многих родителей, полагающих, что у детей их нет тайн от них. – Я знаю, что я всегда буду первою confidente [поверенной] моих дочерей, и что Николенька, по своему пылкому характеру, ежели будет шалить (мальчику нельзя без этого), то всё не так, как эти петербургские господа.
– Да, славные, славные ребята, – подтвердил граф, всегда разрешавший запутанные для него вопросы тем, что всё находил славным. – Вот подите, захотел в гусары! Да вот что вы хотите, ma chere!
– Какое милое существо ваша меньшая, – сказала гостья. – Порох!
– Да, порох, – сказал граф. – В меня пошла! И какой голос: хоть и моя дочь, а я правду скажу, певица будет, Саломони другая. Мы взяли итальянца ее учить.
– Не рано ли? Говорят, вредно для голоса учиться в эту пору.
– О, нет, какой рано! – сказал граф. – Как же наши матери выходили в двенадцать тринадцать лет замуж?
– Уж она и теперь влюблена в Бориса! Какова? – сказала графиня, тихо улыбаясь, глядя на мать Бориса, и, видимо отвечая на мысль, всегда ее занимавшую, продолжала. – Ну, вот видите, держи я ее строго, запрещай я ей… Бог знает, что бы они делали потихоньку (графиня разумела: они целовались бы), а теперь я знаю каждое ее слово. Она сама вечером прибежит и всё мне расскажет. Может быть, я балую ее; но, право, это, кажется, лучше. Я старшую держала строго.
– Да, меня совсем иначе воспитывали, – сказала старшая, красивая графиня Вера, улыбаясь.
Но улыбка не украсила лица Веры, как это обыкновенно бывает; напротив, лицо ее стало неестественно и оттого неприятно.
Старшая, Вера, была хороша, была неглупа, училась прекрасно, была хорошо воспитана, голос у нее был приятный, то, что она сказала, было справедливо и уместно; но, странное дело, все, и гостья и графиня, оглянулись на нее, как будто удивились, зачем она это сказала, и почувствовали неловкость.
– Всегда с старшими детьми мудрят, хотят сделать что нибудь необыкновенное, – сказала гостья.
– Что греха таить, ma chere! Графинюшка мудрила с Верой, – сказал граф. – Ну, да что ж! всё таки славная вышла, – прибавил он, одобрительно подмигивая Вере.
Гостьи встали и уехали, обещаясь приехать к обеду.
– Что за манера! Уж сидели, сидели! – сказала графиня, проводя гостей.
Когда Наташа вышла из гостиной и побежала, она добежала только до цветочной. В этой комнате она остановилась, прислушиваясь к говору в гостиной и ожидая выхода Бориса. Она уже начинала приходить в нетерпение и, топнув ножкой, сбиралась было заплакать оттого, что он не сейчас шел, когда заслышались не тихие, не быстрые, приличные шаги молодого человека.
Наташа быстро бросилась между кадок цветов и спряталась.
Борис остановился посереди комнаты, оглянулся, смахнул рукой соринки с рукава мундира и подошел к зеркалу, рассматривая свое красивое лицо. Наташа, притихнув, выглядывала из своей засады, ожидая, что он будет делать. Он постоял несколько времени перед зеркалом, улыбнулся и пошел к выходной двери. Наташа хотела его окликнуть, но потом раздумала. «Пускай ищет», сказала она себе. Только что Борис вышел, как из другой двери вышла раскрасневшаяся Соня, сквозь слезы что то злобно шепчущая. Наташа удержалась от своего первого движения выбежать к ней и осталась в своей засаде, как под шапкой невидимкой, высматривая, что делалось на свете. Она испытывала особое новое наслаждение. Соня шептала что то и оглядывалась на дверь гостиной. Из двери вышел Николай.
– Соня! Что с тобой? Можно ли это? – сказал Николай, подбегая к ней.
– Ничего, ничего, оставьте меня! – Соня зарыдала.
– Нет, я знаю что.
– Ну знаете, и прекрасно, и подите к ней.
– Соооня! Одно слово! Можно ли так мучить меня и себя из за фантазии? – говорил Николай, взяв ее за руку.
Соня не вырывала у него руки и перестала плакать.
Наташа, не шевелясь и не дыша, блестящими главами смотрела из своей засады. «Что теперь будет»? думала она.
– Соня! Мне весь мир не нужен! Ты одна для меня всё, – говорил Николай. – Я докажу тебе.
– Я не люблю, когда ты так говоришь.
– Ну не буду, ну прости, Соня! – Он притянул ее к себе и поцеловал.
«Ах, как хорошо!» подумала Наташа, и когда Соня с Николаем вышли из комнаты, она пошла за ними и вызвала к себе Бориса.
– Борис, подите сюда, – сказала она с значительным и хитрым видом. – Мне нужно сказать вам одну вещь. Сюда, сюда, – сказала она и привела его в цветочную на то место между кадок, где она была спрятана. Борис, улыбаясь, шел за нею.
– Какая же это одна вещь ? – спросил он.
Она смутилась, оглянулась вокруг себя и, увидев брошенную на кадке свою куклу, взяла ее в руки.
– Поцелуйте куклу, – сказала она.
Борис внимательным, ласковым взглядом смотрел в ее оживленное лицо и ничего не отвечал.
– Не хотите? Ну, так подите сюда, – сказала она и глубже ушла в цветы и бросила куклу. – Ближе, ближе! – шептала она. Она поймала руками офицера за обшлага, и в покрасневшем лице ее видны были торжественность и страх.
– А меня хотите поцеловать? – прошептала она чуть слышно, исподлобья глядя на него, улыбаясь и чуть не плача от волненья.
Борис покраснел.
– Какая вы смешная! – проговорил он, нагибаясь к ней, еще более краснея, но ничего не предпринимая и выжидая.
Она вдруг вскочила на кадку, так что стала выше его, обняла его обеими руками, так что тонкие голые ручки согнулись выше его шеи и, откинув движением головы волосы назад, поцеловала его в самые губы.
Она проскользнула между горшками на другую сторону цветов и, опустив голову, остановилась.
– Наташа, – сказал он, – вы знаете, что я люблю вас, но…
– Вы влюблены в меня? – перебила его Наташа.
– Да, влюблен, но, пожалуйста, не будем делать того, что сейчас… Еще четыре года… Тогда я буду просить вашей руки.
Наташа подумала.
– Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать… – сказала она, считая по тоненьким пальчикам. – Хорошо! Так кончено?
И улыбка радости и успокоения осветила ее оживленное лицо.
– Кончено! – сказал Борис.
– Навсегда? – сказала девочка. – До самой смерти?
И, взяв его под руку, она с счастливым лицом тихо пошла с ним рядом в диванную.
Графиня так устала от визитов, что не велела принимать больше никого, и швейцару приказано было только звать непременно кушать всех, кто будет еще приезжать с поздравлениями. Графине хотелось с глазу на глаз поговорить с другом своего детства, княгиней Анной Михайловной, которую она не видала хорошенько с ее приезда из Петербурга. Анна Михайловна, с своим исплаканным и приятным лицом, подвинулась ближе к креслу графини.
– С тобой я буду совершенно откровенна, – сказала Анна Михайловна. – Уж мало нас осталось, старых друзей! От этого я так и дорожу твоею дружбой.
Анна Михайловна посмотрела на Веру и остановилась. Графиня пожала руку своему другу.
– Вера, – сказала графиня, обращаясь к старшей дочери, очевидно, нелюбимой. – Как у вас ни на что понятия нет? Разве ты не чувствуешь, что ты здесь лишняя? Поди к сестрам, или…
Красивая Вера презрительно улыбнулась, видимо не чувствуя ни малейшего оскорбления.
– Ежели бы вы мне сказали давно, маменька, я бы тотчас ушла, – сказала она, и пошла в свою комнату.
Но, проходя мимо диванной, она заметила, что в ней у двух окошек симметрично сидели две пары. Она остановилась и презрительно улыбнулась. Соня сидела близко подле Николая, который переписывал ей стихи, в первый раз сочиненные им. Борис с Наташей сидели у другого окна и замолчали, когда вошла Вера. Соня и Наташа с виноватыми и счастливыми лицами взглянули на Веру.
Весело и трогательно было смотреть на этих влюбленных девочек, но вид их, очевидно, не возбуждал в Вере приятного чувства.
– Сколько раз я вас просила, – сказала она, – не брать моих вещей, у вас есть своя комната.
Она взяла от Николая чернильницу.
– Сейчас, сейчас, – сказал он, мокая перо.
– Вы всё умеете делать не во время, – сказала Вера. – То прибежали в гостиную, так что всем совестно сделалось за вас.
Несмотря на то, или именно потому, что сказанное ею было совершенно справедливо, никто ей не отвечал, и все четверо только переглядывались между собой. Она медлила в комнате с чернильницей в руке.
– И какие могут быть в ваши года секреты между Наташей и Борисом и между вами, – всё одни глупости!
– Ну, что тебе за дело, Вера? – тихеньким голоском, заступнически проговорила Наташа.
Она, видимо, была ко всем еще более, чем всегда, в этот день добра и ласкова.
– Очень глупо, – сказала Вера, – мне совестно за вас. Что за секреты?…
– У каждого свои секреты. Мы тебя с Бергом не трогаем, – сказала Наташа разгорячаясь.
– Я думаю, не трогаете, – сказала Вера, – потому что в моих поступках никогда ничего не может быть дурного. А вот я маменьке скажу, как ты с Борисом обходишься.
– Наталья Ильинишна очень хорошо со мной обходится, – сказал Борис. – Я не могу жаловаться, – сказал он.
– Оставьте, Борис, вы такой дипломат (слово дипломат было в большом ходу у детей в том особом значении, какое они придавали этому слову); даже скучно, – сказала Наташа оскорбленным, дрожащим голосом. – За что она ко мне пристает? Ты этого никогда не поймешь, – сказала она, обращаясь к Вере, – потому что ты никогда никого не любила; у тебя сердца нет, ты только madame de Genlis [мадам Жанлис] (это прозвище, считавшееся очень обидным, было дано Вере Николаем), и твое первое удовольствие – делать неприятности другим. Ты кокетничай с Бергом, сколько хочешь, – проговорила она скоро.
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Оук-Парке (Иллинойс)
- Умершие в Кетчуме
- Писатели по алфавиту
- Писатели США
- Писатели XX века
- Журналисты по алфавиту
- Журналисты США
- Журналисты XX века
- Лауреаты Нобелевской премии по алфавиту
- Награждённые серебряной медалью «За воинскую доблесть»
- Эрнест Хемингуэй
- Лауреаты Нобелевской премии по литературе
- Лауреаты Пулитцеровской премии за художественную книгу
- Писатели, совершившие самоубийство
- Застрелившиеся в США
- Авторы прозы на английском языке

