Яхья бен Мухаммед Хамид-ад-Дин
| Яхья бен Мухаммед Хамид-ад-Дин
<tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Яхья бен Мухаммед Хамид-ад-Дин в 1922 году</td></tr> | |
Яхья бен Мухаммед Хамид-ад-Дин (араб. يحيى بن محمد حميد الدين ) (1867 или 18 июня 1869, Сана — 17 февраля 1948, около Саны) — государственный деятель Йемена, имам шиитской секты зейдитов с 1904 года и правитель независимого Йеменского королевства (северная часть современного Йемена) с 1918 года.
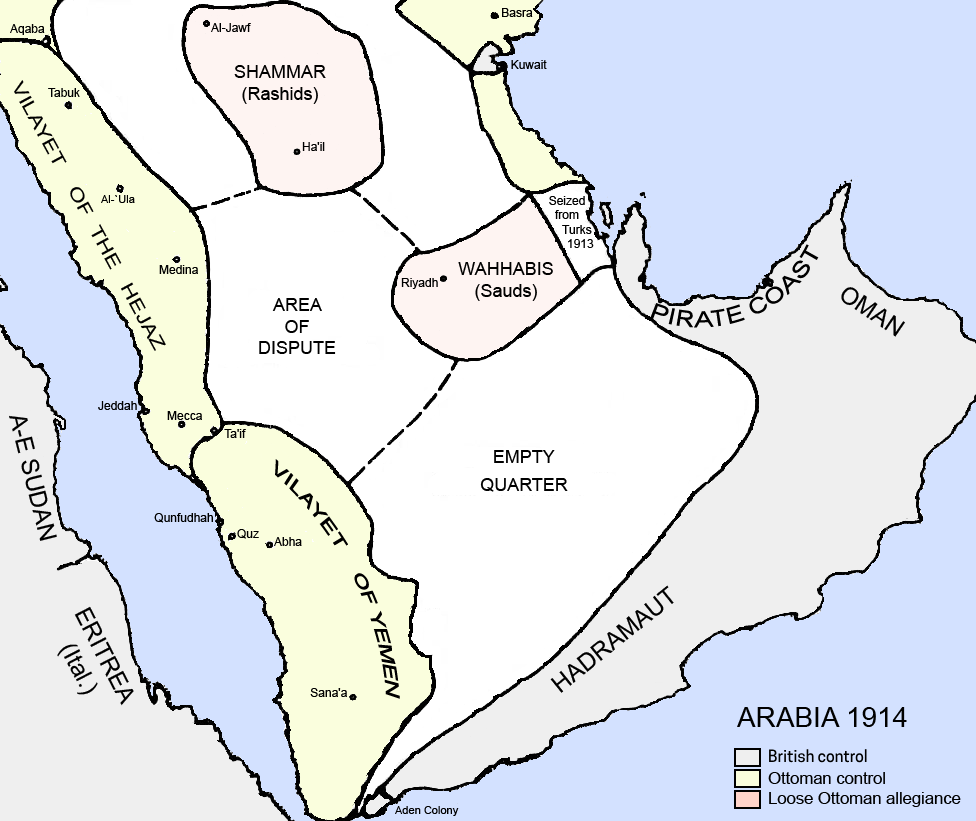
Став зейдитским имамом в 1904 году после смерти своего отца, также имама, Яхья возглавил восстание местных племён против Османской империи; 20 апреля 1905 года возглавляемые им отряды сумели захватить крупнейший город региона Сану и удерживали его в течение шести месяцев, захватив также ряд других городов. Несмотря на ряд успехов, турецкие войска так и не смогли окончательно подавить это восстание, и 27 октября 1911 года Яхья заключил договор с турецким султаном в Данне, который даровал части османского Йемена внутреннюю автономию. 22 сентября 1913 года этот договор был подтверждён специальным фирманом султана.
После поражения Османской империи в Первой мировой войне 30 октября 1918 года он провозгласил независимость страны; 14 октября он вступил со своими отрядами в Сану, а через три дня провозгласил себя королём Йемена. При этом он старался привлечь на свою сторону всех бывших османских чиновников, которые соглашались присягнуть ему на верность. В 1919 году усилиями Яхьи была создана армия королевства.
В 1919 году провозгласивший себя королём Йемена Яхья бен Мухаммед Хамид-ад-Дин окончательно разорвал вассальные отношения с Турцией.[1]
Название Йеменское Мутаваккилийское Королевство страна получила в 1920 году.
Государствово Яхьи, занимавшее в то время горный Йемен, стало центром объединительного движения йеменских племен.[1] Имам Яхья также развернул активную кампанию по укреплению йеменской государственности, объединив племена Северного Йемена и подавляя восстания сепаратистов в 1922—1923 годах, и проводил курс на международное признание Йемена.
В 1925 была освобождена Ходейда и остальная территория Тихамы.[1]
Первым международным договором стал Договор Йеменского королевства с Италией, подписанный в 1926 году в Сане.
В 1928 году Яхья также заключил Договор о дружбе и торговле с СССР.
 |

| |||||||||
Дар аль-Хаджар — летняя резиденция имама Яхья в Сане, построенная в 1930-х годах.
| ||||||||||
В 1934 году произошёл военный конфликт Йемена с Саудовской Аравией по вопросу спорных территорий; армия имама была разбита, и ему пришлось отказаться от претензий на расширение территории королевства.
В 1937 году был продлён Итало-йеменский договор.
Во внутренней политике Яхья проводил курс на укрепление собственной абсолютной власти, которая была одновременно светской и духовной; имея 14 сыновей, он предпочитал ставить их во главе различных ведомств страны для лучшего контроля над делами. Несмотря на поддержку фактически феодальных порядков и культурную изоляцию от внешнего мира, Яхья способствовал и ограниченной модернизации страны: при нём несколько йеменцев были впервые отправлены за границу на обучение, при нём же появились первые торговые компании в Йемене. Во внешней политике имам придерживался нейтралитета и антизападных настроений; в 1945 году поддержал создание Лиги арабских государств.
Яхья был застрелен наёмным убийцей 17 февраля 1948 года в результате заговора.[2] Это был заглавный эпизод переворота семьи Вазири.
Напишите отзыв о статье "Яхья бен Мухаммед Хамид-ад-Дин"
Примечания
- ↑ 1 2 3 Йемен // [dic.academic.ru/dic.nsf/sie/7130/%D0%99%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%9D Советская Историческая энциклопедия в 16 томах]. — Т. 6(Индра — Каракас). — С. 730. — 1022 с.
- ↑ Густерин П. В. Йеменская Республика и её города. М., 2006, с. 41—44.
Библиография
- Kerstin Hünefeld (2010). Imam Yahya Hamid ad-Din und die Juden in Sana’a (1904—1948). Die Dimension von Schutz (Dhimma) in den Dokumenten der Sammlung des Rabbi Salim b. Said al-Jamal. Klaus Schwarz Verlag Berlin. ISBN 978-3-87997-369-9
- Яхья бен Мухаммед Хамид-ад-дин — статья из Большой советской энциклопедии.
Отрывок, характеризующий Яхья бен Мухаммед Хамид-ад-Дин
Кутузов проснулся, тяжело откашлялся и оглянул генералов.– Господа, диспозиция на завтра, даже на нынче (потому что уже первый час), не может быть изменена, – сказал он. – Вы ее слышали, и все мы исполним наш долг. А перед сражением нет ничего важнее… (он помолчал) как выспаться хорошенько.
Он сделал вид, что привстает. Генералы откланялись и удалились. Было уже за полночь. Князь Андрей вышел.
Военный совет, на котором князю Андрею не удалось высказать свое мнение, как он надеялся, оставил в нем неясное и тревожное впечатление. Кто был прав: Долгоруков с Вейротером или Кутузов с Ланжероном и др., не одобрявшими план атаки, он не знал. «Но неужели нельзя было Кутузову прямо высказать государю свои мысли? Неужели это не может иначе делаться? Неужели из за придворных и личных соображений должно рисковать десятками тысяч и моей, моей жизнью?» думал он.
«Да, очень может быть, завтра убьют», подумал он. И вдруг, при этой мысли о смерти, целый ряд воспоминаний, самых далеких и самых задушевных, восстал в его воображении; он вспоминал последнее прощание с отцом и женою; он вспоминал первые времена своей любви к ней! Вспомнил о ее беременности, и ему стало жалко и ее и себя, и он в нервично размягченном и взволнованном состоянии вышел из избы, в которой он стоял с Несвицким, и стал ходить перед домом.
Ночь была туманная, и сквозь туман таинственно пробивался лунный свет. «Да, завтра, завтра! – думал он. – Завтра, может быть, всё будет кончено для меня, всех этих воспоминаний не будет более, все эти воспоминания не будут иметь для меня более никакого смысла. Завтра же, может быть, даже наверное, завтра, я это предчувствую, в первый раз мне придется, наконец, показать всё то, что я могу сделать». И ему представилось сражение, потеря его, сосредоточение боя на одном пункте и замешательство всех начальствующих лиц. И вот та счастливая минута, тот Тулон, которого так долго ждал он, наконец, представляется ему. Он твердо и ясно говорит свое мнение и Кутузову, и Вейротеру, и императорам. Все поражены верностью его соображения, но никто не берется исполнить его, и вот он берет полк, дивизию, выговаривает условие, чтобы уже никто не вмешивался в его распоряжения, и ведет свою дивизию к решительному пункту и один одерживает победу. А смерть и страдания? говорит другой голос. Но князь Андрей не отвечает этому голосу и продолжает свои успехи. Диспозиция следующего сражения делается им одним. Он носит звание дежурного по армии при Кутузове, но делает всё он один. Следующее сражение выиграно им одним. Кутузов сменяется, назначается он… Ну, а потом? говорит опять другой голос, а потом, ежели ты десять раз прежде этого не будешь ранен, убит или обманут; ну, а потом что ж? – «Ну, а потом, – отвечает сам себе князь Андрей, – я не знаю, что будет потом, не хочу и не могу знать: но ежели хочу этого, хочу славы, хочу быть известным людям, хочу быть любимым ими, то ведь я не виноват, что я хочу этого, что одного этого я хочу, для одного этого я живу. Да, для одного этого! Я никогда никому не скажу этого, но, Боже мой! что же мне делать, ежели я ничего не люблю, как только славу, любовь людскую. Смерть, раны, потеря семьи, ничто мне не страшно. И как ни дороги, ни милы мне многие люди – отец, сестра, жена, – самые дорогие мне люди, – но, как ни страшно и неестественно это кажется, я всех их отдам сейчас за минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей, которых я не знаю и не буду знать, за любовь вот этих людей», подумал он, прислушиваясь к говору на дворе Кутузова. На дворе Кутузова слышались голоса укладывавшихся денщиков; один голос, вероятно, кучера, дразнившего старого Кутузовского повара, которого знал князь Андрей, и которого звали Титом, говорил: «Тит, а Тит?»
– Ну, – отвечал старик.
– Тит, ступай молотить, – говорил шутник.
– Тьфу, ну те к чорту, – раздавался голос, покрываемый хохотом денщиков и слуг.
«И все таки я люблю и дорожу только торжеством над всеми ими, дорожу этой таинственной силой и славой, которая вот тут надо мной носится в этом тумане!»
Ростов в эту ночь был со взводом во фланкёрской цепи, впереди отряда Багратиона. Гусары его попарно были рассыпаны в цепи; сам он ездил верхом по этой линии цепи, стараясь преодолеть сон, непреодолимо клонивший его. Назади его видно было огромное пространство неясно горевших в тумане костров нашей армии; впереди его была туманная темнота. Сколько ни вглядывался Ростов в эту туманную даль, он ничего не видел: то серелось, то как будто чернелось что то; то мелькали как будто огоньки, там, где должен быть неприятель; то ему думалось, что это только в глазах блестит у него. Глаза его закрывались, и в воображении представлялся то государь, то Денисов, то московские воспоминания, и он опять поспешно открывал глаза и близко перед собой он видел голову и уши лошади, на которой он сидел, иногда черные фигуры гусар, когда он в шести шагах наезжал на них, а вдали всё ту же туманную темноту. «Отчего же? очень может быть, – думал Ростов, – что государь, встретив меня, даст поручение, как и всякому офицеру: скажет: „Поезжай, узнай, что там“. Много рассказывали же, как совершенно случайно он узнал так какого то офицера и приблизил к себе. Что, ежели бы он приблизил меня к себе! О, как бы я охранял его, как бы я говорил ему всю правду, как бы я изобличал его обманщиков», и Ростов, для того чтобы живо представить себе свою любовь и преданность государю, представлял себе врага или обманщика немца, которого он с наслаждением не только убивал, но по щекам бил в глазах государя. Вдруг дальний крик разбудил Ростова. Он вздрогнул и открыл глаза.

