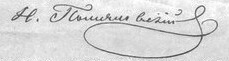Помяловский, Николай Герасимович
| Николай Помяловский | |
 | |
| Род деятельности: |
прозаик |
|---|---|
| Годы творчества: | |
| Направление: |
реализм |
| Жанр: | |
| Язык произведений: |
русский |
| Дебют: |
Рассказ «Вукол» (1859) |
| Подпись: | |
| [az.lib.ru/p/pomjalowskij_n_g/ Произведения на сайте Lib.ru] | |
Никола́й Гера́симович Помяло́вский (11 (23) апреля 1835, Санкт-Петербург — 5 (17) октября 1863, там же) — русский писатель, прозаик, автор реалистических повестей.
Содержание
Биография
Родился 11 апреля 1835 года в семье дьякона при Малоохтинской кладбищенской церкви в Петербурге. Согласно материалам Половцова,[1] отец Помяловского: «был человек добродушный, старавшийся действовать на детей одними советами и кроткими внушениями. Полное отсутствие семейного гнёта благотворно действовало на развитие ребёнка и положило первые основы его самостоятельности в мыслях и поступках. Первыми товарищами его детства были охтяне-тонщики, с которыми он по целым дням проводил время на гонках, с удочкой в руках и на местной тоне, ведя с ними частые и продолжительные беседы. Такая жизнь на воле располагала бойкого, смышленого мальчика к размышлениям и давала полную волю его детским фантазиям. Немало также, конечно, влияли на его детскую душу кладбище с его мрачными картинами, к которым ему было суждено приглядываться с самой колыбели. Под влиянием этих впечатлений выработался его мрачно-скептический характер, который под кличкой „кладбищенство“ и изобразил он в одном из своих героев, Череванине».
Помяловский учился в Александро-Невском духовном училище. В 1857 году окончил Петербургскую духовную семинарию по второму разряду[2]. По окончании в ожидании места читал по покойникам, пел в церкви. В то же время занимался самообразованием.
Следил за журналами. Больше всего помог Помяловский в выработке мировоззрения «Современник», особенно статьи Добролюбова и Чернышевского. Интересовался педагогическими вопросами, написал ряд очерков, а один из них — «Вукол» — напечатал в 1859 в «Журнале для воспитания»[3].
В 1860—1861 годы посещал Санкт-Петербургский университет в качестве вольнослушателя, одновременно с увлечением работал в воскресной школе, мечтал об издании листка воскресных школ[3].
Согласно РБС, Бурса же развила в Помяловском «потребность „в минуту жизни трудную“ топить своё горе в вине. Впрочем, сам он указывает на зарождение этой потребности ещё до бурсы… Выйдя из неё, Помяловский падал в этом отношении все ниже и ниже, отдаваясь своему пороку целыми неделями и месяцами, а под конец жизни страсть к вину приняла в нём невероятные размеры. В самых грязных трущобах, на Сенной, отыскивал он каких-то приятелей и целые недели проводил с ними в оргиях и бесшабашном кутеже. Приходя в себя, Помяловский сам ужасался своего положения и чувствовал, что заходит очень далеко; своей страсти он боялся. „Это болезнь, — говорил он, — страшная болезнь, которая медленно разлагает человека и даже доводит до подлости — я этого больше всего трушу“…».
В сентябре 1863 года писатель заболевает. По материалам Половцова[1]: «В сентябре 1863 года, после сильного припадка delirium tremens, продолжавшегося несколько дней, у него открылась опухоль в ноге и затем образовался нарыв, по вскрытии которого в клинике Медико-Хирургической Академии обнаружилась гангрена, и 5-го октября 1863 года Помяловский умер».
Раннюю смерть объясняют апатией и пьянством, вызванными наступлением реакции и неудачами личного характера.
Улица в Санкт-Петербурге, где жил писатель, названа его именем.
Творчество
 Приступает к литературному творчеству уже во время учёбы — принимает участие в рукописном журнале «Семинарский листок» (публикует насколько статей и начало рассказа «Махилов»). Дебютировал в печати очерком «Вукол», опубликованном в 1859 году в «Журнале для воспитания».
Приступает к литературному творчеству уже во время учёбы — принимает участие в рукописном журнале «Семинарский листок» (публикует насколько статей и начало рассказа «Махилов»). Дебютировал в печати очерком «Вукол», опубликованном в 1859 году в «Журнале для воспитания».
В 1861 году в журнале «Современник» опубликовал повести «Мещанское счастье» и «Молотов». В 1862—1863 годы в журнале «Время» и «Современник» печатались его «Очерки бурсы». Роман «Брат и сестра» и повесть «Поречане» остались неоконченными.
Мировоззрение писателя складывалось под влиянием «революционных демократов», в частности Н. Г. Чернышевского. Для Помяловского характерно резко отрицательное отношение к дворянской культуре в целом, отвращение к «буржуазному накопительству». Герой Помяловского — плебей, разночинец, борющийся за своё место в жизни, ненавидящий барство, безделье, либеральную болтовню; однако классовое самосознание, чувство собственного достоинства не избавляют его от капитуляции перед действительностью. В «Очерках бурсы» Помяловский остро поставил проблему воспитания, с большим критическим пафосом заклеймил бездушие, применение телесных наказаний, консерватизм — черты, характерные не только для духовных учебных заведений, но и для всей русской жизни в условиях самодержавия и деспотизма. Помяловский — убеждённый реалист, продолжатель традиций Н. В. Гоголя: и прежде всего, П. мастерски и очень талантливо владеет русским языком, создав поистине незабываемые речевые конструкции и обороты, что ставит его (пусть даже эстетически) в ряд первостепенных российских писателей, вероятно, до сих пор ещё не оцененных в полной мере.
«Мещанское счастье», «Молотов»
«Мещанское счастье» и «Молотов» — самые известные произведения писателя, представляют собой дилогию, в центре которой — повествование о судьбе разночинца Молотова. Произведения затрагивают многие проблемы социального характера: проблема воспитания, повествуют о женской эмансипации, об отношениях разночинцев и дворянства, но основной проблемой является осмысление судьбы образованного интеллигентного разночинства в обществе.
В повести «Мещанское счастье» главный герой Молотов Егор Иванович предстает перед читателем наивным романтиком, мечтающем о справедливом устройстве мира. Молотов полагает, что помещик Обросимов, которому он служит, доверяет ему, видит равного себе. Но в дальнейшем оказывается, что между помещиком и разночинцем, «плебеем и барином» разверзлась пропасть межклассовых противоречий. Разночинец Молотов осознает, что ему необходимо самому искать свой путь, добиваться материальной и моральной независимости.
Повесть «Молотов» репрезентирует героя спустя 10 лет, за это время Молотов узнает, чего стоит независимость и разочаровывается во многом, хотя его переполняет гордость, что он ничем никому не обязан: «Все пустяки в сравнении с вечностью» — слова художника Череванина из повести «Молотов».
Выражения из повести «Мещанское счастье» — «кисейная барышня» и «мещанское счастье» стали крылатыми.
«Очерки бурсы»
В 1862—1863 гг. журналы «Время» и «Современник» публикуют 4 части произведения «Очерки бурсы», 5-я часть незавершена, будет опубликована после кончины Помяловского. Изначально писатель помышлял о 20 очерках, в которых ему хотелось бы рассказать более подробно о жизни учеников бурсы. Согласно материалам Половцова,[1] под именем Карася Помяловский изобразил самого себя.
И далее:
Известность П. зиждется почти исключительно на его «Очерках бурсы». Бесспорно, талантливые очерки освещали один скромный, но очень темный уголок русской жизни, куда не заглядывало еще ничье независимое око. Культурное русское общество, сокрушавшееся по поводу «Антонов-Горемык», зачитывавшееся «Записками охотника», было поражено откровением, сделанным П. С ужасом узнало оно, что в Петербурге — центре культурной жизни, существует известная до сих пор лишь по добродушному описанию Гоголя и Нарежного бурса и что в этой бурсе творятся дела, поражающие своей бесцельной и бесчеловечной жестокостью. «Очерки» имели сенсационной успех, произвели на общество сильное впечатление и доставили автору большую популярность, нежели все его другие произведения. Однако, это далеко не самое главное, не самое характерное произведение П. Это — талантливые, яркие, но все-таки публицистические или этнографические очерки, воспоминания, имеющие мало общего с его другими повестями: «Молотов» и «Мещанское счастье».
В 1990 году вышла экранизация «Очерков бурсы» — фильм «Бурса» режиссёра Михаила Ведышева.
Память
- Улица Помяловского (Санкт-Петербург)
- Переулок Помяловского (Липецк)
- Улица Помяловского (Магнитогорск)
- Улица Помяловского (Воронеж)
- Улица Помяловского (Иркутск)
- Улица Помяловского (Базарный Карабулак)
Пассажирский пароход «Помяловский Н. Г.» (проект 737. Бельское речное пароходство, работал на линии «Москва-Уфа» в 1960-70ых гг., списан).
Адреса в Санкт-Петербурге
- 1857 — 17.10.1863 года — Малоохтинский проспект, 24
Напишите отзыв о статье "Помяловский, Николай Герасимович"
Примечания
- ↑ 1 2 3 Помяловский, Николай Герасимович // Русский биографический словарь : в 25 томах. — СПб.—М., 1896—1918.
- ↑ [www.petergen.com/bovkalo/duhov/spbsem.html Выпускники Санкт-Петербургской (с 1914 Петроградской) духовной семинарии 1811—1917; Списки воспитанников, переведенных в следующие классы, допущенных к экзамену осенью, оставленных на повторительный курс и уволенных в 1917 году] Выпуск 1857 года Курс XXIV
- ↑ 1 2 [feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le9/le9-1291.htm Помяловский // Литературная энциклопедия. Т. 9. — 1935 (текст)]
Ссылки
- Помяловский, Николай Герасимович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1898. — Т. XXIVa. — С. 523—524.
- [books.google.com/books?id=OPQFAAAAYAAJ&pg=PA5 Некролог] // Современник. — 1863. — Т. XCVIII, № 9. — С. 1—2.
- [litmostki.ru/pomyalovsky/ Надгробие Помяловского]
- [www.memoirs.ru/rarhtml/Pomialovsk902.htm Помяловский Н. Г. Очерки бурсы // Полн. собр. соч. — Спб.: Ю. Н. Эглих, 1902. — С. 301—472.]
Отрывок, характеризующий Помяловский, Николай Герасимович
– Отчего же не надо, коли ему хочется?– Оттого, что я знаю, что это ничем не кончится.
– Почему вы знаете? Нет, мама, вы не говорите ему. Что за глупости! – говорила Наташа тоном человека, у которого хотят отнять его собственность.
– Ну не выйду замуж, так пускай ездит, коли ему весело и мне весело. – Наташа улыбаясь поглядела на мать.
– Не замуж, а так , – повторила она.
– Как же это, мой друг?
– Да так . Ну, очень нужно, что замуж не выйду, а… так .
– Так, так, – повторила графиня и, трясясь всем своим телом, засмеялась добрым, неожиданным старушечьим смехом.
– Полноте смеяться, перестаньте, – закричала Наташа, – всю кровать трясете. Ужасно вы на меня похожи, такая же хохотунья… Постойте… – Она схватила обе руки графини, поцеловала на одной кость мизинца – июнь, и продолжала целовать июль, август на другой руке. – Мама, а он очень влюблен? Как на ваши глаза? В вас были так влюблены? И очень мил, очень, очень мил! Только не совсем в моем вкусе – он узкий такой, как часы столовые… Вы не понимаете?…Узкий, знаете, серый, светлый…
– Что ты врешь! – сказала графиня.
Наташа продолжала:
– Неужели вы не понимаете? Николенька бы понял… Безухий – тот синий, темно синий с красным, и он четвероугольный.
– Ты и с ним кокетничаешь, – смеясь сказала графиня.
– Нет, он франмасон, я узнала. Он славный, темно синий с красным, как вам растолковать…
– Графинюшка, – послышался голос графа из за двери. – Ты не спишь? – Наташа вскочила босиком, захватила в руки туфли и убежала в свою комнату.
Она долго не могла заснуть. Она всё думала о том, что никто никак не может понять всего, что она понимает, и что в ней есть.
«Соня?» подумала она, глядя на спящую, свернувшуюся кошечку с ее огромной косой. «Нет, куда ей! Она добродетельная. Она влюбилась в Николеньку и больше ничего знать не хочет. Мама, и та не понимает. Это удивительно, как я умна и как… она мила», – продолжала она, говоря про себя в третьем лице и воображая, что это говорит про нее какой то очень умный, самый умный и самый хороший мужчина… «Всё, всё в ней есть, – продолжал этот мужчина, – умна необыкновенно, мила и потом хороша, необыкновенно хороша, ловка, – плавает, верхом ездит отлично, а голос! Можно сказать, удивительный голос!» Она пропела свою любимую музыкальную фразу из Херубиниевской оперы, бросилась на постель, засмеялась от радостной мысли, что она сейчас заснет, крикнула Дуняшу потушить свечку, и еще Дуняша не успела выйти из комнаты, как она уже перешла в другой, еще более счастливый мир сновидений, где всё было так же легко и прекрасно, как и в действительности, но только было еще лучше, потому что было по другому.
На другой день графиня, пригласив к себе Бориса, переговорила с ним, и с того дня он перестал бывать у Ростовых.
31 го декабря, накануне нового 1810 года, le reveillon [ночной ужин], был бал у Екатерининского вельможи. На бале должен был быть дипломатический корпус и государь.
На Английской набережной светился бесчисленными огнями иллюминации известный дом вельможи. У освещенного подъезда с красным сукном стояла полиция, и не одни жандармы, но полицеймейстер на подъезде и десятки офицеров полиции. Экипажи отъезжали, и всё подъезжали новые с красными лакеями и с лакеями в перьях на шляпах. Из карет выходили мужчины в мундирах, звездах и лентах; дамы в атласе и горностаях осторожно сходили по шумно откладываемым подножкам, и торопливо и беззвучно проходили по сукну подъезда.
Почти всякий раз, как подъезжал новый экипаж, в толпе пробегал шопот и снимались шапки.
– Государь?… Нет, министр… принц… посланник… Разве не видишь перья?… – говорилось из толпы. Один из толпы, одетый лучше других, казалось, знал всех, и называл по имени знатнейших вельмож того времени.
Уже одна треть гостей приехала на этот бал, а у Ростовых, долженствующих быть на этом бале, еще шли торопливые приготовления одевания.
Много было толков и приготовлений для этого бала в семействе Ростовых, много страхов, что приглашение не будет получено, платье не будет готово, и не устроится всё так, как было нужно.
Вместе с Ростовыми ехала на бал Марья Игнатьевна Перонская, приятельница и родственница графини, худая и желтая фрейлина старого двора, руководящая провинциальных Ростовых в высшем петербургском свете.
В 10 часов вечера Ростовы должны были заехать за фрейлиной к Таврическому саду; а между тем было уже без пяти минут десять, а еще барышни не были одеты.
Наташа ехала на первый большой бал в своей жизни. Она в этот день встала в 8 часов утра и целый день находилась в лихорадочной тревоге и деятельности. Все силы ее, с самого утра, были устремлены на то, чтобы они все: она, мама, Соня были одеты как нельзя лучше. Соня и графиня поручились вполне ей. На графине должно было быть масака бархатное платье, на них двух белые дымковые платья на розовых, шелковых чехлах с розанами в корсаже. Волоса должны были быть причесаны a la grecque [по гречески].
Все существенное уже было сделано: ноги, руки, шея, уши были уже особенно тщательно, по бальному, вымыты, надушены и напудрены; обуты уже были шелковые, ажурные чулки и белые атласные башмаки с бантиками; прически были почти окончены. Соня кончала одеваться, графиня тоже; но Наташа, хлопотавшая за всех, отстала. Она еще сидела перед зеркалом в накинутом на худенькие плечи пеньюаре. Соня, уже одетая, стояла посреди комнаты и, нажимая до боли маленьким пальцем, прикалывала последнюю визжавшую под булавкой ленту.
– Не так, не так, Соня, – сказала Наташа, поворачивая голову от прически и хватаясь руками за волоса, которые не поспела отпустить державшая их горничная. – Не так бант, поди сюда. – Соня присела. Наташа переколола ленту иначе.
– Позвольте, барышня, нельзя так, – говорила горничная, державшая волоса Наташи.
– Ах, Боже мой, ну после! Вот так, Соня.
– Скоро ли вы? – послышался голос графини, – уж десять сейчас.
– Сейчас, сейчас. – А вы готовы, мама?
– Только току приколоть.
– Не делайте без меня, – крикнула Наташа: – вы не сумеете!
– Да уж десять.
На бале решено было быть в половине одиннадцатого, a надо было еще Наташе одеться и заехать к Таврическому саду.
Окончив прическу, Наташа в коротенькой юбке, из под которой виднелись бальные башмачки, и в материнской кофточке, подбежала к Соне, осмотрела ее и потом побежала к матери. Поворачивая ей голову, она приколола току, и, едва успев поцеловать ее седые волосы, опять побежала к девушкам, подшивавшим ей юбку.
Дело стояло за Наташиной юбкой, которая была слишком длинна; ее подшивали две девушки, обкусывая торопливо нитки. Третья, с булавками в губах и зубах, бегала от графини к Соне; четвертая держала на высоко поднятой руке всё дымковое платье.
– Мавруша, скорее, голубушка!
– Дайте наперсток оттуда, барышня.
– Скоро ли, наконец? – сказал граф, входя из за двери. – Вот вам духи. Перонская уж заждалась.
– Готово, барышня, – говорила горничная, двумя пальцами поднимая подшитое дымковое платье и что то обдувая и потряхивая, высказывая этим жестом сознание воздушности и чистоты того, что она держала.
Наташа стала надевать платье.
– Сейчас, сейчас, не ходи, папа, – крикнула она отцу, отворившему дверь, еще из под дымки юбки, закрывавшей всё ее лицо. Соня захлопнула дверь. Через минуту графа впустили. Он был в синем фраке, чулках и башмаках, надушенный и припомаженный.
– Ах, папа, ты как хорош, прелесть! – сказала Наташа, стоя посреди комнаты и расправляя складки дымки.
– Позвольте, барышня, позвольте, – говорила девушка, стоя на коленях, обдергивая платье и с одной стороны рта на другую переворачивая языком булавки.
– Воля твоя! – с отчаянием в голосе вскрикнула Соня, оглядев платье Наташи, – воля твоя, опять длинно!
Наташа отошла подальше, чтоб осмотреться в трюмо. Платье было длинно.
– Ей Богу, сударыня, ничего не длинно, – сказала Мавруша, ползавшая по полу за барышней.
– Ну длинно, так заметаем, в одну минутую заметаем, – сказала решительная Дуняша, из платочка на груди вынимая иголку и опять на полу принимаясь за работу.
В это время застенчиво, тихими шагами, вошла графиня в своей токе и бархатном платье.
– Уу! моя красавица! – закричал граф, – лучше вас всех!… – Он хотел обнять ее, но она краснея отстранилась, чтоб не измяться.
– Мама, больше на бок току, – проговорила Наташа. – Я переколю, и бросилась вперед, а девушки, подшивавшие, не успевшие за ней броситься, оторвали кусочек дымки.
– Боже мой! Что ж это такое? Я ей Богу не виновата…
– Ничего, заметаю, не видно будет, – говорила Дуняша.
– Красавица, краля то моя! – сказала из за двери вошедшая няня. – А Сонюшка то, ну красавицы!…
В четверть одиннадцатого наконец сели в кареты и поехали. Но еще нужно было заехать к Таврическому саду.
Перонская была уже готова. Несмотря на ее старость и некрасивость, у нее происходило точно то же, что у Ростовых, хотя не с такой торопливостью (для нее это было дело привычное), но также было надушено, вымыто, напудрено старое, некрасивое тело, также старательно промыто за ушами, и даже, и так же, как у Ростовых, старая горничная восторженно любовалась нарядом своей госпожи, когда она в желтом платье с шифром вышла в гостиную. Перонская похвалила туалеты Ростовых.
Ростовы похвалили ее вкус и туалет, и, бережа прически и платья, в одиннадцать часов разместились по каретам и поехали.
Наташа с утра этого дня не имела ни минуты свободы, и ни разу не успела подумать о том, что предстоит ей.
В сыром, холодном воздухе, в тесноте и неполной темноте колыхающейся кареты, она в первый раз живо представила себе то, что ожидает ее там, на бале, в освещенных залах – музыка, цветы, танцы, государь, вся блестящая молодежь Петербурга. То, что ее ожидало, было так прекрасно, что она не верила даже тому, что это будет: так это было несообразно с впечатлением холода, тесноты и темноты кареты. Она поняла всё то, что ее ожидает, только тогда, когда, пройдя по красному сукну подъезда, она вошла в сени, сняла шубу и пошла рядом с Соней впереди матери между цветами по освещенной лестнице. Только тогда она вспомнила, как ей надо было себя держать на бале и постаралась принять ту величественную манеру, которую она считала необходимой для девушки на бале. Но к счастью ее она почувствовала, что глаза ее разбегались: она ничего не видела ясно, пульс ее забил сто раз в минуту, и кровь стала стучать у ее сердца. Она не могла принять той манеры, которая бы сделала ее смешною, и шла, замирая от волнения и стараясь всеми силами только скрыть его. И эта то была та самая манера, которая более всего шла к ней. Впереди и сзади их, так же тихо переговариваясь и так же в бальных платьях, входили гости. Зеркала по лестнице отражали дам в белых, голубых, розовых платьях, с бриллиантами и жемчугами на открытых руках и шеях.