Берхгольц, Фридрих Вильгельм
| Фридрих Вильгельм Берхгольц | |
 Художник Г. Х. Грот (1742) | |
| Награды и премии: | |
|---|---|
Фридрих Вильгельм Берхгольц (Friedrich Wilhelm von Bergholtz; 1699, Гольштиния ‒ 1765, Висмар) — голштинский дворянин, в течение многих лет в детстве и юности живший в Российской империи, где его отец Вильгельм был генералом на императорской службе, и известный благодаря подробному дневнику о пребывании в России, который он вёл в 1721—1725 годах. Дневник Берхгольца позволяет восстановить картину придворной жизни на исходе царствования Петра Великого.
Содержание
Петровское время
Сын голштинца Вильгельма Берхгольца, генерала русской службы, участвовавшего в осаде Выборга (1710 год) и в Прутском походе (1711 год). Провёл детство и раннюю юность в России; в 1714 г. он уехал в Германию, где служил недолгое время пажом при дворе герцога мекленбургского. Затем перешел на службу к герцогу голштинскому Карлу-Фридриху гоф-юнкером; сопровождая герцога, он побывал в Стокгольме и в Париже. В июне 1721 года в составе его свиты он приехал в Петербург за несколько дней до приезда сюда герцога Карла-Фридриха; состоя при нём камер-юнкером, он прожил в России шесть лет и вместе с герцогом в июле 1727 года уехал на родину, в Голштинию. В 1730-е годы он служил комендантом Кильского замка[1].
Возвращение в Россию
Через 15 лет Берхгольцу снова пришлось посетить Россию. Он был назначен обер-камергером молодого голштинского герцога Карла-Петра-Ульриха, впоследствии императора Петра III, и в его свите 5 февраля 1742 года приехал в Петербург. Герцог, прибывший по желанию императрицы Елизаветы Петровны, был встречен очень радушно, и сопровождавшие его голштинцы получили большие награды; Берхгольцу 24 мая 1742 года был пожалован орден св. Александра Невского.
После объявления герцога наследником русского престола пребывание при дворе русского великого князя обер-камергера Берхгольца и обер-гофмаршала Брюммера было найдено неудобным. В 1746 году старый любимый камердинер великого князя был взят под стражу. Вслед за тем его обер-гофмаршал и обер-камергер, по настоянию канцлера Бестужева, должны были принять абшид и уехать за границу. Берхгольцу при отставке 9 августа 1746 года был пожалован Рейнбекский амт в Голштинии и назначена пенсия в размере получавшегося им жалованья (3491 рублей 50 копеек).
Последние годы
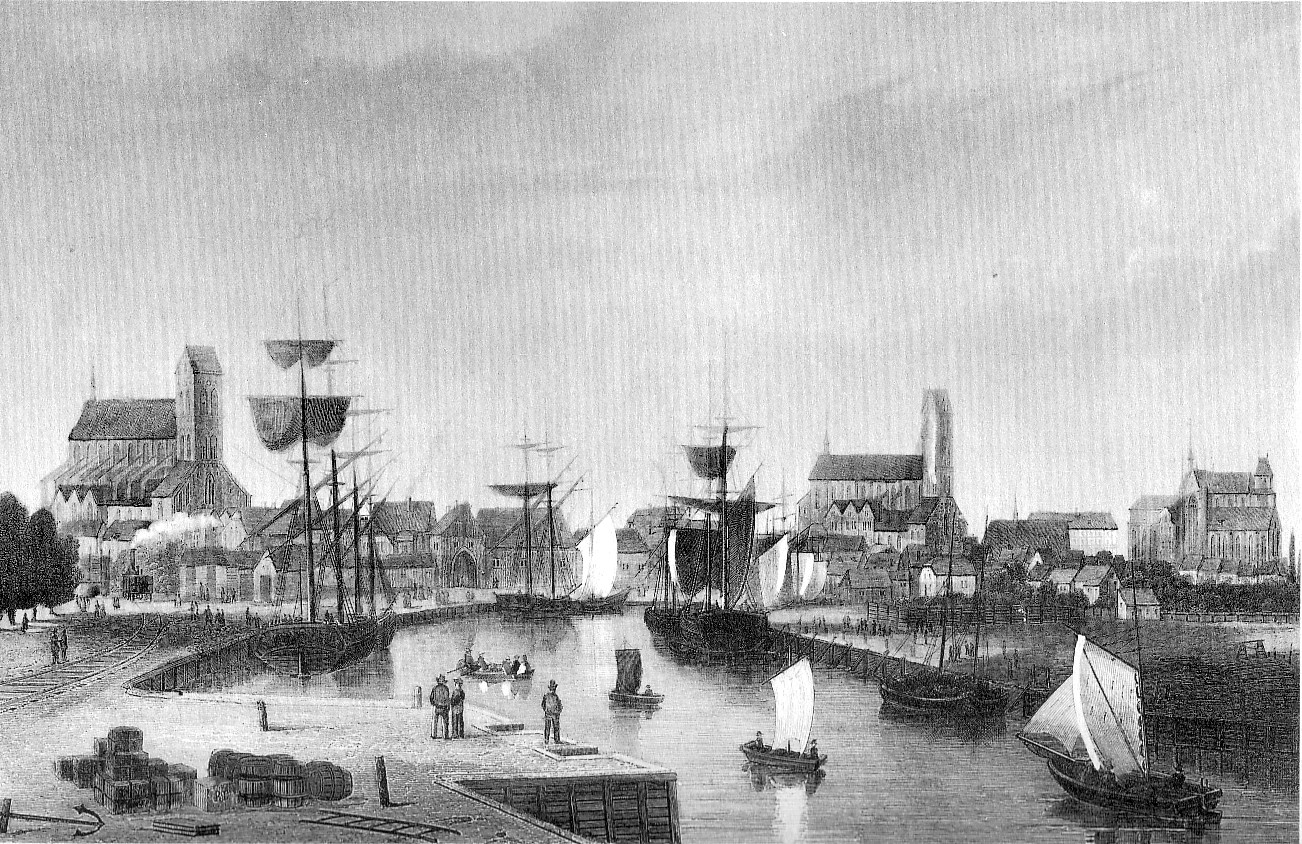
 Уехав из России, Берхгольц поселился в Висмаре, где и жил до своей смерти. Выдача пенсий, назначенных ему и Брюммеру, была прекращена в 1748 году. Но когда по прошествии четырёх лет Берхгольц обратился к императрице Елизавете Петровне с просьбой о выдаче пенсии за четыре года, то русское правительство удовлетворило его ходатайство и в 1754 году выслало Берхгольцу и наследникам умершего к тому времени Брюммера 27549 рублей.
Уехав из России, Берхгольц поселился в Висмаре, где и жил до своей смерти. Выдача пенсий, назначенных ему и Брюммеру, была прекращена в 1748 году. Но когда по прошествии четырёх лет Берхгольц обратился к императрице Елизавете Петровне с просьбой о выдаче пенсии за четыре года, то русское правительство удовлетворило его ходатайство и в 1754 году выслало Берхгольцу и наследникам умершего к тому времени Брюммера 27549 рублей.
В одном из своих писем к императрице по этому делу Берхгольц писал в 1753 году, что со времени своего отъезда из России он ведёт печальную жизнь, будучи отягчен долгами.
Дневник Берхгольца
Во время второго своего пребывания в России Берхгольц вёл в 1721—1725 годах подробный дневник. Узнав об этом, издатель альманаха Magazin für die neue Historié und Geographie Бюшинг в 1765 году усиленно просил Берхгольца предоставить ему дневник для напечатания, но автор дал уклончивый ответ. Вскоре после этого Берхгольц умер; Бюшингу удалось достать рукопись от наследников, и в 1785—1788 годах он напечатал дневник с небольшими сокращениями [books.google.com/books?id=HMw1AAAAMAAJ&pg=PA65 в томах 19—22 названного журнала].
Заметки дневника начинаются 13 апреля 1721 года, в день, когда автор получил приказание от герцога выехать из Парижа в Россию, и кончаются 30 сентября 1725 года. В 1857—1860 годах дневник был переведён и издан И. Аммоном; полный перевод этого труда выходил под названием «Дневник камер-юнкера Берхгольца», в 4-х частях (2-е издание, 1859—1862 годы). Всего на русском языке он был издан три раза. Историк Н. Устрялов весьма высоко ценил труд Берхгольца:
Берхгольц превосходит большинство мемуаристов петровского времени точностью и детальностью описаний. Молодой камер-юнкер, автор дневника — наблюдатель объективный, беспристрастный, но в то же время и крайне мелочный. Он подробнейшим образом описывает всё то, что видел и слышал, сопутствуя своему государю; о Петре и его сподвижниках он имел представление лишь по встречам на ассамблеях и маскарадах.
Страна, народ, реформа его мало интересуют, но зато бесценны для историков в дневнике Берхгольца описания придворных празднеств, ассамблей, спусков кораблей, казней и тому подобного, дающие любопытные черты придворных нравов.
Напишите отзыв о статье "Берхгольц, Фридрих Вильгельм"
Примечания
- ↑ Е.Ю. Станюкович-Денисова. [actual-art.spbu.ru/testarchive/10314.html Деятельность Ф.-В. Бергхольца в Германии: к изучению путей формирования коллекций архитектурных чертежей в XVIII веке.]// Актуальные проблемы теории и истории искусства : сб. науч. статей. Вып. 2 . Под ред. А.В.Захаровой — Санкт-Петербург: НП-Принт — 2012. — с.357 ISBN 978-5-91542-185-0
Публикации
- Берхгольц Ф.В. Дневник каммер-юнкера Берхгольца, веденный им в России в царствование Петра Великого, с 1721-1725 год. / пер. И. Аммон: [в 4 ч.] - М., Ч. 1: 1721-й год. 1857. 271 с. Ч. 2: 1722-й год. 1858. 358 с. Ч. 3: 1723-й год. 1860. 292 с. Ч. 4: 1724-й и 1725-й годы. 1862.
- Отрывки переизданы в 2000 году:
- Неистовый реформатор: Иоганн-Готтгильф Фоккеродт, Фридрих-Вильгельм Берхгольц. М., 2000.
- Юность державы: Фридрих-Вильгельм Берхгольц, Геннинг-Фридрих Бассевич. М., 2000.
Источники
- Берхгольц, Фридрих Вильгельм // Русский биографический словарь : в 25 томах. — СПб.—М., 1896—1918.
- Беркгольц или Берхгольц, Фридрих-Вильгельм // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
Отрывок, характеризующий Берхгольц, Фридрих Вильгельм
За щитами больше ничего не шевелилось, и пехотные французские солдаты с офицерами пошли к воротам. В воротах лежало три раненых и четыре убитых человека. Два человека в кафтанах убегали низом, вдоль стен, к Знаменке.– Enlevez moi ca, [Уберите это,] – сказал офицер, указывая на бревна и трупы; и французы, добив раненых, перебросили трупы вниз за ограду. Кто были эти люди, никто не знал. «Enlevez moi ca», – сказано только про них, и их выбросили и прибрали потом, чтобы они не воняли. Один Тьер посвятил их памяти несколько красноречивых строк: «Ces miserables avaient envahi la citadelle sacree, s'etaient empares des fusils de l'arsenal, et tiraient (ces miserables) sur les Francais. On en sabra quelques'uns et on purgea le Kremlin de leur presence. [Эти несчастные наполнили священную крепость, овладели ружьями арсенала и стреляли во французов. Некоторых из них порубили саблями, и очистили Кремль от их присутствия.]
Мюрату было доложено, что путь расчищен. Французы вошли в ворота и стали размещаться лагерем на Сенатской площади. Солдаты выкидывали стулья из окон сената на площадь и раскладывали огни.
Другие отряды проходили через Кремль и размещались по Маросейке, Лубянке, Покровке. Третьи размещались по Вздвиженке, Знаменке, Никольской, Тверской. Везде, не находя хозяев, французы размещались не как в городе на квартирах, а как в лагере, который расположен в городе.
Хотя и оборванные, голодные, измученные и уменьшенные до 1/3 части своей прежней численности, французские солдаты вступили в Москву еще в стройном порядке. Это было измученное, истощенное, но еще боевое и грозное войско. Но это было войско только до той минуты, пока солдаты этого войска не разошлись по квартирам. Как только люди полков стали расходиться по пустым и богатым домам, так навсегда уничтожалось войско и образовались не жители и не солдаты, а что то среднее, называемое мародерами. Когда, через пять недель, те же самые люди вышли из Москвы, они уже не составляли более войска. Это была толпа мародеров, из которых каждый вез или нес с собой кучу вещей, которые ему казались ценны и нужны. Цель каждого из этих людей при выходе из Москвы не состояла, как прежде, в том, чтобы завоевать, а только в том, чтобы удержать приобретенное. Подобно той обезьяне, которая, запустив руку в узкое горло кувшина и захватив горсть орехов, не разжимает кулака, чтобы не потерять схваченного, и этим губит себя, французы, при выходе из Москвы, очевидно, должны были погибнуть вследствие того, что они тащили с собой награбленное, но бросить это награбленное им было так же невозможно, как невозможно обезьяне разжать горсть с орехами. Через десять минут после вступления каждого французского полка в какой нибудь квартал Москвы, не оставалось ни одного солдата и офицера. В окнах домов видны были люди в шинелях и штиблетах, смеясь прохаживающиеся по комнатам; в погребах, в подвалах такие же люди хозяйничали с провизией; на дворах такие же люди отпирали или отбивали ворота сараев и конюшен; в кухнях раскладывали огни, с засученными руками пекли, месили и варили, пугали, смешили и ласкали женщин и детей. И этих людей везде, и по лавкам и по домам, было много; но войска уже не было.
В тот же день приказ за приказом отдавались французскими начальниками о том, чтобы запретить войскам расходиться по городу, строго запретить насилия жителей и мародерство, о том, чтобы нынче же вечером сделать общую перекличку; но, несмотря ни на какие меры. люди, прежде составлявшие войско, расплывались по богатому, обильному удобствами и запасами, пустому городу. Как голодное стадо идет в куче по голому полю, но тотчас же неудержимо разбредается, как только нападает на богатые пастбища, так же неудержимо разбредалось и войско по богатому городу.
Жителей в Москве не было, и солдаты, как вода в песок, всачивались в нее и неудержимой звездой расплывались во все стороны от Кремля, в который они вошли прежде всего. Солдаты кавалеристы, входя в оставленный со всем добром купеческий дом и находя стойла не только для своих лошадей, но и лишние, все таки шли рядом занимать другой дом, который им казался лучше. Многие занимали несколько домов, надписывая мелом, кем он занят, и спорили и даже дрались с другими командами. Не успев поместиться еще, солдаты бежали на улицу осматривать город и, по слуху о том, что все брошено, стремились туда, где можно было забрать даром ценные вещи. Начальники ходили останавливать солдат и сами вовлекались невольно в те же действия. В Каретном ряду оставались лавки с экипажами, и генералы толпились там, выбирая себе коляски и кареты. Остававшиеся жители приглашали к себе начальников, надеясь тем обеспечиться от грабежа. Богатств было пропасть, и конца им не видно было; везде, кругом того места, которое заняли французы, были еще неизведанные, незанятые места, в которых, как казалось французам, было еще больше богатств. И Москва все дальше и дальше всасывала их в себя. Точно, как вследствие того, что нальется вода на сухую землю, исчезает вода и сухая земля; точно так же вследствие того, что голодное войско вошло в обильный, пустой город, уничтожилось войско, и уничтожился обильный город; и сделалась грязь, сделались пожары и мародерство.
Французы приписывали пожар Москвы au patriotisme feroce de Rastopchine [дикому патриотизму Растопчина]; русские – изуверству французов. В сущности же, причин пожара Москвы в том смысле, чтобы отнести пожар этот на ответственность одного или несколько лиц, таких причин не было и не могло быть. Москва сгорела вследствие того, что она была поставлена в такие условия, при которых всякий деревянный город должен сгореть, независимо от того, имеются ли или не имеются в городе сто тридцать плохих пожарных труб. Москва должна была сгореть вследствие того, что из нее выехали жители, и так же неизбежно, как должна загореться куча стружек, на которую в продолжение нескольких дней будут сыпаться искры огня. Деревянный город, в котором при жителях владельцах домов и при полиции бывают летом почти каждый день пожары, не может не сгореть, когда в нем нет жителей, а живут войска, курящие трубки, раскладывающие костры на Сенатской площади из сенатских стульев и варящие себе есть два раза в день. Стоит в мирное время войскам расположиться на квартирах по деревням в известной местности, и количество пожаров в этой местности тотчас увеличивается. В какой же степени должна увеличиться вероятность пожаров в пустом деревянном городе, в котором расположится чужое войско? Le patriotisme feroce de Rastopchine и изуверство французов тут ни в чем не виноваты. Москва загорелась от трубок, от кухонь, от костров, от неряшливости неприятельских солдат, жителей – не хозяев домов. Ежели и были поджоги (что весьма сомнительно, потому что поджигать никому не было никакой причины, а, во всяком случае, хлопотливо и опасно), то поджоги нельзя принять за причину, так как без поджогов было бы то же самое.



