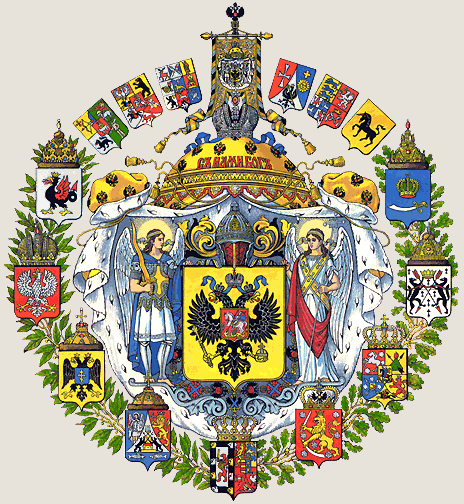Бестужев-Рюмин, Алексей Петрович
Алексей Петрович Бестужев-Рюмин<tr><td colspan="2" style="text-align: center; border-top: solid darkgray 1px;"> </td></tr> </td></tr>
| ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 1744 — 1758 | ||||
| Монарх: | Елизавета Петровна | |||
| Предшественник: | Алексей Черкасский | |||
| Преемник: | Михаил Воронцов | |||
| ||||
| 1742 год — 1758 год | ||||
| Монарх: | Елизавета Петровна | |||
| Предшественник: | Алексей Черкасский | |||
| Преемник: | Михаил Воронцов | |||
| Рождение: | 1693 Москва, Русское царство | |||
| Смерть: | 21 апреля 1766 Москва, Российская империя | |||
| Супруга: | Анна Ивановна Беттихер | |||
| Деятельность: | государственный деятель, дипломат | |||
| Награды: |
| |||
Граф (1742[1]) Алексе́й Петро́вич Бесту́жев-Рю́мин (22 мая (1 июня) 1693, Москва — 10 (21) апреля 1766, там же) — русский государственный деятель и дипломат, канцлер Российской империи при Елизавете Петровне (до опалы в 1758 году).
В Петербурге петровского времени Бестужев представлял интересы сент-джемского двора. В 1721-31 и 1734-40 гг. резидент в Дании. В 1740-41 гг. кабинет-министр. С 1741 по 1757 год Бестужев участвовал во всех дипломатических делах, договорах и конвенциях, которые Россия заключила с европейскими державами.
Участник бесчисленных придворных и международных интриг, дважды был приговорён к смертной казни. Владел Каменным островом в устье Невы и близлежащей мызой Каменный Нос. Изобрёл лечебные капли от всех болезней. С 1762 г. генерал-фельдмаршал и первоприсутствующий в Сенате.
Содержание
- 1 Биография
- 1.1 Учёба и служба за границей
- 1.2 Резидент Петра I в Копенгагене
- 1.3 Интриги против Меншикова
- 1.4 При Анне Иоанновне
- 1.5 Кабинет-министр
- 1.6 В Шлиссельбургской крепости
- 1.7 Вице-канцлер
- 1.8 Разрыв с Францией
- 1.9 Мир со Швецией
- 1.10 Дело Лопухиной и союз с Воронцовым
- 1.11 Триумф и канцлерство
- 1.12 Союз с Австрией
- 1.13 Иностранные субсидии
- 1.14 Окружение Бестужева
- 1.15 Дипломатическая революция
- 1.16 Отставка и следствие
- 1.17 Жизнь в ссылке
- 1.18 Реабилитация
- 1.19 Последние годы
- 2 Личная жизнь
- 3 Капли Бестужева
- 4 Художественный образ
- 5 См. также
- 6 Примечания
- 7 Источники
- 8 Ссылки
Биография
Представитель древнего рода Бестужевых; родился 22 мая 1693 года в Москве, в семье Петра Михайловича Бестужева, который позднее был губернатором Нижнего Новгорода и приближённым императрицы Анны Иоанновны, и его жены Евдокии Ивановны, урождённой Талызиной. Брат дипломата Михаила Бестужева и княгини Аграфены Волконской. Двоюродный брат адмирала Ивана Талызина.
Учёба и служба за границей
В 1707 г., по ходатайству отца, Алексей, вместе с старшим братом Михаилом, получил разрешение поехать для науки за границу, на собственные средства. В октябре 1708 г. братья выехали из Архангельска, с супругою русского посла при датском дворе князя В. Л. Долгорукова, в Копенгаген, где поступили в датскую шляхетную академию. В 1710 г. моровое поветрие заставило их переселиться в Берлин и продолжать там занятия в Высшем коллегиуме. Младший Бестужев оказал особые успехи в изучении языков латинского, французского и немецкого, а также общеобразовательных наук.
По окончании учебного курса Бестужев совершил путешествие по Европе. В 1712 г. Пётр I, прибыв в Берлин, повелел определить Бестужева на службу «дворянином при посольстве» к русскому полномочному министру в Голландии кн. Б. И. Куракину, которого Бестужев сопровождал на Утрехтский конгресс.
Проезжая через Ганновер, Бестужев представился курфюрсту Георгу-Людвигу и получил предложение вступить к нему на службу. С разрешения царя Бестужев принял это предложение и в 1713 году поступил на ганноверскую службу сперва полковником, а затем камер-юнкером с жалованьем по 1000 талеров в год. В 1714 году Георг, вступивший на английский престол, взял Бестужева с собой в Лондон и немедленно отправил его к Петру I в качестве английского министра с нотификацией о восшествии на престол. Пётр, очень довольный такою ролью русского на иностранной службе, принял Бестужева по этикету, установленному для приёма иностранных министров, дал ему 1000 рублей и обычный в таких случаях подарок. Затем Бестужев вернулся в Лондон с поздравительной грамотой Петра Георгу и новым рекомендательным письмом от своего государя.
Всего в Англии Бестужев пробыл около четырёх лет, с большою пользой для своего образования. Сознание своей силы рано пробудило в нём честолюбивое желание выдвинуться возможно скорее, пользуясь разными «конъюнктурами». Склонность и способность к интриге сказалась в нём в 1717 году, когда он узнал о бегстве царевича Алексея в Вену. Видя в царевиче будущего властителя России, Бестужев поспешил написать ему письмо с уверением в преданности и готовности служить «будущему царю и государю»; самый переход свой на чужестранную службу Бестужев ловко объяснял при этом желанием удалиться из России, так как обстоятельства не дозволяли ему служить (как он хотел бы) царевичу Алексею. По счастью для Бестужева, царевич во время следствия его не выдал, а письмо уничтожил[2].
В конце того же 1717 году Бестужев испросил у короля Георга І увольнение от службы, так как отношения между Петром и ганноверским домом стали портиться.
Резидент Петра I в Копенгагене
 По возвращении в Россию, Бестужев был назначен обер-камер-юнкером ко двору вдовствующей герцогини курляндской Анны Иоанновны, где прослужил без жалованья около двух лет. Его самостоятельная дипломатическая служба началась в 1721 году, когда он заменил князя В. Л. Долгорукова в качестве русского министра-резидента при дворе датского короля Фредерика IV.
По возвращении в Россию, Бестужев был назначен обер-камер-юнкером ко двору вдовствующей герцогини курляндской Анны Иоанновны, где прослужил без жалованья около двух лет. Его самостоятельная дипломатическая служба началась в 1721 году, когда он заменил князя В. Л. Долгорукова в качестве русского министра-резидента при дворе датского короля Фредерика IV.
Бестужев попал в самый разгар дипломатической борьбы Петра с английским королём, который старался настроить против России северные державы. Покровительство, какое Пётр оказывал голштинскому герцогу, ставило его во враждебные отношения к Дании, удержавшей за собою после Северной войны, по сепаратному договору со Швецией в 1720 году, Шлезвиг. Бестужеву поручено было добиться от Дании признания за Петром императорского титула, а за герцогом голштинским — титула королевского высочества, и для русских судов — освобождения от зундских пошлин; в то же время он должен был следить за враждебными происками Англии и, по возможности, им противодействовать.
Бестужев доносил, что датские министры вполне в руках ганноверского посланника и состоят у него на пенсии, и просил 25000 червонных, чтобы перекупить их на свою сторону. Без таких средств он успел привлечь к себе только влиятельного при короле обер-секретаря военной коллегии Габеля, который доставил ему возможность вести тайные переговоры лично с датским королём. Датское правительство соглашалось признать за Петром императорский титул только в обмен на гарантию Шлезвига или, по крайней мере, при условии удаления из России герцога голштинского. Бестужев, который в целом вёл дела очень самостоятельно, давая Петру советы и возражая на его предписания, предлагал оставить герцога голштинского в России как рычаг воздействия на датскую корону.
Переговоры тянулись без результата, когда было получено известие о заключении Ништадтского мира. Бестужев устроил 1 декабря 1721 года великолепный праздник для иностранных министров и знатных особ королевства и роздал гостям медаль с портретом Петра в память великого события[3]. Пётр, находившийся тогда в Дагестане, благодарил Бестужева собственноручным письмом, а в 1723 году вручил ему, вызвав его к себе в Ревель, свой портрет, украшенный бриллиантами. Бестужев всю жизнь дорожил этим подарком и носил его на груди.
Дипломатическая задача Бестужева была отчасти выполнена в 1724 году. Датское правительство признало императорский титул Петра; но, как пояснил Бестужев, оно делало уступку только из страха. Заключение союза между Россией и Швецией заставило Данию опасаться не за Шлезвиг только, но и за Норвегию, на которую претендовали шведы. Король даже заболел, получив известие о русско-шведском мире.
Пётр оценил дипломатическую ловкость Бестужева и в том же году, 7 мая, в день коронования Екатерины, пожаловал его в действительные камергеры. В год смерти Петра Великого Дания ещё колебалась между англо-французским союзом и Россией. Но надежда на неизбежное ослабление России после кончины великого государя привела датчан «в добрый и весёлый гумор»; английский флот появился в датских водах, и Бестужева все стали «чуждаться, как зачумлённого».
Интриги против Меншикова
Датские дела всё больше тяготили Бестужева. При маленьком копенгагенском дворе негде было развернуться его дарованиям, а в Петербурге шла борьба партий, сулившая быстрое возвышение человеку с большим честолюбием и энергией. У семьи Бестужевых были давние связи со двором покойного царевича Алексея; теперь их друзья Веселовские, Абрам Ганнибал, Пашковы, Нелединский, Черкасов сплотились вокруг сестры Бестужева, княгини Аграфены Петровны Волконской, и воспитателя царевича Петра Алексеевича, Семёна Афанасьевича Маврина. Их опорой был также австрийский посланник в Петербурге граф Рабутин (de), пользовавшийся значительным влиянием. Бестужев мечтал о возвышении с его помощью.
Рабутин старался доставить княгине Волконской звание обер-гофмейстерины при великой княжне Наталье Алексеевне, а Бестужев просил её выхлопотать отцу графский титул. Себе он сам официально просил «за семилетние свои при датском дворе труды» полномочий чрезвычайного посланника и увеличенного содержания. Но напрасно он был уверен, что «награждение его чрез венский двор никогда от него не уйдёт». У его партии были сильные враги — Меншиков и голштинцы.
Когда Рабутин умер в 1727 году, Меншиков с Остерманом вовремя овладели двором царевича Петра. Друзья Бестужева подняли было интригу против них, но она раскрылась, и у одного из них, графа Девиера, нашли переписку, обнаружившую тайные сношения кружка. Княгиня Волконская подверглась ссылке в деревню, Маврин и Ганнибал получили поручения в Сибирь, весь кружок был уничтожен. Бестужев сохранил своё место, хотя отец его попал под следствие и брат был смещён из Стокгольма. Ему пришлось оставаться в Дании без всякого «награждения».
Попытка сосланных вернуться после падения Меншикова привела лишь к раскрытию их новой интриги и к новым карам, причём на этот раз скомпрометирован был и Алексей Бестужев, уличённый, что «искал себе помощи через венский двор» и даже «сообщал чужестранным министрам о внутренних здешнего государства делах». Опала и на этот раз миновала Бестужева; в феврале 1729 году он даже получил денежную награду в 5000 рублей.
При Анне Иоанновне
Бестужев сумел сохранить расположение бывшей герцогини курляндской Анны (крёстной матери трёх его сыновей) и после того, как отец его потерял её милость. Когда Анна вступила в 1730 году на русский престол, Бестужев поспешил написать ей приветствие, напоминая, как она ему писала в 1727 году, что от него «никакой противности себе не видала, кроме верных служб», и жаловался, что, прожив 10 лет в Дании при тяжёлых обстоятельствах, терпя притеснения из-за герцога голштинского и его претензий на Шлезвиг, он уже 8 лет не получает никакого повышения. Но голосу его не вняли. Весною 1731 года ему велели сдать датские дела курляндцу Бракелю, а самому ехать резидентом в Гамбург, где через год он получил звание чрезвычайного посланника при Нижне-Саксонском округе Священной Римской империи.
На этом посту Бестужеву представился случай оказать императрице существенную услугу. По поручению её он ездил в Киль для осмотра архива герцогов голштинских и сумел извлечь оттуда документы, касавшиеся наследия русского престола и, в том числе, духовное завещание императрицы Екатерины I, которым устанавливались права голштинского дома на русский престол. В том же 1733 году к Бестужеву в Гамбург явился бывший камер-паж герцогини мекленбургской Екатерины Ивановны, Милашевич, с доносом на смоленского губернатора князя Черкасского, который будто бы приводит многих смольнян на верность голштинскому принцу. По этим делам Бестужев был именным указом вызван в Петербург, привёз документы и доносчика и получил, кроме 2000 рублей награды, орден св. Александра Невского.
С этой поры Бирон, преследовавший его отца, стал смотреть на Бестужева как на верного и надёжного человека. В конце 1734 года он вернулся в Копенгаген, а барон Бракель был отозван. Бестужев был назначен одновременно чрезвычайным посланником и в Дании, и в Нижне-Саксонском округе. В мае 1736 года он получил чин тайного советника. Бестужев оставался за границей ещё около 4-х лет, пока падение Волынского не дало ему возможности занять высокое положение на родине.
Кабинет-министр
 Герцог курляндский Бирон давно тяготился своей зависимостью в делах от Остермана. Попытки возвысить в противовес ему сперва Ягужинского, потом Волынского кончились неудачами. Тогда выбор Бирона остановился на Бестужеве, который сумел уверить Бирона в чрезвычайной преданности его особе. В 1740 году Бестужев был произведён в действительные тайные советники и вызван в Петербург. Герцог курляндский некоторое время ещё колебался, вводить ли его в Кабинет министров.
Герцог курляндский Бирон давно тяготился своей зависимостью в делах от Остермана. Попытки возвысить в противовес ему сперва Ягужинского, потом Волынского кончились неудачами. Тогда выбор Бирона остановился на Бестужеве, который сумел уверить Бирона в чрезвычайной преданности его особе. В 1740 году Бестужев был произведён в действительные тайные советники и вызван в Петербург. Герцог курляндский некоторое время ещё колебался, вводить ли его в Кабинет министров.
Когда Бестужев приехал в Петербург, никакого заявления относительно планов, ради которых его вызвали, не было сделано. Шетарди объясняет это тем, что Бестужев пользовался репутацией человека, подобного Волынскому, честолюбивого до крайности. В день крестин царевича Иоанна Антоновича, 18 августа 1740 года, Бестужев был объявлен кабинет-министром, а вскоре (9 сентября) императрица возложила на него пожалованный ему королём польским орден Белого Орла.
Между тем дело шло к союзу России с Англией по шведскому вопросу. Остерман, несмотря на все старания английского посланника Финча (en), без конца тянул переговоры. Финч возлагал большие надежды на Бестужева, который в Копенгагене сблизился с британским послом Титлеем. Одно из первых дел Бестужева в кабинете было настояние на скорейшем решении английского вопроса. Из-за этого у него сразу начались столкновения с Остерманом, который всё-таки добился, чтобы переговоры с англичанами были поручены ему одному.
С появлением на свет Иоанна Антоновича положение Бирона, враждовавшего с его родителями, стало шатким. Его влияния не хватило на то, чтобы оттеснить Остермана с Бестужевым. Вопрос о том, в чьих руках останется регентство, обострился, когда императрица почувствовала себя совсем худо 5 октября 1740 года. Бестужев со своими союзниками (князем Куракиным, графом Головкиным и др.) ничего не страшился так, как усиления Остермана, давнего гонителя Бестужевых, но плохо ладил и с князем А. М. Черкасским, опиравшимся на кружок верных себе людей. На первых порах победа осталась за Бироном, ибо к нему примкнули Миних, Бестужев, Черкасский и почти все другие вельможи.
В Шлиссельбургской крепости
Бирон пал 8 (19) ноября 1740 года. В ту же ночь был схвачен и Бестужев. Началось следствие о политических преступниках, склонивших покойную императрицу передать престол младенцу Иоанну в обход Анны Леопольдовны. Против Бестужева было то, что он писал проект указа о регентстве, что он чаще всего выступал на совещаниях у регента, что он получил от Бирона в награду конфискованный у Волынского дом.
Бестужева, заключённого сперва в Нарвской крепости, потом в Копорье, привезли в Шлиссельбургскую крепость. Он совершенно потерял присутствие духа, и первые показания его были полны резкими и решительными обвинениями против Бирона, который возражал, что «считал бы себя недостойным жизни, будь только обвинения Бестужева истинны». Очная ставка их привела к тому, что Бестужев просил прощения у герцога за клеветы, которые возводил на него по наущению Миниха, поддавшись его уверению, что только таким путём он спасёт себя и семью свою. После этого Миниха удалили из следственной комиссии.
Следствие выяснило, что главной опорой Бирона был сам Миних, но, по словам принца Брауншвейгского, зашли уже слишком далеко, и постановить мягкий приговор было нельзя без компрометирующего новое правительство впечатления. 17 января 1741 года комиссия приговорила Бестужева к четвертованию. В апреле ему объявили помилование, но лишили его орденов, чинов и должностей и отправили в ссылку. Все имения и всё имущество его были конфискованы, только из имения в Белозёрском уезде выделили 372 души на пропитание его жене и детям. Ему было указом от 22 мая велено безвыездно жить «смирно, ничего не предпринимая» в отцовских или жениных деревнях.
Ссылка Бестужева была, однако, непродолжительна. В октябре 1741 года он (для многих неожиданно) снова появился в Петербурге. Он был по-прежнему необходим врагам Остермана и принца Брауншвейгского. Эти лица, во главе которых стояли, после падения Миниха, граф Головкин и князь Трубецкой, убедили с помощью новгородского архиепископа Амвросия Юшкевича правительницу вернуть Бестужева. Финансовую поддержку этой партии оказывал австрийский посланник, маркиз Ботта. Остерман и принц Антон узнали о решении Анны Леопольдовны за несколько дней до его приезда.
Вице-канцлер
Бестужев не успел ничего предпринять при дворе, когда разразился переворот 25 ноября, передавший верховную власть в руки Елизаветы Петровны. Немцы при дворе потеряли свои позиции. Бестужев, хоть и не принимал участия в подготовке и осуществлении переворота, оказался в положении единственного русского государственного человека, отличавшегося дарованиями и знанием дела. Составление манифеста, возвестившего народу о восшествии на престол императрицы Елизаветы, было поручено Бестужеву, Черкасскому и Бреверну. 30 ноября Бестужев получил «за его неповинное претерпение» орден св. Андрея Первозванного и был восстановлен в чине действительного тайного советника.
После ссылки Остермана оказалось, что некому поручить ведение внешней политики, кроме Бестужева. Последний, однако, не пользовался поначалу личной симпатией императрицей Елизаветы, видевшей в нём только опытного и продажного интригана. По настоянию лейб-медика Лестока и маркиза де Шетарди указом от 12 декабря 1741 года императрица всё-таки назначила его в Сенат и на должность вице-канцлера вместо сосланного графа Головкина. Шетарди доказывал, что Бестужев ловко пишет, свободно объясняется на иностранных языках, трудолюбив (правда, любит общество и весёлую жизнь, рассеивая этим посещающую его ипохондрию). Пост канцлера Елизавета сохранила за князем Черкасским, имевшим репутацию человека неподкупного, хотя иностранные министры постоянно жаловались на его лень и неспособность к делам, усиленную ещё тем, что он не владел иностранными языками.
Сообразуясь с обстоятельствами своего возвышения, Бестужев был поначалу крайне осторожен и до апреля 1742 года делал вид, что поддерживает политику союза с Францией, которая своими деньгами привела Елизавету к власти. Французский посланник Шетарди занял при дворе столь влиятельное положение, что «первый поклон отдавался императрице, а второй ему». Франция же тем временем противодействовала России в восточном вопросе, в шведских, польских и курляндских делах. В знак своей милости императрица преподнесла Бестужеву дом в Москве, конфискованный у графа Остермана. Указом 16 февраля 1742 года ему велено было выдать заслуженное за прошлое время жалованье и назначено впредь по 6000 рублей в год; в марте ему же поручено заведовать почтами во всём государстве. В день коронации 25 апреля 1742 года, по ходатайству Бестужева, отец его был пожалован в графское Российской империи достоинство.
Разрыв с Францией
При дворе императрицы Елизаветы развернулась борьба Франции и Пруссии, с одной стороны, Англии и Австрии, с другой, за то, кто перетянет к себе Россию. Австро-английская партия, казалось, была обречена на неудачу, ибо до переворота делала ставку на Бирона и на брауншвейгское семейство. Бестужев не мог не видеть, однако, что национальные интересы России требуют сохранения традиционного союза с Австрией. Франция больше века держалась политики союза с турками и шведами — традиционными противниками России. В случае новой войны с турками реальную военную помощь можно было ожидать только от Австрии. В этих условиях «система» Бестужева сводилась, по существу, к продолжению внешнеполитического курса его предшественника Остермана.
Галломанке Елизавете пришлось пожертвовать личными симпатиями интересам государства и принять программу альянса с Австрией, последовательно, шаг за шагом проводимую Бестужевым. Первым делом братьям Бестужевым удалось продавить во внешнеполитическом ведомстве заключение оборонительного союзного договора с Англией. В качестве «осязательных доказательств милостивого расположения Его Величества» британский посол запросил у короля назначения Бестужевым пенсии из английской казны, подчёркивая, впрочем, что король не может требовать от Бестужевых ничего, что бы не соответствовало их собственным взглядам и действительным выгодам империи. Англо-русский договор от 11 декабря 1742 года предусматривал признание за Елизаветой императорского титула, взаимную поддержку в случае войны и возобновление на 15 лет торгового соглашения.
Одновременно велись мирные переговоры со Швецией, которую против России подняла Франция с тем, чтобы ускорить смену власти в Петербурге. Переписку о мире со шведским главнокомандующим Левенгауптом вёл сам Шетарди, в обход русских дипломатов, ссылаясь на письмо о посредничестве в переговорах со шведами, направленное Елизаветой французскому королю. Французы рассчитывали, что в благодарность за поддержку во время переворота Елизавета уступит их союзнице Швеции большую часть завоёванных Петром Великим провинций. Бестужев первый заявил, что минимум русских требований — сохранения условий Ништадтского мира, что он заслужил бы смертную казнь за совет уступить хоть пядь русской земли, и что лучше для славы государыни и народа требовать продолжения войны. Единодушная поддержка мнения Бестужева всеми другими русскими министрами поставила Шетарди в трудное положение. На конференциях безусловно отвергнуто было посредничество Франции. Весною 1742 года возобновились военные действия, о чём Бестужев не нашёл даже нужным предупредить Шетарди, к великому негодованию последнего. После летней кампании 1742 года завоёвана была вся Финляндия. Шетарди был отозван, получив, однако, от императрицы тысяч на полтораста подарков.
Французские агенты прилагали теперь все усилия, чтобы испортить русским успех, подняв против них Турцию, и погубить Бестужевых, уличив их в каких-нибудь происках против Елизаветы, прежних или новых. Интриги оставались бесплодны, когда в ноябре умер канцлер Черкасский, не желавший подчиняться руководству Бестужева. Последний оставался до 15 июля 1744 года вице-канцлером, так как Елизавета не желала дать ему канцлерство, хотя и не знала, кем его заменить. Противники Бестужева выдвинули было кандидатуру А. И. Румянцева, но Елизавета отвергла её со словами: «может быть, он добрый солдат, да худой министр».
Мир со Швецией
Тем временем наследником русского престола был объявлен герцог Голштинский, и династические интересы Готторпов снова стали играть видную роль в русской политике, к великому неудовольствию Бестужева. Переговоры со шведами теперь осложнял вопрос о правах голштинского дома на шведский престол. Голштинец Брюммер, гофмаршал двора великого князя Петра Фёдоровича, и Лесток возродили французско-голштинскую партию, которая прочила на шведский престол Адольфа-Фридриха Голштинского. Эта кандидатура должна была сделать Россию уступчивее, доставить Швеции более выгодный мир и ослабить значение Бестужева.
На мирный конгресс в Або вместо Бестужева был направлен его соперник Румянцев. Видя в окончательном ослаблении Швеции завет Петра Великого, Бестужев настаивал на как можно больших территориальных приобретениях, включая Або или Гельсингфорс с приличным округом. Условия подписанного Румянцевым мира были значительно скромнее тех, какие считал нужными Бестужев; зато принц Адольф-Фридрих был признан наследником шведского престола, чему Бестужев никакой цены не придавал.
Дания, опасаясь голштинских заявлений, что теперь настало время вернуть Шлезвиг, предприняла обширные вооружения. Пришлось отправить русские войска в Швецию для её обороны в случае нападения датчан. Бестужев был против этого и негодовал, что «сии скоропостижные голштинские угрозы впутать могут в новую войну», которая будет «без всякой прибыли».
Дело Лопухиной и союз с Воронцовым
 Бестужев давно получал субсидии от австрийских дипломатов и пытался восстановить дружеские отношения Петербурга с Веной, однако императрица ещё сохраняла антипатию к Габсбургам. Кроме того, его план нарушался сближением английского правительства с Пруссией, которое привело к заключению англо-прусского оборонительного союза. Прусский посланник в Петербурге, Мардефельд, стал домогаться заключения такого же союза между Пруссией и Россией. Союзные отношения должен был скрепить брак Петра Фёдоровича с сестрой прусского короля Фридриха, который считался в Берлине делом решённым.
Бестужев давно получал субсидии от австрийских дипломатов и пытался восстановить дружеские отношения Петербурга с Веной, однако императрица ещё сохраняла антипатию к Габсбургам. Кроме того, его план нарушался сближением английского правительства с Пруссией, которое привело к заключению англо-прусского оборонительного союза. Прусский посланник в Петербурге, Мардефельд, стал домогаться заключения такого же союза между Пруссией и Россией. Союзные отношения должен был скрепить брак Петра Фёдоровича с сестрой прусского короля Фридриха, который считался в Берлине делом решённым.
Бестужев поспешил расстроить планы прусского короля. Под его внушениями императрица Елизавета в течение 1743 года всё более проникалась недоверием к Фридриху. Уже в мае 1743 года был двинут значительный отряд русской армии для наблюдения за действиями Фридриха в Силезии. Присоединение России к австро-прусскому Бреславскому трактату, состоявшееся 1 ноября 1743 года, также не улучшило отношений к Пруссии, но послужило шагом к большему сближению с Австрией. Австрийская императрица Мария-Терезия, со своей стороны, поспешила ещё летом того же года признать Россию империей, а Елизавету — императрицей.
Тем временем французские и голштинские агенты, пользуясь неудовольствием Елизаветы на Бестужева за недружелюбнее отношение к Голштинскому дому, с начала года распускали слухи о какой-то интриге в пользу Иоанна Антоновича, которую ведут Бестужевы. На этой почве разыгралось лопухинское дело, в которое едва не был запутан брат Бестужева. Младшего Бестужева подозрение не коснулось; он даже участвовал в производстве следствия и генеральном суде по делу, в котором одной из главных подсудимых была его невестка. Но ненависть к австрийскому посланнику, маркизу Ботта д’Адорно, которого сумели представить главным виновником «заговора», надолго восстановила Елизавету против Австрии. Елизавета была сильно раздражена защитой Ботты со стороны венского двора. Фридрих Прусский поспешил воспользоваться её настроением и угодить ей, потребовав от Марии-Терезии отзыва Ботты, переведённого тогда же из Петербурга в Берлин.
В ноябре 1743 года по предложению Елизаветы в Россию вернулся маркиз де Шетарди, который открыто говорил о своей миссии — покончить с близостью России, Англии и Австрии. Бестужев убедил Елизавету не принимать его как полномочного посла, подчёркивая, что в его верительных грамотах Елизавета не названа императрицей. Шетарди принимали при дворе как частное лицо. Опору против такого грозного противника Бестужев нашёл в Михайле Илларионовиче Воронцове, который пользовался большим влиянием на императрицу. Шетарди всё ещё надеялся с помощью голштинской партии реализовать тройственный союз Франции, России и Швеции.
В январе 1744 года был заключён договор с польским королём Августом IIІ о возобновлении на 15 лет оборонительного союза, заключённого в 1733 году, с обязательством взаимной военной помощи; при этом король признал императорский титул Елизаветы, и, как союзник Марии-Терезии, предлагал своё посредничество для того, чтобы уладить недоразумения Елизаветы с венским двором из-за дела маркиза Ботты. Бестужеву удалось заблокировать проект женитьбы наследника русского престола на прусской принцессе, однако его противники взамен предложили женить Петра на принцессе Ангальт-Цербстской, которая в феврале с матерью прибыла в Россию.
После смерти Бреверна эта партия постаралась навязать Бестужеву в конференц-министры А. Румянцева, но императрица назначила на эту должность Воронцова. В попытке побороть антипатию государыни Бестужев наиболее важные и щекотливые дела теперь докладывал через Воронцова. Он не раз получал высочайшее одобрение своих мнений, когда выдавал их за мнения Воронцова. Вице-канцлер обращался за всяким делом к своему помощнику с письмами, которые подписывал: «всепослушнейший и всенаиобязательнейший слуга».
Триумф и канцлерство
Видя шаткость позиций Бестужева, король Фридрих требовал от своих агентов привлечь Россию на свою сторону, ибо от этого зависит успех его противостояния с Австрией. Он требовал напрячь все силы для низвержения Бестужева, ибо от этого, как он писал Мардефельду, «зависит судьба Пруссии и моего дома». Чтобы привлечь на свою сторону Воронцова, Фридрих пожаловал ему орден Чёрного Орла и свой портрет, осыпанный бриллиантами. Но Бестужев был настороже. Депеши, касавшиеся этой интриги, были перехвачены, шифрованные тексты разобраны с помощью академика Гольдбаха, и Бестужев через Воронцова представил их императрице с объяснительной запиской и примечаниями. Указывая на попытки Шетарди вмешиваться во внутренние дела России, на его интриги и подкупы, Бестужев требовал выслать его из России.
В этом вопросе Елизавета Петровна встала на сторону своего вице-канцлера, который умолял её или дать ему отставку, или защитить, ибо оставить его так, в центре вечных интриг — «несносно». 6 июня 1744 года на квартиру Шетарди явились генерал Ушаков, князь Пётр Голицын, двое чиновников и секретарь иностранной коллегии и объявили ему повеление императрицы в 24 часа выехать из Петербурга. В то же время попытки принцессы Цербстской, матери великой княгини Екатерины Алексеевны, и Лестока влиять на ход политики, привели к тому, что первая была выслана из России, а второму — внушено, чтобы он вмешивался в дела медицинские, а не канцелярские. Несколько позднее и Брюммер был удалён от великого князя.
15 июля 1744 года Бестужев был назначен государственным[4] канцлером Российской империи, а Воронцов — вице-канцлером и графом. Новый канцлер поспешил подать императрице челобитную с изложением всей своей службы, во время которой, получая, действительно, небольшие оклады, он, ради представительских целей, вошёл в долги, и просил, для поддержания себя с достоинством в «новопожалованном из первейших государственных чинов характере», отдать ему в собственность казённые арендные земли в Лифляндии — замок Венден с деревнями, какие принадлежали прежде шведскому канцлеру Оксенширне, на сумму аренды в 3642 ефимка. Просьба его была удовлетворена в декабре 1744 года.[5]
 Грамотой императора Франца I от 2 (13) июня 1745 года Алексей Петрович Бестужев-Рюмин был возведён, с нисходящим его потомством, в графское Священной Римской империи достоинство.
Грамотой императора Франца I от 2 (13) июня 1745 года Алексей Петрович Бестужев-Рюмин был возведён, с нисходящим его потомством, в графское Священной Римской империи достоинство.
Союз с Австрией
Когда Бестужев стал наконец канцлером, внимание европейской дипломатии было сосредоточено на Пруссии, быстрый рост которой грозил опасностью всем соседним государствам. Чтобы сплотить как можно больше сил для противостояния Фридриху, Бестужев спешил присоединиться к варшавскому договору между морскими державами, Австрией и Саксонией. В вопросе этом он встретил неожиданного противника в лице графа Воронцова, который, тяготясь своим подчинённым положением, решил разыграть собственную партию и сделать ставку на сближение с Францией.
В конце 1745 года правительство Бестужева предложило Англии взять на себя продолжение борьбы с Пруссией, за субсидию в 5—6 миллионов. Войска русские уже стягивались в Лифляндию. Однако правившая в то время Ганноверская династия, осознавая уязвимость своих ганноверских владений в случае конфликта с Фридрихом, предпочитала видеть его союзником. Канцлер, сильно раздражённый таким оборотом дел, намекал уже на возможность сближения России с Францией, раз Англия её покидает. Вице-канцлер был намерен привести эту угрозу в исполнение.
Началась долгая и тяжёлая для Бестужева борьба его с вице-канцлером. Судьёй в их полемике была сама императрица. Тщетно ссылался Бестужев на прежние мнения Воронцова, написанные по его внушению; борьба затягивалась и лишала течение дел той последовательности, к которой всегда стремился Бестужев. Его позиции подрывал и собственный беспорядочный образ жизни. Агенты Королевского секрета докладывали из Петербурга, что «большую часть ночи канцлер пьёт и играет, поэтому его голова ещё не вполне ясна, когда он встаёт, для того чтобы заняться делами; оттого он и не может по утрам регулярно приходить ко двору, как другие министры и его соперник вице-канцлер»[6].
Во время поездки Воронцова за границу в 1745 году Бестужев был неприятно поражён дружескими приёмами, какие тому оказывали в Пруссии и во Франции, его сближением с высланной из России принцессой Ангальт-Цербстской. Канцлер доказывал Елизавете перехваченными депешами, что старая франко-прусская интрига теперь выбрала центром своим Воронцова. Императрица была оскорблена. В начале 1746 года начаты были переговоры о союзе с Австрией и 22 мая был подписан договор, которым обе державы обязывались защищать друг друга в случае нападения. К договору было решено пригласить Августа III и короля Англии. Обеспечивая Россию с разных сторон дружественными соглашениями, Бестужев заключил через месяц договор об оборонительном союзе с Данией, а в следующем 1747 году подписал конвенцию с Портой.
Эти дипломатические успехи, направленные на изоляцию Фридриха, сопровождались новою милостью императрицы Бестужеву: ему пожалована конфискованная у графа Остермана приморская мыза «Каменный Нос» в Ингерманландии, переименованная сначала в Графское-Бестужево-Рюмино, а после строительства одноимённой церкви в село Благовещенское.
Иностранные субсидии
«Человек умной, чрез долгую привычку искусный в политических делах, любитель государственной пользы, но пронырлив, зол и мстителен, сластолюбив, роскошен и собственно имеющий страсть к пьянству».
Недоброжелатели Бестужева всегда подчёркивали, что он находится на английском и австрийском содержании. Действительно, как и его предшественники на посту канцлера, Бестужев охотно принимал иностранные субсидии[8], преимущественно от дипломатов Англии, Саксонии и Австрии — стран, которым было отведено место союзников России в его дипломатической системе. Представители же Франции и Пруссии тщетно предлагали Бестужеву свои посулы. Когда летом 1745 года он всё-таки принял 50 тысяч рублей от прусского посла Мардефельда, то не только не сделал Пруссии ничего полезного, но тут же сообщил императрице о попытке подкупа «весьма скромной суммой»[8].
Свою финансовую несостоятельность Бестужев оправдывал перед императрицей необходимостью в представительских целях содержать в столице роскошный дворец. Для этой цели он затеял перестройку дома на набережной Невы и заложил на Каменном острове загородную резиденцию. Для её строительства на берега Невы были переведены крепостные из Малороссии, а их поселение получило название Новой Деревни. Ещё большие суммы канцлер спускал за карточным столом. «Расточительность Бестужева поразительна. Он получил два дня назад от Претлака 10 тыс. червонцев и уже проиграл из них 1200. Боюсь, он скоро опять будет разорён», — писал один из дипломатов в Лондон[8]. Чтобы не давать козырей своим политическим противникам, Бестужев не скрывал от императрицы свои «займы» у иностранных посланников:
Глава Коллегии иностранных дел вынужден был обратиться к английскому посланнику с просьбой о беспроцентном займе в 10 тыс. ф. ст. под залог дома. Дело было улажено через год. Тогда же Бестужев вновь попросил дать ему 50 тыс. ф. ст. под залог дворца на Каменном острове. Акт принятия займа канцлер тщательно продумал: пригласил множество свидетелей, среди которых были и его враги[8].
Окружение Бестужева
При дворе Елизаветы канцлер Бестужев стремился проводить самостоятельную политику. В военном ведомстве его единомышленниками считались А. Б. Бутурлин и С. Ф. Апраксин. Доклады императрице Бестужев поначалу делал через кабинет-секретаря И. А. Черкасова, с которым сохранял дружеские отношения до 1747 года[9]. После этого он старался делать доклады лично либо через В. И. Демидова, облечённого особым доверием императрицы.
Бестужев держал под своим контролем почтовое ведомство, где вскрывались и дешифровывались депеши иностранных дипломатов. «Я неусыпно старался все чужестранных министров письма прочитывать», — писал близкий к Бестужеву почт-директор Фридрих Аш[8].
Подбирая своих сотрудников, Бестужев обращал внимание на готовность к риску. Сохранились записки польского дворянина, который обратил на себя внимание канцлера, заложив в его доме банк на крупную сумму: «Граф Бестужев не оставлял меня без дела: я имел тайные и щекотливые поручения в Нарве и в небольшой Шлиссельбургской крепости. Дабы я не нуждался в средствах, его сиятельство снабжал меня время от времени деньгами от 50 до 100 рублей»[10].
До 1754 года личным секретарём Бестужева был хорошо образованный Дмитрий Волков, но он, запутавшись в долгах, совершил растрату казённых средств и сбежал из столицы[11]. Волкова сменил Юберкампф, бывший секретарь императрицы (после ареста своего покровителя выслан в Сибирь). К середине 1750-х гг., растеряв былых союзников, Бестужев оказывается в политической изоляции. Он противодействует курсу на сближение с Францией практически в одиночку, не замечая, что реалии текущего момента требуют пересмотра его дипломатической «системы»[12].
Дипломатическая революция
В начале 1747 года Бестужев поднял вопрос об английских субсидиях для содержания значительного корпуса войск в Курляндии и Лифляндии. Воронцов и тайные советники коллегии иностранных дел представили ряд придирчивых возражений на проект договора. Англо-русская конвенция тем не менее состоялась, и, кроме того, вспомогательный корпус был отправлен на Рейн. Но постоянные отдельные победы над противниками не уничтожили утомительной вражды канцлера с коллегией иностранных дел, где господствовало влияние Воронцова. Не доверяя своим советникам, Бестужев не бывал в присутствиях и вёл дела, насколько мог, единолично.
В конце 1748 года Бестужеву удалось найти способ нанести противникам сильный удар. Прусскими депешами он доказал, что Лесток и Воронцов получают пенсии из прусской казны. Лесток был сослан, Воронцов остался невредим, но потерял на время вес и влияние. Момент полной победы Бестужева над соперниками совпал с проведением Ахенского конгресса, прекратившего войну за австрийское наследство. Мир был заключён без участия России, её союзники помирились с врагами, и, утомлённые войной, стали менять отношение к России.
Бестужев, однако, слишком поздно заметил, что положение дел сильно изменилось, что дело идёт к сближению между Англией и Пруссией, которое неизбежно бросит Францию на сторону врагов Фридриха. Его противники не замедлили воспользоваться обстоятельствами. Воронцов, как противник английского союза, оказался теперь в выгодном положении: союз оказывался ненадёжным. К нему примкнул и старший брат Бестужева, с которым канцлер давно враждовал из-за личных дел: Михаил не желал подчиняться младшему брату как главе фамилии[13].
Хотя ближайшие годы после Ахенского мира тянулись без крупных событий, за кулисами подготавливалась капитальная перегруппировка держав, получившая название дипломатической революции. Осенью 1755 года Англия начала переговоры с Фридрихом II о союзе, который и был оформлен 16 января 1756 года, а 2 мая союзный трактат подписали Франция и Австрия. Под 250 годами непрерывной вражды Бурбонов и Габсбургов была подведена черта. Тем временем Воронцов деятельно трудился для присоединения России к австро-французскому союзу и всячески тормозил дело о субсидиях, которые Бестужев всё ещё готов был принять от Англии.
Положение Бестужева в 1750-х годах стало тяжелее прежнего. «Обыкновенно он оканчивал день, напиваясь с одним или двумя приятелями. Несколько раз являлся он в нетрезвом виде к императрице Елизавете, которая питала отвращение к этому пороку, что навредило ему в её глазах», — пишет Понятовский[14]. Волей императрицы управлял новый фаворит И. И. Шувалов, а во время частых её недомоганий он становился единственным докладчиком по всем делам. Воронцов поддерживал с Шуваловым сердечные отношения. В иностранной коллегии дело дошло до того, что канцлер не мог по усмотрению перевести секретаря из одного посольства в другое, а его предписания попросту не исполнялись. Когда в ходе переговоров о конвенции и субсидиях английский посол Уильямс наконец раскрыл существование англо-прусского союза, удар для канцлера оказался неожиданным. Этот факт в глазах императрицы оправдывал его противников.
Руководство внешней политикой России ускользало из рук Бестужева. По его инициативе была организована конференция министров для обсуждения важных политических дел и скорейшего выполнения высочайших повелений. Она состояла из 10 лиц (считая великого князя) и должна была собираться при дворе два раза в неделю. Первое собрание состоялось 14 марта 1754 года, и к 30 марта она выработала программу, предписывавшую соглашение с венским двором о войне против Фридриха, пока Англия занята борьбой с французами. Для этого предполагалось сближение союзных держав с Францией и Польшей, укрепление мира со шведами и турками.
Бестужев к этому времени «превратился в номинального канцлера, командира без команды, что его крайне тяготило»[12]. Поиски новых союзников при дворе сблизили его с великой княгиней Екатериной Алексеевной. По рассказу последней, осенью 1755 года, когда Петербург был встревожен известием о плохом состоянии здоровья императрицы, канцлер взялся доставить ей участие в правлении её супруга с тем, чтобы ему, Бестужеву, поручили три коллегии — иностранных дел, военную и адмиралтейскую. В этой интриге принимали активное участие Уильямс и фаворит Екатерины — Понятовский. Но 22 октября императрица пошла на поправку, и дело было оставлено.
Отставка и следствие
 Наследник престола Пётр Фёдорович, почитатель Фридриха, ненавидел Бестужева; в свою очередь, и Пётр Фёдорович был ненавидим канцлером, так что, когда родился Павел Петрович, то Бестужев, по официальной версии, вздумал лишить родителя престола и упрочить его за Павлом Петровичем под опекунством Екатерины. Когда в 1757 году тяжкая болезнь постигла Елизавету, Бестужев, думая, что императрица уже не встанет, самовольно написал генерал-фельдмаршалу Апраксину возвратиться в Россию, что Апраксин и исполнил. Но Елизавета Петровна оправилась от болезни. Разгневанная на Бестужева за его своеволие, императрица 27 февраля 1758 года лишила канцлера графского достоинства, чинов и знаков отличий.
Наследник престола Пётр Фёдорович, почитатель Фридриха, ненавидел Бестужева; в свою очередь, и Пётр Фёдорович был ненавидим канцлером, так что, когда родился Павел Петрович, то Бестужев, по официальной версии, вздумал лишить родителя престола и упрочить его за Павлом Петровичем под опекунством Екатерины. Когда в 1757 году тяжкая болезнь постигла Елизавету, Бестужев, думая, что императрица уже не встанет, самовольно написал генерал-фельдмаршалу Апраксину возвратиться в Россию, что Апраксин и исполнил. Но Елизавета Петровна оправилась от болезни. Разгневанная на Бестужева за его своеволие, императрица 27 февраля 1758 года лишила канцлера графского достоинства, чинов и знаков отличий.
Подробности этого дела следующие. Когда в 1755 году началась Семилетняя война, с подачи Бестужева командующим был назначен его соратник Апраксин. Медлительность, с какой тот открыл военные действия, нерешительность, с какой он их вёл, вызывали общее негодование. Канцлер торопил Апраксина и собственными письмами, и через великую княгиню Екатерину Алексеевну. При дворе распускали слухи, что отступление Апраксина после победы при Гросс-Егерсдорфе — плод бестужевской интриги по делу о престолонаследии. Его поставили в связь с новой болезнью Елизаветы, хотя она захворала 8 сентября, а донесение об отступлении было получено в Петербурге ещё 27 августа. На защиту Апраксина выступил граф П. И. Шувалов, однако по настоянию Бестужева главнокомандующий был смещён.
Беды канцлера на этом не окончились. Бестужев показывал письма Екатерины к Апраксину австрийскому генералу Буккову, чтобы убедить его в своей лояльности. Австрийский посол Эстергази не забыл о том, как упорно Бестужев противился сближению обеих империй с Францией, и донёс об этой переписке императрице, придав ей характер интриги. При въезде в Россию Апраксина задержали и отобрали всю переписку. Так императрице стало известно о сношениях Бестужева с молодым двором. Хотя в захваченных в Нарве бумагах не было ничего предосудительного, Эстергази и французский посол Лопиталь решили отделаться от своевольного Бестужева[15]. Последний заявил Воронцову, что, если через две недели Бестужев будет ещё канцлером, то он прервёт сношения с Воронцовым и будет впредь обращаться к Бестужеву.
Воронцов с Шуваловым поддались настояниям и сумели в феврале 1758 года довести дело до ареста Бестужева и его бумаг. Чашу весов против канцлера склонила жалоба великого князя Петра Фёдоровича, составленная, очевидно, Брокдорфом. В тот же день 14 февраля были взяты под стражу люди из окружения Бестужева и Екатерины — учитель словесности В. Е. Ададуров, голштинский советник Штамбке, генерал-квартирмейстер Вермач, бриллиантщик Бернарди, а также И. П. Елагин. Всех их ожидала ссылка. По свидетельству современника, канцлер во время ареста «улыбался сардонически»[16] и, по словам Понятовского, не только «не выказал ни страха, ни отчаяния», но сохранял весёлость и «даже угрожал своим врагам»[14].
Бестужев успел сжечь всё компрометирующее и сообщил об этом Екатерине; но переписка, начавшаяся таким образом, была перехвачена. Это дало новый материал следственной комиссии, состоявшей из Трубецкого, Бутурлина и А. Шувалова[17]. Бестужева обвиняли в том, что он старался восстановить императрицу и молодой двор друг против друга, не донёс о предосудительной медлительности Апраксина, а постарался сам исправить дело личным влиянием, делая себя соправителем и впутав в дела такую персону, которой участия в них иметь не надлежало; и, наконец, будучи под арестом, завёл тайную переписку. За все эти вины комиссия приговорила Бестужева к смертной казни. Тогда же вскрылись и колоссальные долги канцлера:
В 1760 г. задолженность бывшего канцлера казне и различным государственным учреждениям составляла 75610 руб. В середине 1750-х гг. с московского почтамта было взято 6141 руб. 37 копеек. Подобные займы могли, по-видимому, иметь место и на других почтамтах. Для печатания книг и планов в Академии наук А. П. Бестужев занял 543 руб. 90 копеек. С 1747 г. сохранялся долг за «иллюминацию и магазины к ней» в размере 963 руб. 65 1/2 коп., взятых в канцелярии артиллерии и фортификации. Главная полицмейстерская канцелярия не дополучила с дворов старого графа 461 руб. 84 1/2 копеек[8].
Жизнь в ссылке
 В апреле 1759 года императрица Елизавета повелела сослать экс-канцлера в выбранное им самим имение Горетово (как Бестужев его назвал по этому случаю), в Можайский уезд. Бо́льшая часть недвижимости (кроме Каменного острова) осталась за ним. С тех пор и до середины 1762 года Бестужев с семьёю жил в Горетове, на первых порах в дымной избе, а потом в новом доме, который он окрестил «обителью печали»[18]. Его супруга, Анна Ивановна, урожденная Бёттигер, лютеранка, скончалась тут 25 декабря 1761 года.
В апреле 1759 года императрица Елизавета повелела сослать экс-канцлера в выбранное им самим имение Горетово (как Бестужев его назвал по этому случаю), в Можайский уезд. Бо́льшая часть недвижимости (кроме Каменного острова) осталась за ним. С тех пор и до середины 1762 года Бестужев с семьёю жил в Горетове, на первых порах в дымной избе, а потом в новом доме, который он окрестил «обителью печали»[18]. Его супруга, Анна Ивановна, урожденная Бёттигер, лютеранка, скончалась тут 25 декабря 1761 года.
В надежде вернуться ко двору Бестужев вёл из деревни переписку с духовником царицы Ф. Я. Дубянским и промышленником П. А. Демидовым. Ссылку свою Алексей Петрович, по свидетельству знавших его, снёс с твёрдостью. Его настроение сказалось в изданной позднее, в 1763 году, но составленной в Горетове, книге: «Избранные из Св. Писания изречения во утешение всякого неповинно претерпевающего христианина». К печатному изданию было составлено предисловие ректором московской духовной академии Гавриилом Петровым, и приложен оправдывавший Бестужева манифест императрицы Екатерины. Гавриил перевёл книгу на латинский язык[19].
Кроме того, Бестужев тешил себя любимым медальерным искусством. В память беды своей он отчеканил медаль с портретом своим и надписью: «Alexius Comes A. Bestuschef Riumin, Imр. Russ. olim. cancelar., nunc. senior. exercit. dux. consil. actu. intim. et senat prim. J. G. W. f. (J. g. Wächter fecit)». На обороте — две скалы среди бушующих волн, с одной стороны озарённые солнцем, с другой громимые грозой — и надпись: «immobilis. in. mobili», а внизу: «Semper idem» и год 1757 (второй чекан 1762 г.).
Реабилитация
Восшествие на престол Петра III, принёсшее свободу многим ссыльным прошлого царствования, не могло улучшить положение Бестужева. Новый император говорил про него:
 Но июньский переворот 1762 года снова вернул Бестужеву влиятельное положение. Вступив на престол, Екатерина II не замедлила вернуть в Петербург своего недавнего союзника. Курьер с этим приказом уже 1 июля был в Москве, а в середине июля Бестужев находился при дворе. В 30 верстах от столицы его встретил Григорий Орлов. Императрица приняла старика, заметно одряхлевшего, самым дружеским образом. Но официальной должности ему занять не пришлось, хотя Екатерина постоянно обращалась к нему за советом по разным важным вопросам.
Но июньский переворот 1762 года снова вернул Бестужеву влиятельное положение. Вступив на престол, Екатерина II не замедлила вернуть в Петербург своего недавнего союзника. Курьер с этим приказом уже 1 июля был в Москве, а в середине июля Бестужев находился при дворе. В 30 верстах от столицы его встретил Григорий Орлов. Императрица приняла старика, заметно одряхлевшего, самым дружеским образом. Но официальной должности ему занять не пришлось, хотя Екатерина постоянно обращалась к нему за советом по разным важным вопросам.
Бестужеву мало было милости; он просил торжественного оправдания и добился назначения комиссии для пересмотра его дела. 31 августа 1762 года был обнародован манифест, который велено было выставить в публичных местах и даже прочесть в храмах. Тут объявлялось, что Екатерина из любви и почтения к Елизавете и по долгу справедливости считает нужным исправить невольную ошибку покойной императрицы и оправдать Бестужева в возведённых на него преступлениях.
Старику были возвращены (со старшинством) прежние чины и ордена и назначен пенсион по 20.000 рублей в год. Екатерина переименовала Бестужева в генерал-фельдмаршалы (хотя он никогда не воевал), назначив «первым Императорским советником и первым членом нового, учреждаемого при дворе императорского совета». Восхищённый Бестужев дважды предлагал Сенату и комиссии о дворянстве поднести Екатерине титул «матери отечества», что она отклонила.
Последние годы
Привлекая Бестужева к советам по иностранным делам, Екатерина II назначила его первоприсутствующим в Сенате и членом «комиссии о русском дворянстве», которой поручен пересмотр жалованной грамоты дворянству. Во всяких обстоятельствах Бестужев играл роль первого сановника, но его действительное влияние было незначительно[20]. Его ученик Панин и другие люди нового чекана сменили государственного деятеля петровской выучки. Пост канцлера остался за Воронцовым. Попытки Бестужева вернуться к дипломатической деятельности вежливо пресекались.
Екатерина стала охладевать к Бестужеву, когда он вступился за Арсения Мацеевича, просил «о показании ему монаршего и материнского милосердия» и скорее кончить дело, избегая смущающей общество огласки. Императрица ответила резким письмом. Старик униженно извинился.
 В борьбе придворных группировок Бестужев поддерживал братьев Орловых и противодействовал партии Панина. В 1763 году Бестужев думал угодить, составив прошение о браке императрицы с Григорием Орловым, но затея вызвала толки, кончившиеся неприятным для императрицы следственным делом о заговоре против Орловых.
В борьбе придворных группировок Бестужев поддерживал братьев Орловых и противодействовал партии Панина. В 1763 году Бестужев думал угодить, составив прошение о браке императрицы с Григорием Орловым, но затея вызвала толки, кончившиеся неприятным для императрицы следственным делом о заговоре против Орловых.
Окончательное устранение Бестужева от дел было вызвано его противодействием Екатерине и Панину по польским делам. Когда императрица решила возвести на польский престол Понятовского, бывший канцлер поддерживал права на престол Саксонского дома.
В конце 1763 года девятилетний Павел Петрович пожаловал Бестужеву голштинский орден св. Анны 1-й степени. Тогда же было велено уплатить ему содержание за все годы ссылки и вернуть всё конфискованное имущество, уплатив его долги из казны. В 1764 году, при разделении Сената на департаменты, Бестужев был зачислен в первый департамент, но за дряхлостью уволен от присутствия.
Внезапная опала и «чудесное» прощение заставили старика искать утешения в религии. За два года перед смертью он соорудил в Москве, у Арбатских ворот, храм во имя св. Бориса и Глеба, где и был похоронен[21]. Существует также предание о том, что именно Бестужев ассигновал средства на строительство самого большого в Замоскворечье храма, Клементьевского[22].
Покровительством его (вероятно, под влиянием жены) пользовалась и петербургская лютеранская церковь св. Петра и Павла. Ещё в начале царствования Елизаветы Петровны православнее духовенство потребовало удаления этой церкви с Невского проспекта, думая соорудить на её месте собор Казанской Божьей Матери. Бестужев отстоял кирку и до конца дней своих ей покровительствовал.
Кончину свою Бестужев заранее увековечил медалью; её лицевая сторона та же, что у медали 1747 года, а на обратной — катафалк между четырьмя пальмами; на нём — урна с гербом графов Бестужевых-Рюминых, по обеим сторонам аллегорические фигуры: слева — Постоянство, опирающееся на колонку, венчает урну лаврами; справа — Вера, с крестом в руке, возлагает на неё пальмовую ветвь; сверху надпись: «tertio triumphat», а внизу: «post. duos. in. vita. de. inimicis. triumphos. de. morte. triumphat. nat. MDCXCIII den. MDCCL… aetat…».
Личная жизнь
Алексей Петрович Бестужев-Рюмин был женат на немке Анне Ивановне Бёттихер (ум. в 1761 году), дочери российского дипломатического представителя в Гамбурге, получившей в 1748 году придворное звание гофмейстерины. Из троих сыновей Пётр, упоминаемый в письме отца от 1742 года как совершеннолетний, и другой, имя которого неизвестно, умерли до 1759 года. Зрелых лет достиг только сын Андрей Алексеевич (1726—1768), проводивший жизнь в пьянстве и кутежах. Детей он не оставил, и с его смертью пресеклась графская ветвь рода Бестужевых. Имения Алексея и Михаила Бестужевых поделили их племянники Михаил и Алексей Волконские.
По свидетельствам иностранных дипломатов, канцлер Бестужев до глубокой ночи играл в карты на крупные суммы, а утром спал до 12 часов дня. Пристрастие канцлера к крепким напиткам было хорошо известно; ещё при аресте в 1740 году у него была конфискована целая винотека. По сведениям Щербатова, Бестужев «имел толь великой погреб, что он знатной капитал составил, когда после смерти его был продан графом Орловым»[7]. В 1745-1749 гг. британский посланник «преподнёс канцлеру вино, пиво и ликёры общей стоимостью в 70 фунтов стерлингов»[8]. Накануне Семилетней войны этот дипломат сетовал[8]:
Благодаря ленивому, беспорядочному образу жизни, которому предался канцлер, во всех делах произошла полная остановка. В его доме постоянно ведется большая игра, они пьянствуют всю ночь, и, следовательно, должны отдыхать весь день. Его дом скорее походит на швейцарскую, чем на дом первого министра.
Много неблагоприятных отзывов о Бестужеве оставили его недруги — прусские дипломаты. По словам Финка фон Финкенштейна, русский канцлер «весьма трудолюбив и порою все ночи за работой проводит, отдохновение же черпает в вине, кое употребляет без меры, разуму и здоровью во вред». По характеристике Мардефельда, Бестужев «отпетый плут и разговаривает уверенно, лишь когда разогреет себя вином; кто поит его с утра до вечера, тот, пожалуй, услышит от него словцо острое»[8].
Капли Бестужева
 Во время пребывания в Копенгагене Бестужев, большой любитель химии, изобрёл «жизненные капли» (tinctura tonico-nervina Bestuscheffi), спирто-эфирный раствор полуторахлористого железа, которым лечили множество болезней — от припадков падучей до закупорки сосудов[23]. Помогавший ему в их изготовлении химик Лембке продал в Гамбурге секрет французскому бригадиру де Ламотту, который представил капли французскому королю и получил за это большую награду. Во Франции бестужевские капли стали известны под названием élixir d’or, или élixir de Lamotte. Позднее сам Бестужев открыл свой секрет петербургскому аптекарю Моделю (впоследствии академику), от которого секрет перешел к аптекарю Дуропу; вдова Дуропа продала его за 3000 рублей императрице Екатерине II, по повелению которой рецепт был опубликован в «С.-Петербургском вестнике» за 1780 год.
Во время пребывания в Копенгагене Бестужев, большой любитель химии, изобрёл «жизненные капли» (tinctura tonico-nervina Bestuscheffi), спирто-эфирный раствор полуторахлористого железа, которым лечили множество болезней — от припадков падучей до закупорки сосудов[23]. Помогавший ему в их изготовлении химик Лембке продал в Гамбурге секрет французскому бригадиру де Ламотту, который представил капли французскому королю и получил за это большую награду. Во Франции бестужевские капли стали известны под названием élixir d’or, или élixir de Lamotte. Позднее сам Бестужев открыл свой секрет петербургскому аптекарю Моделю (впоследствии академику), от которого секрет перешел к аптекарю Дуропу; вдова Дуропа продала его за 3000 рублей императрице Екатерине II, по повелению которой рецепт был опубликован в «С.-Петербургском вестнике» за 1780 год.
Художественный образ
В литературе
- Один из многочисленных персонажей трилогии В. Пикуля «Слово и дело», «Пером и шпагой», «Фаворит». Во второй книге — один из главных героев.
- Алексей Бестужев фигурирует как один из персонажей серии романов Нины Соротокиной «Трое из навигацкой школы», «Свидание в Петербурге», «Канцлер».
В телесериалах
- «Гардемарины, вперёд!» (1987). В роли Бестужева — Евгений Евстигнеев.
- «Виват, гардемарины!» (1991). В роли Бестужева — Евгений Евстигнеев.
- «Гардемарины — III» (1992). В роли Бестужева — Евгений Евстигнеев.
- «Пером и шпагой» (2007). В роли Бестужева — Юрий Лазарев.
- «Екатерина», режиссёры Александр Баранов, Рамиль Сабитов (2014). В роли Бестужева — Владимир Меньшов.
- «Великая», режиссёр Игорь Зайцев (2015). В роли Бестужева — Сергей Шакуров.
В мультипликации
- В японском аниме «Шевалье д’Эон» (2007) канцлер Бестужев показан ксенофобом и женоненавистником.
См. также
Напишите отзыв о статье "Бестужев-Рюмин, Алексей Петрович"
Примечания
- ↑ Граф Российской империи (с 1742, лишён графского достоинства в 1758, возвращено в 1762), граф Римской империи (с 1745).
- ↑ Сохранился только немецкий перевод в венском архиве.
- ↑ Из-за восхваляющей Петра надписи медаль на королевском монетном дворе чеканить отказались, и Бестужеву пришлось заказывать её в Гамбурге.
- ↑ С 1745 слова «великий» и «государственный» были вычеркнуты из титула канцлера.
- ↑ В 1750-е гг. лифляндские поместья приносили Бестужеву 30 тыс. руб. ежегодного дохода.
- ↑ Сборник Русского исторического общества. Т. 148 (1916). С. 139—140, с. 437.
- ↑ 1 2 М. Щербатов. О повреждении нравов в России. М. 1983. С. 57, 59.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 М. А. Емелина. Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. // Вопросы истории. — 2007. — N 7. — С. 29-45.
- ↑ «С графом Бестужевым разлучить его никому не по силам, кроме разве графа Воронцова», — писал про их отношения Мардефельд.
- ↑ Превратности судьбы с подробным повествованием о весьма необыкновенных обстоятельствах, приключившихся с одним польским дворянином. // Русский архив. Кн. 1. Вып. 4. 1898, с. 506 - 508.
- ↑ Впоследствии именно Волков будет вести следственный журнал по делу опального канцлера.
- ↑ 1 2 Бестужев-Рюмин А. П. Письмо сыну Бестужеву-Рюмину А. А., 1759 г. / Публ. [вступ. ст. и примеч.] К. А. Писаренко // Российский Архив. М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 2005. Т. XIV. С. 92—110.
- ↑ Главной причиной разлада между братьями был вопрос о браке вдовой сестры, которая жила тогда в Курляндии. Алексей препятствовал браку, а Михаил пенял ему на это, что «есть бесчестно и неприлично с родною своею сестрою так inhumanement, отчего показуется немилосердное сердце; я истинно не для неё пишу, но сожалею о честном имени брата моего».
- ↑ 1 2 С. Понятовский. Записки. // Вестник Европы. Т. 1. Кн. 1. 1908, с. 31, 51-53.
- ↑ В одной из первых же депеш из Петербурга граф Эстергази признавался, что «обошелся бы в сношениях с русским двором без Бестужева, так как тот, при своей склонности напиваться, редко бывал годен для деловых разговоров».
- ↑ Записки г. де ля Мессельера о пребывании его в России с мая 1757 по март 1759 года. // Русский архив за 1874 г. Кн. 1, №4, с. 993.
- ↑ Граф Бутурлин признавался: «Бестужев арестован, а мы теперь ищем причины, за что его арестовали».
- ↑ [vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/HISTORY/BEST.HTM VIVOS VOCO: М.Ю. Анисимов, "Российский дипломат А.П. Бестужев-Рюмин"]
- ↑ Кроме того, она была издана в Петербурге по-немецки, в том же году в Гамбурге и в 1764 г. — в Стокгольме, по-французски (1763 г., в СПб.), и по-шведски (1764 г., в Стокгольме).
- ↑ «Бестужев почти не имеет кредита у меня, и я советуюсь с ним лишь для виду», — писала Екатерина Понятовскому.
- ↑ По другим сведениям, прощание с бывшим канцлером проходило в Александро-Невской лавре. Опубликована речь архиепископа Платона, произнесённая по этому случаю. См.: Платон, архиепископ Московский и Калужский. Поучительные слова При Высочайшем Дворе Ея Императорскаго Величества Благочестивейшия Великия Государыни Екатерины Алексеевны Самодержицы Всероссийския и в других местах с 1763 по 1780 год сказыванныя. Т. 2. М. 1780, с. 28-29.
- ↑ [www.klement.ru/news/180/ Московский храм римского папы. Статья "Москва: сегодня и завтра" - Новости]
- ↑ Бестужевские капли // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
Источники
- A. Пресняков. Бестужев-Рюмин, Алексей Петрович // Русский биографический словарь : в 25 томах. — СПб.—М., 1896—1918.
- Емелина М. А. Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. // Вопросы истории. - 2007. - N 7. - С. 29-45.
- Фурсенко В. В. Политическая и дипломатическая деятельность Бестужевых-Рюминых (1708—1731 гг.). Канд. дисс. Л., 1941.
- Щепкин Е. Н. Русско-австрийский союз во время Семилетней войны (1746—1758 гг.) СПб, 1902.
Ссылки
- Бестужев-Рюмин, Алексей Петрович, граф // Военная энциклопедия : [в 18 т.] / под ред. В. Ф. Новицкого [и др.]. — СПб. ; [М.] : Тип. т-ва И. В. Сытина, 1911—1915.</span>
- Бестужевы и Бестужевы-Рюмины // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- Бантыш-Каменский, Д. Н. 24-й генерал-фельдмаршал граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин // [militera.lib.ru/bio/bantysh-kamensky/27.html Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. В 4-х частях. Репринтное воспроизведение издания 1840 года. Часть 1–2]. — М.: Культура, 1991. — 620 с. — ISBN 5-7158-0002-1.
- [www.runivers.ru/doc/d2.php?CENTER_ELEMENT_ID=434875&PORTAL_ID=7163&SECTION_ID=7163 Ссора двух педантов: Жалоба канцлера А. П. Бестужева-Рюмина на советника И. Д. Шумахера] // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 2007.
- [memoirs.ru/texts/Bestuz_RS76_15_1.htm Бестужев-Рюмин А. П. Письмо канцлера Бестужева-Рюмина к И. Д. Бестужеву-Рюмину от 10 июля 1764 г. / Сообщ. К. Н. Бестужев-Рюмин // Русская старина, 1876. — Т. 15. — № 1. — С. 211—212.]
- [memoirs.ru/files/1188BestuzevPKP.rar Бестужев-Рюмин А. П. Письмо канцлера Бестужева-Рюмина к константинопольскому патриарху от 30 июля 1745 г. // Русский архив, 1865. — Изд. 2-е. — М., 1866. — Стб. 351—354.]
- [vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/HISTORY/BEST.HTM Анисимов М. Ю. Российский дипломат А. П. Бестужев-Рюмин (1693—1766)// Новая и новейшая история, 2005, № 6.]
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Отрывок, характеризующий Бестужев-Рюмин, Алексей Петрович
Лазарев сидел на почетном месте; его обнимали, поздравляли и жали ему руки русские и французские офицеры. Толпы офицеров и народа подходили, чтобы только посмотреть на Лазарева. Гул говора русского французского и хохота стоял на площади вокруг столов. Два офицера с раскрасневшимися лицами, веселые и счастливые прошли мимо Ростова.– Каково, брат, угощенье? Всё на серебре, – сказал один. – Лазарева видел?
– Видел.
– Завтра, говорят, преображенцы их угащивать будут.
– Нет, Лазареву то какое счастье! 10 франков пожизненного пенсиона.
– Вот так шапка, ребята! – кричал преображенец, надевая мохнатую шапку француза.
– Чудо как хорошо, прелесть!
– Ты слышал отзыв? – сказал гвардейский офицер другому. Третьего дня было Napoleon, France, bravoure; [Наполеон, Франция, храбрость;] вчера Alexandre, Russie, grandeur; [Александр, Россия, величие;] один день наш государь дает отзыв, а другой день Наполеон. Завтра государь пошлет Георгия самому храброму из французских гвардейцев. Нельзя же! Должен ответить тем же.
Борис с своим товарищем Жилинским тоже пришел посмотреть на банкет преображенцев. Возвращаясь назад, Борис заметил Ростова, который стоял у угла дома.
– Ростов! здравствуй; мы и не видались, – сказал он ему, и не мог удержаться, чтобы не спросить у него, что с ним сделалось: так странно мрачно и расстроено было лицо Ростова.
– Ничего, ничего, – отвечал Ростов.
– Ты зайдешь?
– Да, зайду.
Ростов долго стоял у угла, издалека глядя на пирующих. В уме его происходила мучительная работа, которую он никак не мог довести до конца. В душе поднимались страшные сомнения. То ему вспоминался Денисов с своим изменившимся выражением, с своей покорностью и весь госпиталь с этими оторванными руками и ногами, с этой грязью и болезнями. Ему так живо казалось, что он теперь чувствует этот больничный запах мертвого тела, что он оглядывался, чтобы понять, откуда мог происходить этот запах. То ему вспоминался этот самодовольный Бонапарте с своей белой ручкой, который был теперь император, которого любит и уважает император Александр. Для чего же оторванные руки, ноги, убитые люди? То вспоминался ему награжденный Лазарев и Денисов, наказанный и непрощенный. Он заставал себя на таких странных мыслях, что пугался их.
Запах еды преображенцев и голод вызвали его из этого состояния: надо было поесть что нибудь, прежде чем уехать. Он пошел к гостинице, которую видел утром. В гостинице он застал так много народу, офицеров, так же как и он приехавших в статских платьях, что он насилу добился обеда. Два офицера одной с ним дивизии присоединились к нему. Разговор естественно зашел о мире. Офицеры, товарищи Ростова, как и большая часть армии, были недовольны миром, заключенным после Фридланда. Говорили, что еще бы подержаться, Наполеон бы пропал, что у него в войсках ни сухарей, ни зарядов уж не было. Николай молча ел и преимущественно пил. Он выпил один две бутылки вина. Внутренняя поднявшаяся в нем работа, не разрешаясь, всё также томила его. Он боялся предаваться своим мыслям и не мог отстать от них. Вдруг на слова одного из офицеров, что обидно смотреть на французов, Ростов начал кричать с горячностью, ничем не оправданною, и потому очень удивившею офицеров.
– И как вы можете судить, что было бы лучше! – закричал он с лицом, вдруг налившимся кровью. – Как вы можете судить о поступках государя, какое мы имеем право рассуждать?! Мы не можем понять ни цели, ни поступков государя!
– Да я ни слова не говорил о государе, – оправдывался офицер, не могший иначе как тем, что Ростов пьян, объяснить себе его вспыльчивости.
Но Ростов не слушал.
– Мы не чиновники дипломатические, а мы солдаты и больше ничего, – продолжал он. – Умирать велят нам – так умирать. А коли наказывают, так значит – виноват; не нам судить. Угодно государю императору признать Бонапарте императором и заключить с ним союз – значит так надо. А то, коли бы мы стали обо всем судить да рассуждать, так этак ничего святого не останется. Этак мы скажем, что ни Бога нет, ничего нет, – ударяя по столу кричал Николай, весьма некстати, по понятиям своих собеседников, но весьма последовательно по ходу своих мыслей.
– Наше дело исполнять свой долг, рубиться и не думать, вот и всё, – заключил он.
– И пить, – сказал один из офицеров, не желавший ссориться.
– Да, и пить, – подхватил Николай. – Эй ты! Еще бутылку! – крикнул он.
В 1808 году император Александр ездил в Эрфурт для нового свидания с императором Наполеоном, и в высшем Петербургском обществе много говорили о величии этого торжественного свидания.
В 1809 году близость двух властелинов мира, как называли Наполеона и Александра, дошла до того, что, когда Наполеон объявил в этом году войну Австрии, то русский корпус выступил за границу для содействия своему прежнему врагу Бонапарте против прежнего союзника, австрийского императора; до того, что в высшем свете говорили о возможности брака между Наполеоном и одной из сестер императора Александра. Но, кроме внешних политических соображений, в это время внимание русского общества с особенной живостью обращено было на внутренние преобразования, которые были производимы в это время во всех частях государственного управления.
Жизнь между тем, настоящая жизнь людей с своими существенными интересами здоровья, болезни, труда, отдыха, с своими интересами мысли, науки, поэзии, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей, шла как и всегда независимо и вне политической близости или вражды с Наполеоном Бонапарте, и вне всех возможных преобразований.
Князь Андрей безвыездно прожил два года в деревне. Все те предприятия по именьям, которые затеял у себя Пьер и не довел ни до какого результата, беспрестанно переходя от одного дела к другому, все эти предприятия, без выказыванья их кому бы то ни было и без заметного труда, были исполнены князем Андреем.
Он имел в высшей степени ту недостававшую Пьеру практическую цепкость, которая без размахов и усилий с его стороны давала движение делу.
Одно именье его в триста душ крестьян было перечислено в вольные хлебопашцы (это был один из первых примеров в России), в других барщина заменена оброком. В Богучарово была выписана на его счет ученая бабка для помощи родильницам, и священник за жалованье обучал детей крестьянских и дворовых грамоте.
Одну половину времени князь Андрей проводил в Лысых Горах с отцом и сыном, который был еще у нянек; другую половину времени в богучаровской обители, как называл отец его деревню. Несмотря на выказанное им Пьеру равнодушие ко всем внешним событиям мира, он усердно следил за ними, получал много книг, и к удивлению своему замечал, когда к нему или к отцу его приезжали люди свежие из Петербурга, из самого водоворота жизни, что эти люди, в знании всего совершающегося во внешней и внутренней политике, далеко отстали от него, сидящего безвыездно в деревне.
Кроме занятий по именьям, кроме общих занятий чтением самых разнообразных книг, князь Андрей занимался в это время критическим разбором наших двух последних несчастных кампаний и составлением проекта об изменении наших военных уставов и постановлений.
Весною 1809 года, князь Андрей поехал в рязанские именья своего сына, которого он был опекуном.
Пригреваемый весенним солнцем, он сидел в коляске, поглядывая на первую траву, первые листья березы и первые клубы белых весенних облаков, разбегавшихся по яркой синеве неба. Он ни о чем не думал, а весело и бессмысленно смотрел по сторонам.
Проехали перевоз, на котором он год тому назад говорил с Пьером. Проехали грязную деревню, гумны, зеленя, спуск, с оставшимся снегом у моста, подъём по размытой глине, полосы жнивья и зеленеющего кое где кустарника и въехали в березовый лес по обеим сторонам дороги. В лесу было почти жарко, ветру не слышно было. Береза вся обсеянная зелеными клейкими листьями, не шевелилась и из под прошлогодних листьев, поднимая их, вылезала зеленея первая трава и лиловые цветы. Рассыпанные кое где по березнику мелкие ели своей грубой вечной зеленью неприятно напоминали о зиме. Лошади зафыркали, въехав в лес и виднее запотели.
Лакей Петр что то сказал кучеру, кучер утвердительно ответил. Но видно Петру мало было сочувствования кучера: он повернулся на козлах к барину.
– Ваше сиятельство, лёгко как! – сказал он, почтительно улыбаясь.
– Что!
– Лёгко, ваше сиятельство.
«Что он говорит?» подумал князь Андрей. «Да, об весне верно, подумал он, оглядываясь по сторонам. И то зелено всё уже… как скоро! И береза, и черемуха, и ольха уж начинает… А дуб и не заметно. Да, вот он, дуб».
На краю дороги стоял дуб. Вероятно в десять раз старше берез, составлявших лес, он был в десять раз толще и в два раза выше каждой березы. Это был огромный в два обхвата дуб с обломанными, давно видно, суками и с обломанной корой, заросшей старыми болячками. С огромными своими неуклюжими, несимметрично растопыренными, корявыми руками и пальцами, он старым, сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися березами. Только он один не хотел подчиняться обаянию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца.
«Весна, и любовь, и счастие!» – как будто говорил этот дуб, – «и как не надоест вам всё один и тот же глупый и бессмысленный обман. Всё одно и то же, и всё обман! Нет ни весны, ни солнца, ни счастия. Вон смотрите, сидят задавленные мертвые ели, всегда одинакие, и вон и я растопырил свои обломанные, ободранные пальцы, где ни выросли они – из спины, из боков; как выросли – так и стою, и не верю вашим надеждам и обманам».
Князь Андрей несколько раз оглянулся на этот дуб, проезжая по лесу, как будто он чего то ждал от него. Цветы и трава были и под дубом, но он всё так же, хмурясь, неподвижно, уродливо и упорно, стоял посреди их.
«Да, он прав, тысячу раз прав этот дуб, думал князь Андрей, пускай другие, молодые, вновь поддаются на этот обман, а мы знаем жизнь, – наша жизнь кончена!» Целый новый ряд мыслей безнадежных, но грустно приятных в связи с этим дубом, возник в душе князя Андрея. Во время этого путешествия он как будто вновь обдумал всю свою жизнь, и пришел к тому же прежнему успокоительному и безнадежному заключению, что ему начинать ничего было не надо, что он должен доживать свою жизнь, не делая зла, не тревожась и ничего не желая.
По опекунским делам рязанского именья, князю Андрею надо было видеться с уездным предводителем. Предводителем был граф Илья Андреич Ростов, и князь Андрей в середине мая поехал к нему.
Был уже жаркий период весны. Лес уже весь оделся, была пыль и было так жарко, что проезжая мимо воды, хотелось купаться.
Князь Андрей, невеселый и озабоченный соображениями о том, что и что ему нужно о делах спросить у предводителя, подъезжал по аллее сада к отрадненскому дому Ростовых. Вправо из за деревьев он услыхал женский, веселый крик, и увидал бегущую на перерез его коляски толпу девушек. Впереди других ближе, подбегала к коляске черноволосая, очень тоненькая, странно тоненькая, черноглазая девушка в желтом ситцевом платье, повязанная белым носовым платком, из под которого выбивались пряди расчесавшихся волос. Девушка что то кричала, но узнав чужого, не взглянув на него, со смехом побежала назад.
Князю Андрею вдруг стало от чего то больно. День был так хорош, солнце так ярко, кругом всё так весело; а эта тоненькая и хорошенькая девушка не знала и не хотела знать про его существование и была довольна, и счастлива какой то своей отдельной, – верно глупой – но веселой и счастливой жизнию. «Чему она так рада? о чем она думает! Не об уставе военном, не об устройстве рязанских оброчных. О чем она думает? И чем она счастлива?» невольно с любопытством спрашивал себя князь Андрей.
Граф Илья Андреич в 1809 м году жил в Отрадном всё так же как и прежде, то есть принимая почти всю губернию, с охотами, театрами, обедами и музыкантами. Он, как всякому новому гостю, был рад князю Андрею, и почти насильно оставил его ночевать.
В продолжение скучного дня, во время которого князя Андрея занимали старшие хозяева и почетнейшие из гостей, которыми по случаю приближающихся именин был полон дом старого графа, Болконский несколько раз взглядывая на Наташу чему то смеявшуюся и веселившуюся между другой молодой половиной общества, всё спрашивал себя: «о чем она думает? Чему она так рада!».
Вечером оставшись один на новом месте, он долго не мог заснуть. Он читал, потом потушил свечу и опять зажег ее. В комнате с закрытыми изнутри ставнями было жарко. Он досадовал на этого глупого старика (так он называл Ростова), который задержал его, уверяя, что нужные бумаги в городе, не доставлены еще, досадовал на себя за то, что остался.
Князь Андрей встал и подошел к окну, чтобы отворить его. Как только он открыл ставни, лунный свет, как будто он настороже у окна давно ждал этого, ворвался в комнату. Он отворил окно. Ночь была свежая и неподвижно светлая. Перед самым окном был ряд подстриженных дерев, черных с одной и серебристо освещенных с другой стороны. Под деревами была какая то сочная, мокрая, кудрявая растительность с серебристыми кое где листьями и стеблями. Далее за черными деревами была какая то блестящая росой крыша, правее большое кудрявое дерево, с ярко белым стволом и сучьями, и выше его почти полная луна на светлом, почти беззвездном, весеннем небе. Князь Андрей облокотился на окно и глаза его остановились на этом небе.
Комната князя Андрея была в среднем этаже; в комнатах над ним тоже жили и не спали. Он услыхал сверху женский говор.
– Только еще один раз, – сказал сверху женский голос, который сейчас узнал князь Андрей.
– Да когда же ты спать будешь? – отвечал другой голос.
– Я не буду, я не могу спать, что ж мне делать! Ну, последний раз…
Два женские голоса запели какую то музыкальную фразу, составлявшую конец чего то.
– Ах какая прелесть! Ну теперь спать, и конец.
– Ты спи, а я не могу, – отвечал первый голос, приблизившийся к окну. Она видимо совсем высунулась в окно, потому что слышно было шуршанье ее платья и даже дыханье. Всё затихло и окаменело, как и луна и ее свет и тени. Князь Андрей тоже боялся пошевелиться, чтобы не выдать своего невольного присутствия.
– Соня! Соня! – послышался опять первый голос. – Ну как можно спать! Да ты посмотри, что за прелесть! Ах, какая прелесть! Да проснись же, Соня, – сказала она почти со слезами в голосе. – Ведь этакой прелестной ночи никогда, никогда не бывало.
Соня неохотно что то отвечала.
– Нет, ты посмотри, что за луна!… Ах, какая прелесть! Ты поди сюда. Душенька, голубушка, поди сюда. Ну, видишь? Так бы вот села на корточки, вот так, подхватила бы себя под коленки, – туже, как можно туже – натужиться надо. Вот так!
– Полно, ты упадешь.
Послышалась борьба и недовольный голос Сони: «Ведь второй час».
– Ах, ты только всё портишь мне. Ну, иди, иди.
Опять всё замолкло, но князь Андрей знал, что она всё еще сидит тут, он слышал иногда тихое шевеленье, иногда вздохи.
– Ах… Боже мой! Боже мой! что ж это такое! – вдруг вскрикнула она. – Спать так спать! – и захлопнула окно.
«И дела нет до моего существования!» подумал князь Андрей в то время, как он прислушивался к ее говору, почему то ожидая и боясь, что она скажет что нибудь про него. – «И опять она! И как нарочно!» думал он. В душе его вдруг поднялась такая неожиданная путаница молодых мыслей и надежд, противоречащих всей его жизни, что он, чувствуя себя не в силах уяснить себе свое состояние, тотчас же заснул.
На другой день простившись только с одним графом, не дождавшись выхода дам, князь Андрей поехал домой.
Уже было начало июня, когда князь Андрей, возвращаясь домой, въехал опять в ту березовую рощу, в которой этот старый, корявый дуб так странно и памятно поразил его. Бубенчики еще глуше звенели в лесу, чем полтора месяца тому назад; всё было полно, тенисто и густо; и молодые ели, рассыпанные по лесу, не нарушали общей красоты и, подделываясь под общий характер, нежно зеленели пушистыми молодыми побегами.
Целый день был жаркий, где то собиралась гроза, но только небольшая тучка брызнула на пыль дороги и на сочные листья. Левая сторона леса была темна, в тени; правая мокрая, глянцовитая блестела на солнце, чуть колыхаясь от ветра. Всё было в цвету; соловьи трещали и перекатывались то близко, то далеко.
«Да, здесь, в этом лесу был этот дуб, с которым мы были согласны», подумал князь Андрей. «Да где он», подумал опять князь Андрей, глядя на левую сторону дороги и сам того не зная, не узнавая его, любовался тем дубом, которого он искал. Старый дуб, весь преображенный, раскинувшись шатром сочной, темной зелени, млел, чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца. Ни корявых пальцев, ни болячек, ни старого недоверия и горя, – ничего не было видно. Сквозь жесткую, столетнюю кору пробились без сучков сочные, молодые листья, так что верить нельзя было, что этот старик произвел их. «Да, это тот самый дуб», подумал князь Андрей, и на него вдруг нашло беспричинное, весеннее чувство радости и обновления. Все лучшие минуты его жизни вдруг в одно и то же время вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом, и мертвое, укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотою ночи, и эта ночь, и луна, – и всё это вдруг вспомнилось ему.
«Нет, жизнь не кончена в 31 год, вдруг окончательно, беспеременно решил князь Андрей. Мало того, что я знаю всё то, что есть во мне, надо, чтобы и все знали это: и Пьер, и эта девочка, которая хотела улететь в небо, надо, чтобы все знали меня, чтобы не для одного меня шла моя жизнь, чтоб не жили они так независимо от моей жизни, чтоб на всех она отражалась и чтобы все они жили со мною вместе!»
Возвратившись из своей поездки, князь Андрей решился осенью ехать в Петербург и придумал разные причины этого решенья. Целый ряд разумных, логических доводов, почему ему необходимо ехать в Петербург и даже служить, ежеминутно был готов к его услугам. Он даже теперь не понимал, как мог он когда нибудь сомневаться в необходимости принять деятельное участие в жизни, точно так же как месяц тому назад он не понимал, как могла бы ему притти мысль уехать из деревни. Ему казалось ясно, что все его опыты жизни должны были пропасть даром и быть бессмыслицей, ежели бы он не приложил их к делу и не принял опять деятельного участия в жизни. Он даже не понимал того, как на основании таких же бедных разумных доводов прежде очевидно было, что он бы унизился, ежели бы теперь после своих уроков жизни опять бы поверил в возможность приносить пользу и в возможность счастия и любви. Теперь разум подсказывал совсем другое. После этой поездки князь Андрей стал скучать в деревне, прежние занятия не интересовали его, и часто, сидя один в своем кабинете, он вставал, подходил к зеркалу и долго смотрел на свое лицо. Потом он отворачивался и смотрел на портрет покойницы Лизы, которая с взбитыми a la grecque [по гречески] буклями нежно и весело смотрела на него из золотой рамки. Она уже не говорила мужу прежних страшных слов, она просто и весело с любопытством смотрела на него. И князь Андрей, заложив назад руки, долго ходил по комнате, то хмурясь, то улыбаясь, передумывая те неразумные, невыразимые словом, тайные как преступление мысли, связанные с Пьером, с славой, с девушкой на окне, с дубом, с женской красотой и любовью, которые изменили всю его жизнь. И в эти то минуты, когда кто входил к нему, он бывал особенно сух, строго решителен и в особенности неприятно логичен.
– Mon cher, [Дорогой мой,] – бывало скажет входя в такую минуту княжна Марья, – Николушке нельзя нынче гулять: очень холодно.
– Ежели бы было тепло, – в такие минуты особенно сухо отвечал князь Андрей своей сестре, – то он бы пошел в одной рубашке, а так как холодно, надо надеть на него теплую одежду, которая для этого и выдумана. Вот что следует из того, что холодно, а не то чтобы оставаться дома, когда ребенку нужен воздух, – говорил он с особенной логичностью, как бы наказывая кого то за всю эту тайную, нелогичную, происходившую в нем, внутреннюю работу. Княжна Марья думала в этих случаях о том, как сушит мужчин эта умственная работа.
Князь Андрей приехал в Петербург в августе 1809 года. Это было время апогея славы молодого Сперанского и энергии совершаемых им переворотов. В этом самом августе, государь, ехав в коляске, был вывален, повредил себе ногу, и оставался в Петергофе три недели, видаясь ежедневно и исключительно со Сперанским. В это время готовились не только два столь знаменитые и встревожившие общество указа об уничтожении придворных чинов и об экзаменах на чины коллежских асессоров и статских советников, но и целая государственная конституция, долженствовавшая изменить существующий судебный, административный и финансовый порядок управления России от государственного совета до волостного правления. Теперь осуществлялись и воплощались те неясные, либеральные мечтания, с которыми вступил на престол император Александр, и которые он стремился осуществить с помощью своих помощников Чарторижского, Новосильцева, Кочубея и Строгонова, которых он сам шутя называл comite du salut publique. [комитет общественного спасения.]
Теперь всех вместе заменил Сперанский по гражданской части и Аракчеев по военной. Князь Андрей вскоре после приезда своего, как камергер, явился ко двору и на выход. Государь два раза, встретив его, не удостоил его ни одним словом. Князю Андрею всегда еще прежде казалось, что он антипатичен государю, что государю неприятно его лицо и всё существо его. В сухом, отдаляющем взгляде, которым посмотрел на него государь, князь Андрей еще более чем прежде нашел подтверждение этому предположению. Придворные объяснили князю Андрею невнимание к нему государя тем, что Его Величество был недоволен тем, что Болконский не служил с 1805 года.
«Я сам знаю, как мы не властны в своих симпатиях и антипатиях, думал князь Андрей, и потому нечего думать о том, чтобы представить лично мою записку о военном уставе государю, но дело будет говорить само за себя». Он передал о своей записке старому фельдмаршалу, другу отца. Фельдмаршал, назначив ему час, ласково принял его и обещался доложить государю. Через несколько дней было объявлено князю Андрею, что он имеет явиться к военному министру, графу Аракчееву.
В девять часов утра, в назначенный день, князь Андрей явился в приемную к графу Аракчееву.
Лично князь Андрей не знал Аракчеева и никогда не видал его, но всё, что он знал о нем, мало внушало ему уважения к этому человеку.
«Он – военный министр, доверенное лицо государя императора; никому не должно быть дела до его личных свойств; ему поручено рассмотреть мою записку, следовательно он один и может дать ход ей», думал князь Андрей, дожидаясь в числе многих важных и неважных лиц в приемной графа Аракчеева.
Князь Андрей во время своей, большей частью адъютантской, службы много видел приемных важных лиц и различные характеры этих приемных были для него очень ясны. У графа Аракчеева был совершенно особенный характер приемной. На неважных лицах, ожидающих очереди аудиенции в приемной графа Аракчеева, написано было чувство пристыженности и покорности; на более чиновных лицах выражалось одно общее чувство неловкости, скрытое под личиной развязности и насмешки над собою, над своим положением и над ожидаемым лицом. Иные задумчиво ходили взад и вперед, иные шепчась смеялись, и князь Андрей слышал sobriquet [насмешливое прозвище] Силы Андреича и слова: «дядя задаст», относившиеся к графу Аракчееву. Один генерал (важное лицо) видимо оскорбленный тем, что должен был так долго ждать, сидел перекладывая ноги и презрительно сам с собой улыбаясь.
Но как только растворялась дверь, на всех лицах выражалось мгновенно только одно – страх. Князь Андрей попросил дежурного другой раз доложить о себе, но на него посмотрели с насмешкой и сказали, что его черед придет в свое время. После нескольких лиц, введенных и выведенных адъютантом из кабинета министра, в страшную дверь был впущен офицер, поразивший князя Андрея своим униженным и испуганным видом. Аудиенция офицера продолжалась долго. Вдруг послышались из за двери раскаты неприятного голоса, и бледный офицер, с трясущимися губами, вышел оттуда, и схватив себя за голову, прошел через приемную.
Вслед за тем князь Андрей был подведен к двери, и дежурный шопотом сказал: «направо, к окну».
Князь Андрей вошел в небогатый опрятный кабинет и у стола увидал cорокалетнего человека с длинной талией, с длинной, коротко обстриженной головой и толстыми морщинами, с нахмуренными бровями над каре зелеными тупыми глазами и висячим красным носом. Аракчеев поворотил к нему голову, не глядя на него.
– Вы чего просите? – спросил Аракчеев.
– Я ничего не… прошу, ваше сиятельство, – тихо проговорил князь Андрей. Глаза Аракчеева обратились на него.
– Садитесь, – сказал Аракчеев, – князь Болконский?
– Я ничего не прошу, а государь император изволил переслать к вашему сиятельству поданную мною записку…
– Изволите видеть, мой любезнейший, записку я вашу читал, – перебил Аракчеев, только первые слова сказав ласково, опять не глядя ему в лицо и впадая всё более и более в ворчливо презрительный тон. – Новые законы военные предлагаете? Законов много, исполнять некому старых. Нынче все законы пишут, писать легче, чем делать.
– Я приехал по воле государя императора узнать у вашего сиятельства, какой ход вы полагаете дать поданной записке? – сказал учтиво князь Андрей.
– На записку вашу мной положена резолюция и переслана в комитет. Я не одобряю, – сказал Аракчеев, вставая и доставая с письменного стола бумагу. – Вот! – он подал князю Андрею.
На бумаге поперег ее, карандашом, без заглавных букв, без орфографии, без знаков препинания, было написано: «неосновательно составлено понеже как подражание списано с французского военного устава и от воинского артикула без нужды отступающего».
– В какой же комитет передана записка? – спросил князь Андрей.
– В комитет о воинском уставе, и мною представлено о зачислении вашего благородия в члены. Только без жалованья.
Князь Андрей улыбнулся.
– Я и не желаю.
– Без жалованья членом, – повторил Аракчеев. – Имею честь. Эй, зови! Кто еще? – крикнул он, кланяясь князю Андрею.
Ожидая уведомления о зачислении его в члены комитета, князь Андрей возобновил старые знакомства особенно с теми лицами, которые, он знал, были в силе и могли быть нужны ему. Он испытывал теперь в Петербурге чувство, подобное тому, какое он испытывал накануне сражения, когда его томило беспокойное любопытство и непреодолимо тянуло в высшие сферы, туда, где готовилось будущее, от которого зависели судьбы миллионов. Он чувствовал по озлоблению стариков, по любопытству непосвященных, по сдержанности посвященных, по торопливости, озабоченности всех, по бесчисленному количеству комитетов, комиссий, о существовании которых он вновь узнавал каждый день, что теперь, в 1809 м году, готовилось здесь, в Петербурге, какое то огромное гражданское сражение, которого главнокомандующим было неизвестное ему, таинственное и представлявшееся ему гениальным, лицо – Сперанский. И самое ему смутно известное дело преобразования, и Сперанский – главный деятель, начинали так страстно интересовать его, что дело воинского устава очень скоро стало переходить в сознании его на второстепенное место.
Князь Андрей находился в одном из самых выгодных положений для того, чтобы быть хорошо принятым во все самые разнообразные и высшие круги тогдашнего петербургского общества. Партия преобразователей радушно принимала и заманивала его, во первых потому, что он имел репутацию ума и большой начитанности, во вторых потому, что он своим отпущением крестьян на волю сделал уже себе репутацию либерала. Партия стариков недовольных, прямо как к сыну своего отца, обращалась к нему за сочувствием, осуждая преобразования. Женское общество, свет , радушно принимали его, потому что он был жених, богатый и знатный, и почти новое лицо с ореолом романической истории о его мнимой смерти и трагической кончине жены. Кроме того, общий голос о нем всех, которые знали его прежде, был тот, что он много переменился к лучшему в эти пять лет, смягчился и возмужал, что не было в нем прежнего притворства, гордости и насмешливости, и было то спокойствие, которое приобретается годами. О нем заговорили, им интересовались и все желали его видеть.
На другой день после посещения графа Аракчеева князь Андрей был вечером у графа Кочубея. Он рассказал графу свое свидание с Силой Андреичем (Кочубей так называл Аракчеева с той же неопределенной над чем то насмешкой, которую заметил князь Андрей в приемной военного министра).
– Mon cher, [Дорогой мой,] даже в этом деле вы не минуете Михаил Михайловича. C'est le grand faiseur. [Всё делается им.] Я скажу ему. Он обещался приехать вечером…
– Какое же дело Сперанскому до военных уставов? – спросил князь Андрей.
Кочубей, улыбнувшись, покачал головой, как бы удивляясь наивности Болконского.
– Мы с ним говорили про вас на днях, – продолжал Кочубей, – о ваших вольных хлебопашцах…
– Да, это вы, князь, отпустили своих мужиков? – сказал Екатерининский старик, презрительно обернувшись на Болконского.
– Маленькое именье ничего не приносило дохода, – отвечал Болконский, чтобы напрасно не раздражать старика, стараясь смягчить перед ним свой поступок.
– Vous craignez d'etre en retard, [Боитесь опоздать,] – сказал старик, глядя на Кочубея.
– Я одного не понимаю, – продолжал старик – кто будет землю пахать, коли им волю дать? Легко законы писать, а управлять трудно. Всё равно как теперь, я вас спрашиваю, граф, кто будет начальником палат, когда всем экзамены держать?
– Те, кто выдержат экзамены, я думаю, – отвечал Кочубей, закидывая ногу на ногу и оглядываясь.
– Вот у меня служит Пряничников, славный человек, золото человек, а ему 60 лет, разве он пойдет на экзамены?…
– Да, это затруднительно, понеже образование весьма мало распространено, но… – Граф Кочубей не договорил, он поднялся и, взяв за руку князя Андрея, пошел навстречу входящему высокому, лысому, белокурому человеку, лет сорока, с большим открытым лбом и необычайной, странной белизной продолговатого лица. На вошедшем был синий фрак, крест на шее и звезда на левой стороне груди. Это был Сперанский. Князь Андрей тотчас узнал его и в душе его что то дрогнуло, как это бывает в важные минуты жизни. Было ли это уважение, зависть, ожидание – он не знал. Вся фигура Сперанского имела особенный тип, по которому сейчас можно было узнать его. Ни у кого из того общества, в котором жил князь Андрей, он не видал этого спокойствия и самоуверенности неловких и тупых движений, ни у кого он не видал такого твердого и вместе мягкого взгляда полузакрытых и несколько влажных глаз, не видал такой твердости ничего незначащей улыбки, такого тонкого, ровного, тихого голоса, и, главное, такой нежной белизны лица и особенно рук, несколько широких, но необыкновенно пухлых, нежных и белых. Такую белизну и нежность лица князь Андрей видал только у солдат, долго пробывших в госпитале. Это был Сперанский, государственный секретарь, докладчик государя и спутник его в Эрфурте, где он не раз виделся и говорил с Наполеоном.
Сперанский не перебегал глазами с одного лица на другое, как это невольно делается при входе в большое общество, и не торопился говорить. Он говорил тихо, с уверенностью, что будут слушать его, и смотрел только на то лицо, с которым говорил.
Князь Андрей особенно внимательно следил за каждым словом и движением Сперанского. Как это бывает с людьми, особенно с теми, которые строго судят своих ближних, князь Андрей, встречаясь с новым лицом, особенно с таким, как Сперанский, которого он знал по репутации, всегда ждал найти в нем полное совершенство человеческих достоинств.
Сперанский сказал Кочубею, что жалеет о том, что не мог приехать раньше, потому что его задержали во дворце. Он не сказал, что его задержал государь. И эту аффектацию скромности заметил князь Андрей. Когда Кочубей назвал ему князя Андрея, Сперанский медленно перевел свои глаза на Болконского с той же улыбкой и молча стал смотреть на него.
– Я очень рад с вами познакомиться, я слышал о вас, как и все, – сказал он.
Кочубей сказал несколько слов о приеме, сделанном Болконскому Аракчеевым. Сперанский больше улыбнулся.
– Директором комиссии военных уставов мой хороший приятель – господин Магницкий, – сказал он, договаривая каждый слог и каждое слово, – и ежели вы того пожелаете, я могу свести вас с ним. (Он помолчал на точке.) Я надеюсь, что вы найдете в нем сочувствие и желание содействовать всему разумному.
Около Сперанского тотчас же составился кружок и тот старик, который говорил о своем чиновнике, Пряничникове, тоже с вопросом обратился к Сперанскому.
Князь Андрей, не вступая в разговор, наблюдал все движения Сперанского, этого человека, недавно ничтожного семинариста и теперь в руках своих, – этих белых, пухлых руках, имевшего судьбу России, как думал Болконский. Князя Андрея поразило необычайное, презрительное спокойствие, с которым Сперанский отвечал старику. Он, казалось, с неизмеримой высоты обращал к нему свое снисходительное слово. Когда старик стал говорить слишком громко, Сперанский улыбнулся и сказал, что он не может судить о выгоде или невыгоде того, что угодно было государю.
Поговорив несколько времени в общем кругу, Сперанский встал и, подойдя к князю Андрею, отозвал его с собой на другой конец комнаты. Видно было, что он считал нужным заняться Болконским.
– Я не успел поговорить с вами, князь, среди того одушевленного разговора, в который был вовлечен этим почтенным старцем, – сказал он, кротко презрительно улыбаясь и этой улыбкой как бы признавая, что он вместе с князем Андреем понимает ничтожность тех людей, с которыми он только что говорил. Это обращение польстило князю Андрею. – Я вас знаю давно: во первых, по делу вашему о ваших крестьянах, это наш первый пример, которому так желательно бы было больше последователей; а во вторых, потому что вы один из тех камергеров, которые не сочли себя обиженными новым указом о придворных чинах, вызывающим такие толки и пересуды.
– Да, – сказал князь Андрей, – отец не хотел, чтобы я пользовался этим правом; я начал службу с нижних чинов.
– Ваш батюшка, человек старого века, очевидно стоит выше наших современников, которые так осуждают эту меру, восстановляющую только естественную справедливость.
– Я думаю однако, что есть основание и в этих осуждениях… – сказал князь Андрей, стараясь бороться с влиянием Сперанского, которое он начинал чувствовать. Ему неприятно было во всем соглашаться с ним: он хотел противоречить. Князь Андрей, обыкновенно говоривший легко и хорошо, чувствовал теперь затруднение выражаться, говоря с Сперанским. Его слишком занимали наблюдения над личностью знаменитого человека.
– Основание для личного честолюбия может быть, – тихо вставил свое слово Сперанский.
– Отчасти и для государства, – сказал князь Андрей.
– Как вы разумеете?… – сказал Сперанский, тихо опустив глаза.
– Я почитатель Montesquieu, – сказал князь Андрей. – И его мысль о том, что le рrincipe des monarchies est l'honneur, me parait incontestable. Certains droits еt privileges de la noblesse me paraissent etre des moyens de soutenir ce sentiment. [основа монархий есть честь, мне кажется несомненной. Некоторые права и привилегии дворянства мне кажутся средствами для поддержания этого чувства.]
Улыбка исчезла на белом лице Сперанского и физиономия его много выиграла от этого. Вероятно мысль князя Андрея показалась ему занимательною.
– Si vous envisagez la question sous ce point de vue, [Если вы так смотрите на предмет,] – начал он, с очевидным затруднением выговаривая по французски и говоря еще медленнее, чем по русски, но совершенно спокойно. Он сказал, что честь, l'honneur, не может поддерживаться преимуществами вредными для хода службы, что честь, l'honneur, есть или: отрицательное понятие неделанья предосудительных поступков, или известный источник соревнования для получения одобрения и наград, выражающих его.
Доводы его были сжаты, просты и ясны.
Институт, поддерживающий эту честь, источник соревнования, есть институт, подобный Legion d'honneur [Ордену почетного легиона] великого императора Наполеона, не вредящий, а содействующий успеху службы, а не сословное или придворное преимущество.
– Я не спорю, но нельзя отрицать, что придворное преимущество достигло той же цели, – сказал князь Андрей: – всякий придворный считает себя обязанным достойно нести свое положение.
– Но вы им не хотели воспользоваться, князь, – сказал Сперанский, улыбкой показывая, что он, неловкий для своего собеседника спор, желает прекратить любезностью. – Ежели вы мне сделаете честь пожаловать ко мне в среду, – прибавил он, – то я, переговорив с Магницким, сообщу вам то, что может вас интересовать, и кроме того буду иметь удовольствие подробнее побеседовать с вами. – Он, закрыв глаза, поклонился, и a la francaise, [на французский манер,] не прощаясь, стараясь быть незамеченным, вышел из залы.
Первое время своего пребыванья в Петербурге, князь Андрей почувствовал весь свой склад мыслей, выработавшийся в его уединенной жизни, совершенно затемненным теми мелкими заботами, которые охватили его в Петербурге.
С вечера, возвращаясь домой, он в памятной книжке записывал 4 или 5 необходимых визитов или rendez vous [свиданий] в назначенные часы. Механизм жизни, распоряжение дня такое, чтобы везде поспеть во время, отнимали большую долю самой энергии жизни. Он ничего не делал, ни о чем даже не думал и не успевал думать, а только говорил и с успехом говорил то, что он успел прежде обдумать в деревне.
Он иногда замечал с неудовольствием, что ему случалось в один и тот же день, в разных обществах, повторять одно и то же. Но он был так занят целые дни, что не успевал подумать о том, что он ничего не думал.
Сперанский, как в первое свидание с ним у Кочубея, так и потом в середу дома, где Сперанский с глазу на глаз, приняв Болконского, долго и доверчиво говорил с ним, сделал сильное впечатление на князя Андрея.
Князь Андрей такое огромное количество людей считал презренными и ничтожными существами, так ему хотелось найти в другом живой идеал того совершенства, к которому он стремился, что он легко поверил, что в Сперанском он нашел этот идеал вполне разумного и добродетельного человека. Ежели бы Сперанский был из того же общества, из которого был князь Андрей, того же воспитания и нравственных привычек, то Болконский скоро бы нашел его слабые, человеческие, не геройские стороны, но теперь этот странный для него логический склад ума тем более внушал ему уважения, что он не вполне понимал его. Кроме того, Сперанский, потому ли что он оценил способности князя Андрея, или потому что нашел нужным приобресть его себе, Сперанский кокетничал перед князем Андреем своим беспристрастным, спокойным разумом и льстил князю Андрею той тонкой лестью, соединенной с самонадеянностью, которая состоит в молчаливом признавании своего собеседника с собою вместе единственным человеком, способным понимать всю глупость всех остальных, и разумность и глубину своих мыслей.
Во время длинного их разговора в середу вечером, Сперанский не раз говорил: «У нас смотрят на всё, что выходит из общего уровня закоренелой привычки…» или с улыбкой: «Но мы хотим, чтоб и волки были сыты и овцы целы…» или: «Они этого не могут понять…» и всё с таким выраженьем, которое говорило: «Мы: вы да я, мы понимаем, что они и кто мы ».
Этот первый, длинный разговор с Сперанским только усилил в князе Андрее то чувство, с которым он в первый раз увидал Сперанского. Он видел в нем разумного, строго мыслящего, огромного ума человека, энергией и упорством достигшего власти и употребляющего ее только для блага России. Сперанский в глазах князя Андрея был именно тот человек, разумно объясняющий все явления жизни, признающий действительным только то, что разумно, и ко всему умеющий прилагать мерило разумности, которым он сам так хотел быть. Всё представлялось так просто, ясно в изложении Сперанского, что князь Андрей невольно соглашался с ним во всем. Ежели он возражал и спорил, то только потому, что хотел нарочно быть самостоятельным и не совсем подчиняться мнениям Сперанского. Всё было так, всё было хорошо, но одно смущало князя Андрея: это был холодный, зеркальный, не пропускающий к себе в душу взгляд Сперанского, и его белая, нежная рука, на которую невольно смотрел князь Андрей, как смотрят обыкновенно на руки людей, имеющих власть. Зеркальный взгляд и нежная рука эта почему то раздражали князя Андрея. Неприятно поражало князя Андрея еще слишком большое презрение к людям, которое он замечал в Сперанском, и разнообразность приемов в доказательствах, которые он приводил в подтверждение своих мнений. Он употреблял все возможные орудия мысли, исключая сравнения, и слишком смело, как казалось князю Андрею, переходил от одного к другому. То он становился на почву практического деятеля и осуждал мечтателей, то на почву сатирика и иронически подсмеивался над противниками, то становился строго логичным, то вдруг поднимался в область метафизики. (Это последнее орудие доказательств он особенно часто употреблял.) Он переносил вопрос на метафизические высоты, переходил в определения пространства, времени, мысли и, вынося оттуда опровержения, опять спускался на почву спора.
Вообще главная черта ума Сперанского, поразившая князя Андрея, была несомненная, непоколебимая вера в силу и законность ума. Видно было, что никогда Сперанскому не могла притти в голову та обыкновенная для князя Андрея мысль, что нельзя всё таки выразить всего того, что думаешь, и никогда не приходило сомнение в том, что не вздор ли всё то, что я думаю и всё то, во что я верю? И этот то особенный склад ума Сперанского более всего привлекал к себе князя Андрея.
Первое время своего знакомства с Сперанским князь Андрей питал к нему страстное чувство восхищения, похожее на то, которое он когда то испытывал к Бонапарте. То обстоятельство, что Сперанский был сын священника, которого можно было глупым людям, как это и делали многие, пошло презирать в качестве кутейника и поповича, заставляло князя Андрея особенно бережно обходиться с своим чувством к Сперанскому, и бессознательно усиливать его в самом себе.
В тот первый вечер, который Болконский провел у него, разговорившись о комиссии составления законов, Сперанский с иронией рассказывал князю Андрею о том, что комиссия законов существует 150 лет, стоит миллионы и ничего не сделала, что Розенкампф наклеил ярлычки на все статьи сравнительного законодательства. – И вот и всё, за что государство заплатило миллионы! – сказал он.
– Мы хотим дать новую судебную власть Сенату, а у нас нет законов. Поэтому то таким людям, как вы, князь, грех не служить теперь.
Князь Андрей сказал, что для этого нужно юридическое образование, которого он не имеет.
– Да его никто не имеет, так что же вы хотите? Это circulus viciosus, [заколдованный круг,] из которого надо выйти усилием.
Через неделю князь Андрей был членом комиссии составления воинского устава, и, чего он никак не ожидал, начальником отделения комиссии составления вагонов. По просьбе Сперанского он взял первую часть составляемого гражданского уложения и, с помощью Code Napoleon и Justiniani, [Кодекса Наполеона и Юстиниана,] работал над составлением отдела: Права лиц.
Года два тому назад, в 1808 году, вернувшись в Петербург из своей поездки по имениям, Пьер невольно стал во главе петербургского масонства. Он устроивал столовые и надгробные ложи, вербовал новых членов, заботился о соединении различных лож и о приобретении подлинных актов. Он давал свои деньги на устройство храмин и пополнял, на сколько мог, сборы милостыни, на которые большинство членов были скупы и неаккуратны. Он почти один на свои средства поддерживал дом бедных, устроенный орденом в Петербурге. Жизнь его между тем шла по прежнему, с теми же увлечениями и распущенностью. Он любил хорошо пообедать и выпить, и, хотя и считал это безнравственным и унизительным, не мог воздержаться от увеселений холостых обществ, в которых он участвовал.
В чаду своих занятий и увлечений Пьер однако, по прошествии года, начал чувствовать, как та почва масонства, на которой он стоял, тем более уходила из под его ног, чем тверже он старался стать на ней. Вместе с тем он чувствовал, что чем глубже уходила под его ногами почва, на которой он стоял, тем невольнее он был связан с ней. Когда он приступил к масонству, он испытывал чувство человека, доверчиво становящего ногу на ровную поверхность болота. Поставив ногу, он провалился. Чтобы вполне увериться в твердости почвы, на которой он стоял, он поставил другую ногу и провалился еще больше, завяз и уже невольно ходил по колено в болоте.
Иосифа Алексеевича не было в Петербурге. (Он в последнее время отстранился от дел петербургских лож и безвыездно жил в Москве.) Все братья, члены лож, были Пьеру знакомые в жизни люди и ему трудно было видеть в них только братьев по каменьщичеству, а не князя Б., не Ивана Васильевича Д., которых он знал в жизни большею частию как слабых и ничтожных людей. Из под масонских фартуков и знаков он видел на них мундиры и кресты, которых они добивались в жизни. Часто, собирая милостыню и сочтя 20–30 рублей, записанных на приход, и большею частию в долг с десяти членов, из которых половина были так же богаты, как и он, Пьер вспоминал масонскую клятву о том, что каждый брат обещает отдать всё свое имущество для ближнего; и в душе его поднимались сомнения, на которых он старался не останавливаться.
Всех братьев, которых он знал, он подразделял на четыре разряда. К первому разряду он причислял братьев, не принимающих деятельного участия ни в делах лож, ни в делах человеческих, но занятых исключительно таинствами науки ордена, занятых вопросами о тройственном наименовании Бога, или о трех началах вещей, сере, меркурии и соли, или о значении квадрата и всех фигур храма Соломонова. Пьер уважал этот разряд братьев масонов, к которому принадлежали преимущественно старые братья, и сам Иосиф Алексеевич, по мнению Пьера, но не разделял их интересов. Сердце его не лежало к мистической стороне масонства.
Ко второму разряду Пьер причислял себя и себе подобных братьев, ищущих, колеблющихся, не нашедших еще в масонстве прямого и понятного пути, но надеющихся найти его.
К третьему разряду он причислял братьев (их было самое большое число), не видящих в масонстве ничего, кроме внешней формы и обрядности и дорожащих строгим исполнением этой внешней формы, не заботясь о ее содержании и значении. Таковы были Виларский и даже великий мастер главной ложи.
К четвертому разряду, наконец, причислялось тоже большое количество братьев, в особенности в последнее время вступивших в братство. Это были люди, по наблюдениям Пьера, ни во что не верующие, ничего не желающие, и поступавшие в масонство только для сближения с молодыми богатыми и сильными по связям и знатности братьями, которых весьма много было в ложе.
Пьер начинал чувствовать себя неудовлетворенным своей деятельностью. Масонство, по крайней мере то масонство, которое он знал здесь, казалось ему иногда, основано было на одной внешности. Он и не думал сомневаться в самом масонстве, но подозревал, что русское масонство пошло по ложному пути и отклонилось от своего источника. И потому в конце года Пьер поехал за границу для посвящения себя в высшие тайны ордена.
Летом еще в 1809 году, Пьер вернулся в Петербург. По переписке наших масонов с заграничными было известно, что Безухий успел за границей получить доверие многих высокопоставленных лиц, проник многие тайны, был возведен в высшую степень и везет с собою многое для общего блага каменьщического дела в России. Петербургские масоны все приехали к нему, заискивая в нем, и всем показалось, что он что то скрывает и готовит.
Назначено было торжественное заседание ложи 2 го градуса, в которой Пьер обещал сообщить то, что он имеет передать петербургским братьям от высших руководителей ордена. Заседание было полно. После обыкновенных обрядов Пьер встал и начал свою речь.
– Любезные братья, – начал он, краснея и запинаясь и держа в руке написанную речь. – Недостаточно блюсти в тиши ложи наши таинства – нужно действовать… действовать. Мы находимся в усыплении, а нам нужно действовать. – Пьер взял свою тетрадь и начал читать.
«Для распространения чистой истины и доставления торжества добродетели, читал он, должны мы очистить людей от предрассудков, распространить правила, сообразные с духом времени, принять на себя воспитание юношества, соединиться неразрывными узами с умнейшими людьми, смело и вместе благоразумно преодолевать суеверие, неверие и глупость, образовать из преданных нам людей, связанных между собою единством цели и имеющих власть и силу.
«Для достижения сей цели должно доставить добродетели перевес над пороком, должно стараться, чтобы честный человек обретал еще в сем мире вечную награду за свои добродетели. Но в сих великих намерениях препятствуют нам весьма много – нынешние политические учреждения. Что же делать при таковом положении вещей? Благоприятствовать ли революциям, всё ниспровергнуть, изгнать силу силой?… Нет, мы весьма далеки от того. Всякая насильственная реформа достойна порицания, потому что ни мало не исправит зла, пока люди остаются таковы, каковы они есть, и потому что мудрость не имеет нужды в насилии.
«Весь план ордена должен быть основан на том, чтоб образовать людей твердых, добродетельных и связанных единством убеждения, убеждения, состоящего в том, чтобы везде и всеми силами преследовать порок и глупость и покровительствовать таланты и добродетель: извлекать из праха людей достойных, присоединяя их к нашему братству. Тогда только орден наш будет иметь власть – нечувствительно вязать руки покровителям беспорядка и управлять ими так, чтоб они того не примечали. Одним словом, надобно учредить всеобщий владычествующий образ правления, который распространялся бы над целым светом, не разрушая гражданских уз, и при коем все прочие правления могли бы продолжаться обыкновенным своим порядком и делать всё, кроме того только, что препятствует великой цели нашего ордена, то есть доставлению добродетели торжества над пороком. Сию цель предполагало само христианство. Оно учило людей быть мудрыми и добрыми, и для собственной своей выгоды следовать примеру и наставлениям лучших и мудрейших человеков.
«Тогда, когда всё погружено было во мраке, достаточно было, конечно, одного проповедания: новость истины придавала ей особенную силу, но ныне потребны для нас гораздо сильнейшие средства. Теперь нужно, чтобы человек, управляемый своими чувствами, находил в добродетели чувственные прелести. Нельзя искоренить страстей; должно только стараться направить их к благородной цели, и потому надобно, чтобы каждый мог удовлетворять своим страстям в пределах добродетели, и чтобы наш орден доставлял к тому средства.
«Как скоро будет у нас некоторое число достойных людей в каждом государстве, каждый из них образует опять двух других, и все они тесно между собой соединятся – тогда всё будет возможно для ордена, который втайне успел уже сделать многое ко благу человечества».
Речь эта произвела не только сильное впечатление, но и волнение в ложе. Большинство же братьев, видевшее в этой речи опасные замыслы иллюминатства, с удивившею Пьера холодностью приняло его речь. Великий мастер стал возражать Пьеру. Пьер с большим и большим жаром стал развивать свои мысли. Давно не было столь бурного заседания. Составились партии: одни обвиняли Пьера, осуждая его в иллюминатстве; другие поддерживали его. Пьера в первый раз поразило на этом собрании то бесконечное разнообразие умов человеческих, которое делает то, что никакая истина одинаково не представляется двум людям. Даже те из членов, которые казалось были на его стороне, понимали его по своему, с ограничениями, изменениями, на которые он не мог согласиться, так как главная потребность Пьера состояла именно в том, чтобы передать свою мысль другому точно так, как он сам понимал ее.
По окончании заседания великий мастер с недоброжелательством и иронией сделал Безухому замечание о его горячности и о том, что не одна любовь к добродетели, но и увлечение борьбы руководило им в споре. Пьер не отвечал ему и коротко спросил, будет ли принято его предложение. Ему сказали, что нет, и Пьер, не дожидаясь обычных формальностей, вышел из ложи и уехал домой.
На Пьера опять нашла та тоска, которой он так боялся. Он три дня после произнесения своей речи в ложе лежал дома на диване, никого не принимая и никуда не выезжая.
В это время он получил письмо от жены, которая умоляла его о свидании, писала о своей грусти по нем и о желании посвятить ему всю свою жизнь.
В конце письма она извещала его, что на днях приедет в Петербург из за границы.
Вслед за письмом в уединение Пьера ворвался один из менее других уважаемых им братьев масонов и, наведя разговор на супружеские отношения Пьера, в виде братского совета, высказал ему мысль о том, что строгость его к жене несправедлива, и что Пьер отступает от первых правил масона, не прощая кающуюся.
В это же самое время теща его, жена князя Василья, присылала за ним, умоляя его хоть на несколько минут посетить ее для переговоров о весьма важном деле. Пьер видел, что был заговор против него, что его хотели соединить с женою, и это было даже не неприятно ему в том состоянии, в котором он находился. Ему было всё равно: Пьер ничто в жизни не считал делом большой важности, и под влиянием тоски, которая теперь овладела им, он не дорожил ни своею свободою, ни своим упорством в наказании жены.
«Никто не прав, никто не виноват, стало быть и она не виновата», думал он. – Ежели Пьер не изъявил тотчас же согласия на соединение с женою, то только потому, что в состоянии тоски, в котором он находился, он не был в силах ничего предпринять. Ежели бы жена приехала к нему, он бы теперь не прогнал ее. Разве не всё равно было в сравнении с тем, что занимало Пьера, жить или не жить с женою?
Не отвечая ничего ни жене, ни теще, Пьер раз поздним вечером собрался в дорогу и уехал в Москву, чтобы повидаться с Иосифом Алексеевичем. Вот что писал Пьер в дневнике своем.
«Москва, 17 го ноября.
Сейчас только приехал от благодетеля, и спешу записать всё, что я испытал при этом. Иосиф Алексеевич живет бедно и страдает третий год мучительною болезнью пузыря. Никто никогда не слыхал от него стона, или слова ропота. С утра и до поздней ночи, за исключением часов, в которые он кушает самую простую пищу, он работает над наукой. Он принял меня милостиво и посадил на кровати, на которой он лежал; я сделал ему знак рыцарей Востока и Иерусалима, он ответил мне тем же, и с кроткой улыбкой спросил меня о том, что я узнал и приобрел в прусских и шотландских ложах. Я рассказал ему всё, как умел, передав те основания, которые я предлагал в нашей петербургской ложе и сообщил о дурном приеме, сделанном мне, и о разрыве, происшедшем между мною и братьями. Иосиф Алексеевич, изрядно помолчав и подумав, на всё это изложил мне свой взгляд, который мгновенно осветил мне всё прошедшее и весь будущий путь, предлежащий мне. Он удивил меня, спросив о том, помню ли я, в чем состоит троякая цель ордена: 1) в хранении и познании таинства; 2) в очищении и исправлении себя для воспринятия оного и 3) в исправлении рода человеческого чрез стремление к таковому очищению. Какая есть главнейшая и первая цель из этих трех? Конечно собственное исправление и очищение. Только к этой цели мы можем всегда стремиться независимо от всех обстоятельств. Но вместе с тем эта то цель и требует от нас наиболее трудов, и потому, заблуждаясь гордостью, мы, упуская эту цель, беремся либо за таинство, которое недостойны воспринять по нечистоте своей, либо беремся за исправление рода человеческого, когда сами из себя являем пример мерзости и разврата. Иллюминатство не есть чистое учение именно потому, что оно увлеклось общественной деятельностью и преисполнено гордости. На этом основании Иосиф Алексеевич осудил мою речь и всю мою деятельность. Я согласился с ним в глубине души своей. По случаю разговора нашего о моих семейных делах, он сказал мне: – Главная обязанность истинного масона, как я сказал вам, состоит в совершенствовании самого себя. Но часто мы думаем, что, удалив от себя все трудности нашей жизни, мы скорее достигнем этой цели; напротив, государь мой, сказал он мне, только в среде светских волнений можем мы достигнуть трех главных целей: 1) самопознания, ибо человек может познавать себя только через сравнение, 2) совершенствования, только борьбой достигается оно, и 3) достигнуть главной добродетели – любви к смерти. Только превратности жизни могут показать нам тщету ее и могут содействовать – нашей врожденной любви к смерти или возрождению к новой жизни. Слова эти тем более замечательны, что Иосиф Алексеевич, несмотря на свои тяжкие физические страдания, никогда не тяготится жизнию, а любит смерть, к которой он, несмотря на всю чистоту и высоту своего внутреннего человека, не чувствует еще себя достаточно готовым. Потом благодетель объяснил мне вполне значение великого квадрата мироздания и указал на то, что тройственное и седьмое число суть основание всего. Он советовал мне не отстраняться от общения с петербургскими братьями и, занимая в ложе только должности 2 го градуса, стараться, отвлекая братьев от увлечений гордости, обращать их на истинный путь самопознания и совершенствования. Кроме того для себя лично советовал мне первее всего следить за самим собою, и с этою целью дал мне тетрадь, ту самую, в которой я пишу и буду вписывать впредь все свои поступки».
«Петербург, 23 го ноября.
«Я опять живу с женой. Теща моя в слезах приехала ко мне и сказала, что Элен здесь и что она умоляет меня выслушать ее, что она невинна, что она несчастна моим оставлением, и многое другое. Я знал, что ежели я только допущу себя увидать ее, то не в силах буду более отказать ей в ее желании. В сомнении своем я не знал, к чьей помощи и совету прибегнуть. Ежели бы благодетель был здесь, он бы сказал мне. Я удалился к себе, перечел письма Иосифа Алексеевича, вспомнил свои беседы с ним, и из всего вывел то, что я не должен отказывать просящему и должен подать руку помощи всякому, тем более человеку столь связанному со мною, и должен нести крест свой. Но ежели я для добродетели простил ее, то пускай и будет мое соединение с нею иметь одну духовную цель. Так я решил и так написал Иосифу Алексеевичу. Я сказал жене, что прошу ее забыть всё старое, прошу простить мне то, в чем я мог быть виноват перед нею, а что мне прощать ей нечего. Мне радостно было сказать ей это. Пусть она не знает, как тяжело мне было вновь увидать ее. Устроился в большом доме в верхних покоях и испытываю счастливое чувство обновления».
Как и всегда, и тогда высшее общество, соединяясь вместе при дворе и на больших балах, подразделялось на несколько кружков, имеющих каждый свой оттенок. В числе их самый обширный был кружок французский, Наполеоновского союза – графа Румянцева и Caulaincourt'a. В этом кружке одно из самых видных мест заняла Элен, как только она с мужем поселилась в Петербурге. У нее бывали господа французского посольства и большое количество людей, известных своим умом и любезностью, принадлежавших к этому направлению.
Элен была в Эрфурте во время знаменитого свидания императоров, и оттуда привезла эти связи со всеми Наполеоновскими достопримечательностями Европы. В Эрфурте она имела блестящий успех. Сам Наполеон, заметив ее в театре, сказал про нее: «C'est un superbe animal». [Это прекрасное животное.] Успех ее в качестве красивой и элегантной женщины не удивлял Пьера, потому что с годами она сделалась еще красивее, чем прежде. Но удивляло его то, что за эти два года жена его успела приобрести себе репутацию
«d'une femme charmante, aussi spirituelle, que belle». [прелестной женщины, столь же умной, сколько красивой.] Известный рrince de Ligne [князь де Линь] писал ей письма на восьми страницах. Билибин приберегал свои mots [словечки], чтобы в первый раз сказать их при графине Безуховой. Быть принятым в салоне графини Безуховой считалось дипломом ума; молодые люди прочитывали книги перед вечером Элен, чтобы было о чем говорить в ее салоне, и секретари посольства, и даже посланники, поверяли ей дипломатические тайны, так что Элен была сила в некотором роде. Пьер, который знал, что она была очень глупа, с странным чувством недоуменья и страха иногда присутствовал на ее вечерах и обедах, где говорилось о политике, поэзии и философии. На этих вечерах он испытывал чувство подобное тому, которое должен испытывать фокусник, ожидая всякий раз, что вот вот обман его откроется. Но оттого ли, что для ведения такого салона именно нужна была глупость, или потому что сами обманываемые находили удовольствие в этом обмане, обман не открывался, и репутация d'une femme charmante et spirituelle так непоколебимо утвердилась за Еленой Васильевной Безуховой, что она могла говорить самые большие пошлости и глупости, и всё таки все восхищались каждым ее словом и отыскивали в нем глубокий смысл, которого она сама и не подозревала.
Пьер был именно тем самым мужем, который нужен был для этой блестящей, светской женщины. Он был тот рассеянный чудак, муж grand seigneur [большой барин], никому не мешающий и не только не портящий общего впечатления высокого тона гостиной, но, своей противоположностью изяществу и такту жены, служащий выгодным для нее фоном. Пьер, за эти два года, вследствие своего постоянного сосредоточенного занятия невещественными интересами и искреннего презрения ко всему остальному, усвоил себе в неинтересовавшем его обществе жены тот тон равнодушия, небрежности и благосклонности ко всем, который не приобретается искусственно и который потому то и внушает невольное уважение. Он входил в гостиную своей жены как в театр, со всеми был знаком, всем был одинаково рад и ко всем был одинаково равнодушен. Иногда он вступал в разговор, интересовавший его, и тогда, без соображений о том, были ли тут или нет les messieurs de l'ambassade [служащие при посольстве], шамкая говорил свои мнения, которые иногда были совершенно не в тоне настоящей минуты. Но мнение о чудаке муже de la femme la plus distinguee de Petersbourg [самой замечательной женщины в Петербурге] уже так установилось, что никто не принимал au serux [всерьез] его выходок.
В числе многих молодых людей, ежедневно бывавших в доме Элен, Борис Друбецкой, уже весьма успевший в службе, был после возвращения Элен из Эрфурта, самым близким человеком в доме Безуховых. Элен называла его mon page [мой паж] и обращалась с ним как с ребенком. Улыбка ее в отношении его была та же, как и ко всем, но иногда Пьеру неприятно было видеть эту улыбку. Борис обращался с Пьером с особенной, достойной и грустной почтительностию. Этот оттенок почтительности тоже беспокоил Пьера. Пьер так больно страдал три года тому назад от оскорбления, нанесенного ему женой, что теперь он спасал себя от возможности подобного оскорбления во первых тем, что он не был мужем своей жены, во вторых тем, что он не позволял себе подозревать.
- Родившиеся в 1693 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Москве
- Умершие 21 апреля
- Умершие в 1766 году
- Умершие в Москве
- Дипломаты по алфавиту
- Дипломаты Российской империи
- Кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного
- Кавалеры ордена Святого Александра Невского
- Кавалеры ордена Святой Анны
- Родившиеся 1 июня
- Генерал-фельдмаршалы (Российская империя)
- Петровские резиденты в Европе
- Камергеры (Россия)
- Канцлеры Российской империи
- Бестужевы-Рюмины
- Приговорённые к смертной казни
- Лишённые ордена Святого Александра Невского
- Лишённые ордена Святого апостола Андрея Первозванного
- Лишённые ордена Святой Анны