Штеренберг, Давид Петрович
| Давид Петрович Штеренберг | |
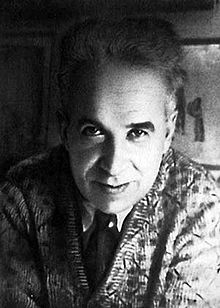 | |
| Место рождения: | |
|---|---|
| Место смерти: | |
| Гражданство: | |
| Жанр: | |
| Учёба: |
Национальная высшая школа изящных искусств (Париж), |
| Стиль: | |
| Покровители: | |
| Влияние: | |
| Влияние на: | |
Давид Петрович Штеренберг (14 (26) июля 1881, Житомир — 1 мая 1948, Москва) — русский и советский художник, живописец и график, один из основных представителей современного русского изобразительного искусства первой половины XX века.
Содержание
Биография
Молодость и парижский период
Родился в 1881 году в еврейской семье в Житомире. Был учеником фотографа в Одессе, увлекался революционными идеями. В 1906 году как активный участник Бунда был вынужден эмигрировать из России в Вену. С 1907 по 1917 жил в Париже. В Париже занимался фототипией и учился живописи сначала в Школе изящных искусств, а затем в академии Витти. Среди его сокурсников был голландский художник Кеес ван Донген. Жил Штеренберг в известном парижском фаланстере «Улей»[1].
Художник испытал влияние творчества Поля Сезанна и кубизма. С 1912 года принимал участие в экспозициях Парижского салона. Позже примкнул к Салону Независимых, сблизившись с другими художниками парижской школы: Липшицем, Кислингом, Диего Риверой, Марком Шагалом и прочими. Картины Штеренберга парижского периода часто противоречивы и неоднородны. Узнаваемый стиль у художника выработается только к концу пребывания в Париже.
Возвращение в Россию
После Октябрьской революции 1917 года Штеренберг возвращается в Россию, где политическое прошлое и знакомство с наркомом просвещения А. В. Луначарским сыграли свою роль. Знакомый с парижским творчеством Штеренберга, Луначарский назначает его заведующим Отделом ИЗО Наркомпроса. Наряду с Натаном Альтманом и другими деятелями российской культуры, он принял участие в конференции писателей, художников и режиссёров о сотрудничестве с советским правительством в Смольном в Петрограде (Санкт-Петербург). В 1918 году в Москве состоялась выставка участников Еврейского общества содействия искусству, в которой Штеренберг принимал участие наряду с Альтманом, Барановым-Россине и Лисицким.
Октябрьская революция застала Альтмана в Крыму, где он проводил отпуск. Известие о пролетарской революции принял восторженно и, не дожидаясь конца отпуска, вернулся в Петроград. И все же, как и многие русские интеллигенты, художник не понял масштаба и значения событий. Альтман решил: настало самое подходящее время осуществить давнишнее намерение — устроить персональную выставку в Нью-Йорке. Выполнить такое решение оказалось не просто. Настойчивость победила. Картины были собраны и упакованы. Новенький заграничный паспорт и проездной билет лежали в бумажнике. Но именно в этот момент к Альтману пришел странного вида человек: небольшого роста, с торчащими, чуть седеющими волосами. То был недавно вернувшийся на родину из Парижа живописец Давид Штеренберг..Несколько лет назад Альтман и Штеренберг жили в Париже, в одном доме — многоугольном сооружении, напоминавшем провинциальный цирк. Парижане называют этот дом «Улеем искусства». Он и сегодня служит прибежищем для начинающих художников.
В 1914 году мастерскую Штеренберга посетил Луначарский. «Я отмечаю не столько богатство исканий Штеренберга, сколько необычно быстрые успехи, которые он делает… и более всего его уверенный вкус», — писал после этого посещения Луначарский в своей корреспонденции для газеты «Киевская мысль».
Теперь Штеренберг пришел к Альтману по эстренному поводу. При Комиссариате народного просвещения начинали создавать отдел изобразительных искусств, и нарком Анатолий Васильевич Луначарский предлагал Штеренбергу и Альтману принять участие в работе Комиссариата[2].
С 1918 по 1920 он был заведующим отделом изобразительного искусства Народного комиссариата просвещения. В 1918 году он опубликовал свою программную статью «Задачи современного искусства» в новостях Петроградского Совета. С 1920 по 1930 преподавал во ВХУТЕМАСе. В 1922 году в Москве Штеренберг принял участие в выставке еврейских художников, участником которой был и Марк Шагал. В этом же году он написал эссе для каталога Первой русской художественной выставки в галерее Ван Димена, в Берлине. Был участником объединения Комфутов (коммунистов-футуристов). В ЛЕФ вступить отказался в связи с отрицанием теоретиками ЛЕФа станкового искусства. В 1925—1932 годах основатель и руководитель Общества станковистов (ОСТ).
Штеренберг сыграл значительную роль в становлении советского искусства, особенно в послереволюционный период, когда отдел ИЗО Наркомпроса объединял художников-авангардистов, отвергавшихся прежним официальным искусством. Штеренберг уделял большое внимание организации выставочного дела и вопросам художественного образования. Основную задачу советского искусства Штеренберг видел в необходимости повышения живописной культуры, тем самым недооценивая значение сюжетного, социально-активного искусства[3].
Творчество
Работал в жанрах: пейзаж, портрет, натюрморт. Подражая импрессионистам в ранних пейзажах, в которых уже были заметны фактурные искания, художник стал писать работы в футуристическом плане. Перед Штеренбергом возникла задача, решение которой увело его от футуризма к кубизму, — проблема фактуры и объёма. Основной целью художника была передача различной фактурной обработкой двухмерной плоскости реальной трёхмерности в картине (например, «Простокваша» и др.). Однако в работах Штеренберга наметилось преодоление того абстрактного формализма, который привёл кубизм к деформации действительности. Штеренберг — новатор и авангардист. Его картины не были похожи на традиционную живопись. При этом они строго конкретны и изобразительны. Это изображения простых вещей, натюрморты. Предметы предельно просты: губка и мыло, керосиновая лампа, нож, бутылка. Две селёдки на блюде и полбуханки черного хлеба… Одна, самое большое — три вещи, грубые и бедные, на голой пустоте холста, подчёркнуто плоскостного, лишённого и пространственной глубины, и объединяющей, обволакивающей предметы атмосферы. В то же время подчёркнут материал, структура поверхности вещей: гладкий фаянс и шероховатая хлебная корка, слоистая доска и скользкая рыбья чешуя.
Художник также прибегает к рельефу — некоторые изображения выступают из поверхности холста. Обращаясь к зрению, такая живопись возбуждает скорее осязательные, материально-конкретные ощущения. Одинокие предметы будто просятся из неё наружу, в живые человеческие руки. Простейший натюрморт, как визуальный текст, насыщен драматическим напряжением, сигнализирует об элементарных и необходимых человеческих ценностях. «Вся его живопись есть рассказ о хлебе насущном, которого надо припасти так немного, чтобы прожить, но над которым надо помучиться так много, чтобы достать», — сказал о Штеренберге искусствовед А. М. Эфрос. В портрете художник также соединяет максимальное обобщение с осязательной конкретностью образа-типа: крестьянская девочка («Аниська», 1926) с таким же бедным натюрмортом на столе за её спиной; суровый старик крестьянин, величественный в холодной пустоте снежного поля («Старое», 1925—26).
Таковы и крестьянские образы в его сюжетной картинах «Колхозник», «Агитатор в деревне» (1927) — возвышенно-строгие, замкнутые, сосредоточенные. Художник достиг в них монументальности древней фрески. Наряду с сюжетными картинами, мастер не оставил без внимания натюрморты и пейзажи, крупнейшим мастером которых он являлся.
Основным занятием Штеренберга была живопись, но также он выступал в роли художника-постановщика в театре, работал в графике — книжной гравюре, рисовал книжки-картинки, используя принципы схематичного и плоскостного детского рисунка, во многом близкого к его стилю письма.[4].
Итоги
Среди учеников Штеренберга такие известные российские художники, как А. А. Дейнека, Ю. И. Пименов, А. А. Лабас, П. В. Вильямс, А. Д. Гончаров и другие. В 1930 году Штеренбергу было присвоено звание заслуженного деятеля искусства.
После 1930-х годов Штеренберг был вынужден работать в более реалистичной манере, так как с середины 1930-х его творчество стало диаметрально расходиться с изменившейся государственной линией в области искусства. В 1940-х годах подвергался резкой критике за формализм. Его независимый стиль перестал пользоваться спросом, постепенно его работы были изъяты из поля зрения общественности. Нападки критики тяжело отразились на моральном состоянии художника и нашли отражение в его поздних работах. Штеренберг глубоко осознал своё еврейское происхождение. Он писал своей жене Надежде: «У меня в жилах течёт восточная кровь, кровь моего предка, который написал „Песнь Песней“, и нет лучше песни»[5]. В самом конце жизни в эскизных «Библейских мотивах» (1947—48) у художника наметился новый живописный язык, стали проявляться новые драматические интонации. Развить их он уже не успел. После его смерти в 1948 году он был практически забыт. Похоронен Штеренберг на Ваганьковском кладбище в Москве.
В контексте общего восприятия мирового изобразительного искусства творчество Штеренберга отличается особенным своеобразием. Его заслуга перед мировым искусством в том, что будучи солидарным с авангардным искусством, отстаивал в то же время основополагающее значение станковизма в формировании новой эстетики двадцатого века. «Основа творчества Штеренберга — предмет, воплощённый в оригинальной, неповторимой системе живописного натюрморта. В своем самодостаточном значении объекта аналитического искусства натюрморт художника тем не менее в полной мере наделен богатством социального и философского содержания»[6]. Работы художника находятся в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Житомира, а также в частных собраниях.
Сын — Давид Давидович Штеренберг (род. 1931) — известный художник-живописец и иллюстратор. Дочь — Виолетта (Фиалка) Давидовна Штеренберг — художница (9 августа 1918—1995). Брат — Абрам Петрович Штеренберг (1894—1979) — известный советский фотожурналист.
Напишите отзыв о статье "Штеренберг, Давид Петрович"
Литература
- Алфёрова Евгения. [www.eastview.com/russian/books/product.asp?sku=775724B&f_locale=_CYR&Alferova/Evgeniia/Moskva/Russia/English/Russian/ Давид Штеренберг. Символ и метафора в творчестве художника: опыт интерпретации]. — Москва: Мосты культуры, 2005. — С. 185. — ISBN 5932731923.
Примечания
- ↑ Ганна Руденко. [jewishnews.com.ua/ru/publication?id=3609 Еврейская Украина: 10 фактов о евреях Житомира].
- ↑ [nov.docdat.com/docs/index-14947.html?page=13 Игорь Бахтерев. 250 часов с Лениным]
- ↑ [www.biografija.ru/biography/shterenberg-david-petrovich.htm Биография.ру. Штеренберг Давид Петрович]
- ↑ [www.artsait.ru/art/sh/shterenberg/main.htm Русская живопись. Штеренберг Давид Петрович (1881—1948).]
- ↑ Михаил Лазарев. Давид Штеренберг. — Россия: Арт-Родник, 2006. — С. 11. — 96 с. — ISBN 5-9561-0172-5.
- ↑ Михаил Лазарев. Давид Штеренберг. — Россия: Арт-Родник, 2006. — С. 1. — 96 с. — ISBN 5-9561-0172-5.
Ссылки
- [www.msi-mall.com/art/avantgarde/pictures/41.html Натюрморт с лампой и сельдью], 1920.
- [bertc.com/subfour/g50/shterenberg.htm Портрет жены художника].
- [3.bp.blogspot.com/_kqfGJq91etA/S3FW3lpBeoI/AAAAAAAAAME/WUGHi85siIs/s320/David+Shterenberg+still+life+cherries+1916.jpg Натюрморт с черешней].
- [grupaok.tumblr.com/post/35091186276/david-petrovich-shterenberg-the-agitator-1927 Агитатор], 1927.
- [www.artsait.ru/art/sh/shterenberg/art1.php?m=2 Штеренберг Давид Петрович. Картины художника].
- [www.biografija.ru/biography/shterenberg-david-petrovich.htm Штеренберг Давид Петрович].
- [www.artsait.ru/art/sh/shterenberg/main.htm Русская живопись. Штеренберг Давид Петрович].
Отрывок, характеризующий Штеренберг, Давид Петрович
– Лихая бы штука, – сказал ротмистр, – а в самом деле…Ростов, не дослушав его, толкнул лошадь, выскакал вперед эскадрона, и не успел он еще скомандовать движение, как весь эскадрон, испытывавший то же, что и он, тронулся за ним. Ростов сам не знал, как и почему он это сделал. Все это он сделал, как он делал на охоте, не думая, не соображая. Он видел, что драгуны близко, что они скачут, расстроены; он знал, что они не выдержат, он знал, что была только одна минута, которая не воротится, ежели он упустит ее. Пули так возбудительно визжали и свистели вокруг него, лошадь так горячо просилась вперед, что он не мог выдержать. Он тронул лошадь, скомандовал и в то же мгновение, услыхав за собой звук топота своего развернутого эскадрона, на полных рысях, стал спускаться к драгунам под гору. Едва они сошли под гору, как невольно их аллюр рыси перешел в галоп, становившийся все быстрее и быстрее по мере того, как они приближались к своим уланам и скакавшим за ними французским драгунам. Драгуны были близко. Передние, увидав гусар, стали поворачивать назад, задние приостанавливаться. С чувством, с которым он несся наперерез волку, Ростов, выпустив во весь мах своего донца, скакал наперерез расстроенным рядам французских драгун. Один улан остановился, один пеший припал к земле, чтобы его не раздавили, одна лошадь без седока замешалась с гусарами. Почти все французские драгуны скакали назад. Ростов, выбрав себе одного из них на серой лошади, пустился за ним. По дороге он налетел на куст; добрая лошадь перенесла его через него, и, едва справясь на седле, Николай увидал, что он через несколько мгновений догонит того неприятеля, которого он выбрал своей целью. Француз этот, вероятно, офицер – по его мундиру, согнувшись, скакал на своей серой лошади, саблей подгоняя ее. Через мгновенье лошадь Ростова ударила грудью в зад лошади офицера, чуть не сбила ее с ног, и в то же мгновенье Ростов, сам не зная зачем, поднял саблю и ударил ею по французу.
В то же мгновение, как он сделал это, все оживление Ростова вдруг исчезло. Офицер упал не столько от удара саблей, который только слегка разрезал ему руку выше локтя, сколько от толчка лошади и от страха. Ростов, сдержав лошадь, отыскивал глазами своего врага, чтобы увидать, кого он победил. Драгунский французский офицер одной ногой прыгал на земле, другой зацепился в стремени. Он, испуганно щурясь, как будто ожидая всякую секунду нового удара, сморщившись, с выражением ужаса взглянул снизу вверх на Ростова. Лицо его, бледное и забрызганное грязью, белокурое, молодое, с дырочкой на подбородке и светлыми голубыми глазами, было самое не для поля сражения, не вражеское лицо, а самое простое комнатное лицо. Еще прежде, чем Ростов решил, что он с ним будет делать, офицер закричал: «Je me rends!» [Сдаюсь!] Он, торопясь, хотел и не мог выпутать из стремени ногу и, не спуская испуганных голубых глаз, смотрел на Ростова. Подскочившие гусары выпростали ему ногу и посадили его на седло. Гусары с разных сторон возились с драгунами: один был ранен, но, с лицом в крови, не давал своей лошади; другой, обняв гусара, сидел на крупе его лошади; третий взлеаал, поддерживаемый гусаром, на его лошадь. Впереди бежала, стреляя, французская пехота. Гусары торопливо поскакали назад с своими пленными. Ростов скакал назад с другими, испытывая какое то неприятное чувство, сжимавшее ему сердце. Что то неясное, запутанное, чего он никак не мог объяснить себе, открылось ему взятием в плен этого офицера и тем ударом, который он нанес ему.
Граф Остерман Толстой встретил возвращавшихся гусар, подозвал Ростова, благодарил его и сказал, что он представит государю о его молодецком поступке и будет просить для него Георгиевский крест. Когда Ростова потребовали к графу Остерману, он, вспомнив о том, что атака его была начата без приказанья, был вполне убежден, что начальник требует его для того, чтобы наказать его за самовольный поступок. Поэтому лестные слова Остермана и обещание награды должны бы были тем радостнее поразить Ростова; но все то же неприятное, неясное чувство нравственно тошнило ему. «Да что бишь меня мучает? – спросил он себя, отъезжая от генерала. – Ильин? Нет, он цел. Осрамился я чем нибудь? Нет. Все не то! – Что то другое мучило его, как раскаяние. – Да, да, этот французский офицер с дырочкой. И я хорошо помню, как рука моя остановилась, когда я поднял ее».
Ростов увидал отвозимых пленных и поскакал за ними, чтобы посмотреть своего француза с дырочкой на подбородке. Он в своем странном мундире сидел на заводной гусарской лошади и беспокойно оглядывался вокруг себя. Рана его на руке была почти не рана. Он притворно улыбнулся Ростову и помахал ему рукой, в виде приветствия. Ростову все так же было неловко и чего то совестно.
Весь этот и следующий день друзья и товарищи Ростова замечали, что он не скучен, не сердит, но молчалив, задумчив и сосредоточен. Он неохотно пил, старался оставаться один и о чем то все думал.
Ростов все думал об этом своем блестящем подвиге, который, к удивлению его, приобрел ему Георгиевский крест и даже сделал ему репутацию храбреца, – и никак не мог понять чего то. «Так и они еще больше нашего боятся! – думал он. – Так только то и есть всего, то, что называется геройством? И разве я это делал для отечества? И в чем он виноват с своей дырочкой и голубыми глазами? А как он испугался! Он думал, что я убью его. За что ж мне убивать его? У меня рука дрогнула. А мне дали Георгиевский крест. Ничего, ничего не понимаю!»
Но пока Николай перерабатывал в себе эти вопросы и все таки не дал себе ясного отчета в том, что так смутило его, колесо счастья по службе, как это часто бывает, повернулось в его пользу. Его выдвинули вперед после Островненского дела, дали ему батальон гусаров и, когда нужно было употребить храброго офицера, давали ему поручения.
Получив известие о болезни Наташи, графиня, еще не совсем здоровая и слабая, с Петей и со всем домом приехала в Москву, и все семейство Ростовых перебралось от Марьи Дмитриевны в свой дом и совсем поселилось в Москве.
Болезнь Наташи была так серьезна, что, к счастию ее и к счастию родных, мысль о всем том, что было причиной ее болезни, ее поступок и разрыв с женихом перешли на второй план. Она была так больна, что нельзя было думать о том, насколько она была виновата во всем случившемся, тогда как она не ела, не спала, заметно худела, кашляла и была, как давали чувствовать доктора, в опасности. Надо было думать только о том, чтобы помочь ей. Доктора ездили к Наташе и отдельно и консилиумами, говорили много по французски, по немецки и по латыни, осуждали один другого, прописывали самые разнообразные лекарства от всех им известных болезней; но ни одному из них не приходила в голову та простая мысль, что им не может быть известна та болезнь, которой страдала Наташа, как не может быть известна ни одна болезнь, которой одержим живой человек: ибо каждый живой человек имеет свои особенности и всегда имеет особенную и свою новую, сложную, неизвестную медицине болезнь, не болезнь легких, печени, кожи, сердца, нервов и т. д., записанных в медицине, но болезнь, состоящую из одного из бесчисленных соединений в страданиях этих органов. Эта простая мысль не могла приходить докторам (так же, как не может прийти колдуну мысль, что он не может колдовать) потому, что их дело жизни состояло в том, чтобы лечить, потому, что за то они получали деньги, и потому, что на это дело они потратили лучшие годы своей жизни. Но главное – мысль эта не могла прийти докторам потому, что они видели, что они несомненно полезны, и были действительно полезны для всех домашних Ростовых. Они были полезны не потому, что заставляли проглатывать больную большей частью вредные вещества (вред этот был мало чувствителен, потому что вредные вещества давались в малом количестве), но они полезны, необходимы, неизбежны были (причина – почему всегда есть и будут мнимые излечители, ворожеи, гомеопаты и аллопаты) потому, что они удовлетворяли нравственной потребности больной и людей, любящих больную. Они удовлетворяли той вечной человеческой потребности надежды на облегчение, потребности сочувствия и деятельности, которые испытывает человек во время страдания. Они удовлетворяли той вечной, человеческой – заметной в ребенке в самой первобытной форме – потребности потереть то место, которое ушиблено. Ребенок убьется и тотчас же бежит в руки матери, няньки для того, чтобы ему поцеловали и потерли больное место, и ему делается легче, когда больное место потрут или поцелуют. Ребенок не верит, чтобы у сильнейших и мудрейших его не было средств помочь его боли. И надежда на облегчение и выражение сочувствия в то время, как мать трет его шишку, утешают его. Доктора для Наташи были полезны тем, что они целовали и терли бобо, уверяя, что сейчас пройдет, ежели кучер съездит в арбатскую аптеку и возьмет на рубль семь гривен порошков и пилюль в хорошенькой коробочке и ежели порошки эти непременно через два часа, никак не больше и не меньше, будет в отварной воде принимать больная.
Что же бы делали Соня, граф и графиня, как бы они смотрели на слабую, тающую Наташу, ничего не предпринимая, ежели бы не было этих пилюль по часам, питья тепленького, куриной котлетки и всех подробностей жизни, предписанных доктором, соблюдать которые составляло занятие и утешение для окружающих? Чем строже и сложнее были эти правила, тем утешительнее было для окружающих дело. Как бы переносил граф болезнь своей любимой дочери, ежели бы он не знал, что ему стоила тысячи рублей болезнь Наташи и что он не пожалеет еще тысяч, чтобы сделать ей пользу: ежели бы он не знал, что, ежели она не поправится, он не пожалеет еще тысяч и повезет ее за границу и там сделает консилиумы; ежели бы он не имел возможности рассказывать подробности о том, как Метивье и Феллер не поняли, а Фриз понял, и Мудров еще лучше определил болезнь? Что бы делала графиня, ежели бы она не могла иногда ссориться с больной Наташей за то, что она не вполне соблюдает предписаний доктора?
– Эдак никогда не выздоровеешь, – говорила она, за досадой забывая свое горе, – ежели ты не будешь слушаться доктора и не вовремя принимать лекарство! Ведь нельзя шутить этим, когда у тебя может сделаться пневмония, – говорила графиня, и в произношении этого непонятного не для нее одной слова, она уже находила большое утешение. Что бы делала Соня, ежели бы у ней не было радостного сознания того, что она не раздевалась три ночи первое время для того, чтобы быть наготове исполнять в точности все предписания доктора, и что она теперь не спит ночи, для того чтобы не пропустить часы, в которые надо давать маловредные пилюли из золотой коробочки? Даже самой Наташе, которая хотя и говорила, что никакие лекарства не вылечат ее и что все это глупости, – и ей было радостно видеть, что для нее делали так много пожертвований, что ей надо было в известные часы принимать лекарства, и даже ей радостно было то, что она, пренебрегая исполнением предписанного, могла показывать, что она не верит в лечение и не дорожит своей жизнью.
Доктор ездил каждый день, щупал пульс, смотрел язык и, не обращая внимания на ее убитое лицо, шутил с ней. Но зато, когда он выходил в другую комнату, графиня поспешно выходила за ним, и он, принимая серьезный вид и покачивая задумчиво головой, говорил, что, хотя и есть опасность, он надеется на действие этого последнего лекарства, и что надо ждать и посмотреть; что болезнь больше нравственная, но…
Графиня, стараясь скрыть этот поступок от себя и от доктора, всовывала ему в руку золотой и всякий раз с успокоенным сердцем возвращалась к больной.
Признаки болезни Наташи состояли в том, что она мало ела, мало спала, кашляла и никогда не оживлялась. Доктора говорили, что больную нельзя оставлять без медицинской помощи, и поэтому в душном воздухе держали ее в городе. И лето 1812 года Ростовы не уезжали в деревню.
Несмотря на большое количество проглоченных пилюль, капель и порошков из баночек и коробочек, из которых madame Schoss, охотница до этих вещиц, собрала большую коллекцию, несмотря на отсутствие привычной деревенской жизни, молодость брала свое: горе Наташи начало покрываться слоем впечатлений прожитой жизни, оно перестало такой мучительной болью лежать ей на сердце, начинало становиться прошедшим, и Наташа стала физически оправляться.
Наташа была спокойнее, но не веселее. Она не только избегала всех внешних условий радости: балов, катанья, концертов, театра; но она ни разу не смеялась так, чтобы из за смеха ее не слышны были слезы. Она не могла петь. Как только начинала она смеяться или пробовала одна сама с собой петь, слезы душили ее: слезы раскаяния, слезы воспоминаний о том невозвратном, чистом времени; слезы досады, что так, задаром, погубила она свою молодую жизнь, которая могла бы быть так счастлива. Смех и пение особенно казались ей кощунством над ее горем. О кокетстве она и не думала ни раза; ей не приходилось даже воздерживаться. Она говорила и чувствовала, что в это время все мужчины были для нее совершенно то же, что шут Настасья Ивановна. Внутренний страж твердо воспрещал ей всякую радость. Да и не было в ней всех прежних интересов жизни из того девичьего, беззаботного, полного надежд склада жизни. Чаще и болезненнее всего вспоминала она осенние месяцы, охоту, дядюшку и святки, проведенные с Nicolas в Отрадном. Что бы она дала, чтобы возвратить хоть один день из того времени! Но уж это навсегда было кончено. Предчувствие не обманывало ее тогда, что то состояние свободы и открытости для всех радостей никогда уже не возвратится больше. Но жить надо было.
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Житомире
- Умершие в Москве
- Художники по алфавиту
- Родившиеся 26 июля
- Родившиеся в 1881 году
- Умершие 1 мая
- Умершие в 1948 году
- Художники русского авангарда
- Организаторы русского авангарда
- Художники-пейзажисты России
- Художники-портретисты России
- Мастера натюрморта России
- Мастера натюрморта СССР
- Художники-пейзажисты СССР
- Художники-портретисты СССР
- Художники СССР
- Художники России
- Похороненные на Ваганьковском кладбище
