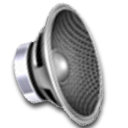Годвард, Джон Уильям
| Джон Уильям Годвард | |
| John William Godward | |
 Предполагаемый автопортрет[Комм. 1] | |
| Место рождения: | |
|---|---|
| Стиль: | |
Джон Уи́льям Го́двард (англ. John William Godward; 9 августа 1861 — 13 декабря 1922) — английский художник-неоклассицист. Подобно сэру Лоуренсу Альма-Тадеме, причисляется к «Мраморной школе»[1], однако стиль его живописи не вполне соответствует канонам викторианского академизма. Возможно, он так и не получил систематического художественного образования. Практически все его работы представляют изображения женщин в античных драпировках среди мраморных террас и растений. Хотя в период 1887—1905 годов он выставлялся в Королевской Академии художеств, Годвард не получил признания своего творчества и не вписывался в художественную среду Англии. В 1911—1921 годах жил в Риме, который на фоне распространения авангардизма оставался оплотом неоклассического искусства. Из-за невостребованности покончил с собой в 1922 году. Его родственники, занятые в страховом бизнесе, уничтожили почти все следы деятельности художника, не сохранилось ни одной его фотографии. Только с 1970-х годов, на волне интереса к декоративному и салонному искусству, живопись Годварда стала привлекать искусствоведов и коллекционеров, а его работы стали цениться на антикварном рынке.
Содержание
Происхождение. Становление
Предки Годварда известны с XVIII века, причём старший сын в каждом поколении носил имя Джон; они происходили из Бэлэма в графстве Суррей. Джон Годвард — отец художника, родился в 1836 году и после женитьбы поселился в Баттерси; этот городок на Темзе вошёл ныне в состав Лондона. Он служил в страховой компании на Флит-стрит и благодаря выгодным вложениям в Северные железные дороги составил семейное состояние. Семейство принадлежало к среднему классу, считалось респектабельным, но пуританским. У Джона Годварда и его жены — урождённой Сары Эборолл — было пятеро детей[2].
Джон Уильям Годвард был первенцем в семье и родился дома в Баттерси, в пятницу, 9 августа 1861 года. Назвали его в честь отца и деда. Был крещён в церкви Св. Марии в Баттерси 27 октября; родители его принадлежали консервативной Высокой церкви[3]. В 1864 году семья переехала в более престижный район Фулэм, расположенный на противоположном берегу Темзы, там родилась сестра Джона — Мария-Фредерика, в семье её называли «Нин»; в течение всей жизни она ближе всех общалась с художником и тоже была своего рода «белой вороной» в семье[3]. По мере роста благосостояния, в 1866 году семья Годвардов в очередной раз переехала в более просторный дом в Фулэме, там они прожили по крайней мере до 1872 года. Судя по статистическому справочнику 1876 года, семья Годвардов тогда жила уже в Уимблдоне[3].
Точно неизвестно, когда Джон Уильям пошёл в школу. Поскольку большая часть семейного архива была уничтожена, сложно судить, в каких предметах он успевал. Уже в детстве проявился его характер — ему были свойственны уступчивость и застенчивость, поэтому биограф — В. Суонсон — полагал, что, кроме рисования, он не слишком успевал в школьных предметах. Отец стремился, чтобы его дети последовали по наследственной стезе страхового клерка, причём все сыновья, кроме старшего, преуспели в бизнесе. Обстоятельства, при которых Джон избрал профессию художника, остаются неизвестными. Джон Уильям Годвард жил в родительском доме до 26-летнего возраста, поэтому невозможно говорить о семейном конфликте. В дальнейшем он вёл замкнутый образ жизни и всячески ограничивал свой круг общения[3].
По некоторым данным, семейство Годвардов общалось с художником и декоратором Уильямом Хоффом Уонтнером (1814—1881), который работал в престижной фирме Messrs. Holland and Sons, имел награды Всемирной выставки в Лондоне 1851 года, а его архитектурные проекты демонстрировались на выставке Академии художеств. Жил он недалеко от Уимблдона. По мнению В. Суонсона, если Джон Уильям Годвард рано проявил артистические способности, глава семьи мог посчитать профессию архитектора или дизайнера соответствующей социальному положению семьи. Вероятно, Годвард-младший учился у Уонтнера в 1879—1881 годах, однако часть времени он проводил в страховой фирме отца, готовясь вступить в семейное дело[4].
Самая ранняя живописная работа Годварда датируется 1880—1881 годами, это портрет бабушки художника, написанный с фотографии (она скончалась ещё в 1866 году). По Суонсону, портрет демонстрирует внимание к психологии и тщательно отделан технически, но архаичен по стилю. Возможно, Джон Годвард учился вместе со старшим сыном Уонтнера — Уильямом Кларком, поскольку в дальнейшем они дружили и вместе выставляли свои произведения в Королевской Академии художеств[4]. У. Уонтнер скончался в феврале 1881 года, на этом прервалось первоначальное художественное образование Годварда.
В 1882 году семейство Годвардов в очередной раз переехало в более просторный дом в Уимблдоне; Джон Уильям жил там до переезда в Лондон в 1889 году[5]. По мнению В. Суонсона, Годвард мог получать образование экстерном в St. John’s Wood Art School — это была подготовительная школа для поступающих в Королевскую академию, основанная в 1880 году; там преподавал Уильям Кларк Уонтнер. К этому периоду относится картина Годварда «Рисующий Джотто», которая, возможно, является дипломной работой, поскольку демонстрирует основные приёмы жанровой живописи, которые преподавались в тогдашних художественных школах. Мог он обучаться и в Heatherley’s School of Art в Челси, которую посещали с визитами такие знаменитые художники, как Лоуренс Альма-Тадема, Эдвард Пойнтер и другие. Однако в списках студентов ни одного художественного училища Англии Годвард не значился[5].
Викторианский художник
Годвард дебютировал на летней выставке Академии художеств 1887 года в Бёрлингтон-хаусе в Лондоне. Он представил полотно «Жёлтый тюрбан», принятое публикой благосклонно, хотя и не вызвавшее большого резонанса. В каталоге выставки оно значилось под № 721 и не удостоилось упоминания в обзорных статьях[6]. По мнению биографа, даже это стало для Годварда серьёзным аргументом продолжать карьеру художника, несмотря на нежелание отца. До 1905 года Годвард поддерживал связь с Академией и ежегодно выставлялся на её экспозициях[6]. С этого же времени он обратился к античной тематике, представив на зимней выставке 1887—1888 годов Королевского общества британских художников картину «Поппея». В тот период Годвард активно экспериментировал с портретной живописью и писал трёх сестёр Петтигрю — известных моделей того времени. Через них он познакомился с председателем Общества британских художников — Джеймсом Уистлером. Уистлер, однако, быстро потерял интерес к Годварду, поскольку тот избрал для себя амплуа антиковеда-декоратора, подобного Альма-Тадеме. Однако после отставки Уистлера с поста председателя Общества британских художников, в 1890 году Годвард был избран его членом[6].
В 1888 году картина Годварда «Кольцо», выдержанная в духе Альма-Тадемы, обратила на себя внимание известного арт-дилера той эпохи — Томаса Маклина. Эта картина, вместе с десятью другими, была выставлена в галерее Маклина в Вест-Энде. Маклин активно работал на лондонском рынке искусства с 1864 года, реализуя работы Альма-Тадемы и Пойнтера, а также издавал репродукции картин, причём не только современных художников (академистов и натуралистов), но и старых мастеров[6]. В том же году Годвард успешно выставлялся в Бирмингеме, став признанным членом сообщества викторианских художников, способным зарабатывать себе на жизнь собственным творчеством.
После успешного дебюта Годвард снял студию в Кенсингтоне. Его соседом оказался художник и иллюстратор, тяготеющий к стилю поздних прерафаэлитов, — Морис Гриффенхаген (1862—1931). Студия была непригодна для жилья, Годварду приходилось спать на полу или ночевать у друзей и знакомых. Со временем в том же районе оказалось 27 студий художников, которые неизбежно общались друг с другом; некоторые из них достигли большой известности[6].
К этому времени выработалась художественная манера Годварда. По мнению К. Вуда, если Альма-Тадема и Уонтнер писали современных им англичанок в образе античных гречанок и римлянок или наряжали их в восточные одежды, то Годвард сосредоточился на полной передаче физического типа женщин античности, изображая моделей-итальянок. В то время в Кенсингтоне было много итальянских эмигрантов, которые охотно позировали художникам[6].
В 1889 году, достигнув финансового благополучия, Годвард окончательно порвал с родительским домом и снял дом со студией в Челси, который принадлежал фирме недвижимости, специализировавшейся по работе с художниками; плата за проживание составляла 24 фунта стерлингов в год[Комм. 2]. Студия располагалась близ художественной школы, в этом районе было много художников, там же с 1896 года проживал Брем Стокер. В 1889 году Маклин организовал в своей галерее 25-ю ежегодную выставку, на которой было представлено 4 полотна Годварда[7].
В 1889 году под влиянием старшего брата Мария-Фредерика Годвард сбежала из родительского дома и вышла замуж за человека 14-ю годами её старше. После рождения двух детей они расстались: развод казался в кругу Годвардов абсолютно неприемлемым, поэтому сестра подверглась осуждению со стороны братьев — Эдмунда и Альфреда — и отца. Замуж во второй раз она так и не вышла и после смерти отца вернулась в семью заботиться о матери[7].
В 1890 году имя Годварда фиксируется в каталоге майской выставки Королевской Академии художеств. В тот период он много общался с художником Уильямом Рейнольдсом-Стивенсом (1862—1943), который также зависел в стилевом отношении от Альма-Тадемы и даже гравировал по меди декоративную панель по мотивам полотна «Женщины Амфиссы» по заказу самого Тадемы, и участвовал в отделке его дома. В творчестве Годварда и Рейнольдса-Стивенса много общих экзотических деталей, общим было в их живописи внимание к мельчайшим деталям обстановки, складкам одежды и проч. Разрабатывая тему короля Артура и средних веков, Уильям завершил карьеру посвящением в рыцари в 1931 году[7].
За 1890 год Годвард создал по крайней мере 21 крупную работу маслом, выставив на зимней выставке Маклина пять картин, многие из них изображают цветы; это — новшество в его искусстве. Творчество Годварда впервые привлекло внимание критиков, обозреватель журнала «Iln» писал, что художник полотном «В ожидании процессии» «… в некотором отношении следует по стопам Альма-Тадемы и помещает на слишком большой холст слишком незначительное событие». Другие критики отмечали, что Годварду, по сравнению с Альма-Тадемой, не хватает мастерства, скромности и сдержанности[7]. Летняя выставка Академии 1891 года оказалась более удачной: признания в прессе удостоились полотна «Сладкая сиеста в летний день» и «Климена». Критик Генри Блэкбёрн без комментариев описал в своём обзоре содержание и колористику его картин. В отличие от Альма-Тадемы, Годвард избегал внимания прессы к своим работам. В коммерческом отношении дела шли совсем неплохо: судя по письмам Маклина 1892 года, полотна Годварда покупались в среднем за сумму от 75 до 125 фунтов стерлингов[7][Комм. 3].
В 1892—1893 годах картины Годварда стали ещё более известными благодаря тому, что Маклин заказал гравюры с восьми его работ, их выполнил известный немецкий специалист Франц Хансштегль. Репродукции Годварда печатались в журналах, таких как Cosmopolitan и Pearson; это привело к появлению у художника некоторой репутации[8]. К 1893 году относятся две самые известные многофигурные композиции Годварда — «Эндимион» (по сюжету поэмы Китса) и «Да или нет?», на которой он, предположительно, изобразил самого себя.
В марте 1893 года скончался дед художника — Уильям Годвард, который оставил своим сыновьям — отцу и дяде Джона Уильяма — 12 000 фунтов (1 100 000 фунтов в ценах 2013 года). Художник был вынужден написать портрет деда, и это единственный его мужской портрет[8]. В тот же период он постепенно отходит от сотрудничества с Обществом британских художников, поскольку антиклассицистические настроения в нём стали определяющими. Тем не менее, в посвящённых ему трудах Годвард именовался членом Общества до самой своей кончины, хотя не выставлялся в нём с 1894 года.
В 1894 году Годвард переехал в более престижный дом со студией, расположенный на Фулэм-роуд (№ 410), который отвечал его эстетическим запросам. Одиночество Годварда прогрессировало, он никогда не принимал у себя гостей и не устраивал салонов. Дом был окружён высокой оградой, за которой Годвард в буквальном смысле спрятался[8]. Перестройка большого дома была для него слишком обременительной, и Годвард возвёл в саду одноэтажную студию, законченную в 1895 году. Студия в некотором отношении походила на мастерскую Альма-Тадемы, поскольку Годвард наполнил её предметами античного искусства — преимущественно слепками и копиями — и всячески пытался стилизовать под Древний Рим: само жилище художника должно было стать источником эстетических впечатлений. По описанию корреспондента журнала «The Connoisseur», студия Годварда была отделана мрамором и окружена фонтанами. Стилизация была столь удачной, что «крики, доносящиеся с соседнего футбольного поля, могут показаться рёвом толпы в классическом амфитеатре». Переезд в новый дом в определённой степени изменил манеру письма и стиль работ Годварда[8].
Пик творчества
На рубеже 1890-х — 1900-х годов Годвард работал интенсивно, создавая в среднем 14—15 картин в год. Предметами его полотен были изображения женщин в греческом или древнеримском антураже, который мог быть мифологическим, литературным или историческим. Художник стремился участвовать в мероприятиях Академии художеств, представив на летней выставке 1896 года две картины. Благодаря гравюрам Хансштегля, известность художника достигла США. Самой известной его работой этого периода стала «Кампаспа», которая удостоилась похвал лондонских критиков, отмечавших простоту и чёткость форм и успешность применения академического метода[9]. Впрочем, в обзоре журнала «The Studio» то же полотно подверглось разгромной критике за «подражательность и негармоничность». Художника упрекали за неверно изображённую правую руку и плечо модели, в числе недостатков упоминался и такой: «Кусок мрамора, который, так сказать, является цоколем этой живой статуи, настолько реален, что можно только пожалеть замёрзшие ноги несчастной натурщицы»[9]. В результате картина так и не была продана и вернулась в галерею Маклина. Характерно, что Годвард сохранял авторские права на свои картины за собой[9].
Несмотря на многочисленные работы 1897—1898 годов на мифологические и исторические темы («Венера, подвязывающая волосы» и др.), Годварду не удалось добиться избрания экстраординарным членом Академии. Причиной, видимо, было его непонимание того, что Академия являлась не только художественным, но и социальным организмом, а его затворнический образ жизни не оставлял ему шансов на поддержку в академических кругах. Между тем членство в Академии было необходимо ему для самоутверждения в глазах семьи[9]. Однако у него появились постоянные почитатели, например, Мертон Рассел-Коутс, который в 1890-е годы приобрёл шесть его работ.
В 1899 году Годвард дебютировал на Парижском салоне с несколькими не вполне типичными для него работами. В последующие годы он ещё несколько раз выставлялся в Салоне, но в конечном итоге полностью устранился от выставочной деятельности. Тем не менее, в наступившем ХХ веке Годвард стал признанным живописцем классического стиля и жанра. Однако он не осознавал, что по мере смены поколений в Академии художеств популярность и поддержка неоклассицизма пошла на убыль, а творческий диапазон и, как следствие, потенциальный круг покупателей самого Годварда были узки. По словам В. Суонсона, он писал исключительно «груди и бёдра прелестных красоток» («titty-rump-titty-rump» …of pretty bimbo women) и тем самым попадал в совершенно безвыходную ситуацию[9].
В конце 1901 года Годвард расстался с Маклином как своим постоянным арт-дилером, вероятно, по финансовым причинам. В каталоге аукциона галереи Маклина ноября 1901 года упоминается только одна картина Годварда «Цыган», ушедшая за 29 фунтов 8 шиллингов. Окончательного разрыва, впрочем, не произошло, поскольку в том же месяце Маклин купил у Годварда ещё одну картину. Они вели совместные дела до 1908 года[9].
В 1901 году Годвард представил на выставке Академии полотно «Венера в купальне». Как писал В. Суонсон: «Непонятно, почему Годвард настойчиво писал ростовые обнажённые фигуры женщин, которые были не особенно хороши»[9]. В 1902—1903 годах он представил на академической выставке малые по размеру полотна, чаще изображавшие женские головки[Комм. 5], что контрастировало с его большими многофигурными полотнами предшествовавшего десятилетия. Кроме того, он написал свадебный подарок для сына своего дилера — Генри Маклина — «Rendezvous».
В 1904 году ушли из жизни тётка художника — Анна-Мария Годвард — и его отец. Годвард стал единственным наследником тётки, но от отца ему достались только золотые часы с цепочкой, потому что состояние в 6000 фунтов он отписал матери — Саре Годвард. Видимо, под впечатлением от смерти отца, Джон Говард купил тогда участок на кладбище Бромптон, который обошёлся ему в 21 фунт стерлингов[9][Комм. 6]. Тогда же в родительский дом вернулась сестра Мария-Фредерика («Нин»), которая до конца жизни ухаживала за вдо́вой матерью, однако отношения между семьёй и художником оставались напряжёнными.
В 1904 году Годвард написал две свои лучшие работы: «Dolce Far Niente» и «В дни Сафо». Вторая из них демонстрирует новое средство художественной выразительности — модель смотрит прямо на зрителя. Критики отмечают оригинальность её цветовой гаммы: на фоне мрамора выделяются шафрановые и голубоватые тона одеяния[9].
В мае 1905 года Годвард в последний раз участвовал в выставке Академии художеств; по какой причине он перестал сотрудничать с Академией, неизвестно. Во всяком случае это не было связано с неодобрением его творчества, которое находилось в Британии на пике популярности. В том же 1905 году он устроил выставку в Париже и постепенно стал отходить от английской художественной жизни[10]. В 1905 году художник отправился в Италию, возможно, в первый раз. Сведения об этой поездке крайне скудны, как и все биографические сведения о Годварде. Есть сведения, что на длительную поездку за границу Годварда подтолкнули строительные работы рядом с его домом в Челси — возводили футбольный стадион. Главным источником по этой его поездке являлся альбом с зарисовками, которые фиксируют экспонаты Национального музея в Неаполе, а также часть переписки, ведшейся через Маклина. В семье считали, что он отправился на Капри, картины этого периода фиксируют пейзажи Неаполитанского залива, Сорренто и Помпей. Поездка в Италию едва ли сказалась на художественной манере и методах Годварда, однако страна произвела на него впечатление[10]. К этому периоду относится его картина «Помпейский сад» — одно из последних его масштабных полотен.
В 1906 году Годвард в очередной раз участвовал в работе Парижского салона. После смерти Маклина в 1908 году художник лишился надёжного партнёра, за счёт которого он жил в течение 21 года. В том же году Годвард подписал контракт с Юджином Креметти, который также оказался надёжным партнёром, чья фирма продавала полотна художника до самой его смерти. В 1908—1909 годах было написано множество декоративных картин с изображениями женских головок, из них не менее десяти — в одном только 1909 году[10].
Начало 1910-х годов в коммерческом плане стало самым успешным для Годварда. В тот период интерес к Древнему Риму, с которым отождествлялась Британская империя, был особенно велик в среде консервативной интеллигенции и промышленных магнатов, этот интерес сохранялся вплоть до Первой мировой войны[11]. Производительность художника несколько снизилась, но критики отмечали превосходное качество работ. Хорошие заработки привели к тому, что в 1910 году Годвард отправился в Рим, где стал подыскивать для себя дом и студию, но большую часть 1910 и 1911 годов провёл в Лондоне[11]. Хотя его отъезд связывали с отношениями с моделью-итальянкой, но, вероятно, были проблемы и другого плана. Ещё до эмиграции художника арт-рынок Великобритании радикально изменился. Бурное распространение авангардизма начиная с 1911 года приобретало организованный характер (первой стала Camden Town Group), причём и критики, и художники-модернисты предприняли атаку на оставшихся представителей академического искусства. Знаковой оказалась и кончина Альма-Тадемы летом 1912 года[11].
Рим
Несмотря на распространённость мнения о внезапном отъезде Годварда в Рим, в действительности он растянулся почти на два года. По некоторым данным, он ездил в столицу Италии ещё в конце осени 1911 года, но окончательно обосновался там к июню 1912 года. Накануне отъезда он передал все авторские права на свои английские произведения сестре Нин. С 1912 года на обороте его полотен появляется надпись «Рим»; до отъезда он не маркировал своих полотен таким образом[11]. Годвард прожил в Италии 10 или 11 лет, и о его жизни в этот период известно чрезвычайно немногое. Вероятно, он экспонировал свои картины на консервативных академических выставках Societi Amatori e Cultori. Отношения с семьёй оказались окончательно испорчены. Семейные легенды гласят о том, что мать была шокирована связью сына с натурщицей-итальянкой из бедного семейства и тем, что он открыло жил с ней, совершив «двойное предательство»[11].
В целом В. Суонсон оценивает его решение о переезде негативно, поскольку рынком сбыта произведений Годварда оставалась Англия. С другой стороны, он был лишён возможности дискутировать с критиками, которые всё более враждебно относились к академической живописи[11]. Италия в начале ХХ века была ещё «свободна от импрессионизма», а в Риме, Флоренции и Неаполе существовали неоклассицистические школы, правда, очень скромные по размеру и влиянию, но одобряемые публикой. В Риме работали художники, аналогичные по тематике Годварду: это были Луиджи Бадзани (1836—1927) и Эжен Гальен-Лалу, писавший с археологической точностью уличные сцены Древнего Рима и Помпей, а также Эдоардо Этторе Форти, изображавший древнеримские праздники. Годвард, по мнению В. Суонсона, вполне вписывался в этот круг. Кроме того, в Риме хорошо знали и помнили классицистов-иностранцев, особенно поляков Генриха Семирадского и Стефана Бакаловича[11].
Работы Годварда римского периода становятся более яркими и насыщенными по колориту, но, как правило, бессюжетны. Типичной картиной 1912 года (а всего он написал их в том году 9) было «Назначенное свидание». Модель, как обычно у Годварда, смотрит в сторону зрителя, её оттеняют цветущий олеандр в верхней части картины и маки в нижней части. Цвета одежды сочетаются с тоном мраморного бордюра[11]. Годвард начал большее внимание уделять натюрмортам как органичной части фигуративной живописи, а также увлёкся пленэрными эффектами. От римского периода до нас дошло шесть его пейзажей[11].
Особую роль играла его римская резиденция, расположенная в Монте-Париоли, слева от входа в главный парк Виллы Боргезе. Строителем и владельцем виллы, в которой жил Годвард, был эльзасец Альфред Вильгельм Штроль-Ферн (французский гражданин), который поселился в Италии после 1870 года. Он хотел создать особый «оазис», в котором ничего не напоминало бы ни о Франции, ни о Германии. При вилле был разбит сад, в котором росли сосны, ливанские кедры, кипарисы, гигантские магнолии и ольхи. Журналисты описывали стиль виллы как смесь неоготики и неоромантизма, в духе «Острова мёртвых» Бёклина. В итоге Штроль-Ферн построил целый посёлок для художников, в котором студии возводились по индивидуальным заказам, причём одним из первых владельцев стал сам Арнольд Бёклин. Из русских художников здесь бывали М. А. Врубель и И. Е. Репин, причём Репин жил в Риме в марте — июне 1911 года. В. Суонсон предполагал, что Годвард снял именно ту студию, в которой работал Репин[12]. Сложно сказать, имелись ли у Годварда достаточные средства для студии, или Штроль-Ферн, сам будучи любителем классической древности, обеспечил англичанину известные льготы.
В Риме Годвард вёл прежний — затворнический — образ жизни, вероятно, собственная живопись было единственным, что его вообще интересовало. Ещё в Лондоне он, по описаниям, начинал работать, как только вставал утром, и практически не прерывался до конца дня. В Риме он стал писать на пленэре, что не было типичным для его английских работ. В результате его картина «Бельведер» удостоилась в 1913 году золотой медали на международной выставке в Риме, характерно, что моделью для этого небольшого полотна послужила англичанка, а не итальянка[12]. Известно также о его участии в выставках в Париже 1914 года и в Брюсселе в 1919 году, но нет никаких свидетельств о сотрудничестве с римскими академиями св. Луки и Изящных искусств.
По иронии судьбы, молодые художники, разделявшие идеи фовизма и футуризма, в конце 1910-х годов стали собираться именно на вилле Штроль-Ферна и в соседнем кафе «Араньо», готовя революцию в художественных кругах Рима и открыто заявляя об уничтожении классического искусства. Их выставки в 1918—1922 годах проходили в Пинчио, недалеко от резиденции Годварда[12]. Художник принципиально не обращал внимания на новые веяния, однако сосредоточенность на традиционных для него сюжетах не способствовала его творческому росту. По мнению Джозефа Кёстнера, картина «Новый парфюм» демонстрирует попытку соединить манеру Альма-Тадемы и Лейтона, что явилось «опасным экспериментом», ибо Годвард не умел подробно и археологически правильно воспроизводить интерьеры и обстановку[12].
К 1915 году производительность труда Годварда ещё более уменьшилась: к этому году относятся всего 5 картин. Невозможно судить, было ли это связано с ухудшением здоровья или утратой некоторых произведений. Кроме того, в 1923 году братья — Альфред и Эдмунд — уничтожили весь римский архив Годварда, поэтому невозможно точно установить количество созданных им работ. Судя по переписке с Креметти, с августа 1914 года не было продано ни одной картины — началась война, и арт-дилеры перестали выпускать каталоги[12]. Тем не менее, на обороте картины «По голубому Ионическому морю» (1916 года) сохранилась этикетка, удостоверяющая, что её купила фирма Mullen Ltd и выставляла её в художественной галерее Сент-Пол. В 1918 году Годвард неожиданно обратился к акварели, в этом году он написал их 9 (из 14 сохранившихся). Акварели свидетельствуют о влиянии классической английской школы, может быть, сказалось кратковременное посещение Англии после окончания войны: известно, что он побывал в Бате[12].
Несмотря на скудные свидетельства, известно, что после 1918 года Годвард ещё четырежды ездил в Англию, в том числе на похороны племянника — Уильяма Скотта, сына Нин, — и свадьбу своего брата в 1920 году[13]. В 1919 году он написал 5 картин. Годвард погружался в депрессию, как от новостей с родины, так и из-за того, что вилла Штроль-Ферн приходила в упадок — её хозяину исполнилось 70 лет, а общее число студий возросло до ста, причём зачастую «студиями» служили времянки, более напоминающие трущобы. Эпидемия «испанки» 1919 года также нанесла определённый ущерб художественному обществу Рима[13].
В 1920 году Годвард написал пять картин, здоровье его непрерывно ухудшалось. Это не сказалось на качестве его работ, в числе лучших называют «Алые розы» и «Воспоминание». «Воспоминание» относят к одним из самых современных по стилю и глубоких произведений Годварда. Судьба картины оказалась удачной: Креметти продал её индийскому махарадже[13]. От 1921 года сохранилось только две картины, весьма скромных по размеру и содержанию, но неизвестно, были ли они завершены в Риме или уже после возвращения в Англию. В мае или июне 1921 года студия Годварда была захвачена группой художников-радикалов, в которую входили Антонелло Тромбадори и Джорджо де Кирико[13].
Возвращение в Лондон. Гибель
Причины возвращения Годварда в Англию неизвестны, но в основном их связывают с депрессией и пошатнувшимся здоровьем художника; вероятно, были и финансовые проблемы. Он переехал в Лондон в мае или июне 1921 года, предчувствуя скорый конец. Ещё в Риме он написал завещание, датированное 30 января; в журнале «The Connoisseur» писали, что Годвард вернулся в Лондон за 18 месяцев до своей смерти. Во втором завещании, датированном 20 августа 1921 года, дан адрес студии на Фулэм-роуд, дом 410, в которой он жил до отъезда в Италию; все эти годы её занимала чета Уонтнеров, а потом там поселился его брат — Чарльз Годвард — с молодой женой[13]. О его лондонской жизни известно крайне мало. Академизм в Англии был забыт, президент Королевской Академии художеств Пойнтер скончался ещё в 1919 году, вообще вся обстановка не способствовала работе Годварда. Он продолжал жить отшельником и совершенно не заботился о себе, его родственница Айви Годвард вспоминала, что Джон Уильям готовил в начале каждой недели кастрюлю тушёной говядины, которой и питался до конца той же недели; результатом стала язвенная болезнь[13].
В последний год своей жизни — 1922 — Годвард написал всего три картины. Одна из них — «Nu Sur La Plage» — необычна для его творческой манеры, но показывает, что он продолжал совершенствовать стиль «для себя». Последняя его картина «Созерцание» была продана Креметти за 125 фунтов, что было вполне приемлемой ценой для того времени, учитывая, что покупателей классицистской живописи в Европе почти не осталось[14][Комм. 7].
Депрессия художника усиливалась. По мнению Джозефа Майнора, только вернувшись в Лондон, Годвард понял, что британская художественная среда стала враждебной для него, а в свете новых тенденций в критике было невозможно получить оценку его творчеству. Не имея сил сопротивляться, 13 декабря 1922 года Годвард покончил жизнь самоубийством в возрасте 61 года 4 месяцев и 4 дней. Судя по заметке в «Фулэмской газете», он взял в рот газовый шланг (от кухонной плиты) и обмотал голову пальто, чтобы быстрее задохнуться. В студии остался чистый холст, к работе над которым художник так и не приступил[14].
Родственники были шокированы и чувствовали себя опозоренными. Доходило до того, что они отрицали факт самоубийства, в печатном виде заявив, что произошёл несчастный случай с кухонной плитой. 16 декабря лондонский коронер Освальд провёл дознание, из результатов которого следовало, что самоубийство было преднамеренным и готовилось несколько месяцев. Отчёт о дознании был опубликован в той же «Фулэмской газете». Как было принято в те времена, самоубийца был признан невменяемым[14]. Художник был похоронен на старом Бромптонском кладбище, расположенном всего в нескольких сотнях метров от его студии. Рядом погребены художники Генри Коул, Джеймс Годвин, Вэл Принсеп и Фредерик Сэндис. Присутствовали только ближайшие родственники; самоубийцу похоронили по-христиански, церемонию провёл преподобный Рейнольдс, настоятель кладбищенской церкви. На могиле Годварда установили простой каменный крест[14]. Единственный некролог увидел свет в начале 1923 года в журнале «The Connoisseur», в нём констатировалось, что с 1905 года Годвард перестал участвовать в британских выставках и был давно позабыт.
Наследие и оценки
После самоубийства старшего сына мать Годварда уничтожила весь его архив и все упоминания о нём в семейных бумагах, включая фотографии; не осталось ни одного документа личного характера или изображения художника[14]. Характерно, однако, что родственники не тронули произведений искусства, за которые можно было бы выручить деньги, у всех членов семьи остались рисунки или небольшие картины Годварда. Художник оставил два завещания, чьи тексты были практически идентичными, однако было применено римское завещание января 1921 года, а фулэмское было формально отменено 10 марта 1923 года. Ещё 7 марта была устроена распродажа мебели на аукционе «Сотбис» (всего 13 лотов, видимо, там были и картины). Причиной столь поспешной распродажи, видимо, было стремление избежать налога на наследство[14].
Джон Уильям Годвард оставил 500 фунтов стерлингов своей матери Саре, 300 фунтов передавалось братьям Альфреду и Эдмунду и сестре Марии-Фредерике, студия со всем имуществом передавалась брату Чарльзу, который жил там с семьёй ещё год после самоубийства. Имущество в Италии должно было быть реализовано через Альфреда и Эдмунда. По суду из римской студии выселили модернистов-захватчиков; после оплаты всех издержек (20 000 000 лир) братьям осталась ничтожная сумма в 18 610 лир[14][Комм. 8].
Как художника Годварда чаще всего оценивают как подражателя и последователя Альма-Тадемы, основываясь на главных сюжетах его полотен[1]. Однако Годвард никогда не стремился к археологическим реконструкциям в духе Альма-Тадемы, его влекла женская красота в чистом виде[15]. Иногда Годварда определяют как последователя Ф. Лейтона, но, по мнению В. Суонсона, это неверно. Годвард, формально принадлежа классической школе, избегал типичных для классицизма тем и торжественных многофигурных композиций, стиль его глубоко индивидуален, легко отделяется от всех его современников и именно поэтому должен изучаться историками искусства. По мнению Суонсона, если бы по-другому сложились культурные обстоятельства, Годвард мог бы реализоваться в рамках минимализма или формального абстракционизма[15].
Годвард не может быть признан великим художником, однако он сумел выработать свой стиль и был достаточно плодовит. Не обладая деловыми способностями, он стал коммерчески успешным благодаря сотрудничеству с Маклином, который в течение 21 года подряд платил ему в среднем по 80 фунтов стерлингов за картину, что было значительно меньше гонораров Альма-Тадемы. Объяснялось это тем, что Годварду превосходно удавалось цветовое решение картин, уверенно он передавал цветы и фактуру мрамора, драпировки (особенно игру мелких складок) и меховые шкуры. Человеческие фигуры, особенно второстепенные детали, в частности, пальцы рук и ног, а также пейзажи заднего плана, на котором они располагались, удавались ему значительно хуже, Суонсон даже использовал термин «дилетантизм». Упрёки, вынесенные критиками «Кампаспе», справедливы для всего творчества Годварда[15]. О технике письма Годварда сложно говорить, поскольку от него почти не осталось незавершённых работ. В этом отношении примечателен «Пейзаж с красным миндалём», на котором недописанным остался левый ствол цветущего дерева. Годвард, видимо, делал предварительный рисунок углём или графитом прямо на рабочем холсте, затем грунтовал его и принимался за работу по отдельным секторам; завершив определённую часть полотна, переходил к следующему. Обычно он почти не делал поправок[15].
Сохранились два альбома его зарисовок и эскизов, относившихся к 1904—1905 и 1912—1913 годам, они демонстрируют возможности Годварда-графика. Станковым рисунком он не занимался, а эскизы его очень приблизительны и никогда не рассчитаны на стороннего зрителя. Своих моделей он предпочитал писать с натуры маслом, делая лишь предварительные эскизы. Немногие сохранившиеся наброски позволяют сделать заключение, что как художник Годвард был самоучкой или учился на неформальной основе; его графика демонстрирует отсутствие «текучести», характерной для художников XIX века, прошедших академическую выучку[15]. Годвард сформировался как художник к 30-летнему возрасту и в дальнейшем почти не прогрессировал в своей творческой манере, несмотря на некоторые жанровые и цветовые эксперименты. Это также свидетельствует о слабой профессиональной подготовке, а также о коммерческой направленности его творчества, которое удовлетворяло вкусы покупателей и самого художника[15].
После кончины Годварда его картины продолжали продаваться по крайне низким ценам. В частности, в период 1916—1950 годов антикварами Лондона было реализовано по крайней мере 23 полотна Годварда, в том числе «Невинные забавы» и «Жрица», написанные в 1890-е годы[16]. В 1940-е — 1960-е годы картины Годварда продавались в «Художественной галерее» универмага Harrods, на аукционах в тот период они не выставлялись, и к началу 1970-х годов казалось, что его искусство окончательно забыто[16].
Возрождение интереса к викторианскому классицизму началось в 1973 году, когда на аукционе «Сотбис» была распродана коллекция полотен Альма-Тадемы, собранная в предшествующее десятилетие продюсером Аленом Фунтом. Интерес к кругу Альма-Тадемы автоматически означал интерес и к творчеству Годварда. Творчеством обоих художников с 1976 года занимался американский искусствовед Верн Суонсон, занявший в 1980 году пост директора Спрингвиллского художественного музея[16]. Он же опубликовал исследование его жизни и творчества, собрав все доступные источники.
Постепенно повышается стоимость работ Годварда. В 1963 году его картина «Греческая красавица» (1909) была куплена санитаром скорой помощи Чарльзом Смитом за 90 фунтов стерлингов, что составляло тогда его двухнедельную зарплату[16]. В 1995 году полотно «Dolce Far Niente» ушло с аукциона за 567 000 долларов[17].
Напишите отзыв о статье "Годвард, Джон Уильям"
Комментарии
- ↑ Деталь картины «В ожидании ответа» 1889 года. Предположение основано на сравнении с сохранившимися фотографиями остальных братьев Годвардов ([www.mezzo-mondo.com/arts/mm/godward/godward.html John William Godward] (англ.). Arcadian Galleries reproduction oil paintings. Проверено 9 июня 2014.). Также по мнению В. Суонсона, автопортрет Джона Уильяма Годварда находится на картине «Да или нет?» (1893).
- ↑ 2315 фунтов стерлингов в ценах 2013 года. Здесь и далее перевод рассчитан по системе RPI basis per Measuringworth [www.measuringworth.com/ukcompare/ Five Ways to Compute the Relative Value of a UK Pound Amount, 1830 to Present] (англ.). MeasuringWorth.com.. Проверено 12 июня 2014..
- ↑ От 7100 до 11 900 фунтов стерлингов в ценах 2013 года.
- ↑ В. Суонсон относил это тондо к лучшим «головкам» (см. комментарий 5) Годварда, написанным в начале века. Характерно, что на множестве полотен Годварда этого периода изображена одна и та же модель-итальянка, возможно, их связывали длительные отношения ([hoocher.com/John_William_Godward/John_William_Godward.htm John William Godward] (англ.). Pagina Artis and Persona Historiae. Проверено 9 июня 2014.).
- ↑ Малоформатные декоративные изображения голов детей и молодых женщин — «головок» — сделал в западной живописи самостоятельным жанром Жан-Батист Грёз. См.: Сулимова А. В. [www.dissercat.com/content/zhanrovaya-zhivopis-zhana-batista-greza-master-glazami-svoei-epokhi#ixzz34Q3t7B00 Жанровая живопись Жана-Батиста Греза: мастер глазами своей эпохи // Диссертация на соискание ...степени кандидата искусствоведения] (2009). Проверено 10 июня 2014.
- ↑ Соответственно, 564 100 и 1974 фунта стерлингов в ценах 2013 года.
- ↑ 5857 фунтов стерлингов в ценах 2013 года. Для сравнения — в том же году Ю. Креметти купил полотно Коро за умеренную на тот момент цену 1150 фунтов (53 900 фунтов 2013 года).
- ↑ Соответственно, 22 430 и 14 060 фунтов стерлингов в ценах 2013 года. 20 миллионов лир 1923 года соответствуют 12 000 современных долларов.
Примечания
- ↑ 1 2 Wood C. Victorian Painting. — Boston, New York, London: Bulfinch Press Little, Brown and Company, 1999. — P. 232.
- ↑ Swanson, Vern Grosvenor. [www.artrenewal.org/articles/On-Line_Books/Godward/godward2.php#PART ONE: 1. The Godwards: Origin and Background J.W. Godward: the Eclipse of Classicism] The Godwards: Origin and Background (англ.). Art Renewal Centre. Проверено 9 июня 2014.
- ↑ 1 2 3 4 Swanson, Vern Grosvenor. [www.artrenewal.org/articles/On-Line_Books/Godward/godward2.php#PART ONE: 1. The Godwards: Origin and Background J.W. Godward: the Eclipse of Classicism] The Artist's Youth (1861—1878) (англ.). Art Renewal Centre. Проверено 9 июня 2014.
- ↑ 1 2 Swanson, Vern Grosvenor. [www.artrenewal.org/articles/On-Line_Books/Godward/godward3.php#PART ONE: 3. Godward's Early Instruction (1879-1882) J.W. Godward: the Eclipse of Classicism] Godward's Early Instruction (1879-1882) (англ.). Art Renewal Centre. Проверено 9 июня 2014.
- ↑ 1 2 Swanson, Vern Grosvenor. [www.artrenewal.org/articles/On-Line_Books/Godward/godward4.php#PART ONE: 4. Wilton Road & Formal Training (1882-1886) J.W. Godward: the Eclipse of Classicism] Wilton Road & Formal Training (1882—1886) (англ.). Art Renewal Centre. Проверено 9 июня 2014.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Swanson, Vern Grosvenor. [www.artrenewal.org/articles/On-Line_Books/Godward/godward4.php#PART ONE: 5. The Artist's Debut (1887-1888) J.W. Godward: the Eclipse of Classicism] The Artist's Debut (1887—1888) (англ.). Art Renewal Centre. Проверено 9 июня 2014.
- ↑ 1 2 3 4 5 Swanson, Vern Grosvenor. [www.artrenewal.org/articles/On-Line_Books/Godward/godward5.php#PART ONE: 7. St. Leonard's Terrace (1889-1892) J.W. Godward: the Eclipse of Classicism] St. Leonard's Terrace (1889—1892) (англ.). Art Renewal Centre. Проверено 9 июня 2014.
- ↑ 1 2 3 4 Swanson, Vern Grosvenor. [www.artrenewal.org/articles/On-Line_Books/Godward/godward6.php#PART TWO: 9. Coming of Age (1893-1894) J.W. Godward: the Eclipse of Classicism] Coming of Age (1893—1894) (англ.). Art Renewal Centre. Проверено 9 июня 2014.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Swanson, Vern Grosvenor. [www.artrenewal.org/articles/On-Line_Books/Godward/godward7.php#PART TWO: 11. Reviews and Acclaim (1896-1900) J.W. Godward: the Eclipse of Classicism] Reviews and Acclaim (1896—1900) (англ.). Art Renewal Centre. Проверено 9 июня 2014.
- ↑ 1 2 3 Swanson, Vern Grosvenor. [www.artrenewal.org/articles/On-Line_Books/Godward/godward8.php#PART TWO: 13. Italy and Back (1905-1907) J.W. Godward: the Eclipse of Classicism] Italy and Back (1905—1907) (англ.). Art Renewal Centre. Проверено 9 июня 2014.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Swanson, Vern Grosvenor. [www.artrenewal.org/articles/On-Line_Books/Godward/godward9.php#PART TWO: 15. Godward's Apogee of Fame (1910-1911) J.W. Godward: the Eclipse of Classicism] Godward's Apogee of Fame (1910—1911) (англ.). Art Renewal Centre. Проверено 9 июня 2014.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Swanson, Vern Grosvenor. [www.artrenewal.org/articles/On-Line_Books/Godward/godward10.php#PART THREE: 17. Villa Strohl-Fern (1912-1913) J.W. Godward: the Eclipse of Classicism] Villa Strohl-Fern (1912—1913) (англ.). Art Renewal Centre. Проверено 9 июня 2014.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Swanson, Vern Grosvenor. [www.artrenewal.org/articles/On-Line_Books/Godward/godward11.php#PART THREE: 19. The Late Roman Years (1919-1921) J.W. Godward: the Eclipse of Classicism] The Late Roman Years (1919—1921) (англ.). Art Renewal Centre. Проверено 9 июня 2014.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Swanson, Vern Grosvenor. [www.artrenewal.org/articles/On-Line_Books/Godward/godward12.php#PART THREE: 21. To Mask a Tragedy (1922) J.W. Godward: the Eclipse of Classicism] To Mask a Tragedy (1922) (англ.). Art Renewal Centre. Проверено 9 июня 2014.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Swanson, Vern Grosvenor. [www.artrenewal.org/articles/On-Line_Books/Godward/godward14.php#PART FOUR: 25. Godward: The Artist J.W. Godward: the Eclipse of Classicism] Godward: The Artist (англ.). Art Renewal Centre. Проверено 9 июня 2014.
- ↑ 1 2 3 4 Swanson, Vern Grosvenor. [www.artrenewal.org/articles/On-Line_Books/Godward/godward16.php#PART FOUR: 29. Artist on the Block J.W. Godward: the Eclipse of Classicism] Artist on the Block (англ.). Art Renewal Centre. Проверено 9 июня 2014.
- ↑ [www.artmagick.com/pictures/artist.aspx?artist=john-william-godward John William Godward] (англ.). ArtMagick. Проверено 9 июня 2014.
Ссылки
- Judith Pelpola. [web.stanford.edu/group/journal/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/Pelpola-.pdf British Genre Painting of the 19th Century: An Analysis of Through the Fog, English Channel (1886), and Innocent Amusements (1891)] (англ.). Проверено 4 июля 2014.
- Vern Grosvenor Swanson. [www.artrenewal.org/articles/On-Line_Books/Godward/godward1.php Biography of J. W. Godward] (англ.). Проверено 10 июня 2014.
- [www.artrenewal.org/pages/artist.php?artistid=82 Биография, картины] (англ.). Art Renewal Center. Проверено 10 июня 2014.
- [www.getty.edu/art/gettyguide/artMakerDetails?maker=616 Godward at the Getty Museum] (англ.). Getty Museum. Проверено 10 июня 2014.
- [www.johnwilliamgodward.org John William Godward The Complete Works] (англ.). Проверено 10 июня 2014.
- [www.oldmuseum.ru/index.php?id=90&Razdels=&picsel=349&gen=10&authId=59 Godward John William] (англ.). Проверено 10 июня 2014.
| Эта статья входит в число хороших статей русскоязычного раздела Википедии. |
Отрывок, характеризующий Годвард, Джон Уильям
После Бородинского сражения, занятия неприятелем Москвы и сожжения ее, важнейшим эпизодом войны 1812 года историки признают движение русской армии с Рязанской на Калужскую дорогу и к Тарутинскому лагерю – так называемый фланговый марш за Красной Пахрой. Историки приписывают славу этого гениального подвига различным лицам и спорят о том, кому, собственно, она принадлежит. Даже иностранные, даже французские историки признают гениальность русских полководцев, говоря об этом фланговом марше. Но почему военные писатели, а за ними и все, полагают, что этот фланговый марш есть весьма глубокомысленное изобретение какого нибудь одного лица, спасшее Россию и погубившее Наполеона, – весьма трудно понять. Во первых, трудно понять, в чем состоит глубокомыслие и гениальность этого движения; ибо для того, чтобы догадаться, что самое лучшее положение армии (когда ее не атакуют) находиться там, где больше продовольствия, – не нужно большого умственного напряжения. И каждый, даже глупый тринадцатилетний мальчик, без труда мог догадаться, что в 1812 году самое выгодное положение армии, после отступления от Москвы, было на Калужской дороге. Итак, нельзя понять, во первых, какими умозаключениями доходят историки до того, чтобы видеть что то глубокомысленное в этом маневре. Во вторых, еще труднее понять, в чем именно историки видят спасительность этого маневра для русских и пагубность его для французов; ибо фланговый марш этот, при других, предшествующих, сопутствовавших и последовавших обстоятельствах, мог быть пагубным для русского и спасительным для французского войска. Если с того времени, как совершилось это движение, положение русского войска стало улучшаться, то из этого никак не следует, чтобы это движение было тому причиною.
Этот фланговый марш не только не мог бы принести какие нибудь выгоды, но мог бы погубить русскую армию, ежели бы при том не было совпадения других условий. Что бы было, если бы не сгорела Москва? Если бы Мюрат не потерял из виду русских? Если бы Наполеон не находился в бездействии? Если бы под Красной Пахрой русская армия, по совету Бенигсена и Барклая, дала бы сражение? Что бы было, если бы французы атаковали русских, когда они шли за Пахрой? Что бы было, если бы впоследствии Наполеон, подойдя к Тарутину, атаковал бы русских хотя бы с одной десятой долей той энергии, с которой он атаковал в Смоленске? Что бы было, если бы французы пошли на Петербург?.. При всех этих предположениях спасительность флангового марша могла перейти в пагубность.
В третьих, и самое непонятное, состоит в том, что люди, изучающие историю, умышленно не хотят видеть того, что фланговый марш нельзя приписывать никакому одному человеку, что никто никогда его не предвидел, что маневр этот, точно так же как и отступление в Филях, в настоящем никогда никому не представлялся в его цельности, а шаг за шагом, событие за событием, мгновение за мгновением вытекал из бесчисленного количества самых разнообразных условий, и только тогда представился во всей своей цельности, когда он совершился и стал прошедшим.
На совете в Филях у русского начальства преобладающею мыслью было само собой разумевшееся отступление по прямому направлению назад, то есть по Нижегородской дороге. Доказательствами тому служит то, что большинство голосов на совете было подано в этом смысле, и, главное, известный разговор после совета главнокомандующего с Ланским, заведовавшим провиантскою частью. Ланской донес главнокомандующему, что продовольствие для армии собрано преимущественно по Оке, в Тульской и Калужской губерниях и что в случае отступления на Нижний запасы провианта будут отделены от армии большою рекою Окой, через которую перевоз в первозимье бывает невозможен. Это был первый признак необходимости уклонения от прежде представлявшегося самым естественным прямого направления на Нижний. Армия подержалась южнее, по Рязанской дороге, и ближе к запасам. Впоследствии бездействие французов, потерявших даже из виду русскую армию, заботы о защите Тульского завода и, главное, выгоды приближения к своим запасам заставили армию отклониться еще южнее, на Тульскую дорогу. Перейдя отчаянным движением за Пахрой на Тульскую дорогу, военачальники русской армии думали оставаться у Подольска, и не было мысли о Тарутинской позиции; но бесчисленное количество обстоятельств и появление опять французских войск, прежде потерявших из виду русских, и проекты сражения, и, главное, обилие провианта в Калуге заставили нашу армию еще более отклониться к югу и перейти в середину путей своего продовольствия, с Тульской на Калужскую дорогу, к Тарутину. Точно так же, как нельзя отвечать на тот вопрос, когда оставлена была Москва, нельзя отвечать и на то, когда именно и кем решено было перейти к Тарутину. Только тогда, когда войска пришли уже к Тарутину вследствие бесчисленных дифференциальных сил, тогда только стали люди уверять себя, что они этого хотели и давно предвидели.
Знаменитый фланговый марш состоял только в том, что русское войско, отступая все прямо назад по обратному направлению наступления, после того как наступление французов прекратилось, отклонилось от принятого сначала прямого направления и, не видя за собой преследования, естественно подалось в ту сторону, куда его влекло обилие продовольствия.
Если бы представить себе не гениальных полководцев во главе русской армии, но просто одну армию без начальников, то и эта армия не могла бы сделать ничего другого, кроме обратного движения к Москве, описывая дугу с той стороны, с которой было больше продовольствия и край был обильнее.
Передвижение это с Нижегородской на Рязанскую, Тульскую и Калужскую дороги было до такой степени естественно, что в этом самом направлении отбегали мародеры русской армии и что в этом самом направлении требовалось из Петербурга, чтобы Кутузов перевел свою армию. В Тарутине Кутузов получил почти выговор от государя за то, что он отвел армию на Рязанскую дорогу, и ему указывалось то самое положение против Калуги, в котором он уже находился в то время, как получил письмо государя.
Откатывавшийся по направлению толчка, данного ему во время всей кампании и в Бородинском сражении, шар русского войска, при уничтожении силы толчка и не получая новых толчков, принял то положение, которое было ему естественно.
Заслуга Кутузова не состояла в каком нибудь гениальном, как это называют, стратегическом маневре, а в том, что он один понимал значение совершавшегося события. Он один понимал уже тогда значение бездействия французской армии, он один продолжал утверждать, что Бородинское сражение была победа; он один – тот, который, казалось бы, по своему положению главнокомандующего, должен был быть вызываем к наступлению, – он один все силы свои употреблял на то, чтобы удержать русскую армию от бесполезных сражений.
Подбитый зверь под Бородиным лежал там где то, где его оставил отбежавший охотник; но жив ли, силен ли он был, или он только притаился, охотник не знал этого. Вдруг послышался стон этого зверя.
Стон этого раненого зверя, французской армии, обличивший ее погибель, была присылка Лористона в лагерь Кутузова с просьбой о мире.
Наполеон с своей уверенностью в том, что не то хорошо, что хорошо, а то хорошо, что ему пришло в голову, написал Кутузову слова, первые пришедшие ему в голову и не имеющие никакого смысла. Он писал:
«Monsieur le prince Koutouzov, – писал он, – j'envoie pres de vous un de mes aides de camps generaux pour vous entretenir de plusieurs objets interessants. Je desire que Votre Altesse ajoute foi a ce qu'il lui dira, surtout lorsqu'il exprimera les sentiments d'estime et de particuliere consideration que j'ai depuis longtemps pour sa personne… Cette lettre n'etant a autre fin, je prie Dieu, Monsieur le prince Koutouzov, qu'il vous ait en sa sainte et digne garde,
Moscou, le 3 Octobre, 1812. Signe:
Napoleon».
[Князь Кутузов, посылаю к вам одного из моих генерал адъютантов для переговоров с вами о многих важных предметах. Прошу Вашу Светлость верить всему, что он вам скажет, особенно когда, станет выражать вам чувствования уважения и особенного почтения, питаемые мною к вам с давнего времени. Засим молю бога о сохранении вас под своим священным кровом.
Москва, 3 октября, 1812.
Наполеон. ]
«Je serais maudit par la posterite si l'on me regardait comme le premier moteur d'un accommodement quelconque. Tel est l'esprit actuel de ma nation», [Я бы был проклят, если бы на меня смотрели как на первого зачинщика какой бы то ни было сделки; такова воля нашего народа. ] – отвечал Кутузов и продолжал употреблять все свои силы на то, чтобы удерживать войска от наступления.
В месяц грабежа французского войска в Москве и спокойной стоянки русского войска под Тарутиным совершилось изменение в отношении силы обоих войск (духа и численности), вследствие которого преимущество силы оказалось на стороне русских. Несмотря на то, что положение французского войска и его численность были неизвестны русским, как скоро изменилось отношение, необходимость наступления тотчас же выразилась в бесчисленном количестве признаков. Признаками этими были: и присылка Лористона, и изобилие провианта в Тарутине, и сведения, приходившие со всех сторон о бездействии и беспорядке французов, и комплектование наших полков рекрутами, и хорошая погода, и продолжительный отдых русских солдат, и обыкновенно возникающее в войсках вследствие отдыха нетерпение исполнять то дело, для которого все собраны, и любопытство о том, что делалось во французской армии, так давно потерянной из виду, и смелость, с которою теперь шныряли русские аванпосты около стоявших в Тарутине французов, и известия о легких победах над французами мужиков и партизанов, и зависть, возбуждаемая этим, и чувство мести, лежавшее в душе каждого человека до тех пор, пока французы были в Москве, и (главное) неясное, но возникшее в душе каждого солдата сознание того, что отношение силы изменилось теперь и преимущество находится на нашей стороне. Существенное отношение сил изменилось, и наступление стало необходимым. И тотчас же, так же верно, как начинают бить и играть в часах куранты, когда стрелка совершила полный круг, в высших сферах, соответственно существенному изменению сил, отразилось усиленное движение, шипение и игра курантов.
Русская армия управлялась Кутузовым с его штабом и государем из Петербурга. В Петербурге, еще до получения известия об оставлении Москвы, был составлен подробный план всей войны и прислан Кутузову для руководства. Несмотря на то, что план этот был составлен в предположении того, что Москва еще в наших руках, план этот был одобрен штабом и принят к исполнению. Кутузов писал только, что дальние диверсии всегда трудно исполнимы. И для разрешения встречавшихся трудностей присылались новые наставления и лица, долженствовавшие следить за его действиями и доносить о них.
Кроме того, теперь в русской армии преобразовался весь штаб. Замещались места убитого Багратиона и обиженного, удалившегося Барклая. Весьма серьезно обдумывали, что будет лучше: А. поместить на место Б., а Б. на место Д., или, напротив, Д. на место А. и т. д., как будто что нибудь, кроме удовольствия А. и Б., могло зависеть от этого.
В штабе армии, по случаю враждебности Кутузова с своим начальником штаба, Бенигсеном, и присутствия доверенных лиц государя и этих перемещений, шла более, чем обыкновенно, сложная игра партий: А. подкапывался под Б., Д. под С. и т. д., во всех возможных перемещениях и сочетаниях. При всех этих подкапываниях предметом интриг большей частью было то военное дело, которым думали руководить все эти люди; но это военное дело шло независимо от них, именно так, как оно должно было идти, то есть никогда не совпадая с тем, что придумывали люди, а вытекая из сущности отношения масс. Все эти придумыванья, скрещиваясь, перепутываясь, представляли в высших сферах только верное отражение того, что должно было совершиться.
«Князь Михаил Иларионович! – писал государь от 2 го октября в письме, полученном после Тарутинского сражения. – С 2 го сентября Москва в руках неприятельских. Последние ваши рапорты от 20 го; и в течение всего сего времени не только что ничего не предпринято для действия противу неприятеля и освобождения первопрестольной столицы, но даже, по последним рапортам вашим, вы еще отступили назад. Серпухов уже занят отрядом неприятельским, и Тула, с знаменитым и столь для армии необходимым своим заводом, в опасности. По рапортам от генерала Винцингероде вижу я, что неприятельский 10000 й корпус подвигается по Петербургской дороге. Другой, в нескольких тысячах, также подается к Дмитрову. Третий подвинулся вперед по Владимирской дороге. Четвертый, довольно значительный, стоит между Рузою и Можайском. Наполеон же сам по 25 е число находился в Москве. По всем сим сведениям, когда неприятель сильными отрядами раздробил свои силы, когда Наполеон еще в Москве сам, с своею гвардией, возможно ли, чтобы силы неприятельские, находящиеся перед вами, были значительны и не позволяли вам действовать наступательно? С вероятностию, напротив того, должно полагать, что он вас преследует отрядами или, по крайней мере, корпусом, гораздо слабее армии, вам вверенной. Казалось, что, пользуясь сими обстоятельствами, могли бы вы с выгодою атаковать неприятеля слабее вас и истребить оного или, по меньшей мере, заставя его отступить, сохранить в наших руках знатную часть губерний, ныне неприятелем занимаемых, и тем самым отвратить опасность от Тулы и прочих внутренних наших городов. На вашей ответственности останется, если неприятель в состоянии будет отрядить значительный корпус на Петербург для угрожания сей столице, в которой не могло остаться много войска, ибо с вверенною вам армиею, действуя с решительностию и деятельностию, вы имеете все средства отвратить сие новое несчастие. Вспомните, что вы еще обязаны ответом оскорбленному отечеству в потере Москвы. Вы имели опыты моей готовности вас награждать. Сия готовность не ослабнет во мне, но я и Россия вправе ожидать с вашей стороны всего усердия, твердости и успехов, которые ум ваш, воинские таланты ваши и храбрость войск, вами предводительствуемых, нам предвещают».
Но в то время как письмо это, доказывающее то, что существенное отношение сил уже отражалось и в Петербурге, было в дороге, Кутузов не мог уже удержать командуемую им армию от наступления, и сражение уже было дано.
2 го октября казак Шаповалов, находясь в разъезде, убил из ружья одного и подстрелил другого зайца. Гоняясь за подстреленным зайцем, Шаповалов забрел далеко в лес и наткнулся на левый фланг армии Мюрата, стоящий без всяких предосторожностей. Казак, смеясь, рассказал товарищам, как он чуть не попался французам. Хорунжий, услыхав этот рассказ, сообщил его командиру.
Казака призвали, расспросили; казачьи командиры хотели воспользоваться этим случаем, чтобы отбить лошадей, но один из начальников, знакомый с высшими чинами армии, сообщил этот факт штабному генералу. В последнее время в штабе армии положение было в высшей степени натянутое. Ермолов, за несколько дней перед этим, придя к Бенигсену, умолял его употребить свое влияние на главнокомандующего, для того чтобы сделано было наступление.
– Ежели бы я не знал вас, я подумал бы, что вы не хотите того, о чем вы просите. Стоит мне посоветовать одно, чтобы светлейший наверное сделал противоположное, – отвечал Бенигсен.
Известие казаков, подтвержденное посланными разъездами, доказало окончательную зрелость события. Натянутая струна соскочила, и зашипели часы, и заиграли куранты. Несмотря на всю свою мнимую власть, на свой ум, опытность, знание людей, Кутузов, приняв во внимание записку Бенигсена, посылавшего лично донесения государю, выражаемое всеми генералами одно и то же желание, предполагаемое им желание государя и сведение казаков, уже не мог удержать неизбежного движения и отдал приказание на то, что он считал бесполезным и вредным, – благословил совершившийся факт.
Записка, поданная Бенигсеном о необходимости наступления, и сведения казаков о незакрытом левом фланге французов были только последние признаки необходимости отдать приказание о наступлении, и наступление было назначено на 5 е октября.
4 го октября утром Кутузов подписал диспозицию. Толь прочел ее Ермолову, предлагая ему заняться дальнейшими распоряжениями.
– Хорошо, хорошо, мне теперь некогда, – сказал Ермолов и вышел из избы. Диспозиция, составленная Толем, была очень хорошая. Так же, как и в аустерлицкой диспозиции, было написано, хотя и не по немецки:
«Die erste Colonne marschiert [Первая колонна идет (нем.) ] туда то и туда то, die zweite Colonne marschiert [вторая колонна идет (нем.) ] туда то и туда то» и т. д. И все эти колонны на бумаге приходили в назначенное время в свое место и уничтожали неприятеля. Все было, как и во всех диспозициях, прекрасно придумано, и, как и по всем диспозициям, ни одна колонна не пришла в свое время и на свое место.
Когда диспозиция была готова в должном количестве экземпляров, был призван офицер и послан к Ермолову, чтобы передать ему бумаги для исполнения. Молодой кавалергардский офицер, ординарец Кутузова, довольный важностью данного ему поручения, отправился на квартиру Ермолова.
– Уехали, – отвечал денщик Ермолова. Кавалергардский офицер пошел к генералу, у которого часто бывал Ермолов.
– Нет, и генерала нет.
Кавалергардский офицер, сев верхом, поехал к другому.
– Нет, уехали.
«Как бы мне не отвечать за промедление! Вот досада!» – думал офицер. Он объездил весь лагерь. Кто говорил, что видели, как Ермолов проехал с другими генералами куда то, кто говорил, что он, верно, опять дома. Офицер, не обедая, искал до шести часов вечера. Нигде Ермолова не было и никто не знал, где он был. Офицер наскоро перекусил у товарища и поехал опять в авангард к Милорадовичу. Милорадовича не было тоже дома, но тут ему сказали, что Милорадович на балу у генерала Кикина, что, должно быть, и Ермолов там.
– Да где же это?
– А вон, в Ечкине, – сказал казачий офицер, указывая на далекий помещичий дом.
– Да как же там, за цепью?
– Выслали два полка наших в цепь, там нынче такой кутеж идет, беда! Две музыки, три хора песенников.
Офицер поехал за цепь к Ечкину. Издалека еще, подъезжая к дому, он услыхал дружные, веселые звуки плясовой солдатской песни.
«Во олузя а ах… во олузях!..» – с присвистом и с торбаном слышалось ему, изредка заглушаемое криком голосов. Офицеру и весело стало на душе от этих звуков, но вместе с тем и страшно за то, что он виноват, так долго не передав важного, порученного ему приказания. Был уже девятый час. Он слез с лошади и вошел на крыльцо и в переднюю большого, сохранившегося в целости помещичьего дома, находившегося между русских и французов. В буфетной и в передней суетились лакеи с винами и яствами. Под окнами стояли песенники. Офицера ввели в дверь, и он увидал вдруг всех вместе важнейших генералов армии, в том числе и большую, заметную фигуру Ермолова. Все генералы были в расстегнутых сюртуках, с красными, оживленными лицами и громко смеялись, стоя полукругом. В середине залы красивый невысокий генерал с красным лицом бойко и ловко выделывал трепака.
– Ха, ха, ха! Ай да Николай Иванович! ха, ха, ха!..
Офицер чувствовал, что, входя в эту минуту с важным приказанием, он делается вдвойне виноват, и он хотел подождать; но один из генералов увидал его и, узнав, зачем он, сказал Ермолову. Ермолов с нахмуренным лицом вышел к офицеру и, выслушав, взял от него бумагу, ничего не сказав ему.
– Ты думаешь, это нечаянно он уехал? – сказал в этот вечер штабный товарищ кавалергардскому офицеру про Ермолова. – Это штуки, это все нарочно. Коновницына подкатить. Посмотри, завтра каша какая будет!
На другой день, рано утром, дряхлый Кутузов встал, помолился богу, оделся и с неприятным сознанием того, что он должен руководить сражением, которого он не одобрял, сел в коляску и выехал из Леташевки, в пяти верстах позади Тарутина, к тому месту, где должны были быть собраны наступающие колонны. Кутузов ехал, засыпая и просыпаясь и прислушиваясь, нет ли справа выстрелов, не начиналось ли дело? Но все еще было тихо. Только начинался рассвет сырого и пасмурного осеннего дня. Подъезжая к Тарутину, Кутузов заметил кавалеристов, ведших на водопой лошадей через дорогу, по которой ехала коляска. Кутузов присмотрелся к ним, остановил коляску и спросил, какого полка? Кавалеристы были из той колонны, которая должна была быть уже далеко впереди в засаде. «Ошибка, может быть», – подумал старый главнокомандующий. Но, проехав еще дальше, Кутузов увидал пехотные полки, ружья в козлах, солдат за кашей и с дровами, в подштанниках. Позвали офицера. Офицер доложил, что никакого приказания о выступлении не было.
– Как не бы… – начал Кутузов, но тотчас же замолчал и приказал позвать к себе старшего офицера. Вылезши из коляски, опустив голову и тяжело дыша, молча ожидая, ходил он взад и вперед. Когда явился потребованный офицер генерального штаба Эйхен, Кутузов побагровел не оттого, что этот офицер был виною ошибки, но оттого, что он был достойный предмет для выражения гнева. И, трясясь, задыхаясь, старый человек, придя в то состояние бешенства, в которое он в состоянии был приходить, когда валялся по земле от гнева, он напустился на Эйхена, угрожая руками, крича и ругаясь площадными словами. Другой подвернувшийся, капитан Брозин, ни в чем не виноватый, потерпел ту же участь.
– Это что за каналья еще? Расстрелять мерзавцев! – хрипло кричал он, махая руками и шатаясь. Он испытывал физическое страдание. Он, главнокомандующий, светлейший, которого все уверяют, что никто никогда не имел в России такой власти, как он, он поставлен в это положение – поднят на смех перед всей армией. «Напрасно так хлопотал молиться об нынешнем дне, напрасно не спал ночь и все обдумывал! – думал он о самом себе. – Когда был мальчишкой офицером, никто бы не смел так надсмеяться надо мной… А теперь!» Он испытывал физическое страдание, как от телесного наказания, и не мог не выражать его гневными и страдальческими криками; но скоро силы его ослабели, и он, оглядываясь, чувствуя, что он много наговорил нехорошего, сел в коляску и молча уехал назад.
Излившийся гнев уже не возвращался более, и Кутузов, слабо мигая глазами, выслушивал оправдания и слова защиты (Ермолов сам не являлся к нему до другого дня) и настояния Бенигсена, Коновницына и Толя о том, чтобы то же неудавшееся движение сделать на другой день. И Кутузов должен был опять согласиться.
На другой день войска с вечера собрались в назначенных местах и ночью выступили. Была осенняя ночь с черно лиловатыми тучами, но без дождя. Земля была влажна, но грязи не было, и войска шли без шума, только слабо слышно было изредка бренчанье артиллерии. Запретили разговаривать громко, курить трубки, высекать огонь; лошадей удерживали от ржания. Таинственность предприятия увеличивала его привлекательность. Люди шли весело. Некоторые колонны остановились, поставили ружья в козлы и улеглись на холодной земле, полагая, что они пришли туда, куда надо было; некоторые (большинство) колонны шли целую ночь и, очевидно, зашли не туда, куда им надо было.
Граф Орлов Денисов с казаками (самый незначительный отряд из всех других) один попал на свое место и в свое время. Отряд этот остановился у крайней опушки леса, на тропинке из деревни Стромиловой в Дмитровское.
Перед зарею задремавшего графа Орлова разбудили. Привели перебежчика из французского лагеря. Это был польский унтер офицер корпуса Понятовского. Унтер офицер этот по польски объяснил, что он перебежал потому, что его обидели по службе, что ему давно бы пора быть офицером, что он храбрее всех и потому бросил их и хочет их наказать. Он говорил, что Мюрат ночует в версте от них и что, ежели ему дадут сто человек конвою, он живьем возьмет его. Граф Орлов Денисов посоветовался с своими товарищами. Предложение было слишком лестно, чтобы отказаться. Все вызывались ехать, все советовали попытаться. После многих споров и соображений генерал майор Греков с двумя казачьими полками решился ехать с унтер офицером.
– Ну помни же, – сказал граф Орлов Денисов унтер офицеру, отпуская его, – в случае ты соврал, я тебя велю повесить, как собаку, а правда – сто червонцев.
Унтер офицер с решительным видом не отвечал на эти слова, сел верхом и поехал с быстро собравшимся Грековым. Они скрылись в лесу. Граф Орлов, пожимаясь от свежести начинавшего брезжить утра, взволнованный тем, что им затеяно на свою ответственность, проводив Грекова, вышел из леса и стал оглядывать неприятельский лагерь, видневшийся теперь обманчиво в свете начинавшегося утра и догоравших костров. Справа от графа Орлова Денисова, по открытому склону, должны были показаться наши колонны. Граф Орлов глядел туда; но несмотря на то, что издалека они были бы заметны, колонн этих не было видно. Во французском лагере, как показалось графу Орлову Денисову, и в особенности по словам его очень зоркого адъютанта, начинали шевелиться.
– Ах, право, поздно, – сказал граф Орлов, поглядев на лагерь. Ему вдруг, как это часто бывает, после того как человека, которому мы поверим, нет больше перед глазами, ему вдруг совершенно ясно и очевидно стало, что унтер офицер этот обманщик, что он наврал и только испортит все дело атаки отсутствием этих двух полков, которых он заведет бог знает куда. Можно ли из такой массы войск выхватить главнокомандующего?
– Право, он врет, этот шельма, – сказал граф.
– Можно воротить, – сказал один из свиты, который почувствовал так же, как и граф Орлов Денисов, недоверие к предприятию, когда посмотрел на лагерь.
– А? Право?.. как вы думаете, или оставить? Или нет?
– Прикажете воротить?
– Воротить, воротить! – вдруг решительно сказал граф Орлов, глядя на часы, – поздно будет, совсем светло.
И адъютант поскакал лесом за Грековым. Когда Греков вернулся, граф Орлов Денисов, взволнованный и этой отмененной попыткой, и тщетным ожиданием пехотных колонн, которые все не показывались, и близостью неприятеля (все люди его отряда испытывали то же), решил наступать.
Шепотом прокомандовал он: «Садись!» Распределились, перекрестились…
– С богом!
«Урааааа!» – зашумело по лесу, и, одна сотня за другой, как из мешка высыпаясь, полетели весело казаки с своими дротиками наперевес, через ручей к лагерю.
Один отчаянный, испуганный крик первого увидавшего казаков француза – и все, что было в лагере, неодетое, спросонков бросило пушки, ружья, лошадей и побежало куда попало.
Ежели бы казаки преследовали французов, не обращая внимания на то, что было позади и вокруг них, они взяли бы и Мюрата, и все, что тут было. Начальники и хотели этого. Но нельзя было сдвинуть с места казаков, когда они добрались до добычи и пленных. Команды никто не слушал. Взято было тут же тысяча пятьсот человек пленных, тридцать восемь орудий, знамена и, что важнее всего для казаков, лошади, седла, одеяла и различные предметы. Со всем этим надо было обойтись, прибрать к рукам пленных, пушки, поделить добычу, покричать, даже подраться между собой: всем этим занялись казаки.
Французы, не преследуемые более, стали понемногу опоминаться, собрались командами и принялись стрелять. Орлов Денисов ожидал все колонны и не наступал дальше.
Между тем по диспозиции: «die erste Colonne marschiert» [первая колонна идет (нем.) ] и т. д., пехотные войска опоздавших колонн, которыми командовал Бенигсен и управлял Толь, выступили как следует и, как всегда бывает, пришли куда то, но только не туда, куда им было назначено. Как и всегда бывает, люди, вышедшие весело, стали останавливаться; послышалось неудовольствие, сознание путаницы, двинулись куда то назад. Проскакавшие адъютанты и генералы кричали, сердились, ссорились, говорили, что совсем не туда и опоздали, кого то бранили и т. д., и наконец, все махнули рукой и пошли только с тем, чтобы идти куда нибудь. «Куда нибудь да придем!» И действительно, пришли, но не туда, а некоторые туда, но опоздали так, что пришли без всякой пользы, только для того, чтобы в них стреляли. Толь, который в этом сражении играл роль Вейротера в Аустерлицком, старательно скакал из места в место и везде находил все навыворот. Так он наскакал на корпус Багговута в лесу, когда уже было совсем светло, а корпус этот давно уже должен был быть там, с Орловым Денисовым. Взволнованный, огорченный неудачей и полагая, что кто нибудь виноват в этом, Толь подскакал к корпусному командиру и строго стал упрекать его, говоря, что за это расстрелять следует. Багговут, старый, боевой, спокойный генерал, тоже измученный всеми остановками, путаницами, противоречиями, к удивлению всех, совершенно противно своему характеру, пришел в бешенство и наговорил неприятных вещей Толю.
– Я уроков принимать ни от кого не хочу, а умирать с своими солдатами умею не хуже другого, – сказал он и с одной дивизией пошел вперед.
Выйдя на поле под французские выстрелы, взволнованный и храбрый Багговут, не соображая того, полезно или бесполезно его вступление в дело теперь, и с одной дивизией, пошел прямо и повел свои войска под выстрелы. Опасность, ядра, пули были то самое, что нужно ему было в его гневном настроении. Одна из первых пуль убила его, следующие пули убили многих солдат. И дивизия его постояла несколько времени без пользы под огнем.
Между тем с фронта другая колонна должна была напасть на французов, но при этой колонне был Кутузов. Он знал хорошо, что ничего, кроме путаницы, не выйдет из этого против его воли начатого сражения, и, насколько то было в его власти, удерживал войска. Он не двигался.
Кутузов молча ехал на своей серенькой лошадке, лениво отвечая на предложения атаковать.
– У вас все на языке атаковать, а не видите, что мы не умеем делать сложных маневров, – сказал он Милорадовичу, просившемуся вперед.
– Не умели утром взять живьем Мюрата и прийти вовремя на место: теперь нечего делать! – отвечал он другому.
Когда Кутузову доложили, что в тылу французов, где, по донесениям казаков, прежде никого не было, теперь было два батальона поляков, он покосился назад на Ермолова (он с ним не говорил еще со вчерашнего дня).
– Вот просят наступления, предлагают разные проекты, а чуть приступишь к делу, ничего не готово, и предупрежденный неприятель берет свои меры.
Ермолов прищурил глаза и слегка улыбнулся, услыхав эти слова. Он понял, что для него гроза прошла и что Кутузов ограничится этим намеком.
– Это он на мой счет забавляется, – тихо сказал Ермолов, толкнув коленкой Раевского, стоявшего подле него.
Вскоре после этого Ермолов выдвинулся вперед к Кутузову и почтительно доложил:
– Время не упущено, ваша светлость, неприятель не ушел. Если прикажете наступать? А то гвардия и дыма не увидит.
Кутузов ничего не сказал, но когда ему донесли, что войска Мюрата отступают, он приказал наступленье; но через каждые сто шагов останавливался на три четверти часа.
Все сраженье состояло только в том, что сделали казаки Орлова Денисова; остальные войска лишь напрасно потеряли несколько сот людей.
Вследствие этого сражения Кутузов получил алмазный знак, Бенигсен тоже алмазы и сто тысяч рублей, другие, по чинам соответственно, получили тоже много приятного, и после этого сражения сделаны еще новые перемещения в штабе.
«Вот как у нас всегда делается, все навыворот!» – говорили после Тарутинского сражения русские офицеры и генералы, – точно так же, как и говорят теперь, давая чувствовать, что кто то там глупый делает так, навыворот, а мы бы не так сделали. Но люди, говорящие так, или не знают дела, про которое говорят, или умышленно обманывают себя. Всякое сражение – Тарутинское, Бородинское, Аустерлицкое – всякое совершается не так, как предполагали его распорядители. Это есть существенное условие.
Бесчисленное количество свободных сил (ибо нигде человек не бывает свободнее, как во время сражения, где дело идет о жизни и смерти) влияет на направление сражения, и это направление никогда не может быть известно вперед и никогда не совпадает с направлением какой нибудь одной силы.
Ежели многие, одновременно и разнообразно направленные силы действуют на какое нибудь тело, то направление движения этого тела не может совпадать ни с одной из сил; а будет всегда среднее, кратчайшее направление, то, что в механике выражается диагональю параллелограмма сил.
Ежели в описаниях историков, в особенности французских, мы находим, что у них войны и сражения исполняются по вперед определенному плану, то единственный вывод, который мы можем сделать из этого, состоит в том, что описания эти не верны.
Тарутинское сражение, очевидно, не достигло той цели, которую имел в виду Толь: по порядку ввести по диспозиции в дело войска, и той, которую мог иметь граф Орлов; взять в плен Мюрата, или цели истребления мгновенно всего корпуса, которую могли иметь Бенигсен и другие лица, или цели офицера, желавшего попасть в дело и отличиться, или казака, который хотел приобрести больше добычи, чем он приобрел, и т. д. Но, если целью было то, что действительно совершилось, и то, что для всех русских людей тогда было общим желанием (изгнание французов из России и истребление их армии), то будет совершенно ясно, что Тарутинское сражение, именно вследствие его несообразностей, было то самое, что было нужно в тот период кампании. Трудно и невозможно придумать какой нибудь исход этого сражения, более целесообразный, чем тот, который оно имело. При самом малом напряжении, при величайшей путанице и при самой ничтожной потере были приобретены самые большие результаты во всю кампанию, был сделан переход от отступления к наступлению, была обличена слабость французов и был дан тот толчок, которого только и ожидало наполеоновское войско для начатия бегства.
Наполеон вступает в Москву после блестящей победы de la Moskowa; сомнения в победе не может быть, так как поле сражения остается за французами. Русские отступают и отдают столицу. Москва, наполненная провиантом, оружием, снарядами и несметными богатствами, – в руках Наполеона. Русское войско, вдвое слабейшее французского, в продолжение месяца не делает ни одной попытки нападения. Положение Наполеона самое блестящее. Для того, чтобы двойными силами навалиться на остатки русской армии и истребить ее, для того, чтобы выговорить выгодный мир или, в случае отказа, сделать угрожающее движение на Петербург, для того, чтобы даже, в случае неудачи, вернуться в Смоленск или в Вильну, или остаться в Москве, – для того, одним словом, чтобы удержать то блестящее положение, в котором находилось в то время французское войско, казалось бы, не нужно особенной гениальности. Для этого нужно было сделать самое простое и легкое: не допустить войска до грабежа, заготовить зимние одежды, которых достало бы в Москве на всю армию, и правильно собрать находившийся в Москве более чем на полгода (по показанию французских историков) провиант всему войску. Наполеон, этот гениальнейший из гениев и имевший власть управлять армиею, как утверждают историки, ничего не сделал этого.
Он не только не сделал ничего этого, но, напротив, употребил свою власть на то, чтобы из всех представлявшихся ему путей деятельности выбрать то, что было глупее и пагубнее всего. Из всего, что мог сделать Наполеон: зимовать в Москве, идти на Петербург, идти на Нижний Новгород, идти назад, севернее или южнее, тем путем, которым пошел потом Кутузов, – ну что бы ни придумать, глупее и пагубнее того, что сделал Наполеон, то есть оставаться до октября в Москве, предоставляя войскам грабить город, потом, колеблясь, оставить или не оставить гарнизон, выйти из Москвы, подойти к Кутузову, не начать сражения, пойти вправо, дойти до Малого Ярославца, опять не испытав случайности пробиться, пойти не по той дороге, по которой пошел Кутузов, а пойти назад на Можайск и по разоренной Смоленской дороге, – глупее этого, пагубнее для войска ничего нельзя было придумать, как то и показали последствия. Пускай самые искусные стратегики придумают, представив себе, что цель Наполеона состояла в том, чтобы погубить свою армию, придумают другой ряд действий, который бы с такой же несомненностью и независимостью от всего того, что бы ни предприняли русские войска, погубил бы так совершенно всю французскую армию, как то, что сделал Наполеон.
Гениальный Наполеон сделал это. Но сказать, что Наполеон погубил свою армию потому, что он хотел этого, или потому, что он был очень глуп, было бы точно так же несправедливо, как сказать, что Наполеон довел свои войска до Москвы потому, что он хотел этого, и потому, что он был очень умен и гениален.
В том и другом случае личная деятельность его, не имевшая больше силы, чем личная деятельность каждого солдата, только совпадала с теми законами, по которым совершалось явление.
Совершенно ложно (только потому, что последствия не оправдали деятельности Наполеона) представляют нам историки силы Наполеона ослабевшими в Москве. Он, точно так же, как и прежде, как и после, в 13 м году, употреблял все свое уменье и силы на то, чтобы сделать наилучшее для себя и своей армии. Деятельность Наполеона за это время не менее изумительна, чем в Египте, в Италии, в Австрии и в Пруссии. Мы не знаем верно о том, в какой степени была действительна гениальность Наполеона в Египте, где сорок веков смотрели на его величие, потому что эти все великие подвиги описаны нам только французами. Мы не можем верно судить о его гениальности в Австрии и Пруссии, так как сведения о его деятельности там должны черпать из французских и немецких источников; а непостижимая сдача в плен корпусов без сражений и крепостей без осады должна склонять немцев к признанию гениальности как к единственному объяснению той войны, которая велась в Германии. Но нам признавать его гениальность, чтобы скрыть свой стыд, слава богу, нет причины. Мы заплатили за то, чтоб иметь право просто и прямо смотреть на дело, и мы не уступим этого права.
Деятельность его в Москве так же изумительна и гениальна, как и везде. Приказания за приказаниями и планы за планами исходят из него со времени его вступления в Москву и до выхода из нее. Отсутствие жителей и депутации и самый пожар Москвы не смущают его. Он не упускает из виду ни блага своей армии, ни действий неприятеля, ни блага народов России, ни управления долами Парижа, ни дипломатических соображений о предстоящих условиях мира.
В военном отношении, тотчас по вступлении в Москву, Наполеон строго приказывает генералу Себастиани следить за движениями русской армии, рассылает корпуса по разным дорогам и Мюрату приказывает найти Кутузова. Потом он старательно распоряжается об укреплении Кремля; потом делает гениальный план будущей кампании по всей карте России. В отношении дипломатическом, Наполеон призывает к себе ограбленного и оборванного капитана Яковлева, не знающего, как выбраться из Москвы, подробно излагает ему всю свою политику и свое великодушие и, написав письмо к императору Александру, в котором он считает своим долгом сообщить своему другу и брату, что Растопчин дурно распорядился в Москве, он отправляет Яковлева в Петербург. Изложив так же подробно свои виды и великодушие перед Тутолминым, он и этого старичка отправляет в Петербург для переговоров.
В отношении юридическом, тотчас же после пожаров, велено найти виновных и казнить их. И злодей Растопчин наказан тем, что велено сжечь его дома.
В отношении административном, Москве дарована конституция, учрежден муниципалитет и обнародовано следующее:
«Жители Москвы!
Несчастия ваши жестоки, но его величество император и король хочет прекратить течение оных. Страшные примеры вас научили, каким образом он наказывает непослушание и преступление. Строгие меры взяты, чтобы прекратить беспорядок и возвратить общую безопасность. Отеческая администрация, избранная из самих вас, составлять будет ваш муниципалитет или градское правление. Оное будет пещись об вас, об ваших нуждах, об вашей пользе. Члены оного отличаются красною лентою, которую будут носить через плечо, а градской голова будет иметь сверх оного белый пояс. Но, исключая время должности их, они будут иметь только красную ленту вокруг левой руки.
Городовая полиция учреждена по прежнему положению, а чрез ее деятельность уже лучший существует порядок. Правительство назначило двух генеральных комиссаров, или полицмейстеров, и двадцать комиссаров, или частных приставов, поставленных во всех частях города. Вы их узнаете по белой ленте, которую будут они носить вокруг левой руки. Некоторые церкви разного исповедания открыты, и в них беспрепятственно отправляется божественная служба. Ваши сограждане возвращаются ежедневно в свои жилища, и даны приказы, чтобы они в них находили помощь и покровительство, следуемые несчастию. Сии суть средства, которые правительство употребило, чтобы возвратить порядок и облегчить ваше положение; но, чтобы достигнуть до того, нужно, чтобы вы с ним соединили ваши старания, чтобы забыли, если можно, ваши несчастия, которые претерпели, предались надежде не столь жестокой судьбы, были уверены, что неизбежимая и постыдная смерть ожидает тех, кои дерзнут на ваши особы и оставшиеся ваши имущества, а напоследок и не сомневались, что оные будут сохранены, ибо такая есть воля величайшего и справедливейшего из всех монархов. Солдаты и жители, какой бы вы нации ни были! Восстановите публичное доверие, источник счастия государства, живите, как братья, дайте взаимно друг другу помощь и покровительство, соединитесь, чтоб опровергнуть намерения зломыслящих, повинуйтесь воинским и гражданским начальствам, и скоро ваши слезы течь перестанут».
В отношении продовольствия войска, Наполеон предписал всем войскам поочередно ходить в Москву a la maraude [мародерствовать] для заготовления себе провианта, так, чтобы таким образом армия была обеспечена на будущее время.
В отношении религиозном, Наполеон приказал ramener les popes [привести назад попов] и возобновить служение в церквах.
В торговом отношении и для продовольствия армии было развешено везде следующее:
Провозглашение