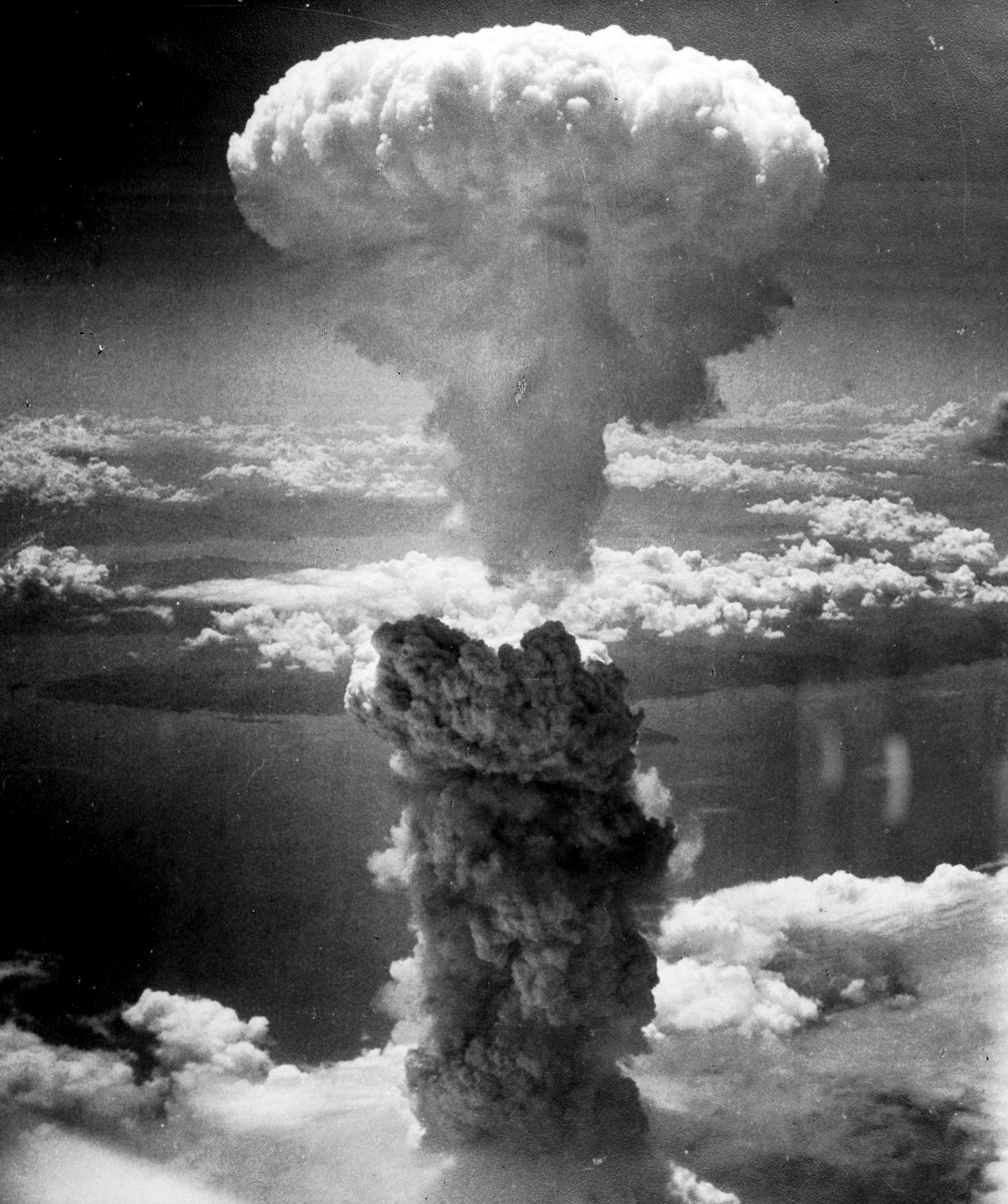Чикагская поленница-1
| Чикагская поленница-1 Chicago Pile-1, CP-1  | |
| Тип реактора |
графитово-воздушный |
|---|---|
| Назначение реактора |
экспериментальный |
| Технические параметры | |
| Топливо |
природный уран |
| Тепловая мощность |
200 ватт |
| Разработка | |
| Проект | |
| Научная часть | |
| Предприятие-разработчик | |
| Конструктор | |
| Новизна проекта |
первый ядерный реактор |
| Строительство и эксплуатация | |
| Строительство первого образца |
1942 |
| Местонахождение | |
| Географические координаты |
41°47′32″ с. ш. 87°36′03″ з. д. / 41.79222° с. ш. 87.60083° з. д. (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=41.79222&mlon=-87.60083&zoom=15 (O)] (Я)Координаты: 41°47′32″ с. ш. 87°36′03″ з. д. / 41.79222° с. ш. 87.60083° з. д. (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=41.79222&mlon=-87.60083&zoom=15 (O)] (Я) |
| Пуск |
2 декабря 1942 |
| Эксплуатация |
1942 |
 Чикагская поленница-1, (англ. Chicago Pile-1[1], CP-1) — первый в мире искусственный ядерный реактор. Был построен в 1942 году в Чикагском университете под руководством Энрико Ферми в рамках работ, позднее ставших основой Манхэттенского проекта (формальное осуществление Манхэттенского проекта началось 17 сентября 1943 года), по экспериментальной проверке возможности осуществления управляемой самоподдерживающейся цепной ядерной реакции и подготовки к созданию промышленных реакторов для наработки оружейного плутония.[2]
Чикагская поленница-1, (англ. Chicago Pile-1[1], CP-1) — первый в мире искусственный ядерный реактор. Был построен в 1942 году в Чикагском университете под руководством Энрико Ферми в рамках работ, позднее ставших основой Манхэттенского проекта (формальное осуществление Манхэттенского проекта началось 17 сентября 1943 года), по экспериментальной проверке возможности осуществления управляемой самоподдерживающейся цепной ядерной реакции и подготовки к созданию промышленных реакторов для наработки оружейного плутония.[2]
Содержание
Конструкция
В качестве топлива использовался природный (необогащённый) уран в виде прессованных оксидов (около 33 т UO2 и около 3,7 т U3O8) и металлических слитков (общей массой около 5.6 т).[3] Замедлителем был выбран графит исходя из того, что это был единственный материал необходимой чистоты, доступный в больших количествах (в реакторе было использовано около 350 т).
Активная зона была выполнена в виде послойно уложенных графитовых блоков, укреплённых деревянным каркасом. Блоки каждого второго слоя имели полости, в которые укладывалось ядерное топливо, образуя кубическую решётку с шагом около 21 см. Первоначально форма активной зоны задумывалась как приближённо сферическая с радиусом около 3,7 м, однако в процессе сборки стало очевидно, что критический размер может быть достигнут при несколько меньших размерах, поэтому верхняя часть сферы была «сплюснута», и общая высота составила чуть меньше 6 м.
Управление реакцией осуществлялось с помощью механического перемещения поглощающих нейтроны стержней из кадмия и бористой стали. Их было три типа:
- Регулирующие, управляемые с пульта в ручном и автоматическом режиме.
- Стержень аварийной защиты. В извлечённом состоянии подвешивался на верёвке, которую можно было перерубить в случае непредвиденных обстоятельств — стержень падал в реактор и глушил его.[5]
- Стержень, вытаскиваемый вручную («zip») для приведения реактора в критическое состояние.
Максимальный коэффициент воспроизводства нейтронов был лишь немного больше единицы (1,0006), поэтому даже при полностью извлечённых поглотителях мощность нарастала довольно медленно, удваиваясь примерно каждую минуту[6], что позволяло легко поддерживать постоянную мощность даже при полностью ручном управлении.
Реактор не имел системы охлаждения и биологической защиты, поэтому мог работать лишь кратковременно и на очень маленькой мощности.
Предыстория
Для создания ядерной бомбы требовалось получить достаточные количества ядерного делящегося материала. Перспективными направлениями были признаны получение урана-235 путём обогащения природного урана и наработка плутония-239 путём облучения природного урана-238 нейтронами. Оба пути были связаны с серьёзными трудностями и имели свои преимущества и недостатки, поэтому работа по ним развивалась параллельно.
Получение плутония требовало огромных нейтронных потоков, которые можно было бы сравнительно легко получить лишь в самоподдерживающейся цепной ядерной реакции. В 1939 г. Лео Силардом и Ферми была высказана идея, что такой реакции можно достичь путём помещения ядер урана в матрицу замедлителя[7]. Для исследования реакторов на уран-графитовых решётках в 1941 г. в Чикагском университете была создана лаборатория с кодовым названием «Металлургическая», которую возглавил Артур Комптон.[4]
В состав лаборатории вошли многие известные физики и химики. Экспериментальная группа под руководством Ферми главным образом занималась самой цепной ядерной реакцией, химический отдел — химией плутония и методами разделения, теоретическая группа под руководством Вигнера — разработкой промышленных реакторов, хотя из-за тесной взаимосвязи научно-технических вопросов задачи могли перераспределяться между группами.
Расчёт оптимальных параметров будущего реактора требовал как точного определения прикладных величин вроде коэффициента размножения нейтронов, так и измерений характеристик конкретных образцов материалов, предназначенных для постройки реактора. Для этих целей было создано несколько десятков подкритических сборок с дополнительными источниками нейтронов. Поскольку металлический уран достаточной чистоты был получен только в ноябре 1942 г., эксперименты проводились с прессованным оксидом урана.
К июлю эксперименты на подкритических сборках продвинулись достаточно, чтобы начать разработку реактора с критической массой.
Исходные оценки критического размера активной зоны были завышены, поэтому в конструкции реактора была предусмотрена оболочка, из которой можно было бы откачать воздух для уменьшения поглощения нейтронов. Она была изготовлена на заводе Goodyear по производству оболочек аэростатов (из-за секретности проекта её истинное назначение было скрыто, что вызвало там массу шуток о «квадратном воздушном шаре»).
К ноябрю оболочка с одной открытой стороной была подвешена над площадкой, и сборка реактора началась путём послойной укладки графитовых блоков и брикетов оксида урана (дефицитный металлический уран использовался лишь в центральной части реактора). Каждый слой укреплялся деревянными брусьями. Форма и размер слоёв менялись с высотой, придавая всей конструкции приблизительно сферическую форму. Две группы «строителей» (одна под руководством Уолтера Зинна (Walter H. Zinn), другая — Герберта Андерсона (Herbert L. Anderson)) работали почти круглосуточно. В. Уилсон (Volney C. Wilson) руководил работой с контрольно-измерительной аппаратурой.
Большинство «строительных материалов» изготавливалось непосредственно на месте, в соседних помещениях. Порошкообразный оксид урана прессовался в брикеты на гидравлическом прессе. Графитовые блоки выпиливались с помощью обычных деревообрабатывающих станков. По воспоминаниям самих участников, из-за большого количества образующейся чёрной пыли они весьма походили на шахтёров после смены.
После укладки каждого слоя поглощающие стержни осторожно извлекались и проводились измерения нейтронных параметров. К примерно 50-му слою из 75 запланированных стало ясно, что критичность может быть достигнута даже при несколько меньших размерах активной зоны, чем предполагалось в начальных расчётах. Соответственно, количество и размеры последующих слоёв были уменьшены.
1 декабря измерения показали, что размер собираемого реактора приближается к критическому. К концу дня, после укладки 57-го слоя, Зинн и Андерсон провели серию измерений активности, которые привели их к выводу, что при извлечении управляющих стержней в реакторе сможет развиться самоподдерживающаяся ядерная реакция. Однако было решено отложить всю дальнейшую работу до следующего дня, когда Ферми и другие участники появятся на площадке.
Эксперимент
2 декабря 1942 г. состоялся первый опыт по достижению надкритического состояния с развитием самоподдерживающейся цепной ядерной реакции.
В 9:35 стержень аварийной защиты был извлечён, и начались осторожные измерения зависимости нейтронного потока от положений регулирующих стержней, пока ещё в подкритическом состоянии. Ближе к полудню сработала система аварийной защиты, оказавшаяся установленной на слишком низкий уровень.
После перерыва на обед эксперимент был продолжен. Запись интенсивности нейтронного потока с автоматического регистратора с подписями о положении стержней показана на рисунке. (Резкие скачки графика вызваны переключением диапазонов чувствительности.) В начале видно характерное экспоненциальное приближение к равновесному уровню интенсивности для каждого положения поглощающего стержня в подкритическом состоянии реактора. Чем больше извлечён стержень, тем ближе реактор к критическому состоянию, и, соответственно, выше равновесная интенсивность. В конце, с 15:36, отчётливо виден экспоненциальный рост интенсивности, соответствующий нарастающей цепной реакции в надкритическом реакторе. С 15:53 виден резкий спад интенсивности — реактор был заглушён автоматической системой.
Пиковая мощность в этом эксперименте составила лишь около половины ватта, однако сама возможность управляемой самоподдерживающейся реакции была убедительно продемонстрирована.
12 декабря реактор проработал 35 мин. на мощности около 200 Вт. При этом радиационный фон составлял 3 Р/ч непосредственно вблизи реактора и около 360 мР/ч в дальних углах зала.
Дальнейшая судьба
В феврале 1943 г. реактор был разобран, и его части перевезены в будущую Аргоннскую лабораторию, где они были использованы для сборки реактора CP-2.
Небольшие части графита из первого реактора выставлены в чикагском Музее науки и промышленности и музее науки Брэдбери[en] Лос-Аламосской национальной лаборатории.
Научная статья о реакторе[3] была опубликована в American Journal of Physics лишь спустя 10 лет, в 1952 г., после снятия секретности. В 1955 г. Ферми и Силарду был выдан [patimg1.uspto.gov/.piw?Docid=2708656&idkey=NONE патент США № 2708656] на «нейтронный реактор» (заявка была подана ещё в 1944 г.).
Место, на котором был построен CP-1, внесено в списки исторических достопримечательностей США и г. Чикаго. В 1967 г., к 25-й годовщине осуществления первой цепной ядерной реакции, на нём установлен памятник «Nuclear Energy»[en] .
Напишите отзыв о статье "Чикагская поленница-1"
Примечания
- ↑ Английское слово «pile» означает «штабель», «поленница» (также любое «нагромождение»). Такое название было дано первому реактору из-за его довольно кустарной конструкции (см. далее). Однако, термин прижился и использовался в английском языке для обозначения ядерных реакторов («atomic pile») вплоть до 1950-х годов.
- ↑ Теоретические выкладки, подкреплённые экспериментами на подкритических сборках, довольно уверенно предсказывали положительный результат, так что разработка промышленных реакторов началась ещё до окончания строительства CP-1.
- ↑ 1 2 3 Fermi, 1952.
- ↑ 1 2 DOE, 1982.
- ↑ Такое описание дано в брошюре[4]. Там же упоминается, что в качестве дополнительной меры безопасности над реактором стояли три человека, готовые в случае отказа механических систем залить реактор раствором соли кадмия. Тем не менее, статья самого Ферми[3], являющаяся, по его словам, лишь немного переработанной версией оригинального отчёта, описывает электромагнитную подвеску аварийного стержня и о заливании умалчивает. Стоит отметить, что реактор был собран из довольно плотно подогнанных блоков и первоначально должен был работать в герметично закрытом чехле (см. далее), поэтому версия о ручном заливании выглядит не очень правдоподобно.
- ↑ Столь большая постоянная времени определяется вкладом запаздывающих нейтронов. Мгновенный коэффициент размножения был меньше единицы.
- ↑ При поглощении ядром урана нейтрона оно делится, испуская несколько вторичных нейтронов. Однако, эти вторичные нейтроны имеют довольно большую кинетическую энергию и не приводят к эффективному делению других ядер урана. Замедление вторичных нейтронов, например, при столкновениях с какими-нибудь лёгкими ядрами, позволяет существенно повысить эффективность цепной реакции.
Литература
- Enrico Fermi. [ajp.aapt.org/resource/1/ajpias/v20/i9/p536_s1 Experimental Production of a Divergent Chain Reaction] (англ.) // American Journal of Physics. — 1952. — Vol. 20. — P. 536.
- [www.nuclear.energy.gov/pdfFiles/DE00782931.pdf The First Reactor]. — U.S. Department of Energy, 1982.
См. также
- Ф-1 — первый атомный реактор в СССР и Европе, 1946 г.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отрывок, характеризующий Чикагская поленница-1
Наташа не могла спокойно видеть его таким жалким. Она начала громко всхлипывать.– Г'афиня, я виноват перед вами, – продолжал Денисов прерывающимся голосом, – но знайте, что я так боготво'ю вашу дочь и всё ваше семейство, что две жизни отдам… – Он посмотрел на графиню и, заметив ее строгое лицо… – Ну п'ощайте, г'афиня, – сказал он, поцеловал ее руку и, не взглянув на Наташу, быстрыми, решительными шагами вышел из комнаты.
На другой день Ростов проводил Денисова, который не хотел более ни одного дня оставаться в Москве. Денисова провожали у цыган все его московские приятели, и он не помнил, как его уложили в сани и как везли первые три станции.
После отъезда Денисова, Ростов, дожидаясь денег, которые не вдруг мог собрать старый граф, провел еще две недели в Москве, не выезжая из дому, и преимущественно в комнате барышень.
Соня была к нему нежнее и преданнее чем прежде. Она, казалось, хотела показать ему, что его проигрыш был подвиг, за который она теперь еще больше любит его; но Николай теперь считал себя недостойным ее.
Он исписал альбомы девочек стихами и нотами, и не простившись ни с кем из своих знакомых, отослав наконец все 43 тысячи и получив росписку Долохова, уехал в конце ноября догонять полк, который уже был в Польше.
После своего объяснения с женой, Пьер поехал в Петербург. В Торжке на cтанции не было лошадей, или не хотел их смотритель. Пьер должен был ждать. Он не раздеваясь лег на кожаный диван перед круглым столом, положил на этот стол свои большие ноги в теплых сапогах и задумался.
– Прикажете чемоданы внести? Постель постелить, чаю прикажете? – спрашивал камердинер.
Пьер не отвечал, потому что ничего не слыхал и не видел. Он задумался еще на прошлой станции и всё продолжал думать о том же – о столь важном, что он не обращал никакого .внимания на то, что происходило вокруг него. Его не только не интересовало то, что он позже или раньше приедет в Петербург, или то, что будет или не будет ему места отдохнуть на этой станции, но всё равно было в сравнении с теми мыслями, которые его занимали теперь, пробудет ли он несколько часов или всю жизнь на этой станции.
Смотритель, смотрительша, камердинер, баба с торжковским шитьем заходили в комнату, предлагая свои услуги. Пьер, не переменяя своего положения задранных ног, смотрел на них через очки, и не понимал, что им может быть нужно и каким образом все они могли жить, не разрешив тех вопросов, которые занимали его. А его занимали всё одни и те же вопросы с самого того дня, как он после дуэли вернулся из Сокольников и провел первую, мучительную, бессонную ночь; только теперь в уединении путешествия, они с особенной силой овладели им. О чем бы он ни начинал думать, он возвращался к одним и тем же вопросам, которых он не мог разрешить, и не мог перестать задавать себе. Как будто в голове его свернулся тот главный винт, на котором держалась вся его жизнь. Винт не входил дальше, не выходил вон, а вертелся, ничего не захватывая, всё на том же нарезе, и нельзя было перестать вертеть его.
Вошел смотритель и униженно стал просить его сиятельство подождать только два часика, после которых он для его сиятельства (что будет, то будет) даст курьерских. Смотритель очевидно врал и хотел только получить с проезжего лишние деньги. «Дурно ли это было или хорошо?», спрашивал себя Пьер. «Для меня хорошо, для другого проезжающего дурно, а для него самого неизбежно, потому что ему есть нечего: он говорил, что его прибил за это офицер. А офицер прибил за то, что ему ехать надо было скорее. А я стрелял в Долохова за то, что я счел себя оскорбленным, а Людовика XVI казнили за то, что его считали преступником, а через год убили тех, кто его казнил, тоже за что то. Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что ненавидеть? Для чего жить, и что такое я? Что такое жизнь, что смерть? Какая сила управляет всем?», спрашивал он себя. И не было ответа ни на один из этих вопросов, кроме одного, не логического ответа, вовсе не на эти вопросы. Ответ этот был: «умрешь – всё кончится. Умрешь и всё узнаешь, или перестанешь спрашивать». Но и умереть было страшно.
Торжковская торговка визгливым голосом предлагала свой товар и в особенности козловые туфли. «У меня сотни рублей, которых мне некуда деть, а она в прорванной шубе стоит и робко смотрит на меня, – думал Пьер. И зачем нужны эти деньги? Точно на один волос могут прибавить ей счастья, спокойствия души, эти деньги? Разве может что нибудь в мире сделать ее и меня менее подверженными злу и смерти? Смерть, которая всё кончит и которая должна притти нынче или завтра – всё равно через мгновение, в сравнении с вечностью». И он опять нажимал на ничего не захватывающий винт, и винт всё так же вертелся на одном и том же месте.
Слуга его подал ему разрезанную до половины книгу романа в письмах m mе Suza. [мадам Сюза.] Он стал читать о страданиях и добродетельной борьбе какой то Аmelie de Mansfeld. [Амалии Мансфельд.] «И зачем она боролась против своего соблазнителя, думал он, – когда она любила его? Не мог Бог вложить в ее душу стремления, противного Его воле. Моя бывшая жена не боролась и, может быть, она была права. Ничего не найдено, опять говорил себе Пьер, ничего не придумано. Знать мы можем только то, что ничего не знаем. И это высшая степень человеческой премудрости».
Всё в нем самом и вокруг него представлялось ему запутанным, бессмысленным и отвратительным. Но в этом самом отвращении ко всему окружающему Пьер находил своего рода раздражающее наслаждение.
– Осмелюсь просить ваше сиятельство потесниться крошечку, вот для них, – сказал смотритель, входя в комнату и вводя за собой другого, остановленного за недостатком лошадей проезжающего. Проезжающий был приземистый, ширококостый, желтый, морщинистый старик с седыми нависшими бровями над блестящими, неопределенного сероватого цвета, глазами.
Пьер снял ноги со стола, встал и перелег на приготовленную для него кровать, изредка поглядывая на вошедшего, который с угрюмо усталым видом, не глядя на Пьера, тяжело раздевался с помощью слуги. Оставшись в заношенном крытом нанкой тулупчике и в валеных сапогах на худых костлявых ногах, проезжий сел на диван, прислонив к спинке свою очень большую и широкую в висках, коротко обстриженную голову и взглянул на Безухого. Строгое, умное и проницательное выражение этого взгляда поразило Пьера. Ему захотелось заговорить с проезжающим, но когда он собрался обратиться к нему с вопросом о дороге, проезжающий уже закрыл глаза и сложив сморщенные старые руки, на пальце одной из которых был большой чугунный перстень с изображением Адамовой головы, неподвижно сидел, или отдыхая, или о чем то глубокомысленно и спокойно размышляя, как показалось Пьеру. Слуга проезжающего был весь покрытый морщинами, тоже желтый старичек, без усов и бороды, которые видимо не были сбриты, а никогда и не росли у него. Поворотливый старичек слуга разбирал погребец, приготовлял чайный стол, и принес кипящий самовар. Когда всё было готово, проезжающий открыл глаза, придвинулся к столу и налив себе один стакан чаю, налил другой безбородому старичку и подал ему. Пьер начинал чувствовать беспокойство и необходимость, и даже неизбежность вступления в разговор с этим проезжающим.
Слуга принес назад свой пустой, перевернутый стакан с недокусанным кусочком сахара и спросил, не нужно ли чего.
– Ничего. Подай книгу, – сказал проезжающий. Слуга подал книгу, которая показалась Пьеру духовною, и проезжающий углубился в чтение. Пьер смотрел на него. Вдруг проезжающий отложил книгу, заложив закрыл ее и, опять закрыв глаза и облокотившись на спинку, сел в свое прежнее положение. Пьер смотрел на него и не успел отвернуться, как старик открыл глаза и уставил свой твердый и строгий взгляд прямо в лицо Пьеру.
Пьер чувствовал себя смущенным и хотел отклониться от этого взгляда, но блестящие, старческие глаза неотразимо притягивали его к себе.
– Имею удовольствие говорить с графом Безухим, ежели я не ошибаюсь, – сказал проезжающий неторопливо и громко. Пьер молча, вопросительно смотрел через очки на своего собеседника.
– Я слышал про вас, – продолжал проезжающий, – и про постигшее вас, государь мой, несчастье. – Он как бы подчеркнул последнее слово, как будто он сказал: «да, несчастье, как вы ни называйте, я знаю, что то, что случилось с вами в Москве, было несчастье». – Весьма сожалею о том, государь мой.
Пьер покраснел и, поспешно спустив ноги с постели, нагнулся к старику, неестественно и робко улыбаясь.
– Я не из любопытства упомянул вам об этом, государь мой, но по более важным причинам. – Он помолчал, не выпуская Пьера из своего взгляда, и подвинулся на диване, приглашая этим жестом Пьера сесть подле себя. Пьеру неприятно было вступать в разговор с этим стариком, но он, невольно покоряясь ему, подошел и сел подле него.
– Вы несчастливы, государь мой, – продолжал он. – Вы молоды, я стар. Я бы желал по мере моих сил помочь вам.
– Ах, да, – с неестественной улыбкой сказал Пьер. – Очень вам благодарен… Вы откуда изволите проезжать? – Лицо проезжающего было не ласково, даже холодно и строго, но несмотря на то, и речь и лицо нового знакомца неотразимо привлекательно действовали на Пьера.
– Но если по каким либо причинам вам неприятен разговор со мною, – сказал старик, – то вы так и скажите, государь мой. – И он вдруг улыбнулся неожиданно, отечески нежной улыбкой.
– Ах нет, совсем нет, напротив, я очень рад познакомиться с вами, – сказал Пьер, и, взглянув еще раз на руки нового знакомца, ближе рассмотрел перстень. Он увидал на нем Адамову голову, знак масонства.
– Позвольте мне спросить, – сказал он. – Вы масон?
– Да, я принадлежу к братству свободных каменьщиков, сказал проезжий, все глубже и глубже вглядываясь в глаза Пьеру. – И от себя и от их имени протягиваю вам братскую руку.
– Я боюсь, – сказал Пьер, улыбаясь и колеблясь между доверием, внушаемым ему личностью масона, и привычкой насмешки над верованиями масонов, – я боюсь, что я очень далек от пониманья, как это сказать, я боюсь, что мой образ мыслей насчет всего мироздания так противоположен вашему, что мы не поймем друг друга.
– Мне известен ваш образ мыслей, – сказал масон, – и тот ваш образ мыслей, о котором вы говорите, и который вам кажется произведением вашего мысленного труда, есть образ мыслей большинства людей, есть однообразный плод гордости, лени и невежества. Извините меня, государь мой, ежели бы я не знал его, я бы не заговорил с вами. Ваш образ мыслей есть печальное заблуждение.
– Точно так же, как я могу предполагать, что и вы находитесь в заблуждении, – сказал Пьер, слабо улыбаясь.
– Я никогда не посмею сказать, что я знаю истину, – сказал масон, всё более и более поражая Пьера своею определенностью и твердостью речи. – Никто один не может достигнуть до истины; только камень за камнем, с участием всех, миллионами поколений, от праотца Адама и до нашего времени, воздвигается тот храм, который должен быть достойным жилищем Великого Бога, – сказал масон и закрыл глаза.
– Я должен вам сказать, я не верю, не… верю в Бога, – с сожалением и усилием сказал Пьер, чувствуя необходимость высказать всю правду.
Масон внимательно посмотрел на Пьера и улыбнулся, как улыбнулся бы богач, державший в руках миллионы, бедняку, который бы сказал ему, что нет у него, у бедняка, пяти рублей, могущих сделать его счастие.
– Да, вы не знаете Его, государь мой, – сказал масон. – Вы не можете знать Его. Вы не знаете Его, оттого вы и несчастны.
– Да, да, я несчастен, подтвердил Пьер; – но что ж мне делать?
– Вы не знаете Его, государь мой, и оттого вы очень несчастны. Вы не знаете Его, а Он здесь, Он во мне. Он в моих словах, Он в тебе, и даже в тех кощунствующих речах, которые ты произнес сейчас! – строгим дрожащим голосом сказал масон.
Он помолчал и вздохнул, видимо стараясь успокоиться.
– Ежели бы Его не было, – сказал он тихо, – мы бы с вами не говорили о Нем, государь мой. О чем, о ком мы говорили? Кого ты отрицал? – вдруг сказал он с восторженной строгостью и властью в голосе. – Кто Его выдумал, ежели Его нет? Почему явилось в тебе предположение, что есть такое непонятное существо? Почему ты и весь мир предположили существование такого непостижимого существа, существа всемогущего, вечного и бесконечного во всех своих свойствах?… – Он остановился и долго молчал.
Пьер не мог и не хотел прерывать этого молчания.
– Он есть, но понять Его трудно, – заговорил опять масон, глядя не на лицо Пьера, а перед собою, своими старческими руками, которые от внутреннего волнения не могли оставаться спокойными, перебирая листы книги. – Ежели бы это был человек, в существовании которого ты бы сомневался, я бы привел к тебе этого человека, взял бы его за руку и показал тебе. Но как я, ничтожный смертный, покажу всё всемогущество, всю вечность, всю благость Его тому, кто слеп, или тому, кто закрывает глаза, чтобы не видать, не понимать Его, и не увидать, и не понять всю свою мерзость и порочность? – Он помолчал. – Кто ты? Что ты? Ты мечтаешь о себе, что ты мудрец, потому что ты мог произнести эти кощунственные слова, – сказал он с мрачной и презрительной усмешкой, – а ты глупее и безумнее малого ребенка, который бы, играя частями искусно сделанных часов, осмелился бы говорить, что, потому что он не понимает назначения этих часов, он и не верит в мастера, который их сделал. Познать Его трудно… Мы веками, от праотца Адама и до наших дней, работаем для этого познания и на бесконечность далеки от достижения нашей цели; но в непонимании Его мы видим только нашу слабость и Его величие… – Пьер, с замиранием сердца, блестящими глазами глядя в лицо масона, слушал его, не перебивал, не спрашивал его, а всей душой верил тому, что говорил ему этот чужой человек. Верил ли он тем разумным доводам, которые были в речи масона, или верил, как верят дети интонациям, убежденности и сердечности, которые были в речи масона, дрожанию голоса, которое иногда почти прерывало масона, или этим блестящим, старческим глазам, состарившимся на том же убеждении, или тому спокойствию, твердости и знанию своего назначения, которые светились из всего существа масона, и которые особенно сильно поражали его в сравнении с своей опущенностью и безнадежностью; – но он всей душой желал верить, и верил, и испытывал радостное чувство успокоения, обновления и возвращения к жизни.