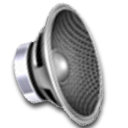Набег (рассказ)
| Набег | |
| Жанр: | |
|---|---|
| Автор: | |
| Язык оригинала: | |
| Дата написания: | |
| Дата первой публикации: |
1853 («Современник», № 3) |
|
[az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0170.shtml Электронная версия] | |
«Набе́г. Расска́з волонтёра» (также просто «Набег») — первый рассказ Льва Николаевича Толстого, также первое из произведений кавказского цикла писателя и вторая его опубликованная литературная работа (после «Детства»). Повествование ведётся от лица волонтёра, участвующего в вооружённом походе русского батальона на горный аул.
Рассказ имеет реальную основу: в подобной кампании в июне 1851 года участвовал сам Толстой. За написание он принялся в мае 1852 года. Реальная основа отразилась и в персонажах: для многих из них прототипами явились сослуживцы Толстого. Он закончил работу в декабре 1852-о и отправил рассказ Николаю Некрасову в журнал «Современник», где тот и был напечатан через три месяца.
В рассказе Толстой занимается поисками истинного понятия храбрости. Главный герой выводит формулу: «…храбр тот, кто боится только того, чего следует бояться, а не того, чего не нужно бояться». Таким оказывается капитан Хлопов — простой солдат, в котором «было очень мало воинственного». «Набег» также является и осуждением войны писателем.
Благодаря «Набегу» и другим произведениям кавказского цикла Толстой привлёк к своему творчеству внимание многих читателей, особенно имевших воинское звание, а также критиков, которым в целом понравился рассказ.
Содержание
Сюжет
Действие происходит во время Кавказской войны. Рассказ ведётся от лица волонтёра, приехавшего на Кавказ, чтобы понаблюдать за ходом военных действий.
Капитан Хлопов сообщает, что батальону приказано выступать. На рассвете следующего дня батальон отправляется на дело. Рассказчик знакомится с разными типами офицеров: юным прапорщиком Аланиным, радующимся, что ему предстоит первый бой, а также с храбрым поручиком Розенкранцем, одетым по-кавказски — «один из наших молодых офицеров, удальцов-джигитов, образовавшихся по Марлинскому и Лермонтову. Эти люди смотрят на Кавказ не иначе, как сквозь призму Героев нашего времени, Мулла-Нуров и т. п., и во всех своих действиях руководствуются не собственными наклонностями, а примером этих образцов». Ни в офицерах, ни в солдатах рассказчик не замечает ни тени беспокойства перед боем, которое испытывает он сам:

|
…шуточки, смехи, рассказы выражали общую беззаботность и равнодушие к предстоящей опасности. Как будто нельзя и предположить, что некоторым уже не суждено вернуться по этой дороге! | 
|
Вечером батальон прибывает в крепость, где рассказчик становится свидетелем светского разговора генерала с графиней, который так же удивляет его своим слишком мирным характером. Затем батальон вновь выступает. Красота и тишина природы навевают на рассказчика мысли о нелепости войны:
Ночью отряд переходит реку и не доезжая до аула встречает горцев. Конница рассыпается цепью, завязывается перестрелка. Горцы отступают, батальон занимает аул и идёт дальше. В перелеске продолжается артиллерийская и ружейная перестрелка. Молодой прапорщик бросается со взводом в атаку, его смертельно ранят.
К вечеру отряд возвращается к крепости: «Тёмные массы войск мерно шумели и двигались по роскошному лугу; в различных сторонах слышались бубны, барабаны и весёлые песни».
Персонажи
- Рассказчик — волонтёр.
- Капитан Павел Хлопов. К моменту действия в рассказе служил уже 18 лет; за это время был четыре раза тяжело ранен. Но ни о своих походах, ни о ранениях матери своей, Марье Ивановне, не пишет: по её словам, боится напугать, но ежегодно посылает ей и своей сестре Аннушке деньги. «Капитан жил бережливо: в карты не играл, кутил редко и курил простой табак…» Рассказчик так описывает его внешность: «у него была одна из тех простых спокойных русских физиономий, которым приятно и легко смотреть прямо в глаза».
- Прапорщик Аланин — субалтерн-офицер роты Хлопова. «У него были прекрасные черные глаза, тонкий носик и едва пробивавшиеся усики», а также чёрные густые волосы. Набег, описанный в рассказе, был первым «делом» молодого прапорщика.
- Поручик Розенкранц. Слыл в полку за «отчаянного храбреца и такого человека, который хоть кому правду в глаза отрежет». Одевался и вёл себя таким образом, чтобы быть похожим на татарина. Один раз был ранен пониже спины. Рассказчику кажется, что Розенкранц подражает романтическим героям Лермонтова и Бестужева-Марлинского.
История написания и публикации
В апреле 1851 года бросивший университет и обманувшийся в своих надеждах улучшить жизнь яснополянских крестьян[1] Лев Николаевич Толстой приехал на Кавказ, как он сам писал, «сломя голову», в станицу Старогладковскую[2], волонтёром на службу в действующую армию. В июне того же года он участвовал в походе русского отряда на горный аул. На событиях этого похода и был основан рассказ, к написанию которого, считается, Толстого подталкивают сильнейшие впечатления, пережитые им в январе—феврале 1852 года, в боях русских с горцами, во время одного из которых он едва не погибает. За рассказ он взялся в мае 1852 года, ещё не окончив своей повести «Детство»[3].
Известно, что многие из персонажей «Набега» имеют реальных прототипов. Так, прапорщик Буемский и офицер линейного казачьего войска Александр Васильевич Пистолькорс, сослуживцы Толстого, явились прототипами для прапорщика Аланина и поручика Розенкранца. Они, увидев себя в этих персонажах, были сильно задеты. А образ генерала был создан на основе личности князя Александра Ивановича Барятинского, который руководил тем самым набегом в июне 1851 года. Сам Толстой весьма опасался, что покровительствующий ему князь узнает себя в персонаже[3]. Капитану Хлопову послужил прототипом ещё один сослуживец Толстого, Хилковский. «…Старый капитан Хилковский, из уральских казаков, — старый солдат, простой, но благородный, храбрый и добрый», — писал Толстой 22 июня 1851 года Т. А. Ергольской[4].
В первых вариантах «Набега» гораздо подробнее описывалось разорение горского аула; в рассказе имело место большое публицистическое отступление, где Толстой признавал историческую оправданность Кавказской войны. Но всё это было удалено самим писателем при окончательной отделке[5].
Рассказ писался около семи месяцев, но с большими перерывами, так как Толстой одновременно оканчивал «Детство», делал наброски «Романа русского помещика» и начинал писать повесть «Отрочество»[3]. Первоначальное название произведения, «Письмо с Кавказа», переросло в «Рассказ волонтёра», а в дальнейшем и в «Описание войны». 24 декабря 1852 года Толстой закончил работу над произведением и, считая, что рассказ «не дурен»[4], 28 декабря (по другому источнику 26-го[4]) отправил его вместе с письмом к Николаю Алексеевичу Некрасову в журнал «Современник», где «Набег» и был напечатан в марте 1853 года («Современник», № 3, подпись — «Л. Н.»)[3]. В письме Толстой просил Некрасова ничего не добавлять, вырезать или же менять в его новом произведении. «Ежели, против чаяния, — писал он, — цензура вымарает в этом рассказе слишком много, то, пожалуйста, не печатайте его в изувеченном виде, а возвратите мне». Рассказ, как того и опасался сам писатель, был серьёзно подвергнут цензуре и приведён, по словам Толстого, «в самое жалкое положение»[4] — настолько, что Некрасов, увидев результат цензурной корректуры, даже засомневался — печатать ли его. Но всё же он решился на публикацию, написав Толстому 6 апреля 1853 года[3]:

|
Признаюсь, я долго думал над измаранными… корректурами — и наконец решился напечатать, сознавая по убеждению, что хотя он и много испорчен, но в нем осталось еще много хорошего. Это признают и другие… Пожалуйста, не падайте духом от этих неприятностей, общих всем нашим даровитым литераторам. Не шутя, Ваш рассказ еще и теперь очень жив и грациозен, а был он чрезвычайно хорош…[4] | 
|

|

|

|
| Автор рассказа Л. Н. Толстой в 1851 году | Прототип генерала А. И. Барятинский в 1877 году | Редактор журнала «Современник», поэт и писатель Н. А. Некрасов между 1870 и 1878 годами |
Художественные особенности
Своё первоначальное отношение к Кавказу Толстой называл «детским взглядом», то есть представление о Кавказской войне, сложившееся под впечатлением от произведений Марлинского и романтических поэм Лермонтова. Но оказавшись на Кавказе, молодой писатель изменил своё восприятие. Он перерос уровень «детского взгляда» или, как Толстой ещё его называл, «молодечества». Подобные убеждения уже казались ему не безупречными, и он начал искать истинное понятие храбрости. Рассказ «Письмо с Кавказа» (будущий «Набег») — и явился размышлением на эту тему. Так, по-настоящему храбрым в произведении оказывается капитан Хлопов — простой, естественный и по-житейски мудрый солдат, в котором «было очень мало воинственного». Он заметно отличается от Розенкранца или офицеров из свиты генерала, для которых набег — только очередной случай показать своё «молодечество»[6].
По мере работы над рассказом всё точнее проявляется отношение Толстого к войне как к противоестественному феномену, порождённому «гадкими людьми». В результате, «описание» войны становится её осуждением[6]. Главная цель писателя здесь и в других своих военных произведениях — это уничтожение устоявшегося романтического изображения военных сюжетов. В его работах нет яркого героя или впечатляющих картин сражений. Вместо всего этого простая и обыденная обстановка, в которой персонажи заняты войной как работой. Их чувства и настроения подробно анализируются, раскладываются на составляющие, причём оказывается, что одним из этих составляющих является страх[7].
Философ и психоаналитик Сергей Зимовец предполагает что в рассказе отчасти выражена латентная гомосексуальность Толстого[8].
Критика и признание
Поэт и писатель Николай Некрасов находил доцензурную версию рассказа «чрезвычайно хорошей»[4]. Александр Васильевич Дружинин назвал его «рассказцем хорошеньким и как будто набросанным с небрежностью». Критик отметил, что «Набег» полон «поэзии военной жизни», которая достигнута при помощи «опьяняющих, волнующих душу» и «пленительных» изображений выступления войск, ночлегов под открытым небом, приготовлений к бою и т. д. Дружинин также положительно отозвался о персонажах: «Розенкранца и капитана Хлопова ещё не бывало в нашей повествовательной литературе»[9]. Константин Сергеевич Аксаков писал, что «Набег» отличается «наглядностью живою, прямым отношением к предмету, уважением жизни и стремлением восстановить её в искусстве во всей правде»[10].
Степан Семёнович Дудышкин находил, что рассказ «прост и естественен», но в то же время, по его мнению, в произведении было много нового, в частности, «истинные и счастливые нововведения в описании военных сцен». Дудышкин особенно обратил внимание на капитана Хлопова, сравнив его с героями других произведений: «Он не Максим Максимыч Лермонтова, но несколько сродни ему… Капитан Хлопов не похож на капитана Миронова в „Капитанской дочке“ <Пушкина>, но тоже сродни ему»[11].Благодаря «Набегу» и другим «кавказских» повестям и рассказам Толстой привлёк к своему творчеству внимание многих читателей, имевших воинское звание. Дружинин писал, что «служащая молодежь читает произведения его с жадностью»[9]. Но изначально, когда из кавказского цикла был напечатан только «Набег», на рассказ было обращено мало внимания, «как на вещь, которая не бросается в глаза», — писал Дудышкин[11].
См. также
Напишите отзыв о статье "Набег (рассказ)"
Примечания
- ↑ Опульская, 1981, с. 3.
- ↑ Виноградов («Как человеку жить надо?»), 1985, с. 3.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Виноградов («Комментарии»), 1985, с. 499—500.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Бурнашева, 1978—1985, с. 405—406.
- ↑ Опульская, 1981, с. 15.
- ↑ 1 2 Бурнашева, 1978—1985, с. 387—388.
- ↑ Трубецкой, 1985, p. 476.
- ↑ Сергей Зимовец. Евангелие от Толстого // «Гендерные исследования». — 2006. — № 14.
- ↑ 1 2 Дружинин, 1865.
- ↑ Аксаков, 1981.
- ↑ 1 2 Дудышкин, 2002.
Литература
Книги
- Дружинин, Александр. Собрание сочинений. — СПб., 1865. — Т. VII.
- Дудышкин, Степан. [az.lib.ru/d/dudyshkin_s_s/text_0050.shtml <Рассказы г. Л. Н. Т. из военного быта>] // Критика 50-х годов XIX века / Сост. Л. Соболева. — М.: Олимп, 2002. — 446 с. — (Библиотека русской классики). — 5000 экз. — ISBN 978-5-8195-0760-5.
- Трубецкой, Николай. Литературное развитие Льва Толстого // N.S. Trubetzkoy's Letters and Notes / Под ред. Романа Якобсона. — Берлин: Walter de Gruyter, 1985. — P. 476. — 509 p. — ISBN 3-11-010593-4.
Статьи
- Аксаков, Константин. [az.lib.ru/a/aksakow_k_s/text_0170.shtml Обозрение современной литературы] (рус.) // Аксаков, Константин; Аксаков, Иван. Литературная критика : книга. — М.: Современник, 1981.
- Бурнашева, Н. Комментарии (рус.) // Толстой, Лев. Собрание сочинений в 22 томах : книга. — М.: Художественная литература, 1978—1985. — Т. 2, вып. Произведения 1852—1856 гг.. — С. 385—406.
- Виноградов, Игорь. Как человеку жить надо? (рус.) // Толстой, Лев. Повести. Рассказы : книга. — М.: Советская Россия, 1985. — С. 3—20.
- Виноградов, Игорь. Комментарии (рус.) // Толстой, Лев. Повести. Рассказы : книга. — М.: Советская Россия, 1985. — С. 499—510.
- Опульская, Л. Повести и рассказы молодого Л. Толстого (рус.) // Толстой, Лев. Казаки. Повести и рассказы : книга. — М.: Художественная литература, 1981. — С. 3—19.
Ссылки
- [az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0170.shtml «Набег»] в библиотеке Максима Мошкова
- [feb-web.ru/feb/tolstoy/texts/pss100/t02/t02-007-.htm «Набег»] в Фундаментальной электронной библиотеке
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эта статья входит в число хороших статей русскоязычного раздела Википедии. |
Отрывок, характеризующий Набег (рассказ)
Нерешительность государя продолжалась одно мгновение. Нога государя, с узким, острым носком сапога, как носили в то время, дотронулась до паха энглизированной гнедой кобылы, на которой он ехал; рука государя в белой перчатке подобрала поводья, он тронулся, сопутствуемый беспорядочно заколыхавшимся морем адъютантов. Дальше и дальше отъезжал он, останавливаясь у других полков, и, наконец, только белый плюмаж его виднелся Ростову из за свиты, окружавшей императоров.В числе господ свиты Ростов заметил и Болконского, лениво и распущенно сидящего на лошади. Ростову вспомнилась его вчерашняя ссора с ним и представился вопрос, следует – или не следует вызывать его. «Разумеется, не следует, – подумал теперь Ростов… – И стоит ли думать и говорить про это в такую минуту, как теперь? В минуту такого чувства любви, восторга и самоотвержения, что значат все наши ссоры и обиды!? Я всех люблю, всем прощаю теперь», думал Ростов.
Когда государь объехал почти все полки, войска стали проходить мимо его церемониальным маршем, и Ростов на вновь купленном у Денисова Бедуине проехал в замке своего эскадрона, т. е. один и совершенно на виду перед государем.
Не доезжая государя, Ростов, отличный ездок, два раза всадил шпоры своему Бедуину и довел его счастливо до того бешеного аллюра рыси, которою хаживал разгоряченный Бедуин. Подогнув пенящуюся морду к груди, отделив хвост и как будто летя на воздухе и не касаясь до земли, грациозно и высоко вскидывая и переменяя ноги, Бедуин, тоже чувствовавший на себе взгляд государя, прошел превосходно.
Сам Ростов, завалив назад ноги и подобрав живот и чувствуя себя одним куском с лошадью, с нахмуренным, но блаженным лицом, чортом , как говорил Денисов, проехал мимо государя.
– Молодцы павлоградцы! – проговорил государь.
«Боже мой! Как бы я счастлив был, если бы он велел мне сейчас броситься в огонь», подумал Ростов.
Когда смотр кончился, офицеры, вновь пришедшие и Кутузовские, стали сходиться группами и начали разговоры о наградах, об австрийцах и их мундирах, об их фронте, о Бонапарте и о том, как ему плохо придется теперь, особенно когда подойдет еще корпус Эссена, и Пруссия примет нашу сторону.
Но более всего во всех кружках говорили о государе Александре, передавали каждое его слово, движение и восторгались им.
Все только одного желали: под предводительством государя скорее итти против неприятеля. Под командою самого государя нельзя было не победить кого бы то ни было, так думали после смотра Ростов и большинство офицеров.
Все после смотра были уверены в победе больше, чем бы могли быть после двух выигранных сражений.
На другой день после смотра Борис, одевшись в лучший мундир и напутствуемый пожеланиями успеха от своего товарища Берга, поехал в Ольмюц к Болконскому, желая воспользоваться его лаской и устроить себе наилучшее положение, в особенности положение адъютанта при важном лице, казавшееся ему особенно заманчивым в армии. «Хорошо Ростову, которому отец присылает по 10 ти тысяч, рассуждать о том, как он никому не хочет кланяться и ни к кому не пойдет в лакеи; но мне, ничего не имеющему, кроме своей головы, надо сделать свою карьеру и не упускать случаев, а пользоваться ими».
В Ольмюце он не застал в этот день князя Андрея. Но вид Ольмюца, где стояла главная квартира, дипломатический корпус и жили оба императора с своими свитами – придворных, приближенных, только больше усилил его желание принадлежать к этому верховному миру.
Он никого не знал, и, несмотря на его щегольской гвардейский мундир, все эти высшие люди, сновавшие по улицам, в щегольских экипажах, плюмажах, лентах и орденах, придворные и военные, казалось, стояли так неизмеримо выше его, гвардейского офицерика, что не только не хотели, но и не могли признать его существование. В помещении главнокомандующего Кутузова, где он спросил Болконского, все эти адъютанты и даже денщики смотрели на него так, как будто желали внушить ему, что таких, как он, офицеров очень много сюда шляется и что они все уже очень надоели. Несмотря на это, или скорее вследствие этого, на другой день, 15 числа, он после обеда опять поехал в Ольмюц и, войдя в дом, занимаемый Кутузовым, спросил Болконского. Князь Андрей был дома, и Бориса провели в большую залу, в которой, вероятно, прежде танцовали, а теперь стояли пять кроватей, разнородная мебель: стол, стулья и клавикорды. Один адъютант, ближе к двери, в персидском халате, сидел за столом и писал. Другой, красный, толстый Несвицкий, лежал на постели, подложив руки под голову, и смеялся с присевшим к нему офицером. Третий играл на клавикордах венский вальс, четвертый лежал на этих клавикордах и подпевал ему. Болконского не было. Никто из этих господ, заметив Бориса, не изменил своего положения. Тот, который писал, и к которому обратился Борис, досадливо обернулся и сказал ему, что Болконский дежурный, и чтобы он шел налево в дверь, в приемную, коли ему нужно видеть его. Борис поблагодарил и пошел в приемную. В приемной было человек десять офицеров и генералов.
В то время, как взошел Борис, князь Андрей, презрительно прищурившись (с тем особенным видом учтивой усталости, которая ясно говорит, что, коли бы не моя обязанность, я бы минуты с вами не стал разговаривать), выслушивал старого русского генерала в орденах, который почти на цыпочках, на вытяжке, с солдатским подобострастным выражением багрового лица что то докладывал князю Андрею.
– Очень хорошо, извольте подождать, – сказал он генералу тем французским выговором по русски, которым он говорил, когда хотел говорить презрительно, и, заметив Бориса, не обращаясь более к генералу (который с мольбою бегал за ним, прося еще что то выслушать), князь Андрей с веселой улыбкой, кивая ему, обратился к Борису.
Борис в эту минуту уже ясно понял то, что он предвидел прежде, именно то, что в армии, кроме той субординации и дисциплины, которая была написана в уставе, и которую знали в полку, и он знал, была другая, более существенная субординация, та, которая заставляла этого затянутого с багровым лицом генерала почтительно дожидаться, в то время как капитан князь Андрей для своего удовольствия находил более удобным разговаривать с прапорщиком Друбецким. Больше чем когда нибудь Борис решился служить впредь не по той писанной в уставе, а по этой неписанной субординации. Он теперь чувствовал, что только вследствие того, что он был рекомендован князю Андрею, он уже стал сразу выше генерала, который в других случаях, во фронте, мог уничтожить его, гвардейского прапорщика. Князь Андрей подошел к нему и взял за руку.
– Очень жаль, что вчера вы не застали меня. Я целый день провозился с немцами. Ездили с Вейротером поверять диспозицию. Как немцы возьмутся за аккуратность – конца нет!
Борис улыбнулся, как будто он понимал то, о чем, как об общеизвестном, намекал князь Андрей. Но он в первый раз слышал и фамилию Вейротера и даже слово диспозиция.
– Ну что, мой милый, всё в адъютанты хотите? Я об вас подумал за это время.
– Да, я думал, – невольно отчего то краснея, сказал Борис, – просить главнокомандующего; к нему было письмо обо мне от князя Курагина; я хотел просить только потому, – прибавил он, как бы извиняясь, что, боюсь, гвардия не будет в деле.
– Хорошо! хорошо! мы обо всем переговорим, – сказал князь Андрей, – только дайте доложить про этого господина, и я принадлежу вам.
В то время как князь Андрей ходил докладывать про багрового генерала, генерал этот, видимо, не разделявший понятий Бориса о выгодах неписанной субординации, так уперся глазами в дерзкого прапорщика, помешавшего ему договорить с адъютантом, что Борису стало неловко. Он отвернулся и с нетерпением ожидал, когда возвратится князь Андрей из кабинета главнокомандующего.
– Вот что, мой милый, я думал о вас, – сказал князь Андрей, когда они прошли в большую залу с клавикордами. – К главнокомандующему вам ходить нечего, – говорил князь Андрей, – он наговорит вам кучу любезностей, скажет, чтобы приходили к нему обедать («это было бы еще не так плохо для службы по той субординации», подумал Борис), но из этого дальше ничего не выйдет; нас, адъютантов и ординарцев, скоро будет батальон. Но вот что мы сделаем: у меня есть хороший приятель, генерал адъютант и прекрасный человек, князь Долгоруков; и хотя вы этого можете не знать, но дело в том, что теперь Кутузов с его штабом и мы все ровно ничего не значим: всё теперь сосредоточивается у государя; так вот мы пойдемте ка к Долгорукову, мне и надо сходить к нему, я уж ему говорил про вас; так мы и посмотрим; не найдет ли он возможным пристроить вас при себе, или где нибудь там, поближе .к солнцу.
Князь Андрей всегда особенно оживлялся, когда ему приходилось руководить молодого человека и помогать ему в светском успехе. Под предлогом этой помощи другому, которую он по гордости никогда не принял бы для себя, он находился вблизи той среды, которая давала успех и которая притягивала его к себе. Он весьма охотно взялся за Бориса и пошел с ним к князю Долгорукову.
Было уже поздно вечером, когда они взошли в Ольмюцкий дворец, занимаемый императорами и их приближенными.
В этот самый день был военный совет, на котором участвовали все члены гофкригсрата и оба императора. На совете, в противность мнения стариков – Кутузова и князя Шварцернберга, было решено немедленно наступать и дать генеральное сражение Бонапарту. Военный совет только что кончился, когда князь Андрей, сопутствуемый Борисом, пришел во дворец отыскивать князя Долгорукова. Еще все лица главной квартиры находились под обаянием сегодняшнего, победоносного для партии молодых, военного совета. Голоса медлителей, советовавших ожидать еще чего то не наступая, так единодушно были заглушены и доводы их опровергнуты несомненными доказательствами выгод наступления, что то, о чем толковалось в совете, будущее сражение и, без сомнения, победа, казались уже не будущим, а прошедшим. Все выгоды были на нашей стороне. Огромные силы, без сомнения, превосходившие силы Наполеона, были стянуты в одно место; войска были одушевлены присутствием императоров и рвались в дело; стратегический пункт, на котором приходилось действовать, был до малейших подробностей известен австрийскому генералу Вейротеру, руководившему войска (как бы счастливая случайность сделала то, что австрийские войска в прошлом году были на маневрах именно на тех полях, на которых теперь предстояло сразиться с французом); до малейших подробностей была известна и передана на картах предлежащая местность, и Бонапарте, видимо, ослабленный, ничего не предпринимал.
Долгоруков, один из самых горячих сторонников наступления, только что вернулся из совета, усталый, измученный, но оживленный и гордый одержанной победой. Князь Андрей представил покровительствуемого им офицера, но князь Долгоруков, учтиво и крепко пожав ему руку, ничего не сказал Борису и, очевидно не в силах удержаться от высказывания тех мыслей, которые сильнее всего занимали его в эту минуту, по французски обратился к князю Андрею.
– Ну, мой милый, какое мы выдержали сражение! Дай Бог только, чтобы то, которое будет следствием его, было бы столь же победоносно. Однако, мой милый, – говорил он отрывочно и оживленно, – я должен признать свою вину перед австрийцами и в особенности перед Вейротером. Что за точность, что за подробность, что за знание местности, что за предвидение всех возможностей, всех условий, всех малейших подробностей! Нет, мой милый, выгодней тех условий, в которых мы находимся, нельзя ничего нарочно выдумать. Соединение австрийской отчетливости с русской храбростию – чего ж вы хотите еще?
– Так наступление окончательно решено? – сказал Болконский.
– И знаете ли, мой милый, мне кажется, что решительно Буонапарте потерял свою латынь. Вы знаете, что нынче получено от него письмо к императору. – Долгоруков улыбнулся значительно.
– Вот как! Что ж он пишет? – спросил Болконский.
– Что он может писать? Традиридира и т. п., всё только с целью выиграть время. Я вам говорю, что он у нас в руках; это верно! Но что забавнее всего, – сказал он, вдруг добродушно засмеявшись, – это то, что никак не могли придумать, как ему адресовать ответ? Ежели не консулу, само собою разумеется не императору, то генералу Буонапарту, как мне казалось.
– Но между тем, чтобы не признавать императором, и тем, чтобы называть генералом Буонапарте, есть разница, – сказал Болконский.
– В том то и дело, – смеясь и перебивая, быстро говорил Долгоруков. – Вы знаете Билибина, он очень умный человек, он предлагал адресовать: «узурпатору и врагу человеческого рода».
Долгоруков весело захохотал.
– Не более того? – заметил Болконский.
– Но всё таки Билибин нашел серьезный титул адреса. И остроумный и умный человек.
– Как же?
– Главе французского правительства, au chef du gouverienement francais, – серьезно и с удовольствием сказал князь Долгоруков. – Не правда ли, что хорошо?
– Хорошо, но очень не понравится ему, – заметил Болконский.
– О, и очень! Мой брат знает его: он не раз обедал у него, у теперешнего императора, в Париже и говорил мне, что он не видал более утонченного и хитрого дипломата: знаете, соединение французской ловкости и итальянского актерства? Вы знаете его анекдоты с графом Марковым? Только один граф Марков умел с ним обращаться. Вы знаете историю платка? Это прелесть!
И словоохотливый Долгоруков, обращаясь то к Борису, то к князю Андрею, рассказал, как Бонапарт, желая испытать Маркова, нашего посланника, нарочно уронил перед ним платок и остановился, глядя на него, ожидая, вероятно, услуги от Маркова и как, Марков тотчас же уронил рядом свой платок и поднял свой, не поднимая платка Бонапарта.
– Charmant, [Очаровательно,] – сказал Болконский, – но вот что, князь, я пришел к вам просителем за этого молодого человека. Видите ли что?…
Но князь Андрей не успел докончить, как в комнату вошел адъютант, который звал князя Долгорукова к императору.
– Ах, какая досада! – сказал Долгоруков, поспешно вставая и пожимая руки князя Андрея и Бориса. – Вы знаете, я очень рад сделать всё, что от меня зависит, и для вас и для этого милого молодого человека. – Он еще раз пожал руку Бориса с выражением добродушного, искреннего и оживленного легкомыслия. – Но вы видите… до другого раза!
Бориса волновала мысль о той близости к высшей власти, в которой он в эту минуту чувствовал себя. Он сознавал себя здесь в соприкосновении с теми пружинами, которые руководили всеми теми громадными движениями масс, которых он в своем полку чувствовал себя маленькою, покорною и ничтожной» частью. Они вышли в коридор вслед за князем Долгоруковым и встретили выходившего (из той двери комнаты государя, в которую вошел Долгоруков) невысокого человека в штатском платье, с умным лицом и резкой чертой выставленной вперед челюсти, которая, не портя его, придавала ему особенную живость и изворотливость выражения. Этот невысокий человек кивнул, как своему, Долгорукому и пристально холодным взглядом стал вглядываться в князя Андрея, идя прямо на него и видимо, ожидая, чтобы князь Андрей поклонился ему или дал дорогу. Князь Андрей не сделал ни того, ни другого; в лице его выразилась злоба, и молодой человек, отвернувшись, прошел стороной коридора.
– Кто это? – спросил Борис.
– Это один из самых замечательнейших, но неприятнейших мне людей. Это министр иностранных дел, князь Адам Чарторижский.
– Вот эти люди, – сказал Болконский со вздохом, который он не мог подавить, в то время как они выходили из дворца, – вот эти то люди решают судьбы народов.
На другой день войска выступили в поход, и Борис не успел до самого Аустерлицкого сражения побывать ни у Болконского, ни у Долгорукова и остался еще на время в Измайловском полку.
На заре 16 числа эскадрон Денисова, в котором служил Николай Ростов, и который был в отряде князя Багратиона, двинулся с ночлега в дело, как говорили, и, пройдя около версты позади других колонн, был остановлен на большой дороге. Ростов видел, как мимо его прошли вперед казаки, 1 й и 2 й эскадрон гусар, пехотные батальоны с артиллерией и проехали генералы Багратион и Долгоруков с адъютантами. Весь страх, который он, как и прежде, испытывал перед делом; вся внутренняя борьба, посредством которой он преодолевал этот страх; все его мечтания о том, как он по гусарски отличится в этом деле, – пропали даром. Эскадрон их был оставлен в резерве, и Николай Ростов скучно и тоскливо провел этот день. В 9 м часу утра он услыхал пальбу впереди себя, крики ура, видел привозимых назад раненых (их было немного) и, наконец, видел, как в середине сотни казаков провели целый отряд французских кавалеристов. Очевидно, дело было кончено, и дело было, очевидно небольшое, но счастливое. Проходившие назад солдаты и офицеры рассказывали о блестящей победе, о занятии города Вишау и взятии в плен целого французского эскадрона. День был ясный, солнечный, после сильного ночного заморозка, и веселый блеск осеннего дня совпадал с известием о победе, которое передавали не только рассказы участвовавших в нем, но и радостное выражение лиц солдат, офицеров, генералов и адъютантов, ехавших туда и оттуда мимо Ростова. Тем больнее щемило сердце Николая, напрасно перестрадавшего весь страх, предшествующий сражению, и пробывшего этот веселый день в бездействии.