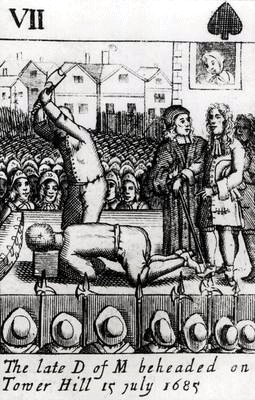Восстание Уайетта
| Эту страницу предлагается переименовать в Восстание Уайатта. Пояснение причин и обсуждение — на странице Википедия:К переименованию/3 мая 2015.
Возможно, её текущее название не соответствует нормам современного русского языка и/или правилам именования статей Википедии. Не снимайте пометку о выставлении на переименование до окончания обсуждения. Переименовать в предложенное название, снять этот шаблон |

Восстание Томаса Уайетта против королевы Англии Марии Тюдор началось в январе 1554 года. Заговор, составленный в ноябре — декабре 1553 года, предполагал одновременный вооружённый мятеж в четырёх графствах Англии, однако относительный успех имело только восстание в Кенте во главе с Томасом Уайеттом-младшим. Из всех мятежей эпохи Тюдоров восстание Уайетта было наиболее близко к захвату верховной власти[1]. Между 25 января и 3 февраля 1554 года отряды Уайетта силами до 3 тысяч человек[2] заняли графство, отразили удары правительственных сил и вошли в предместья Лондона. 7 февраля восставшие пошли на приступ Лондона и были подавлены правительственными войсками. В боевых действиях в Кенте и Лондоне погибли от 60 до 70 человек с обеих сторон[3]. Около ста человек были казнены, в том числе Уайетт, Генри Грей и не участвовавшие в заговоре Джейн Грей и её муж Гилфорд Дадли. Большинство участников восстания были помилованы Марией.
Цели и мотивы заговорщиков точно не известны. Восставшие заявляли своей целью предотвращение династического брака между Марией и испанцем Филиппом. Наиболее вероятно, что действительными целями были низложение Марии и передача короны её сестре Елизавете.
Содержание
Предыстория
- Подробное рассмотрение темы: Генрих VIII, Реформация в Англии, Джейн Грей, Мария I, Кризис престолонаследия 1553 года в Англии
В 1532—1539 годах король Англии Генрих VIII разорвал отношения со Святым Престолом, учредил Церковь Англии и национализировал монастырские владения. Епископы, отказавшиеся подчиниться Актам о супрематии, были казнены. Приближённые короля были щедро вознаграждены монастырскими землями, широкий круг лояльного к Генриху дворянства обогатился на земельных спекуляциях[4]. Генрих был последователен в вопросах денежных и политических, но не имел твёрдого мнения в вопросах веры — в последующие годы он склонялся и к реставрации католического обряда, и к протестантизму. Его старшая дочь Мария (1516—1558) выросла католичкой, сын Эдуард (1537—1553) — протестантом. Личные религиозные взгляды младшей дочери Генриха Елизаветы (1533—1603) остаются точно неизвестными (в годы своего правления Елизавета придерживалась «среднего курса» на примирение католиков и протестантов).
Генрих скончался в 1547 году, передав трон малолетнему Эдуарду. Назначенный Генрихом совет верховников передал исключительные регентские права Эдуарду Сеймуру (с 1547 года герцог Сомерсет). В 1549 году Сеймур попал в опалу, а место регента занял Джон Дадли (с 1551 года герцог Нортумберленд). И Сеймур, и Дадли активно проводили протестантские реформы, но не могли изменить исторически сложившуюся религиозность народа: протестанты были сильны при дворе, но абсолютное большинство англичан оставались убеждёнными католиками[5]. В 1549 году замена богослужебных книг спровоцировала народное восстание в западной Англии[6], а несправедливый раздел земель и огораживания — восстание Роберта Кета в Норфолке[7].
В феврале 1553 года Эдуард заболел — как оказалось, неизлечимо. В июне 1553 года находившийся при смерти король под влиянием Дадли отстранил Марию и Елизавету от престолонаследия и назначил своей преемницей шестнадцатилетнюю Джейн Грей, правнучку Генриха VII и невестку временщика Дадли. После смерти Эдуарда, последовавшей 6 июля, Джейн Грей «правила» Англией с 10 по 19 июля 1553 года. За это время бежавшая из Лондона католичка Мария сумела мобилизовать внушительную армию и склонить на свою сторону Тайный Совет. После того, как рассчитывавший на скорую военную победу Джон Дадли отправился вдогонку за Марией, Совет низложил Джейн Грей и призвал на трон Марию. Джон Дадли сдался на милость победительницы и был казнён 22 августа 1553 года[8]. Джейн Грей и её муж Гилфорд Дадли были осуждены на смерть 13 ноября 1553 года, но колебавшаяся Мария не торопилась исполнять приговор[9].
После переворота незамужняя Мария озаботилась подбором подходящего жениха. 2 августа 1553 года Мария публично сказала, что, будучи частным лицом, она не собиралась выходить замуж — но, став королевой, она должна найти себе супруга[10]. Свой выбор Мария доверила двоюродному брату и наставнику Карлу V, сделав оговорку, что окончательное решение остаётся за ней[11]. Первым, ожидаемым и приемлемым для знати кандидатом стал Эдвард Кортни, правнук короля Эдуарда IV и дальний родственник Марии. Всю свою сознательную жизнь, с 1538 года по 1553 год, он провёл в заточении в Тауэре. Мария освободила Кортни и вернула ему титул графа Девон, но лично с ним не встретилась[11]. Вероятно, она ожидала, что Кортни будет сам искать встречи с ней, но тот, опасаясь придворных интриг, не предпринял никаких шагов к сближению[12]. Интриги всё же последовали — со стороны испанских послов, распространявших слухи о возможном союзе между Кортни и Елизаветой[12].
Заговор
29 сентября 1553 года Мария приняла в орден Бани группу новых кавалеров, включая Кортни и Генри Невилла, лорда Абергавенни[en], а 1 октября короновалась в Вестминстерском аббатстве[13]. К этому времени казна королевства опустела, и Марии пришлось всерьёз задуматься о внешних займах[14]. По мнению Дэвида Лодса[en], Мария осознавала свою неспособность управлять страной и в трудную минуту опиралась в первую очередь на своих родственников по материнской линии — испанских Габсбургов, которых представлял в Лондоне посол Симон Ренар[15]. Под влиянием Ренара королева отказалась от брака с Кортни в пользу испанца Филиппа II[16]. 23 октября Мария, не называя имени Филиппа, разъяснила своё решение вельможам и епископам, просившим её о браке с Кортни: государству и королеве нужен не брак с англичанином, но династический союз с мощной дружественной державой[17]. 16 ноября депутаты Палаты общин обратились к Марии с петицией в пользу брака с соотечественником и получили жёсткий отказ[18][19]. Слухи о предстоящем браке с Филиппом просочились из дворца на улицы, взбудоражив лондонскую чернь и дворянскую оппозицию[20]. Народ не доверял испанцам, дворяне-протестанты обоснованно опасались католической реакции[20].
По мнению Лодса, мятеж зародился именно в среде парламентариев, несогласных с выбором королевы[18]. Ядро заговора составили депутаты Николас Арнолд[en], Питер Керью[en], Джеймс Крофт (Крофтс), Уильям Пикеринг, Эдвард Робертс, Томас Уайетт и Джордж Харпер, а также Уильям Уинтер и Уильям Томас[16]. Арнолд, Крофт, Керью, Уайетт были крупными землевладельцами, Пикеринг — послом во Франции во времена Джона Дадли, Уинтер служил контролёром флота, Томас — клерком Тайного Совета. Керью, Пикеринг, Томас и Уайетт были протестантами, другие заговорщики не имели явных религиозных убеждений. Все, кроме Томаса, принадлежали к высшему классу английского общества, но влиятельных вельмож и военачальников среди них не было[18]. Крупнейшие деятели времён Генриха VIII и Эдуарда, дожившие до ноября 1553 года, благоразумно предпочли остаться в тени[21]: к заговору примкнул только Генри Грей, отец Джейн Грей[22].
26 ноября 1553 года[21] несогласные впервые встретились в окрестностях лондонского замка Бейнерд[en][20], чтобы обсудить возможность переворота. Уильям Томас, который, возможно, и организовал эту встречу, настаивал на убийстве Марии, но большинство заговорщиков высказались за сохранение ей жизни[23]. Место Томаса во главе заговора перешло к Джеймсу Крофту[23]. К 22 декабря определилась тактика восстания. Мятеж должен был вспыхнуть на Пасху, 18 марта 1554 года, одновременно в четырёх местах: Крофт отвечал за возмущение в Хартфордшире, Генри Грей — в Лестершире, Уайетт — в Кенте, Керью с поддержкой Кортни — в Девоне[20][24]. Именно Девон — родина Кортни и вероятный плацдарм высадки испанцев — считался первоочередной целью[24]. Кортни был посвящён в заговор, но не принял в нём активного участия[25]. По мнению биографа Кортни Джеймса Тейлора, проживший половину жизни в тюремной камере Кортни вряд ли рискнул бы своей долгожданной свободой[26]. Ни Уайетт, ни его ближайшие сторонники не сказали на допросах и слова против Кортни и Елизаветы[26]. Лишь Николас Трокмортон[en] дал показания о том, что Кортни якобы должен был сопровождать Трокмортона в поездке к Керью с целью начать мятеж в Девоне и Корнуолле[27]. Имелись и косвенные свидетельства тому, что незадолго до восстания Кортни бывал в местах, где он мог бы встречаться с Уайеттом — но ничего определённого[27].
Точная цель заговора остаётся неизвестной. На суде заговорщики клялись, что их единственной целью было принуждение Марии к отказу от брака с Филиппом[28]. Ренар и епископ Стефан Гардинер считали, что заговорщики планировали передать корону Елизавете[28]. Гардинер полагал, что заговорщики намеревались восстановить эдуардовскую политику в делах религии — что подразумевало низложение католички Марии[28]. Ренар утверждал, что реальным двигателем заговора был французский двор, а Елизавета сознательно выполняла французские инструкции[29]. Заговорщики действительно использовали имя Елизаветы в агитации, посылали ей письма-воззвания, но сама Елизавета в заговоре не участвовала и не сделала ничего, что могло бы скомпрометировать её[30].
Согласно наиболее распространённой современной трактовке, заговорщики решили силой отстранить Марию от власти, передать корону Елизавете и выдать её замуж за Кортни, тем самым восстановив в стране протестантизм времён Эдварда VI[1][20]. Менее вероятно, что они собирались вернуть корону Джейн Грей[20]. Значение религиозного фактора может быть оценено лишь приблизительно, так как мятежники намеренно избегали твёрдых заявлений по вопросам веры[1]. Уайетт инструктировал своих сторонников: «Вы не должны даже упоминать религию, ибо это отвратит от нас сердца многих» (англ. You may not so much as name religion, for that will withdraw from us the hearts of many)[1].
Мотивы заговорщиков также не вполне ясны: заговор объединил людей разного общественного положения, с разными интересами. Землевладельцы (и католики, и протестанты), занявшие бывшие монастырские земли, опасались реституции своих владений католической церковью[31]. Многие предполагали, что Филипп ввергнет Англию в разорительные войны в интересах Габсбургов[31]. Массы ремесленников, примкнувших к восстанию, страдали от начавшегося в 1551 году кризиса лёгкой промышленности, но невозможно выделить какой-либо цех, который бы существенно выиграл в случае победы мятежников[1][32]. Те же классы общества выступали и на стороне Марии; Лодс указывает на «замечательное сходство» биографий и общественного положения главы заговора Томаса Уайетта и его непримиримого противника — шерифа графства Кент Роберта Саутвелла[en][33]. По мнению Лодса, восстание Уайетта в Кенте, в отличие от крестьянских восстаний, не имело классовой составляющей: во время похода на Лондон мятежники-простолюдины не разграбили по своей воле ни одного господского поместья[33].
Преждевременное начало
В конце декабря 1553 года сторонники Марии получили первые известия о готовящемся заговоре[24]. В начале января 1554 года Гардинер узнал об этом от самого Кортни[27]. Тогда же, не позднее 7 января 1554 года, о заговоре стало известно и Ренару, и посол поспешил предупредить королеву[34]. Тайный Совет пошёл на беспрецедентный шаг, опубликовав 14 января условия брачного контракта между Марией и Филиппом[35]. Правительство Марии открыло свои карты, приглашая мятежников сделать ответный ход. Те, обнаружив слежку, решили, что пришло время, и 18 января 1554 года начали действовать[34]. Этот мятеж с самого начала распался на четыре независимые друг от друга кампании, и только одна из них, восстание Томаса Уайетта в Кенте, стала реальной угрозой для Марии и её правительства. Выступления Генри Грея и Питера Керью были подавлены без пролития крови, а Джеймс Крофт и вовсе не начинал активных действий.
Питер Керью начал первым. Ещё 2 января 1554 года он получил приказ явиться в Тайный Совет. Цель этого вызова осталась неизвестной; возможно, дело было не связано со слухами о заговоре — но Керью предположил худшее и бежал морем в Девон[36][37]. В этом графстве мятеж мог иметь прочную поддержку — местное население было всерьёз встревожено слухами о высадке испанцев[38]. Однако в начале января шериф графства, католик[39] сэр Томас Деннис перехватил инициативу, убедил крупнейших землевладельцев сохранить верность Марии и взял под свой контроль стратегический город и порт Эксетер[40]. 17 января Керью открыто объявил начало мятежа[41], а Деннис объявил в Эксетере осадное положение[42]. 19 января в Эксетер доставили ордер на арест Керью, выписанный Тайным Советом ещё 16 января[43]. Несмотря на симпатии немалой части девонских простолюдинов, Керью не сумел переломить ситуацию в свою пользу. Всё-таки ещё свежа у девонширцев была память о «заслугах» Керью в подавлении восстания 1549 года. Кортни оставался в Лондоне, его девонская родня отказалась примкнуть к мятежу, а немногие открытые союзники Керью, вроде семейства пиратов Киллигрю[en], принесли больше вреда, чем пользы[42]. Опытный солдат Керью понял, что штурм Эксетера с его силами невозможен, и отказался от борьбы[44]. 23 января он написал Деннису, что уезжает в Лондон, чтобы сдаться на милость Тайного Совета[44]. 24 января Керью демонстративно послал обоз с припасами на свою базу, имитируя подготовку к обороне от правительственных сил, а в ночь на 25 января бежал на пиратской шхуне в Нормандию[45] (по мнению Фруда, бегство Керью было устроено Деннисом, желавшим избежать открытого столкновения[39]).
Генри Грей (герцог Саффолк) оставался в Лондоне до утра 25 января[46]. В день, когда Уайетт поднял в Кенте открытый мятеж, Грей бежал из Лондона на север, поднимать восстание в Лестершире. В тот же день по его следам отправился отряд сторонников Марии[47]. Грей не был популярен в родном графстве, где народ придерживался католицизма и был равнодушен к заклинаниям об «испанской угрозе»[48]. Ему позволили агитировать против Марии и Филиппа в Лестере, но он смог завербовать там всего 140 бойцов — вероятно, своих собственных вассалов[49]. 30 января Ковентри, город, который, по мнению Грея, должен был стать ему опорой, отказался открывать ворота мятежникам[50]. Узнав об этом, Грей отказался от борьбы, распустил свой отряд и сдался на милость победителей[51].
Джеймс Крофт оставался в Лондоне до 19 января включительно[36]. 20 января он навестил в Эшридже[en] Елизавету и безуспешно пытался убедить её уехать подальше от Лондона и Марии[52]. После этого Крофт не предпринял никаких активных действий, и его имя исчезло из исторических свидетельств вплоть до его ареста 13 февраля. Слухи об отрядах мятежников в Хартфордшире, где Крофт собирался поднять мятеж, оказались ложными.
Эдуард Кортни окончательно выбыл из борьбы 21 января. В этот день Гардинер вызвал к себе Кортни и учинил ему жёсткий допрос. Епископ убедил Кортни разорвать все связи с заговором и затаиться, а затем уничтожил компрометировавшие Кортни документы[27][53].
До 22 января двор оставался в неведении о самом опасном направлении мятежа, возглавляемом Томасом Уайеттом[54]. Опаснейшим врагом Марии в эти дни казалась Елизавета. Гардинер убеждал Марию в том, что мятежники хотят привести к власти Елизавету, и требовал её немедленного ареста[55]. В июле 1553 года Елизавета легко мобилизовала две тысячи вооружённых всадников — силу, с которой не могли не считаться при дворе. Мария потребовала, чтобы находившаяся в Эшридже, в двадцати семи милях от Лондона, Елизавета немедленно прибыла ко двору в Вестминстер[56]. Елизавета в эти дни была нездорова, но посланники Марии принудили её к переезду. Поездка, занявшая пять суток, фактически была арестом: Марии было необходимо не присутствие Елизаветы в Лондоне, но её изоляция[56]. Свидетельства современников об этом эпизоде крайне противоречивы — ясно только то, что не участвовавшая в заговоре Елизавета не пыталась, да и не могла бежать от сестры[57].
Поход Уайетта
Развёртывание
В пятницу 19 января Уайетт, сопровождаемый Пикерингом, приехал из Лондона в родовой замок Аллингтон[en] в Кенте[36]. Графство Кент, стратегически расположенное между Лондоном и Па-де-Кале, всегда представляло особый интерес для английских монархов[58][1]. Тюдоры опасались усиления местных аристократических родов и по возможности вознаграждали своих приближённых именно кентскими землями[58]. Так в конце XV века в Кенте обосновалось семейство Уайеттов, а в 1540-х годах — лондонский судья и земельный спекулянт Роберт Саутвелл, брат вельможи Ричарда Саутвелла[en][58]. В Кенте сосредоточились поместья действующих чиновников, дипломатов и судей, поэтому местное дворянство, как считали в Лондоне, не представляло угрозы для королевской власти[58]. Крестьяне и городская чернь, напротив, отличались склонностью к возмущениям[58].
Томас Уайетт-младший в тридцать два года уже имел пятерых детей и успел послужить шерифом графства[59]. Во время восстаний 1549 года он получил опыт организации ополчения, поэтому возмущение среди дворян-протестантов не представляло для него особой проблемы[60][61]. Его ближайшие союзники Харпер, Калпеппер и Генри Айсли[en] также служили шерифами Кента; Уайетт, Калпеппер и братья Айсли жили в Кенте постоянно и потому имели сильное влияние на тех, кто находился у них в подчинении[62].
19 января Уайетт послал гонцов к родственникам и знакомым, приглашая всех собраться на военный совет в замке Аллингтон[64]. 20 и 21 января собравшиеся в замке выработали тактику действий, назначили открытое выступление на 25 января и разослали по всем графствам Англии гонцов с возмутительными прокламациями (они были опубликованы одновременно, 25 января)[65]. Уайетт не раскрыл союзникам истинные цели заговора: по его легенде, выступление в Кенте было частью всеобщего движения за спасение королевы «от злых советников и её собственных заблуждений»[66]. Уайетт пытался привлечь к заговору Саутвелла (католика, но противника брака Марии и Филиппа[39]) и его свояка лорда Абергавенни, но они остались верны королеве и возглавили сопротивление мятежу. Всего, по данным следствия, в заговор было вовлечено около тридцати кентских дворян, в том числе математик и астроном Леонард Диггс[en][67].
22 января до Марии дошли первые слухи о возмущении в Кенте, она послала Уайетту примирительное письмо с предложением начать переговоры о мирном выходе из кризиса[68]. Мария пыталась выиграть время[66] и не собиралась даже обсуждать отказ от брака с Филиппом. Уайетт, понимая намерения королевы, отказался от переговоров и изгнал её гонцов из Кента[66]. 23 января мятежники начали агитировать кентских простолюдинов к восстанию «против испанцев»[69]. Саутвелл приметил одного такого агитатора, Уильяма Айсли, но первая попытка мобилизовать местных дворян против мятежа сорвалась — все они «вдруг» куда-то уехали[69]. По материалам судов над мятежниками, Уайетт сумел завербовать жителей 124 церковных приходов по всему графству[70]. Большинство подследственных жили в окрестностях родовых поместий Уайетта и его ближайших союзников[71]. Население прибрежных городов на востоке Кента, находившемся под контролем Саутвелла и Абергавенни, в мятеже не участвовало[32].
Утром 25 января в деревнях, находившихся под влиянием заговорщиков, зазвонили церковные колокола, и завербованные крестьяне потянулись в города[46]. Уайетт поднял знамя восстания и зачитал воззвание в Мейдстоне, его союзники сделали то же самое в Тонбридже, Рочестере, Маллинге и других городах и местечках[72]. Лишь трое мировых судей тщетно пытались остановить мятеж[72]. Вечером 25 января Саутвелл известил Марию, что положение настолько опасно, что королеве следует покинуть Лондон[73].
Победа при Рочестере
26 января Уайетт перехватил королевский караван речных судов с артиллерией и боеприпасами[74]. 26 или 27 января правительство в Лондоне наконец-то провозгласило Уайетта изменником; в ответ Уайетт объявил вне закона Саутвелла, Абергавенни и всех их союзников[75]. Тайный Совет, погрязший в интригах, не собирался помогать Марии: возможно, сильная королева казалась членам Совета бо́льшим злом, чем вооружённый мятеж[74]. Единственным выходом для Марии стало прямое обращение к городской корпорации Лондона[74]. Муниципалитет собрал карательный отряд в 800 ополченцев (англ. Whitecoats), который возглавил престарелый герцог Норфолк[75]. По мнению Лодса, либо Норфолк был выбран за его безоговорочную преданность католицизму, либо его намеренно принесли в жертву[76]. Норфолк не имел никаких шансов: все его офицеры и бо́льшая часть ополченцев сочувствовали мятежникам[76].
К 27 января Уайетт располагал 2000 бойцов в Рочестере, в 35 милях от Лондона[77], а сильные отряды братьев Айсли занимали Тонбридж и Севенокс[75]. Местное население — люди, находившиеся в зависимости от Уайетта и его союзников, — не поддерживало лоялистов[78]. Саутвелл и Абергавенни с 600 бойцами перекрыли в Маллинге дорогу, соединявшую Тонбридж и Рочестер, не позволяя Томасу Айсли соединиться с силами Уайетта[75]. Другой отряд лоялистов под началом барона Кобхэма[en] (400 бойцов) занимал Грейвсенд[78].
28 января отряд Генри Айсли (500 бойцов) неожиданно вышел из Севенокса в Рочестер[78]. Саутвелл принял бой и разбил мятежников при Рутэме[en], взяв около 60 пленных[78]. Генри Айсли бежал из Кента на запад[78]. Жёсткое противодействие Саутвелла мятежникам, по мнению Лодса, могло объясняться его личным конфликтом с Уайеттом, но никаких свидетельств тому не сохранилось[79]. Личная решимость Саутвелла не могла компенсировать слабость его влияния на местное дворянство: он лишь недавно обосновался в Кенте и не имел родственных связей с соседями[80]. Такие связи и влияние имел союзник Саутвелла лорд Абергавенни, наследник древнейшего, но не самого богатого кентского семейства[80].
После стычки при Рутэме участникам конфликта с обеих сторон показалось, что мятеж достиг высшей точки[78], но это было ошибкой. В тот же день 28 января Норфолк привёл свои силы (1200 человек, включая отряд из Грейвсенда, при восьми орудиях) к Рочестеру[81]. Из лагеря мятежников к Норфолку бежал Джордж Харпер; командующий радушно принял старого знакомого, а тот убедил его в слабости позиции Уайетта[81]. Ночью Харпер, действовавший по заданию Уайетта, организовал переход лондонцев на сторону мятежников[82]. Утром 29 января, когда Норфолк повёл свой войско на приступ, лондонцы с криком «Мы все англичане! К Уайетту!» (англ. We are all Englishmen! A Wyatt! A Wyatt!) повернули оружие против своего командующего[82]. Норфолк попытался отбиться от лондонцев артиллерийским огнём, а когда мятежники захватили батарею — бежал в Лондон[82]. Барон Кобхэм распустил остатки своего отряда и заперся в замке Кулинг[en][83], а не участвовавший в сражении Саутвелл (Норфолк не счёл нужным предупредить его) уехал в Лондон, оставив Абергавенни в тылу мятежников[84]. Абергавенни прибыл в Лондон уже в феврале, чтобы возглавить сопротивление в Саутуарке.
Марш на Лондон
Историки считают, что если бы 29 января Уайетт, как советовали ему офицеры лондонцев, немедленно пошёл на незащищённый Лондон, исход восстания мог сложиться в его пользу[85][77]. Но Уайетт потратил время на второстепенные цели, дав Марии возможность завоевать общественное мнение и организовать сопротивление[77].
Утром 30 января мятежники силами до 2000 человек осадили принадлежавший тестю Уайетта барону Кобхэму[en] замок Кулинг[en]. Барон возглавлял силы лоялистов в Грейвсенде, а трое его сыновей активно участвовали в мятеже[84][86]. Разбив пушечными выстрелами разводной мост, мятежники разграбили замок и доставили барона к Уайетту[84]. Вечером 30 января мятежники, двигаясь в сторону Лондона, достигли Грейвсенда, вечером 31 января — Дартфорда[84]. Положение Марии стало настолько опасным, что она была готова отложить бракосочетание[87]. Население Лондона открыто склонялось на сторону мятежников[88]. В этот день Мария направила Уайетту второе предложение к перемирию, но не доверявший Марии Уайетт выдвинул неприемлемые встречные условия: королева должна сдать восставшим ключи от Тауэра и стать заложницей Уайетта[89].
Мирное решение конфликта стало невозможным: возмущённая дерзостью Уайетта Мария решительно настроилась на полный военный разгром мятежа[90]. 1 февраля королева, отказавшись от посредничества неработоспособного Тайного Совета, напрямую обратилась за поддержкой к лондонцам[91]. Сопровождаемая верными лордами Мария приехала в Гилдхолл и разъяснила положение дел лондонскому купечеству[91]. Процитировав издевательские условия Уайетта, Мария признала, что «испанский брак» расколол бы общество, а затем предложила решить вопрос о браке через парламент[91]. Общественное мнение, ещё утром склонявшееся на сторону мятежников, изменилось в пользу королевы. Новым командующим правительственных сил стал Уильям Герберт, граф Пемброк[en][92], комендантом города — Уильям Говард[en]. Уильям Пэджет[en] восстановил контроль короны над Тайным Советом[92]. Абергавенни организовал оборону южных предместий Лондона, а Саутвелл вернулся в Кент, чтобы угрожать мятежникам из их собственного тыла[93].
Утром 3 февраля мятежники дошли до Саутуарка, предместья Лондона на правом (южном) берегу Темзы[94]. Единственный мост через Темзу надёжно охраняли сторонники королевы под началом Абергавенни[93], и Уайетт не решился на штурм моста[95]. Пемброк, в свою очередь, не предпринимал активных вылазок, справедливо полагая, что время работает против Уайетта[96]. За три дня стоянки в Саутуарке мятежники пополнили свои ряды и ополченцами-перебежчиками, и местными обывателями[97]. Вероятно, последние не столько сочувствовали мятежу, сколько пытались защитить свою собственность от разграбления — однако, за исключением грабежа дворца Гардинера, поведение мятежников было образцовым[98]. На военном совете одни союзники предложили Уайетту вернуться в Кент, чтобы подавить лоялистские отряды, другие — уйти в ещё не охваченный восстанием Эссекс[97]. Но Уайетт рассудил, что ключ к захвату власти остаётся в Лондоне[97]. Совет постановил переправиться через Темзу к западу от Лондона и идти на штурм его западных ворот северным берегом реки[97]. Уайетт заверил восставших, что осада не потребуется: его союзники в Лондоне откроют ворота[99].
В походе на Лондон участвовали от 2 до 3 тысяч человек, история сохранила имена около 750 из них[100]. 560 из 750 жили в Кенте, большая часть остальных — в Лондоне и Саутуарке[100]. По мнению Лодса, цифра в 750 человек составляет примерно пятую часть от общего числа мятежников и от 40 % до 50 % от ядра активных мятежников[2].
Разгром
6 февраля Уайетт увёл своё войско из Саутуарка на юго-запад, в Кингстон-апон-Темс[101]. Мятежники перешли Темзу по Кингстонскому мосту[en], но их артиллерия увязла в топях[102]. Потеряв несколько часов в тщетных попытках вызволить пушки, ночью с 6 на 7 февраля Уайетт скрытно прошёл левым берегом Темзы к западным предместьям Лондона[103]. На рассвете 7 февраля мятежники увидели цель — городскую стену лондонского Сити, а перед ней — массы войск Пемброка[104]. Лондон был потрясён известием о том, что Уайетт готовит открытый приступ города[105]. Паника и напряжение были вызваны не столько страхом перед Уайеттом, сколько взаимным недоверием среди лондонцев: каждый подозревал каждого в измене[101].
После непродолжительной остановки в Найтсбридже[en] Уайетт решился на штурм[104]. Протестантский викарий Кингстона Уильям Олбрайт благословил мятежников на решающее сражение[106]. Бой при Чаринг-Кроссе, начавшийся после полудня 7 февраля в лощине между Найтсбриджем и Ладгейтскими воротами[en] лондонского Сити, описан современниками крайне противоречиво[104]. После непродолжительной перестрелки одни правительственные отряды отступили, открыв Уайетту путь к центру города, а другие вовсе бежали[57]. Сын Уайетта Джордж считал, что Пемброк лишь чудом избежал участи Норфолка[3]. По мнению Лодса, Пемброк вышел из боя, опасаясь массовой измены своих ненадёжных ополченцев[104]. Возможно, что Пемброк намеренно отступил, дав мятежникам прорваться к воротам, в расчёте на последующее окружение[104]. Достоверно известно лишь то, что Уайетт, продвигаясь по Стрэнду и Флит-стрит, почти беспрепятственно дошёл до запертых Ладгейтских ворот, которые оборонял Уильям Говард[en][107].
Вероятно, Уайетт рассчитывал на повторение событий при Рочестере, но на этот раз лондонские ополченцы сохранили верность королеве[107]. Уайетт не решился на штурм ворот, и около пяти часов вечера его войско, преследуемое правительственными отрядами, отступило на запад к заставе Темпл-Бар[en][107]. За весь день обе стороны потеряли около сорока человек убитыми, а всего за 18 дней восстания погибли от 60 до 70 человек[3]. Вечером 7 февраля Уайетт сдался на милость победителей, а его ближайшие союзники отказались от продолжения борьбы[107]. Активно сопротивлялся лишь небольшой отряд Катберта Вогана, посланный Уайеттом в Вестминстер[107]. В западных предместьях Лондона начались массовые аресты.
Суды и казни
К вечеру 7 февраля почти все видные участники похода Уайетта были арестованы и доставлены в Тауэр, лишь немногим удалось бежать[108]. Вскоре все тюрьмы были переполнены, и арестованных начали размещать в церквях[109]. Саутвелл развернул временный штаб в замке Аллингтон, управляя оттуда карательными отрядами, прочёсывавшими графство[108]. 17 февраля ему на помощь пришли 300 всадников герцога Пемброка[108]. Кентские тюрьмы, как и лондонские, быстро переполнились, а каратели не торопились судить мятежников, ожидая сигналов из Лондона[108]. Не было ясно, готова ли Мария к массовым казням, или же она предпочтёт помиловать простых мятежников[108].
После разгрома мятежа придворные партии сделали свои, разные, выводы из произошедшего[110]. Ренар решил, что испанские интересы в Англии требуют физического устранения Елизаветы и Кортни[110]. Защищавший Кортни Гардинер решил, что безопасность страны требует искоренить протестантизм[110]. Пэджет, представлявший военную партию, настаивал на помиловании мятежников[111]. Карл V призывал Марию жёстко покарать зачинщиков и проявить милость к рядовым мятежникам[112]. Сама же Мария убедила себя, что народ Англии всё-таки поддерживает её, а восстание Уайетта — дело немногочисленных «еретиков и агитаторов»[112]. После того, как прошла горячка первых дней февраля, она передала следствие и руководство судом Тайному Совету[112].
Первый суд над тридцатью тремя лондонцами, перешедшими на сторону Уайетта при Рочестере, прошёл уже 10 февраля[109]. 12 февраля в Лондоне осудили ещё 147 человек[109]. В этот день в Лондоне были выстроены первые виселицы, а в Тауэре были тайно обезглавлены леди Джейн Грей и её муж[113]. Первая массовая казнь 45 мятежников состоялась в Лондоне 14 февраля[113]. В Лондоне казнили только местных жителей, а кентских мятежников (включая братьев Айсли, Вогана, Диггса, кроме самого Уайетта) Совет отправил в руки Саутвелла[113]. Некоторые из осужденных дворян были помилованы, а спустя несколько дней — вновь приговорены[113]. Александр Бретт (капитан лондонцев, перешедших к мятежникам при Рочестере) был казнён, а Воган и Диггс выжили[113]. Генри Грей, отец леди Джейн, был обезглавлен 23 февраля.
К концу февраля были осуждены около 480 человек, но массовые казни вновь откладывались[114]. Затем около шестисот человек, скованных по двое и по трое, привели под конвоем к Марии, и королева, к восторгу лондонцев, отпустила их на свободу[114][115]. По подсчётам историков, основной удар правосудия пришёлся на жителей Лондона: из 76 приговорённых к смерти были казнены 45 человек[114][116]. Из 350 приговорённых жителей Кента были казнены менее тридцати (включая Уайетта и ещё семь или восемь дворян)[114][116]. Общее число казнённых, по мнению Лодса, не превысило сотни человек, из которых 71 известен поимённо[116].
11 апреля 1554 года Уайетт был казнён на Тауэр-Хилл[117]. Ему дозволили произнести речь, в которой он защищал невиновность Елизаветы и Кортни[117]. Палач сумел обезглавить Уайетта с одного удара, тело казнённого проволокли по улицам Лондона, а отрубленную голову выставили на шесте близ Тайберна. Через несколько дней она пропала без следа — так же, как девятью годами раньше пропала голова Томаса Мора[117].
17 апреля 1554 года состоялся суд над Николасом Трокмортоном. Обвинение против него опиралось на показания Катберта Вогана[118], защищался Трокмортон самостоятельно: уголовный процесс XVI века не допускал участия адвокатов по делам о государственной измене[119]. После десяти часов прений суд присяжных оправдал Трокмортона[120]. Присяжные, осмелившиеся воспротивиться воле королевы, были отправлены на полгода в тюрьмы, а Трокмортон остался в Тауэре[120][118]. Обвинение не сумело собрать новых доказательств против него, и 18 января 1555 года он был выпущен под залог в 2000 фунтов[118]. Процесс Трокмортона стал важной вехой в развитии британской юстиции. Уже в елизаветинские времена его материалы изучались и комментировались, в XVII веке защита Трокмортона стала образцом для новых «государственных преступников», а в XVIII—XX веках протоколы процесса неоднократно переиздавались[121].
Ни один мятежник, включая арестованного 12 февраля Кортни, не дал следователям показаний против Елизаветы. Установленные следствием эпизоды не давали повода к уголовному преследованию принцессы[122]. 16 марта 1554 года Гардинер устроил Елизавете допрос с пристрастием, но та проявила выдержку и ничего не признала[123]. 18 марта Елизавету заключили под стражу в Тауэр[123]. Ренар вновь требовал казнить Елизавету, но большинство Тайного Совета решило спасти её как единственную законную наследницу бездетной Марии[123]. К концу апреля враги Елизаветы окончательно убедились, что не имеют на руках никаких доказательств для законного суда, а незаконная расправа могла вызвать народное возмущение[123]. Режим содержания принцессы и её свиты в Тауэре смягчили, а затем Елизавету сослали в Вудсток[28]. Во дворец она вернулась лишь в апреле 1555 года, во время ложной беременности Марии[123].
Значение восстания
Историки считают, что в январе 1554 года Уайетт был близок к захвату верховной власти, как ни один другой мятежник эпохи Тюдоров[1]. Но, по мнению Флетчера и МакКаллока, значение восстания Уайетта было не в этом, а в его поражении[1]. До восстания Уайетта дворянство признавало мятеж крайним, но всё же приемлемым средством разрешения политических кризисов. Крах восстания убедил английский правящий класс в том, что время мятежей прошло[1]. Дворянская оппозиция сосредоточилась на парламентских средствах противодействия воле королевы и быстро научилась использовать парламент в своих интересах[1]. Уже при жизни Марии парламент вначале воспрепятствовал коронации Филиппа и обеспечил права Елизаветы на престолонаследие, а затем убедил Марию в невозможности реституции церковных земель[1].
По мнению Лодса, поражение Уайетта объединило оппозиционное дворянство вокруг Елизаветы. Эта оппозиция, вслед за самой Елизаветой, отказалась от радикальных действий[124]. Современник восстания, казначей Джон Харрингтон[en] сочинил эпиграмму: «Мятеж не может кончиться удачей, В противном случае его зовут иначе» (перевод С. Я. Маршака; англ. Treason doth never prosper. What's the reason? Why, if it prosper, none dare call it treason[124]). Именно представители партии умеренных и составили правительство Елизаветы, а радикалы (исключая Трокмортона) оказались на второстепенных ролях[124]. Елизавета прекрасно понимала вскрытую восстанием Уайетта угрозу со стороны дворян-парламентариев и их безземельных младших сыновей — той самой силы, что возглавила восстание Уайетта[125]. Елизавета подчинила внутреннюю политику идее примирения с дворянством, а внешние войны и колониальные захваты поглотили энергию наиболее активной его части — в том числе бывших заговорщиков Арнолда, Керью и Вогана[125].
Судьбы выживших мятежников
- Николас Арнолд[en] (1507—1580) был выпущен из Тауэра в январе 1555 года. В апреле — сентябре 1556 года он был арестован по подозрению в участии в заговоре Генри Дадли[en], но снова был освобождён. В 1560-е годы активно участвовал в колонизации Ирландии, соперничал за влияние с лордом-лейтенантом Ирландии[en] графом Сассексом[en]. После удаления из Ирландии много лет представлял в парламенте графство Глостер[126].
- Катберт Воган (1520—1563) после освобождения продолжил жизнь солдата. В 1563 году он погиб в Гавре при обороне города от католиков[127].
- Леонард Диггс[en] (около 1515—1559) лишился имущества, но сохранил жизнь. После восстания он прожил всего пять лет, его трактат «Stratioicos» был издан посмертно. Его сын Томас Диггс (1546—1595) также стал математиком и астрономом, внук Дадли Диггс[en] (1583—1639) — дипломатом, внук Леонард Диггс[en] (1588—1635) — писателем.
- Питер Керью[en] (1514—1575), эмигрировавший во Францию, несколько месяцев пытался найти финансирование для мятежа Генри Дадли[128]. Летом 1556 года Керью был арестован Пэджетом во Фландрии, вывезен в Англию и отсидел несколько месяцев в Тауэре. В 1557 году Керью участвовал в военной экспедиции во Францию[en]. В 1568 году Керью отправился в Ирландию, чтобы вернуть контроль над якобы принадлежавшими ему землями. Судебные споры быстро переросли в вооружённый конфликт с местными землевладельцами и спровоцировали первый мятеж Десмонда[en]. Правительство Елизаветы, увязшее в колонизации Ирландии, посчитало действия Керью слишком радикальными и принудило его вернуться в Англию. Вскоре после смерти Керью Джон Хукер[en] написал его подробную биографию, одну из первых английских книг этого жанра. По мнению историка эмиграции XVI века Кристин Гарретт, Керью «возможно, был самой значительной и пророческой фигурой среди всех деятелей эмиграции [времён Марии Тюдор]»[129].
- Эдвард Кортни находился под стражей сначала в Тауэре, а затем в замке Фотерингей до начала апреля 1555 года[130]. В конце апреля или начале мая 1555 года Кортни уехал в изгнание[131]. Почти полгода он провёл при дворе Карла V в Брюсселе, а с января 1556 года обосновался в Падуе[132]. Смерть Кортни 18 сентября 1556 года породила устойчивые слухи о его отравлении[133].
- Джеймс Крофт (около 1518—1590) выдержал пытки в Тауэре, но не оговорил Елизавету. Взойдя на престол, Елизавета восстановила Крофта в правах на конфискованное при Марии имущество, а сам Крофт стал клиентом елизаветинского фаворита Роберта Дадли[134]. С 1563 года до своей смерти Крофт представлял Хартфордшир в парламенте и занимал второстепенные должности в местной администрации.
- Уильям Пикеринг (1515 или 1516—1575) в феврале 1554 года бежал во Францию, где вместе с Керью готовил морскую операцию против «испанских захватчиков». В марте 1555 года он был помилован и вскоре вернулся в Англию. После коронования Елизаветы иностранные послы доносили, что неженатый Пикеринг был наиболее вероятным кандидатом в мужья Елизаветы, но сам Пикеринг публично отрицал это. Он не вернулся в большую политику и прожил остаток жизни в своих поместьях[128][135].
- Николас Трокмортон[en] (1515 или 1516—1571) в июне 1556 года бежал из страны, опасаясь преследования в связи с заговором Генри Дадли[118]. Благодаря заступничеству многочисленной родни (у Трокмортона было семь братьев[136]) в 1557 году он добился помилования и вернул конфискованные поместья. Вернувшись в Англию, Трокмортон установил контакт с Елизаветой и примкнул к протестантской партии[137]. После воцарения Елизаветы Трокмортон сделал быструю придворную карьеру, служил послом во Франции и при дворе Марии Стюарт. В 1570 году Трокмортона заподозрили в участии в Северном восстании[en], взяли под стражу, но вскоре освободили из-за его нездоровья. Он умер под следствием, но на свободе в феврале 1571 года[138][139].
Полный список выживших и эмигрировавших из страны мятежников приводится в биографическом словаре Кристин Гарретт «Эмигранты эпохи Марии» (англ. The Marian Exiles), впервые изданном в 1938 году[140].
Восстание в культуре
Первое краткое описание восстания, составленное Джоном Митчеллом, было напечатано уже в марте 1554 года в виде главки «Краткой хроники королей Англии»[141]. Полное историческое описание составил в том же году священник Джон Проктор. В январе — феврале 1554 года Проктор заведовал школой в Тонбридже, в одиннадцати милях от базы Уайетта в Мейдстоуне. «История восстания Уайетта» Проктора была издана в конце декабря 1554 года в Лондоне и переиздана в январе 1556 года. Проктор придерживался верноподданической позиции и католической веры и искал причины возмущения в ереси, которую сам Уайетт якобы скрывал от своих сообщников[142]. После двух изданий книга Проктора была надолго забыта, но в XX веке она была вновь признана важнейшим историческим источником[143].
В 1995 году вышел роман Барбары Кайл «Дочь короля» (The King’s Daughter), действие которого происходит в Лондоне во время восстания Уайетта.
В кинематографе восстание Уайетта отражено эпизодически — как развязка истории леди Джейн Грей или как завязка истории о приходе к власти Елизаветы. В фильме 1986 года «Леди Джейн» восстание показано с точки зрения семейства Генри Грея. Роль Генри Грея, отправляющегося поднимать мятеж, исполнил Патрик Стюарт. В телефильме 2005 года «Королева-девственница», начинающемся с ареста Елизаветы 18 марта 1554 года, показаны сцены пыток и казни Уайетта (в роли Томаса Уайетта — Брайан Дик[en]). В английском телеспектакле 1971 года «Елизавета R»[en], главной темой которого стала эволюция взаимоотношений Марии и Елизаветы[144], произнесённые Уайеттом слова («Боже, храни принцессу Елизавету» вместо «Боже, храни королеву Марию») стали поводом к изменению в поведении Марии[145]. По замыслу создателей спектакля, Мария и в ходе восстания, и после него сохраняла тёплые отношения к сводной сестре[145] — до того, как Уайетт под пытками оговорил Елизавету[146]. Слова Уайетта разрушили хрупкий мир в королевской семье, Мария потеряла веру в людей и погрузилась в религиозный фанатизм[145].
Напишите отзыв о статье "Восстание Уайетта"
Примечания
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Fletcher and McCulloch, 2008, p. 101.
- ↑ 1 2 Loades, 1965, pp. 76, 77.
- ↑ 1 2 3 Loades, 1965, p. 74.
- ↑ McDougall, 2006, pp. 69-70.
- ↑ McDougall, 2006, p. 71.
- ↑ Подробно см. комментарий в Cummings, B. The Book of Common Prayer: The Texts of 1549, 1559, And 1662. — Oxford University Press, 2011. — 820 p. — ISBN 9780199207176..
- ↑ Подробно см. Wood, A. The 1549 Rebellions and the Making of Early Modern England. — Cambridge University Press, 2007. — 291 p. — ISBN 9780521832069.
- ↑ Taylor, 2006, p. 61.
- ↑ Taylor, 2006, p. 72.
- ↑ Taylor, 2006, pp. 58—59.
- ↑ 1 2 Taylor, 2006, p. 59.
- ↑ 1 2 Taylor, 2006, p. 60.
- ↑ Taylor, 2006, p. 64.
- ↑ Taylor, 2006, p. 68.
- ↑ Loades, 1965, p. 10.
- ↑ 1 2 Loades, 1965, p. 12.
- ↑ Taylor, 2006, p. 70.
- ↑ 1 2 3 Loades, 2006, p. 93.
- ↑ Loades, 1965, p. 14.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Taylor, 2006, p. 75.
- ↑ 1 2 Loades, 1965, p. 15.
- ↑ Loades, 1965, p. 17: Грей примкнул к заговору «до Рождества 1553 года»..
- ↑ 1 2 Loades, 1965, p. 19.
- ↑ 1 2 3 Loades, 1965, p. 21.
- ↑ Taylor, 2006, pp. 207—208.
- ↑ 1 2 Taylor, 2006, p. 207.
- ↑ 1 2 3 4 Taylor, 2006, p. 208.
- ↑ 1 2 3 4 Loades, 2006, p. 94.
- ↑ Loades, 2006, pp. 94, 97.
- ↑ Loades, 1965, pp. 22, 23.
- ↑ 1 2 Fletcher and McCulloch, 2008, p. 100.
- ↑ 1 2 Loades, 1965, p. 78.
- ↑ 1 2 Loades, 1965, p. 86.
- ↑ 1 2 Loades, 2006, p. 95.
- ↑ Loades, 2006, p. 95. Контракт был подписан 12 января — Loades, 1965, p. 12.
- ↑ 1 2 3 Loades, 1965, p. 23.
- ↑ Froude, 1910, p. 88.
- ↑ Loades, 1965, p. 35.
- ↑ 1 2 3 Froude, 1910, p. 90.
- ↑ Loades, 1965, pp. 36, 37.
- ↑ Taylor, 2006, p. 82.
- ↑ 1 2 Loades, 1965, p. 40.
- ↑ Loades, 1965, p. 38.
- ↑ 1 2 Loades, 1965, p. 41.
- ↑ Loades, 1965, p. 43.
- ↑ 1 2 Froude, 1910, p. 92.
- ↑ Loades, 1965, pp. 27, 28.
- ↑ Loades, 1965, pp. 29, 32.
- ↑ Loades, 1965, p. 29.
- ↑ Loades, 1965, p. 31.
- ↑ Loades, 1965, p. 32.
- ↑ Loades, 2006, p. 99.
- ↑ Loades, 1965, p. 24.
- ↑ Loades, 2006, pp. 52, 53.
- ↑ Froude, 1910, p. 91.
- ↑ 1 2 Loades, 2006, p. 96.
- ↑ 1 2 Loades, 2006, p. 97.
- ↑ 1 2 3 4 5 Loades, 1965, p. 48.
- ↑ Loades, 1965, pp. 50, 51.
- ↑ Fletcher and McCulloch, 2008, p. 94.
- ↑ Loades, 1965, p. 50.
- ↑ Loades, 1965, p. 79.
- ↑ Loades, 1965, p. 78, 249.
- ↑ Loades, 1965, p. 51.
- ↑ Loades, 1965, pp. 51, 52.
- ↑ 1 2 3 Loades, 1965, p. 54.
- ↑ Loades, 1965, p. 81.
- ↑ Loades, 1965, p. 53.
- ↑ 1 2 Loades, 1965, p. 52.
- ↑ Loades, 1965, p. 77. Полный список этих приходов приведён в приложении. Карта районов вербовки мятежников приводится в Fletcher and McCulloch, pp. xxii—xxiii..
- ↑ Loades, 1965, p. 77.
- ↑ 1 2 Loades, 1965, p. 56.
- ↑ Loades, 1965, p. 57.
- ↑ 1 2 3 Froude, 1910, p. 93.
- ↑ 1 2 3 4 Loades, 1965, p. 58.
- ↑ 1 2 Loades, 1965, p. 60.
- ↑ 1 2 3 Loades, 1965, p. 68.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Loades, 1965, p. 59.
- ↑ Loades, 1965, p. 84.
- ↑ 1 2 Loades, 1965, p. 85.
- ↑ 1 2 Head, 1995, p. 240.
- ↑ 1 2 3 Head, 1995, p. 241.
- ↑ Loades, 1965, p. 62.
- ↑ 1 2 3 4 Froude, 1910, p. 96.
- ↑ Fletcher and McCulloch, 2008, pp. 96—97.
- ↑ Loades, 1965, p. 82.
- ↑ Froude, 1910, p. 97.
- ↑ Froude, 1910, p. 98.
- ↑ Loades, 1965, p. 65.
- ↑ Loades, 1965, pp. 65, 66.
- ↑ 1 2 3 Loades, 1965, p. 66.
- ↑ 1 2 Loades, 1965, p. 67.
- ↑ 1 2 Sil, 2001, p. 140.
- ↑ Loades, 1965, pp. 68, 69.
- ↑ Loades, 1965, p. 63.
- ↑ Sil, 2001, p. 141.
- ↑ 1 2 3 4 Loades, 1965, p. 69.
- ↑ Loades, 1965, pp. 63, 69.
- ↑ Loades, 1965, pp. 69, 70.
- ↑ 1 2 Loades, 1965, p. 76.
- ↑ 1 2 Loades, 1965, p. 70.
- ↑ Loades, 1965, pp. 71, 72.
- ↑ Loades, 1965, pp. 70, 71, 72.
- ↑ 1 2 3 4 5 Loades, 1965, p. 72.
- ↑ Loades, 1965, p. 71.
- ↑ Loades, 1965, p. 88.
- ↑ 1 2 3 4 5 Loades, 1965, p. 73.
- ↑ 1 2 3 4 5 Loades, 1965, p. 108.
- ↑ 1 2 3 Loades, 1965, p. 109.
- ↑ 1 2 3 Loades, 1965, p. 89.
- ↑ Loades, 1965, p. 91.
- ↑ 1 2 3 Loades, 1965, p. 90.
- ↑ 1 2 3 4 5 Loades, 1965, p. 113.
- ↑ 1 2 3 4 Fletcher and McCulloch, 2008, p. 98.
- ↑ Loades, 1965, p. 115.
- ↑ 1 2 3 Loades, 1965, p. 114.
- ↑ 1 2 3 Loades, 2006, p. 115.
- ↑ 1 2 3 4 Patterson, 1998, p. 14.
- ↑ Patterson, 1998, p. 19: адвокаты по таким делам появились в английском уголовном суде лишь в 1696 году..
- ↑ 1 2 Loades, 1965, p. 97.
- ↑ Patterson, 1998, pp. 19, 22, 24 и др..
- ↑ Loades, 2006, pp. 92, 98.
- ↑ 1 2 3 4 5 Loades, 2006, p. 103.
- ↑ 1 2 3 Loades, 2006, p. 246.
- ↑ 1 2 Loades, 2006, p. 245.
- ↑ Pollard, A. F. Arnold, Nicholas // Dictionary of National Biography, 1901 supplement. — 1901.
- ↑ Hearn, K. [www.tate.org.uk/art/artworks/eworth-portrait-of-elizabeth-roydon-lady-golding-t01569/text-summary Portrait of Elizabeth Roydon, Lady Golding]. Tate Gallery (2001). Проверено 17 июня 2012. [www.webcitation.org/6AwFymN71 Архивировано из первоисточника 25 сентября 2012].
- ↑ 1 2 Thorpe, S.M. [www.historyofparliamentonline.org/volume/1509-1558/member/pickering-sir-william-151617-75 Pickering, Sir William (1516/17-75), of London and Byland and Oswaldkirk, Yorks.] // The History of Parliament: the House of Commons 1509-1558 / ed. Bindoff, S. T.. — Secker & Warburg for the History of Parliament Trust, 1982. — ISBN 9780436042829.
- ↑ Garrett, 2010, p. 104.
- ↑ Taylor, 2006, pp. 120, 128, 129.
- ↑ Taylor, 2006, pp. 130.
- ↑ Taylor, 2006, pp. 135, 142, 160, 161.
- ↑ Taylor, 2006, pp. 208—212.
- ↑ Loades, 1965, pp. 246, 247.
- ↑ Garrett, 2010, pp. 249—250.
- ↑ Patterson, 1998, pp. 13, 15.
- ↑ Patterson, 1998, pp. 14, 15.
- ↑ Patterson, 1998, p. 15.
- ↑ Garrett, 2010, pp. 306-307.
- ↑ Garrett, 2010.
- ↑ Bryson, 2009, chapter XIX. Факсимильное издание хроники см. [books.google.ru/books?id=liBSAAAAcAAJ A breviat Chronicle containing al the Kynges from Brute to this daye].
- ↑ Bryson, 2009, chapter XIX.
- ↑ Bryson, 2009, chapter XIX: «one of the primary sources on Mary’s reign».
- ↑ Latham, 2011, p. 191.
- ↑ 1 2 3 Latham, 2011, p. 195.
- ↑ Latham, 2011, p. 197.
Источники
- Bryson, A. Chapter XIX. Order and Disorder. John Proctor's History of Wyatt's Rebellion // [books.google.ru/books?id=P1Y2haO4m-MC The Oxford Handbook of Tudor Literature:1485-1603] / ed. Mike Pincombe, Cathy Shrank. — Oxford University Press, 2009. — 864 p. — ISBN 9780191607172.
- Fletcher, A., McCulloch, D. [books.google.ru/books?id=pJF_EdtA7vwC Tudor Rebellions]. — Pearson Education, 2008. — 184 p.
- Froude, J. A. [archive.org/details/reignofmarytudor00frouuoft The reign of Mary Tudor]. — London: J. M. Dent, 1910. — 354 p.
- Garrett, C. M. [books.google.ru/books?id=mNZxec42AhEC Marian Exiles]. — Cambridge University Press, 2010. — 406 p. — ISBN 9781108011266.
- Head, D. M. [books.google.ru/books?id=1Zf-2NMMIvkC The Ebbs and Flows of Fortune: The Life of Thomas Howard, Third Duke of Norfolk]. — University of Georgia Press, 1995. — 387 p. — ISBN 9780820316833.
- Latham, B. [books.google.ru/books?id=50zStEopKDIC Elizabeth I in Film and Television: A Study of the Major Portrayals]. — McFarland, 2011. — 287 p. — ISBN 9780786437184.
- Loades, D. M. [books.google.ru/books?id=ZJNOAAAAIAAJ The Two Tudor Conspiracies]. — Cambridge University Press, 1965. — 298 p. — ISBN 9781001519326.
- Loades, D. M. [books.google.ru/books?id=l2_z__NsbkoC Elizabeth I: A Life]. — Continuum Publishing, 2006. — 410 p. — ISBN 9781852855208.
- McDougall, D. An Illustrated History of Britain. — 22nd ed.. — Longman, 2006. — 188 p. — ISBN 9780582749416.
- Miller, H. [www.historyofparliamentonline.org/volume/1509-1558/member/southwell-robert-1506-59 Southwell, Robert (c.1506-59), of London and Mereworth, Kent] // The History of Parliament: the House of Commons 1509-1558 / ed. Bindoff, S. T. — Secker & Warburg for the History of Parliament Trust, 1982b. — ISBN 9780436042829.
- Miller, H. [www.historyofparliamentonline.org/volume/1509-1558/member/wyatt-sir-thomas-ii-1521-54 Wyatt, Sir Thomas II (by 1521-54), of Allington Castle, Kent] // The History of Parliament: the House of Commons 1509-1558 / ed. Bindoff, S. T.. — Secker & Warburg for the History of Parliament Trust, 1982c. — ISBN 9780436042829.
- Patterson, А. М. [books.google.ru/books?id=JQv-F-TQ_cUC The Trial of Nicholas Throckmorton]. — Centre for Reformation and Renaissance Studies, 1998. — 108 p. — ISBN 9780969751281.
- Sil, N. P. [books.google.ru/books?id=GMLZx68bXzMC Tudor Placemen and Statesmen: Select Case Histories]. — Fairleigh Dickinson Univ Press, 2001. — 321 p. — ISBN 9780838639122.
- Taylor, J. [books.google.ru/books?id=MOLhB7C9SwkC The Shadow of the White Rose: Edward Courtenay, Earl of Devon, 1526-1556]. — Algora Publishing, 2006. — P. 207—208. — 228 p. — ISBN 9780875864747.
| Эта статья входит в число избранных статей русскоязычного раздела Википедии. |
Отрывок, характеризующий Восстание Уайетта
– Voila votre moutard. Ah, une petite, tant mieux, – сказал француз. – Au revoir, mon gros. Faut etre humain. Nous sommes tous mortels, voyez vous, [Вот ваш ребенок. А, девочка, тем лучше. До свидания, толстяк. Что ж, надо по человечеству. Все люди,] – и француз с пятном на щеке побежал назад к своим товарищам.Пьер, задыхаясь от радости, подбежал к девочке и хотел взять ее на руки. Но, увидав чужого человека, золотушно болезненная, похожая на мать, неприятная на вид девочка закричала и бросилась бежать. Пьер, однако, схватил ее и поднял на руки; она завизжала отчаянно злобным голосом и своими маленькими ручонками стала отрывать от себя руки Пьера и сопливым ртом кусать их. Пьера охватило чувство ужаса и гадливости, подобное тому, которое он испытывал при прикосновении к какому нибудь маленькому животному. Но он сделал усилие над собою, чтобы не бросить ребенка, и побежал с ним назад к большому дому. Но пройти уже нельзя было назад той же дорогой; девки Аниски уже не было, и Пьер с чувством жалости и отвращения, прижимая к себе как можно нежнее страдальчески всхлипывавшую и мокрую девочку, побежал через сад искать другого выхода.
Когда Пьер, обежав дворами и переулками, вышел назад с своей ношей к саду Грузинского, на углу Поварской, он в первую минуту не узнал того места, с которого он пошел за ребенком: так оно было загромождено народом и вытащенными из домов пожитками. Кроме русских семей с своим добром, спасавшихся здесь от пожара, тут же было и несколько французских солдат в различных одеяниях. Пьер не обратил на них внимания. Он спешил найти семейство чиновника, с тем чтобы отдать дочь матери и идти опять спасать еще кого то. Пьеру казалось, что ему что то еще многое и поскорее нужно сделать. Разгоревшись от жара и беготни, Пьер в эту минуту еще сильнее, чем прежде, испытывал то чувство молодости, оживления и решительности, которое охватило его в то время, как он побежал спасать ребенка. Девочка затихла теперь и, держась ручонками за кафтан Пьера, сидела на его руке и, как дикий зверек, оглядывалась вокруг себя. Пьер изредка поглядывал на нее и слегка улыбался. Ему казалось, что он видел что то трогательно невинное и ангельское в этом испуганном и болезненном личике.
На прежнем месте ни чиновника, ни его жены уже не было. Пьер быстрыми шагами ходил между народом, оглядывая разные лица, попадавшиеся ему. Невольно он заметил грузинское или армянское семейство, состоявшее из красивого, с восточным типом лица, очень старого человека, одетого в новый крытый тулуп и новые сапоги, старухи такого же типа и молодой женщины. Очень молодая женщина эта показалась Пьеру совершенством восточной красоты, с ее резкими, дугами очерченными черными бровями и длинным, необыкновенно нежно румяным и красивым лицом без всякого выражения. Среди раскиданных пожитков, в толпе на площади, она, в своем богатом атласном салопе и ярко лиловом платке, накрывавшем ее голову, напоминала нежное тепличное растение, выброшенное на снег. Она сидела на узлах несколько позади старухи и неподвижно большими черными продолговатыми, с длинными ресницами, глазами смотрела в землю. Видимо, она знала свою красоту и боялась за нее. Лицо это поразило Пьера, и он, в своей поспешности, проходя вдоль забора, несколько раз оглянулся на нее. Дойдя до забора и все таки не найдя тех, кого ему было нужно, Пьер остановился, оглядываясь.
Фигура Пьера с ребенком на руках теперь была еще более замечательна, чем прежде, и около него собралось несколько человек русских мужчин и женщин.
– Или потерял кого, милый человек? Сами вы из благородных, что ли? Чей ребенок то? – спрашивали у него.
Пьер отвечал, что ребенок принадлежал женщине и черном салопе, которая сидела с детьми на этом месте, и спрашивал, не знает ли кто ее и куда она перешла.
– Ведь это Анферовы должны быть, – сказал старый дьякон, обращаясь к рябой бабе. – Господи помилуй, господи помилуй, – прибавил он привычным басом.
– Где Анферовы! – сказала баба. – Анферовы еще с утра уехали. А это либо Марьи Николавны, либо Ивановы.
– Он говорит – женщина, а Марья Николавна – барыня, – сказал дворовый человек.
– Да вы знаете ее, зубы длинные, худая, – говорил Пьер.
– И есть Марья Николавна. Они ушли в сад, как тут волки то эти налетели, – сказала баба, указывая на французских солдат.
– О, господи помилуй, – прибавил опять дьякон.
– Вы пройдите вот туда то, они там. Она и есть. Все убивалась, плакала, – сказала опять баба. – Она и есть. Вот сюда то.
Но Пьер не слушал бабу. Он уже несколько секунд, не спуская глаз, смотрел на то, что делалось в нескольких шагах от него. Он смотрел на армянское семейство и двух французских солдат, подошедших к армянам. Один из этих солдат, маленький вертлявый человечек, был одет в синюю шинель, подпоясанную веревкой. На голове его был колпак, и ноги были босые. Другой, который особенно поразил Пьера, был длинный, сутуловатый, белокурый, худой человек с медлительными движениями и идиотическим выражением лица. Этот был одет в фризовый капот, в синие штаны и большие рваные ботфорты. Маленький француз, без сапог, в синей шипели, подойдя к армянам, тотчас же, сказав что то, взялся за ноги старика, и старик тотчас же поспешно стал снимать сапоги. Другой, в капоте, остановился против красавицы армянки и молча, неподвижно, держа руки в карманах, смотрел на нее.
– Возьми, возьми ребенка, – проговорил Пьер, подавая девочку и повелительно и поспешно обращаясь к бабе. – Ты отдай им, отдай! – закричал он почти на бабу, сажая закричавшую девочку на землю, и опять оглянулся на французов и на армянское семейство. Старик уже сидел босой. Маленький француз снял с него последний сапог и похлопывал сапогами один о другой. Старик, всхлипывая, говорил что то, но Пьер только мельком видел это; все внимание его было обращено на француза в капоте, который в это время, медлительно раскачиваясь, подвинулся к молодой женщине и, вынув руки из карманов, взялся за ее шею.
Красавица армянка продолжала сидеть в том же неподвижном положении, с опущенными длинными ресницами, и как будто не видала и не чувствовала того, что делал с нею солдат.
Пока Пьер пробежал те несколько шагов, которые отделяли его от французов, длинный мародер в капоте уж рвал с шеи армянки ожерелье, которое было на ней, и молодая женщина, хватаясь руками за шею, кричала пронзительным голосом.
– Laissez cette femme! [Оставьте эту женщину!] – бешеным голосом прохрипел Пьер, схватывая длинного, сутоловатого солдата за плечи и отбрасывая его. Солдат упал, приподнялся и побежал прочь. Но товарищ его, бросив сапоги, вынул тесак и грозно надвинулся на Пьера.
– Voyons, pas de betises! [Ну, ну! Не дури!] – крикнул он.
Пьер был в том восторге бешенства, в котором он ничего не помнил и в котором силы его удесятерялись. Он бросился на босого француза и, прежде чем тот успел вынуть свой тесак, уже сбил его с ног и молотил по нем кулаками. Послышался одобрительный крик окружавшей толпы, в то же время из за угла показался конный разъезд французских уланов. Уланы рысью подъехали к Пьеру и французу и окружили их. Пьер ничего не помнил из того, что было дальше. Он помнил, что он бил кого то, его били и что под конец он почувствовал, что руки его связаны, что толпа французских солдат стоит вокруг него и обыскивает его платье.
– Il a un poignard, lieutenant, [Поручик, у него кинжал,] – были первые слова, которые понял Пьер.
– Ah, une arme! [А, оружие!] – сказал офицер и обратился к босому солдату, который был взят с Пьером.
– C'est bon, vous direz tout cela au conseil de guerre, [Хорошо, хорошо, на суде все расскажешь,] – сказал офицер. И вслед за тем повернулся к Пьеру: – Parlez vous francais vous? [Говоришь ли по французски?]
Пьер оглядывался вокруг себя налившимися кровью глазами и не отвечал. Вероятно, лицо его показалось очень страшно, потому что офицер что то шепотом сказал, и еще четыре улана отделились от команды и стали по обеим сторонам Пьера.
– Parlez vous francais? – повторил ему вопрос офицер, держась вдали от него. – Faites venir l'interprete. [Позовите переводчика.] – Из за рядов выехал маленький человечек в штатском русском платье. Пьер по одеянию и говору его тотчас же узнал в нем француза одного из московских магазинов.
– Il n'a pas l'air d'un homme du peuple, [Он не похож на простолюдина,] – сказал переводчик, оглядев Пьера.
– Oh, oh! ca m'a bien l'air d'un des incendiaires, – смазал офицер. – Demandez lui ce qu'il est? [О, о! он очень похож на поджигателя. Спросите его, кто он?] – прибавил он.
– Ти кто? – спросил переводчик. – Ти должно отвечать начальство, – сказал он.
– Je ne vous dirai pas qui je suis. Je suis votre prisonnier. Emmenez moi, [Я не скажу вам, кто я. Я ваш пленный. Уводите меня,] – вдруг по французски сказал Пьер.
– Ah, Ah! – проговорил офицер, нахмурившись. – Marchons! [A! A! Ну, марш!]
Около улан собралась толпа. Ближе всех к Пьеру стояла рябая баба с девочкою; когда объезд тронулся, она подвинулась вперед.
– Куда же это ведут тебя, голубчик ты мой? – сказала она. – Девочку то, девочку то куда я дену, коли она не ихняя! – говорила баба.
– Qu'est ce qu'elle veut cette femme? [Чего ей нужно?] – спросил офицер.
Пьер был как пьяный. Восторженное состояние его еще усилилось при виде девочки, которую он спас.
– Ce qu'elle dit? – проговорил он. – Elle m'apporte ma fille que je viens de sauver des flammes, – проговорил он. – Adieu! [Чего ей нужно? Она несет дочь мою, которую я спас из огня. Прощай!] – и он, сам не зная, как вырвалась у него эта бесцельная ложь, решительным, торжественным шагом пошел между французами.
Разъезд французов был один из тех, которые были посланы по распоряжению Дюронеля по разным улицам Москвы для пресечения мародерства и в особенности для поимки поджигателей, которые, по общему, в тот день проявившемуся, мнению у французов высших чинов, были причиною пожаров. Объехав несколько улиц, разъезд забрал еще человек пять подозрительных русских, одного лавочника, двух семинаристов, мужика и дворового человека и нескольких мародеров. Но из всех подозрительных людей подозрительнее всех казался Пьер. Когда их всех привели на ночлег в большой дом на Зубовском валу, в котором была учреждена гауптвахта, то Пьера под строгим караулом поместили отдельно.
В Петербурге в это время в высших кругах, с большим жаром чем когда нибудь, шла сложная борьба партий Румянцева, французов, Марии Феодоровны, цесаревича и других, заглушаемая, как всегда, трубением придворных трутней. Но спокойная, роскошная, озабоченная только призраками, отражениями жизни, петербургская жизнь шла по старому; и из за хода этой жизни надо было делать большие усилия, чтобы сознавать опасность и то трудное положение, в котором находился русский народ. Те же были выходы, балы, тот же французский театр, те же интересы дворов, те же интересы службы и интриги. Только в самых высших кругах делались усилия для того, чтобы напоминать трудность настоящего положения. Рассказывалось шепотом о том, как противоположно одна другой поступили, в столь трудных обстоятельствах, обе императрицы. Императрица Мария Феодоровна, озабоченная благосостоянием подведомственных ей богоугодных и воспитательных учреждений, сделала распоряжение об отправке всех институтов в Казань, и вещи этих заведений уже были уложены. Императрица же Елизавета Алексеевна на вопрос о том, какие ей угодно сделать распоряжения, с свойственным ей русским патриотизмом изволила ответить, что о государственных учреждениях она не может делать распоряжений, так как это касается государя; о том же, что лично зависит от нее, она изволила сказать, что она последняя выедет из Петербурга.
У Анны Павловны 26 го августа, в самый день Бородинского сражения, был вечер, цветком которого должно было быть чтение письма преосвященного, написанного при посылке государю образа преподобного угодника Сергия. Письмо это почиталось образцом патриотического духовного красноречия. Прочесть его должен был сам князь Василий, славившийся своим искусством чтения. (Он же читывал и у императрицы.) Искусство чтения считалось в том, чтобы громко, певуче, между отчаянным завыванием и нежным ропотом переливать слова, совершенно независимо от их значения, так что совершенно случайно на одно слово попадало завывание, на другие – ропот. Чтение это, как и все вечера Анны Павловны, имело политическое значение. На этом вечере должно было быть несколько важных лиц, которых надо было устыдить за их поездки во французский театр и воодушевить к патриотическому настроению. Уже довольно много собралось народа, но Анна Павловна еще не видела в гостиной всех тех, кого нужно было, и потому, не приступая еще к чтению, заводила общие разговоры.
Новостью дня в этот день в Петербурге была болезнь графини Безуховой. Графиня несколько дней тому назад неожиданно заболела, пропустила несколько собраний, которых она была украшением, и слышно было, что она никого не принимает и что вместо знаменитых петербургских докторов, обыкновенно лечивших ее, она вверилась какому то итальянскому доктору, лечившему ее каким то новым и необыкновенным способом.
Все очень хорошо знали, что болезнь прелестной графини происходила от неудобства выходить замуж сразу за двух мужей и что лечение итальянца состояло в устранении этого неудобства; но в присутствии Анны Павловны не только никто не смел думать об этом, но как будто никто и не знал этого.
– On dit que la pauvre comtesse est tres mal. Le medecin dit que c'est l'angine pectorale. [Говорят, что бедная графиня очень плоха. Доктор сказал, что это грудная болезнь.]
– L'angine? Oh, c'est une maladie terrible! [Грудная болезнь? О, это ужасная болезнь!]
– On dit que les rivaux se sont reconcilies grace a l'angine… [Говорят, что соперники примирились благодаря этой болезни.]
Слово angine повторялось с большим удовольствием.
– Le vieux comte est touchant a ce qu'on dit. Il a pleure comme un enfant quand le medecin lui a dit que le cas etait dangereux. [Старый граф очень трогателен, говорят. Он заплакал, как дитя, когда доктор сказал, что случай опасный.]
– Oh, ce serait une perte terrible. C'est une femme ravissante. [О, это была бы большая потеря. Такая прелестная женщина.]
– Vous parlez de la pauvre comtesse, – сказала, подходя, Анна Павловна. – J'ai envoye savoir de ses nouvelles. On m'a dit qu'elle allait un peu mieux. Oh, sans doute, c'est la plus charmante femme du monde, – сказала Анна Павловна с улыбкой над своей восторженностью. – Nous appartenons a des camps differents, mais cela ne m'empeche pas de l'estimer, comme elle le merite. Elle est bien malheureuse, [Вы говорите про бедную графиню… Я посылала узнавать о ее здоровье. Мне сказали, что ей немного лучше. О, без сомнения, это прелестнейшая женщина в мире. Мы принадлежим к различным лагерям, но это не мешает мне уважать ее по ее заслугам. Она так несчастна.] – прибавила Анна Павловна.
Полагая, что этими словами Анна Павловна слегка приподнимала завесу тайны над болезнью графини, один неосторожный молодой человек позволил себе выразить удивление в том, что не призваны известные врачи, а лечит графиню шарлатан, который может дать опасные средства.
– Vos informations peuvent etre meilleures que les miennes, – вдруг ядовито напустилась Анна Павловна на неопытного молодого человека. – Mais je sais de bonne source que ce medecin est un homme tres savant et tres habile. C'est le medecin intime de la Reine d'Espagne. [Ваши известия могут быть вернее моих… но я из хороших источников знаю, что этот доктор очень ученый и искусный человек. Это лейб медик королевы испанской.] – И таким образом уничтожив молодого человека, Анна Павловна обратилась к Билибину, который в другом кружке, подобрав кожу и, видимо, сбираясь распустить ее, чтобы сказать un mot, говорил об австрийцах.
– Je trouve que c'est charmant! [Я нахожу, что это прелестно!] – говорил он про дипломатическую бумагу, при которой отосланы были в Вену австрийские знамена, взятые Витгенштейном, le heros de Petropol [героем Петрополя] (как его называли в Петербурге).
– Как, как это? – обратилась к нему Анна Павловна, возбуждая молчание для услышания mot, которое она уже знала.
И Билибин повторил следующие подлинные слова дипломатической депеши, им составленной:
– L'Empereur renvoie les drapeaux Autrichiens, – сказал Билибин, – drapeaux amis et egares qu'il a trouve hors de la route, [Император отсылает австрийские знамена, дружеские и заблудшиеся знамена, которые он нашел вне настоящей дороги.] – докончил Билибин, распуская кожу.
– Charmant, charmant, [Прелестно, прелестно,] – сказал князь Василий.
– C'est la route de Varsovie peut etre, [Это варшавская дорога, может быть.] – громко и неожиданно сказал князь Ипполит. Все оглянулись на него, не понимая того, что он хотел сказать этим. Князь Ипполит тоже с веселым удивлением оглядывался вокруг себя. Он так же, как и другие, не понимал того, что значили сказанные им слова. Он во время своей дипломатической карьеры не раз замечал, что таким образом сказанные вдруг слова оказывались очень остроумны, и он на всякий случай сказал эти слова, первые пришедшие ему на язык. «Может, выйдет очень хорошо, – думал он, – а ежели не выйдет, они там сумеют это устроить». Действительно, в то время как воцарилось неловкое молчание, вошло то недостаточно патриотическое лицо, которого ждала для обращения Анна Павловна, и она, улыбаясь и погрозив пальцем Ипполиту, пригласила князя Василия к столу, и, поднося ему две свечи и рукопись, попросила его начать. Все замолкло.
– Всемилостивейший государь император! – строго провозгласил князь Василий и оглянул публику, как будто спрашивая, не имеет ли кто сказать что нибудь против этого. Но никто ничего не сказал. – «Первопрестольный град Москва, Новый Иерусалим, приемлет Христа своего, – вдруг ударил он на слове своего, – яко мать во объятия усердных сынов своих, и сквозь возникающую мглу, провидя блистательную славу твоея державы, поет в восторге: «Осанна, благословен грядый!» – Князь Василий плачущим голосом произнес эти последние слова.
Билибин рассматривал внимательно свои ногти, и многие, видимо, робели, как бы спрашивая, в чем же они виноваты? Анна Павловна шепотом повторяла уже вперед, как старушка молитву причастия: «Пусть дерзкий и наглый Голиаф…» – прошептала она.
Князь Василий продолжал:
– «Пусть дерзкий и наглый Голиаф от пределов Франции обносит на краях России смертоносные ужасы; кроткая вера, сия праща российского Давида, сразит внезапно главу кровожаждущей его гордыни. Се образ преподобного Сергия, древнего ревнителя о благе нашего отечества, приносится вашему императорскому величеству. Болезную, что слабеющие мои силы препятствуют мне насладиться любезнейшим вашим лицезрением. Теплые воссылаю к небесам молитвы, да всесильный возвеличит род правых и исполнит во благих желания вашего величества».
– Quelle force! Quel style! [Какая сила! Какой слог!] – послышались похвалы чтецу и сочинителю. Воодушевленные этой речью, гости Анны Павловны долго еще говорили о положении отечества и делали различные предположения об исходе сражения, которое на днях должно было быть дано.
– Vous verrez, [Вы увидите.] – сказала Анна Павловна, – что завтра, в день рождения государя, мы получим известие. У меня есть хорошее предчувствие.
Предчувствие Анны Павловны действительно оправдалось. На другой день, во время молебствия во дворце по случаю дня рождения государя, князь Волконский был вызван из церкви и получил конверт от князя Кутузова. Это было донесение Кутузова, писанное в день сражения из Татариновой. Кутузов писал, что русские не отступили ни на шаг, что французы потеряли гораздо более нашего, что он доносит второпях с поля сражения, не успев еще собрать последних сведений. Стало быть, это была победа. И тотчас же, не выходя из храма, была воздана творцу благодарность за его помощь и за победу.
Предчувствие Анны Павловны оправдалось, и в городе все утро царствовало радостно праздничное настроение духа. Все признавали победу совершенною, и некоторые уже говорили о пленении самого Наполеона, о низложении его и избрании новой главы для Франции.
Вдали от дела и среди условий придворной жизни весьма трудно, чтобы события отражались во всей их полноте и силе. Невольно события общие группируются около одного какого нибудь частного случая. Так теперь главная радость придворных заключалась столько же в том, что мы победили, сколько и в том, что известие об этой победе пришлось именно в день рождения государя. Это было как удавшийся сюрприз. В известии Кутузова сказано было тоже о потерях русских, и в числе их названы Тучков, Багратион, Кутайсов. Тоже и печальная сторона события невольно в здешнем, петербургском мире сгруппировалась около одного события – смерти Кутайсова. Его все знали, государь любил его, он был молод и интересен. В этот день все встречались с словами:
– Как удивительно случилось. В самый молебен. А какая потеря Кутайсов! Ах, как жаль!
– Что я вам говорил про Кутузова? – говорил теперь князь Василий с гордостью пророка. – Я говорил всегда, что он один способен победить Наполеона.
Но на другой день не получалось известия из армии, и общий голос стал тревожен. Придворные страдали за страдания неизвестности, в которой находился государь.
– Каково положение государя! – говорили придворные и уже не превозносили, как третьего дня, а теперь осуждали Кутузова, бывшего причиной беспокойства государя. Князь Василий в этот день уже не хвастался более своим protege Кутузовым, а хранил молчание, когда речь заходила о главнокомандующем. Кроме того, к вечеру этого дня как будто все соединилось для того, чтобы повергнуть в тревогу и беспокойство петербургских жителей: присоединилась еще одна страшная новость. Графиня Елена Безухова скоропостижно умерла от этой страшной болезни, которую так приятно было выговаривать. Официально в больших обществах все говорили, что графиня Безухова умерла от страшного припадка angine pectorale [грудной ангины], но в интимных кружках рассказывали подробности о том, как le medecin intime de la Reine d'Espagne [лейб медик королевы испанской] предписал Элен небольшие дозы какого то лекарства для произведения известного действия; но как Элен, мучимая тем, что старый граф подозревал ее, и тем, что муж, которому она писала (этот несчастный развратный Пьер), не отвечал ей, вдруг приняла огромную дозу выписанного ей лекарства и умерла в мучениях, прежде чем могли подать помощь. Рассказывали, что князь Василий и старый граф взялись было за итальянца; но итальянец показал такие записки от несчастной покойницы, что его тотчас же отпустили.
Общий разговор сосредоточился около трех печальных событий: неизвестности государя, погибели Кутайсова и смерти Элен.
На третий день после донесения Кутузова в Петербург приехал помещик из Москвы, и по всему городу распространилось известие о сдаче Москвы французам. Это было ужасно! Каково было положение государя! Кутузов был изменник, и князь Василий во время visites de condoleance [визитов соболезнования] по случаю смерти его дочери, которые ему делали, говорил о прежде восхваляемом им Кутузове (ему простительно было в печали забыть то, что он говорил прежде), он говорил, что нельзя было ожидать ничего другого от слепого и развратного старика.
– Я удивляюсь только, как можно было поручить такому человеку судьбу России.
Пока известие это было еще неофициально, в нем можно было еще сомневаться, но на другой день пришло от графа Растопчина следующее донесение:
«Адъютант князя Кутузова привез мне письмо, в коем он требует от меня полицейских офицеров для сопровождения армии на Рязанскую дорогу. Он говорит, что с сожалением оставляет Москву. Государь! поступок Кутузова решает жребий столицы и Вашей империи. Россия содрогнется, узнав об уступлении города, где сосредоточивается величие России, где прах Ваших предков. Я последую за армией. Я все вывез, мне остается плакать об участи моего отечества».
Получив это донесение, государь послал с князем Волконским следующий рескрипт Кутузову:
«Князь Михаил Иларионович! С 29 августа не имею я никаких донесений от вас. Между тем от 1 го сентября получил я через Ярославль, от московского главнокомандующего, печальное известие, что вы решились с армиею оставить Москву. Вы сами можете вообразить действие, какое произвело на меня это известие, а молчание ваше усугубляет мое удивление. Я отправляю с сим генерал адъютанта князя Волконского, дабы узнать от вас о положении армии и о побудивших вас причинах к столь печальной решимости».
Девять дней после оставления Москвы в Петербург приехал посланный от Кутузова с официальным известием об оставлении Москвы. Посланный этот был француз Мишо, не знавший по русски, но quoique etranger, Busse de c?ur et d'ame, [впрочем, хотя иностранец, но русский в глубине души,] как он сам говорил про себя.
Государь тотчас же принял посланного в своем кабинете, во дворце Каменного острова. Мишо, который никогда не видал Москвы до кампании и который не знал по русски, чувствовал себя все таки растроганным, когда он явился перед notre tres gracieux souverain [нашим всемилостивейшим повелителем] (как он писал) с известием о пожаре Москвы, dont les flammes eclairaient sa route [пламя которой освещало его путь].
Хотя источник chagrin [горя] г на Мишо и должен был быть другой, чем тот, из которого вытекало горе русских людей, Мишо имел такое печальное лицо, когда он был введен в кабинет государя, что государь тотчас же спросил у него:
– M'apportez vous de tristes nouvelles, colonel? [Какие известия привезли вы мне? Дурные, полковник?]
– Bien tristes, sire, – отвечал Мишо, со вздохом опуская глаза, – l'abandon de Moscou. [Очень дурные, ваше величество, оставление Москвы.]
– Aurait on livre mon ancienne capitale sans se battre? [Неужели предали мою древнюю столицу без битвы?] – вдруг вспыхнув, быстро проговорил государь.
Мишо почтительно передал то, что ему приказано было передать от Кутузова, – именно то, что под Москвою драться не было возможности и что, так как оставался один выбор – потерять армию и Москву или одну Москву, то фельдмаршал должен был выбрать последнее.
Государь выслушал молча, не глядя на Мишо.
– L'ennemi est il en ville? [Неприятель вошел в город?] – спросил он.
– Oui, sire, et elle est en cendres a l'heure qu'il est. Je l'ai laissee toute en flammes, [Да, ваше величество, и он обращен в пожарище в настоящее время. Я оставил его в пламени.] – решительно сказал Мишо; но, взглянув на государя, Мишо ужаснулся тому, что он сделал. Государь тяжело и часто стал дышать, нижняя губа его задрожала, и прекрасные голубые глаза мгновенно увлажились слезами.
Но это продолжалось только одну минуту. Государь вдруг нахмурился, как бы осуждая самого себя за свою слабость. И, приподняв голову, твердым голосом обратился к Мишо.
– Je vois, colonel, par tout ce qui nous arrive, – сказал он, – que la providence exige de grands sacrifices de nous… Je suis pret a me soumettre a toutes ses volontes; mais dites moi, Michaud, comment avez vous laisse l'armee, en voyant ainsi, sans coup ferir abandonner mon ancienne capitale? N'avez vous pas apercu du decouragement?.. [Я вижу, полковник, по всему, что происходит, что провидение требует от нас больших жертв… Я готов покориться его воле; но скажите мне, Мишо, как оставили вы армию, покидавшую без битвы мою древнюю столицу? Не заметили ли вы в ней упадка духа?]
Увидав успокоение своего tres gracieux souverain, Мишо тоже успокоился, но на прямой существенный вопрос государя, требовавший и прямого ответа, он не успел еще приготовить ответа.
– Sire, me permettrez vous de vous parler franchement en loyal militaire? [Государь, позволите ли вы мне говорить откровенно, как подобает настоящему воину?] – сказал он, чтобы выиграть время.
– Colonel, je l'exige toujours, – сказал государь. – Ne me cachez rien, je veux savoir absolument ce qu'il en est. [Полковник, я всегда этого требую… Не скрывайте ничего, я непременно хочу знать всю истину.]
– Sire! – сказал Мишо с тонкой, чуть заметной улыбкой на губах, успев приготовить свой ответ в форме легкого и почтительного jeu de mots [игры слов]. – Sire! j'ai laisse toute l'armee depuis les chefs jusqu'au dernier soldat, sans exception, dans une crainte epouvantable, effrayante… [Государь! Я оставил всю армию, начиная с начальников и до последнего солдата, без исключения, в великом, отчаянном страхе…]
– Comment ca? – строго нахмурившись, перебил государь. – Mes Russes se laisseront ils abattre par le malheur… Jamais!.. [Как так? Мои русские могут ли пасть духом перед неудачей… Никогда!..]
Этого только и ждал Мишо для вставления своей игры слов.
– Sire, – сказал он с почтительной игривостью выражения, – ils craignent seulement que Votre Majeste par bonte de c?ur ne se laisse persuader de faire la paix. Ils brulent de combattre, – говорил уполномоченный русского народа, – et de prouver a Votre Majeste par le sacrifice de leur vie, combien ils lui sont devoues… [Государь, они боятся только того, чтобы ваше величество по доброте души своей не решились заключить мир. Они горят нетерпением снова драться и доказать вашему величеству жертвой своей жизни, насколько они вам преданы…]
– Ah! – успокоенно и с ласковым блеском глаз сказал государь, ударяя по плечу Мишо. – Vous me tranquillisez, colonel. [А! Вы меня успокоиваете, полковник.]
Государь, опустив голову, молчал несколько времени.
– Eh bien, retournez a l'armee, [Ну, так возвращайтесь к армии.] – сказал он, выпрямляясь во весь рост и с ласковым и величественным жестом обращаясь к Мишо, – et dites a nos braves, dites a tous mes bons sujets partout ou vous passerez, que quand je n'aurais plus aucun soldat, je me mettrai moi meme, a la tete de ma chere noblesse, de mes bons paysans et j'userai ainsi jusqu'a la derniere ressource de mon empire. Il m'en offre encore plus que mes ennemis ne pensent, – говорил государь, все более и более воодушевляясь. – Mais si jamais il fut ecrit dans les decrets de la divine providence, – сказал он, подняв свои прекрасные, кроткие и блестящие чувством глаза к небу, – que ma dinastie dut cesser de rogner sur le trone de mes ancetres, alors, apres avoir epuise tous les moyens qui sont en mon pouvoir, je me laisserai croitre la barbe jusqu'ici (государь показал рукой на половину груди), et j'irai manger des pommes de terre avec le dernier de mes paysans plutot, que de signer la honte de ma patrie et de ma chere nation, dont je sais apprecier les sacrifices!.. [Скажите храбрецам нашим, скажите всем моим подданным, везде, где вы проедете, что, когда у меня не будет больше ни одного солдата, я сам стану во главе моих любезных дворян и добрых мужиков и истощу таким образом последние средства моего государства. Они больше, нежели думают мои враги… Но если бы предназначено было божественным провидением, чтобы династия наша перестала царствовать на престоле моих предков, тогда, истощив все средства, которые в моих руках, я отпущу бороду до сих пор и скорее пойду есть один картофель с последним из моих крестьян, нежели решусь подписать позор моей родины и моего дорогого народа, жертвы которого я умею ценить!..] Сказав эти слова взволнованным голосом, государь вдруг повернулся, как бы желая скрыть от Мишо выступившие ему на глаза слезы, и прошел в глубь своего кабинета. Постояв там несколько мгновений, он большими шагами вернулся к Мишо и сильным жестом сжал его руку пониже локтя. Прекрасное, кроткое лицо государя раскраснелось, и глаза горели блеском решимости и гнева.
– Colonel Michaud, n'oubliez pas ce que je vous dis ici; peut etre qu'un jour nous nous le rappellerons avec plaisir… Napoleon ou moi, – сказал государь, дотрогиваясь до груди. – Nous ne pouvons plus regner ensemble. J'ai appris a le connaitre, il ne me trompera plus… [Полковник Мишо, не забудьте, что я вам сказал здесь; может быть, мы когда нибудь вспомним об этом с удовольствием… Наполеон или я… Мы больше не можем царствовать вместе. Я узнал его теперь, и он меня больше не обманет…] – И государь, нахмурившись, замолчал. Услышав эти слова, увидав выражение твердой решимости в глазах государя, Мишо – quoique etranger, mais Russe de c?ur et d'ame – почувствовал себя в эту торжественную минуту – entousiasme par tout ce qu'il venait d'entendre [хотя иностранец, но русский в глубине души… восхищенным всем тем, что он услышал] (как он говорил впоследствии), и он в следующих выражениях изобразил как свои чувства, так и чувства русского народа, которого он считал себя уполномоченным.
– Sire! – сказал он. – Votre Majeste signe dans ce moment la gloire de la nation et le salut de l'Europe! [Государь! Ваше величество подписывает в эту минуту славу народа и спасение Европы!]
Государь наклонением головы отпустил Мишо.
В то время как Россия была до половины завоевана, и жители Москвы бежали в дальние губернии, и ополченье за ополченьем поднималось на защиту отечества, невольно представляется нам, не жившим в то время, что все русские люди от мала до велика были заняты только тем, чтобы жертвовать собою, спасать отечество или плакать над его погибелью. Рассказы, описания того времени все без исключения говорят только о самопожертвовании, любви к отечеству, отчаянье, горе и геройстве русских. В действительности же это так не было. Нам кажется это так только потому, что мы видим из прошедшего один общий исторический интерес того времени и не видим всех тех личных, человеческих интересов, которые были у людей того времени. А между тем в действительности те личные интересы настоящего до такой степени значительнее общих интересов, что из за них никогда не чувствуется (вовсе не заметен даже) интерес общий. Большая часть людей того времени не обращали никакого внимания на общий ход дел, а руководились только личными интересами настоящего. И эти то люди были самыми полезными деятелями того времени.
Те же, которые пытались понять общий ход дел и с самопожертвованием и геройством хотели участвовать в нем, были самые бесполезные члены общества; они видели все навыворот, и все, что они делали для пользы, оказывалось бесполезным вздором, как полки Пьера, Мамонова, грабившие русские деревни, как корпия, щипанная барынями и никогда не доходившая до раненых, и т. п. Даже те, которые, любя поумничать и выразить свои чувства, толковали о настоящем положении России, невольно носили в речах своих отпечаток или притворства и лжи, или бесполезного осуждения и злобы на людей, обвиняемых за то, в чем никто не мог быть виноват. В исторических событиях очевиднее всего запрещение вкушения плода древа познания. Только одна бессознательная деятельность приносит плоды, и человек, играющий роль в историческом событии, никогда не понимает его значения. Ежели он пытается понять его, он поражается бесплодностью.
Значение совершавшегося тогда в России события тем незаметнее было, чем ближе было в нем участие человека. В Петербурге и губернских городах, отдаленных от Москвы, дамы и мужчины в ополченских мундирах оплакивали Россию и столицу и говорили о самопожертвовании и т. п.; но в армии, которая отступала за Москву, почти не говорили и не думали о Москве, и, глядя на ее пожарище, никто не клялся отомстить французам, а думали о следующей трети жалованья, о следующей стоянке, о Матрешке маркитантше и тому подобное…
Николай Ростов без всякой цели самопожертвования, а случайно, так как война застала его на службе, принимал близкое и продолжительное участие в защите отечества и потому без отчаяния и мрачных умозаключений смотрел на то, что совершалось тогда в России. Ежели бы у него спросили, что он думает о теперешнем положении России, он бы сказал, что ему думать нечего, что на то есть Кутузов и другие, а что он слышал, что комплектуются полки, и что, должно быть, драться еще долго будут, и что при теперешних обстоятельствах ему не мудрено года через два получить полк.
По тому, что он так смотрел на дело, он не только без сокрушения о том, что лишается участия в последней борьбе, принял известие о назначении его в командировку за ремонтом для дивизии в Воронеж, но и с величайшим удовольствием, которое он не скрывал и которое весьма хорошо понимали его товарищи.
За несколько дней до Бородинского сражения Николай получил деньги, бумаги и, послав вперед гусар, на почтовых поехал в Воронеж.
Только тот, кто испытал это, то есть пробыл несколько месяцев не переставая в атмосфере военной, боевой жизни, может понять то наслаждение, которое испытывал Николай, когда он выбрался из того района, до которого достигали войска своими фуражировками, подвозами провианта, гошпиталями; когда он, без солдат, фур, грязных следов присутствия лагеря, увидал деревни с мужиками и бабами, помещичьи дома, поля с пасущимся скотом, станционные дома с заснувшими смотрителями. Он почувствовал такую радость, как будто в первый раз все это видел. В особенности то, что долго удивляло и радовало его, – это были женщины, молодые, здоровые, за каждой из которых не было десятка ухаживающих офицеров, и женщины, которые рады и польщены были тем, что проезжий офицер шутит с ними.
В самом веселом расположении духа Николай ночью приехал в Воронеж в гостиницу, заказал себе все то, чего он долго лишен был в армии, и на другой день, чисто начисто выбрившись и надев давно не надеванную парадную форму, поехал являться к начальству.
Начальник ополчения был статский генерал, старый человек, который, видимо, забавлялся своим военным званием и чином. Он сердито (думая, что в этом военное свойство) принял Николая и значительно, как бы имея на то право и как бы обсуживая общий ход дела, одобряя и не одобряя, расспрашивал его. Николай был так весел, что ему только забавно было это.
От начальника ополчения он поехал к губернатору. Губернатор был маленький живой человечек, весьма ласковый и простой. Он указал Николаю на те заводы, в которых он мог достать лошадей, рекомендовал ему барышника в городе и помещика за двадцать верст от города, у которых были лучшие лошади, и обещал всякое содействие.
– Вы графа Ильи Андреевича сын? Моя жена очень дружна была с вашей матушкой. По четвергам у меня собираются; нынче четверг, милости прошу ко мне запросто, – сказал губернатор, отпуская его.
Прямо от губернатора Николай взял перекладную и, посадив с собою вахмистра, поскакал за двадцать верст на завод к помещику. Все в это первое время пребывания его в Воронеже было для Николая весело и легко, и все, как это бывает, когда человек сам хорошо расположен, все ладилось и спорилось.
Помещик, к которому приехал Николай, был старый кавалерист холостяк, лошадиный знаток, охотник, владетель коверной, столетней запеканки, старого венгерского и чудных лошадей.
Николай в два слова купил за шесть тысяч семнадцать жеребцов на подбор (как он говорил) для казового конца своего ремонта. Пообедав и выпив немножко лишнего венгерского, Ростов, расцеловавшись с помещиком, с которым он уже сошелся на «ты», по отвратительной дороге, в самом веселом расположении духа, поскакал назад, беспрестанно погоняя ямщика, с тем чтобы поспеть на вечер к губернатору.
Переодевшись, надушившись и облив голову холодной подои, Николай хотя несколько поздно, но с готовой фразой: vaut mieux tard que jamais, [лучше поздно, чем никогда,] явился к губернатору.
Это был не бал, и не сказано было, что будут танцевать; но все знали, что Катерина Петровна будет играть на клавикордах вальсы и экосезы и что будут танцевать, и все, рассчитывая на это, съехались по бальному.
Губернская жизнь в 1812 году была точно такая же, как и всегда, только с тою разницею, что в городе было оживленнее по случаю прибытия многих богатых семей из Москвы и что, как и во всем, что происходило в то время в России, была заметна какая то особенная размашистость – море по колено, трын трава в жизни, да еще в том, что тот пошлый разговор, который необходим между людьми и который прежде велся о погоде и об общих знакомых, теперь велся о Москве, о войске и Наполеоне.
Общество, собранное у губернатора, было лучшее общество Воронежа.
Дам было очень много, было несколько московских знакомых Николая; но мужчин не было никого, кто бы сколько нибудь мог соперничать с георгиевским кавалером, ремонтером гусаром и вместе с тем добродушным и благовоспитанным графом Ростовым. В числе мужчин был один пленный итальянец – офицер французской армии, и Николай чувствовал, что присутствие этого пленного еще более возвышало значение его – русского героя. Это был как будто трофей. Николай чувствовал это, и ему казалось, что все так же смотрели на итальянца, и Николай обласкал этого офицера с достоинством и воздержностью.
Как только вошел Николай в своей гусарской форме, распространяя вокруг себя запах духов и вина, и сам сказал и слышал несколько раз сказанные ему слова: vaut mieux tard que jamais, его обступили; все взгляды обратились на него, и он сразу почувствовал, что вступил в подобающее ему в губернии и всегда приятное, но теперь, после долгого лишения, опьянившее его удовольствием положение всеобщего любимца. Не только на станциях, постоялых дворах и в коверной помещика были льстившиеся его вниманием служанки; но здесь, на вечере губернатора, было (как показалось Николаю) неисчерпаемое количество молоденьких дам и хорошеньких девиц, которые с нетерпением только ждали того, чтобы Николай обратил на них внимание. Дамы и девицы кокетничали с ним, и старушки с первого дня уже захлопотали о том, как бы женить и остепенить этого молодца повесу гусара. В числе этих последних была сама жена губернатора, которая приняла Ростова, как близкого родственника, и называла его «Nicolas» и «ты».
Катерина Петровна действительно стала играть вальсы и экосезы, и начались танцы, в которых Николай еще более пленил своей ловкостью все губернское общество. Он удивил даже всех своей особенной, развязной манерой в танцах. Николай сам был несколько удивлен своей манерой танцевать в этот вечер. Он никогда так не танцевал в Москве и счел бы даже неприличным и mauvais genre [дурным тоном] такую слишком развязную манеру танца; но здесь он чувствовал потребность удивить их всех чем нибудь необыкновенным, чем нибудь таким, что они должны были принять за обыкновенное в столицах, но неизвестное еще им в провинции.
Во весь вечер Николай обращал больше всего внимания на голубоглазую, полную и миловидную блондинку, жену одного из губернских чиновников. С тем наивным убеждением развеселившихся молодых людей, что чужие жены сотворены для них, Ростов не отходил от этой дамы и дружески, несколько заговорщически, обращался с ее мужем, как будто они хотя и не говорили этого, но знали, как славно они сойдутся – то есть Николай с женой этого мужа. Муж, однако, казалось, не разделял этого убеждения и старался мрачно обращаться с Ростовым. Но добродушная наивность Николая была так безгранична, что иногда муж невольно поддавался веселому настроению духа Николая. К концу вечера, однако, по мере того как лицо жены становилось все румянее и оживленнее, лицо ее мужа становилось все грустнее и бледнее, как будто доля оживления была одна на обоих, и по мере того как она увеличивалась в жене, она уменьшалась в муже.
Николай, с несходящей улыбкой на лице, несколько изогнувшись на кресле, сидел, близко наклоняясь над блондинкой и говоря ей мифологические комплименты.
Переменяя бойко положение ног в натянутых рейтузах, распространяя от себя запах духов и любуясь и своей дамой, и собою, и красивыми формами своих ног под натянутыми кичкирами, Николай говорил блондинке, что он хочет здесь, в Воронеже, похитить одну даму.
– Какую же?
– Прелестную, божественную. Глаза у ней (Николай посмотрел на собеседницу) голубые, рот – кораллы, белизна… – он глядел на плечи, – стан – Дианы…
Муж подошел к ним и мрачно спросил у жены, о чем она говорит.
– А! Никита Иваныч, – сказал Николай, учтиво вставая. И, как бы желая, чтобы Никита Иваныч принял участие в его шутках, он начал и ему сообщать свое намерение похитить одну блондинку.
Муж улыбался угрюмо, жена весело. Добрая губернаторша с неодобрительным видом подошла к ним.
– Анна Игнатьевна хочет тебя видеть, Nicolas, – сказала она, таким голосом выговаривая слова: Анна Игнатьевна, что Ростову сейчас стало понятно, что Анна Игнатьевна очень важная дама. – Пойдем, Nicolas. Ведь ты позволил мне так называть тебя?
– О да, ma tante. Кто же это?
– Анна Игнатьевна Мальвинцева. Она слышала о тебе от своей племянницы, как ты спас ее… Угадаешь?..
– Мало ли я их там спасал! – сказал Николай.
– Ее племянницу, княжну Болконскую. Она здесь, в Воронеже, с теткой. Ого! как покраснел! Что, или?..
– И не думал, полноте, ma tante.
– Ну хорошо, хорошо. О! какой ты!
Губернаторша подводила его к высокой и очень толстой старухе в голубом токе, только что кончившей свою карточную партию с самыми важными лицами в городе. Это была Мальвинцева, тетка княжны Марьи по матери, богатая бездетная вдова, жившая всегда в Воронеже. Она стояла, рассчитываясь за карты, когда Ростов подошел к ней. Она строго и важно прищурилась, взглянула на него и продолжала бранить генерала, выигравшего у нее.
– Очень рада, мой милый, – сказала она, протянув ему руку. – Милости прошу ко мне.
Поговорив о княжне Марье и покойнике ее отце, которого, видимо, не любила Мальвинцева, и расспросив о том, что Николай знал о князе Андрее, который тоже, видимо, не пользовался ее милостями, важная старуха отпустила его, повторив приглашение быть у нее.
Николай обещал и опять покраснел, когда откланивался Мальвинцевой. При упоминании о княжне Марье Ростов испытывал непонятное для него самого чувство застенчивости, даже страха.
Отходя от Мальвинцевой, Ростов хотел вернуться к танцам, но маленькая губернаторша положила свою пухленькую ручку на рукав Николая и, сказав, что ей нужно поговорить с ним, повела его в диванную, из которой бывшие в ней вышли тотчас же, чтобы не мешать губернаторше.
– Знаешь, mon cher, – сказала губернаторша с серьезным выражением маленького доброго лица, – вот это тебе точно партия; хочешь, я тебя сосватаю?
– Кого, ma tante? – спросил Николай.
– Княжну сосватаю. Катерина Петровна говорит, что Лили, а по моему, нет, – княжна. Хочешь? Я уверена, твоя maman благодарить будет. Право, какая девушка, прелесть! И она совсем не так дурна.
– Совсем нет, – как бы обидевшись, сказал Николай. – Я, ma tante, как следует солдату, никуда не напрашиваюсь и ни от чего не отказываюсь, – сказал Ростов прежде, чем он успел подумать о том, что он говорит.
– Так помни же: это не шутка.
– Какая шутка!
– Да, да, – как бы сама с собою говоря, сказала губернаторша. – А вот что еще, mon cher, entre autres. Vous etes trop assidu aupres de l'autre, la blonde. [мой друг. Ты слишком ухаживаешь за той, за белокурой.] Муж уж жалок, право…
– Ах нет, мы с ним друзья, – в простоте душевной сказал Николай: ему и в голову не приходило, чтобы такое веселое для него препровождение времени могло бы быть для кого нибудь не весело.
«Что я за глупость сказал, однако, губернаторше! – вдруг за ужином вспомнилось Николаю. – Она точно сватать начнет, а Соня?..» И, прощаясь с губернаторшей, когда она, улыбаясь, еще раз сказала ему: «Ну, так помни же», – он отвел ее в сторону:
– Но вот что, по правде вам сказать, ma tante…
– Что, что, мой друг; пойдем вот тут сядем.
Николай вдруг почувствовал желание и необходимость рассказать все свои задушевные мысли (такие, которые и не рассказал бы матери, сестре, другу) этой почти чужой женщине. Николаю потом, когда он вспоминал об этом порыве ничем не вызванной, необъяснимой откровенности, которая имела, однако, для него очень важные последствия, казалось (как это и кажется всегда людям), что так, глупый стих нашел; а между тем этот порыв откровенности, вместе с другими мелкими событиями, имел для него и для всей семьи огромные последствия.
– Вот что, ma tante. Maman меня давно женить хочет на богатой, но мне мысль одна эта противна, жениться из за денег.
– О да, понимаю, – сказала губернаторша.
– Но княжна Болконская, это другое дело; во первых, я вам правду скажу, она мне очень нравится, она по сердцу мне, и потом, после того как я ее встретил в таком положении, так странно, мне часто в голову приходило что это судьба. Особенно подумайте: maman давно об этом думала, но прежде мне ее не случалось встречать, как то все так случалось: не встречались. И во время, когда Наташа была невестой ее брата, ведь тогда мне бы нельзя было думать жениться на ней. Надо же, чтобы я ее встретил именно тогда, когда Наташина свадьба расстроилась, ну и потом всё… Да, вот что. Я никому не говорил этого и не скажу. А вам только.
Губернаторша пожала его благодарно за локоть.
– Вы знаете Софи, кузину? Я люблю ее, я обещал жениться и женюсь на ней… Поэтому вы видите, что про это не может быть и речи, – нескладно и краснея говорил Николай.
– Mon cher, mon cher, как же ты судишь? Да ведь у Софи ничего нет, а ты сам говорил, что дела твоего папа очень плохи. А твоя maman? Это убьет ее, раз. Потом Софи, ежели она девушка с сердцем, какая жизнь для нее будет? Мать в отчаянии, дела расстроены… Нет, mon cher, ты и Софи должны понять это.