Восточная поэма на смерть Пушкина
| Восточная поэма на смерть Пушкина | |
| перс. مرثیهٔ شرق در وفات پوشکین | |
 Автограф поэмы[1] | |
| Жанр: | |
|---|---|
| Автор: | |
| Язык оригинала: | |
| Дата написания: | |
| Дата первой публикации: |
1837 |
| Издательство: | |
«Восточная поэма на смерть Пушкина»[2][3][4] (перс. [Marziye-ye šarq dar wafāt-e Pūškīn] مرثیهٔ شرق در وفات پوشکین; азерб. Puşkinin ölümünə Şərq poeması), известная также как «На смерть Пушкина»[5][6][7][8] — элегическая поэма[5], касыда[9] азербайджанского писателя Мирзы Фатали Ахундова (1812—1878), созданная в 1837 году, в год кончины русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, и посвящённая его гибели. Произведение написано на персидском языке в традициях классической восточной поэзии[10][11].
Это второе сохранившееся в оригинале поэтическое произведение Ахундова[12][11]. Оно является его первой опубликованной работой[13] и считается его первым значительным произведением[5].
Впервые поэма опубликована на русском языке в подстрочном переводе самого автора в 1837 году. Новый подстрочный перевод поэмы на русский составил Александр Бестужев. Стихотворный перевод поэмы на русский язык составили Александр Соколов, Георгий Строганов и Павел Антокольский. На азербайджанский язык поэму переводили такие поэты, как Бёюкага Гасымзаде, Микаил Мушфиг (с персидского) и Маариф Солтан. Также поэму переводили Иосиф Гришашвили, Ашот Граши, Заки Нури, Кадыр Мурзалиев и др.
8 февраля 1937 года касыда была прочтена на юбилейном пушкинском радиоконцерте из Москвы для Ирана и Афганистана[9]. На слова поэмы в обработке Джафара Хандана Сулейманом Алескеровым написана баллада-романс.
Содержание
Создание поэмы
 27 января (8 февраля) 1837 год произошла дуэль между русским поэтом Александром Пушкиным и Жоржем Дантесом, в ходе которой Пушкин был ранен в живот и 29 января (10 февраля) 1837 скончался (подробнее см. статью «Последняя дуэль и смерть А. С. Пушкина»).
27 января (8 февраля) 1837 год произошла дуэль между русским поэтом Александром Пушкиным и Жоржем Дантесом, в ходе которой Пушкин был ранен в живот и 29 января (10 февраля) 1837 скончался (подробнее см. статью «Последняя дуэль и смерть А. С. Пушкина»).
В то время в Российской империи кровавые поединки чести были запрещены законом, поэтому в печати причина смерти Пушкина не упоминалась (впервые печатное указание появилось в 1847 году в «Словаре достопамятных людей» Д. Н. Бантыш-Каменского). Информация о дуэли, в частности, мнение общества о событиях, которые ей предшествовали, находила выражение не в печати, где, как отмечается, господствовала официальная, правительственная версия. Главным образом эта информация выражалась в разговорах, частной переписке, поэтических откликах[14].
Гибель Пушкина глубоко поразила служившего в то время переводчиком в канцелярии кавказского наместника в Тифлисе Ахундова, вдохновив его на создание большой элегической поэмы[15]. Литературовед Микаэль Рафили утверждает[15], что к тому времени в Тифлисе знали и о стихах Михаила Лермонтова[прим. 1] «На смерть поэта», также посвящённых гибели Пушкина. Считалось, что весть о гибели поэта могла дойти до Кавказа только к концу февраля. Рафили также предполагает, что Ахундов написал свою поэму приблизительно в начале марта. Это мнение он подтверждает и тем, что автором в произведении описана картина весны[16] Версию о том, что поэмы была написана в начале марта поддерживается и ахундоведом Надиром Мамедовым[11]. Поэма Ахундова была переведена самим автором и представлена барону Г. В. Розену, бывшему в 1831—1837 годах главноуправляющим гражданской частью на Кавказе[15].
Переводы и издания
Мы получили это замечательное персидское стихотворение вместе с переводом, сделанным по-русски самим автором, от Ивана Ивановича Клементьева, пребывающего в Тифлисе. Вот несколько слов из письма, при котором прислано г. Клементьевым это стихотворение. «Вам конечно будет приятно довести до сведения публики то впечатление, которое певец Кавказа и Бахчисарая произвел на молодого поэта Востока, подающего во многих отношениях прекрасные надежды. Оригинал нарочно написан арабским шрифтом (курами), как легчайшим для чтения… Я уверен — жестокость и дикость выражения некоторых мест будут извинены достаточно духом Востока, столь противоположным европейскому; сохранить его в возможной верности было главной целью сочинителя при переводе, почти без исправления мною оставленного; и я считал необходимым удержать яркий колорит Ирана и блеск игривый сравнений, иногда более остроумных, чем верных… Неизъяснимо утешительно для сердца русского видеть благотворные следы гражданственности в той части света, где мерцает первая образованность мира, в той стране, где могучая природа расточает своё великолепие и богатство среди племен, ещё гнетомых ярмом страстей диких. И эта гражданственность, это постепенное усмирение бурных сил человека, враждебных природе, обильно изливающей дары свои, совершается русскими». Вполне разделяя чувства г. Клементьева и благодаря его искренне за доставление нам прекрасного цветка, брошенного рукою персидского поэта на могилу Пушкина, — мы от души желаем успеха замечательному таланту, тем более, что видим в нем такое сочувствие к образованности русской.[15]
Впервые поэма была опубликована на русском языке в 1837 году в «Московском телеграфе» в подстрочном переводе самого автора[9] (Ахундов подготовил прозаический перевод поэмы на русский)[13]. Перевод поэмы на русский язык был первой попыткой Ахундова в этой области[17]. Как отмечает литературовед Андрей Попов, этот авторский перевод, возможно даже без ведома автора, был послан в Москву в редакцию журнала «Московский наблюдатель» приятелем и сослуживцем М. Ф. Ахундова по канцелярии главноуправляющего в Грузии И. И. Клементьевым[18]. Так, осуществив подстрочный перевод поэмы, Ахундов показал её Клементьеву. Прочитав перевод, Клементьев пришёл в восторг, и по-видимому, сделав некоторую стилистическую правку, послал его в редакцию журнала «Московский наблюдатель», сопроводив кратким письмом[11].
Редакция журнала отнеслась с симпатией к произведению, и поэма была немедленно напечатана в XI мартовской книге журнала[прим. 2] с небольшим примечанием[11] (разрешение цензуры от 14 марта 1837 года)[15], с заметкой редакции, приветствующей поэму как дань уважения не только к Пушкину, но и русской культуре в целом[13]. Стоит отметить, что в тексте, опубликованном в «Московском наблюдателе», редакцией были внесены незначительные исправления[17]. Редакция назвала произведение «прекрасным цветком, брошенным на могилу Пушкина» и напечатала к тексту поэмы небольшое примечание[15]. Так, в примечании говорилось:

|
Вполне разделяя чувства г. Клементьева и благодаря его искренне за доставление нам прекрасного цветка, брошенного рукою персидского поэта на могилу Пушкина, — мы от души желаем успеха замечательному таланту, тем более, что видим в нем такое сочувствие к образованности русской[19]. | 
|
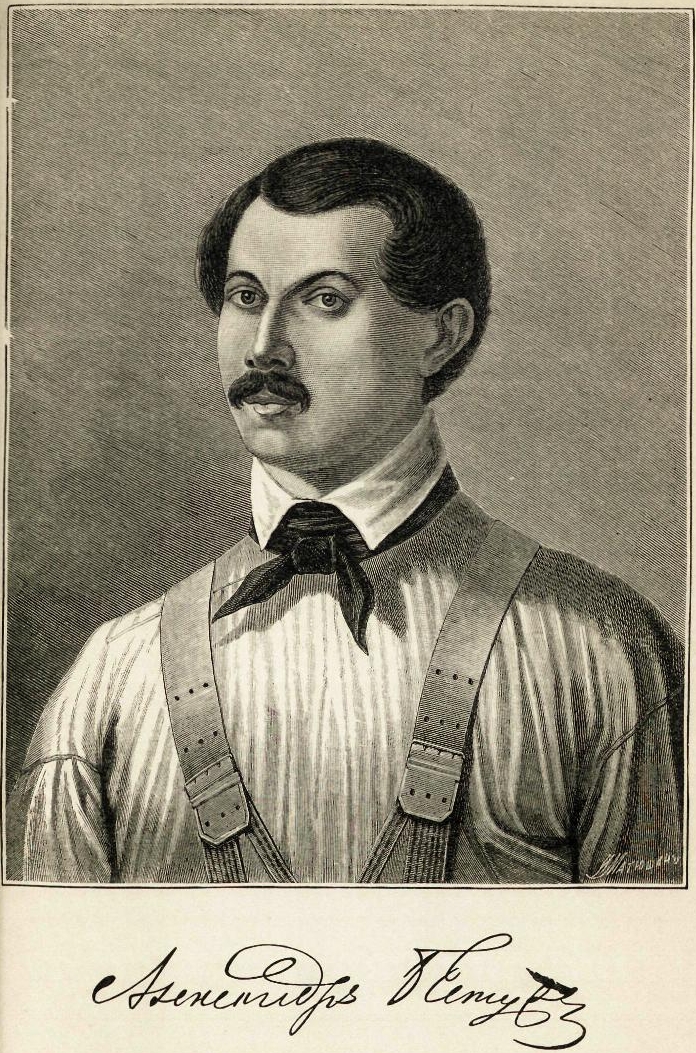 Немного позднее, в мае 1837 года, другом[13] Ахундова декабристом А. А. Бестужевым (Марлинским)[прим. 3] по предложению барона Розена был составлен поэтический[13] (по другой версии подстрочный[19]) перевод поэмы на русский язык. Этот новый вариант подстрочного перевода долгие годы оставался в архиве Ахундова[19], и лишь в 1874 году по инициативе его близкого друга известного русского востоковеда Адольфа Берже был напечатан в «Русской старине»[9][прим. 4]. Так, в 1874 году Ахундов, перед отъездом проживавшего в Тифлисе Адольфа Берже, передал ему сделанный Бестужевым перевод его поэмы. В том же году этот перевод был опубликован в «Русской старине» с небольшим предисловием Адольфа Берже[15], в котором, в частности, говорилось, что:
Немного позднее, в мае 1837 года, другом[13] Ахундова декабристом А. А. Бестужевым (Марлинским)[прим. 3] по предложению барона Розена был составлен поэтический[13] (по другой версии подстрочный[19]) перевод поэмы на русский язык. Этот новый вариант подстрочного перевода долгие годы оставался в архиве Ахундова[19], и лишь в 1874 году по инициативе его близкого друга известного русского востоковеда Адольфа Берже был напечатан в «Русской старине»[9][прим. 4]. Так, в 1874 году Ахундов, перед отъездом проживавшего в Тифлисе Адольфа Берже, передал ему сделанный Бестужевым перевод его поэмы. В том же году этот перевод был опубликован в «Русской старине» с небольшим предисловием Адольфа Берже[15], в котором, в частности, говорилось, что:

|
…кончина незабвенного Пушкина потрясла своею неожиданностью не только одну внутреннюю Россию, но произвела глубокое впечатление даже среди мусульманского населения, в одной из дальних окраин нашего обширного отечества[20] Ад. Берже
|

|
В «Русской старине» Берже рассказал историю создания нового варианта подстрочного периода поэмы. Это произошло в апреле 1837 года, когда выяснилось, что Бесстужев не знаком со стихотворением Мирзы Фет-Али, и по просьбе главноуправляющего Кавказа барона Розена он согласился, вместе с присутствующим при разговоре автором, переложить поэму на русский язык[19]. Этот перевод, ходивший по рукам в рукописном виде, получил известность в Закавказье. Микаэль Рафили выявил ряд стилистических поправок, внесённых Бестужевым в авторский текст, которые однако не изменили смысл, образы и содержание произведения. Этот перевод стал последним произведением Бестужева, убитого через три дня у мыса Адлера[15]. Впоследствии новый перевод был опубликован в газете «Кавказ» (1874, 22 ноября 1874, № 137)[19] и неоднократно публиковался в дореволюционной русской периодической печати. Особенно широкое распространение он получил в годы Советской власти[19][прим. 5] .
 Позже поэма Ахундова издавалась не раз. В 1871 году — в газете «Кавказ». В 1880 году в связи с открытием памятника Пушкину в Москве «Петербургский листок» опубликовал поэму в переводе Александра Соколова, сделанном белым стихом[21] (этот перевод считается первым стихотворным переводом поэмы на русский язык)[19]. В 1899 году, в связи со столетием со дня рождения Пушкина, газета «Кавказ» повторно напечатала поэму в новом переводе Бестужева, сообщив читателям[22]: «Когда до нашего края долетела роковая весть о трагической кончине гениального русского поэта, Фат-Али в звучных стихах излил свою скорбь»[23]. Произведение было также напечатано в «Иллюстрированном прибавлении» к газете «Тифлисский листок», в «Пушкиниане» В. В. Каллаша. Однако попыток вновь перевести её не было[24].
Позже поэма Ахундова издавалась не раз. В 1871 году — в газете «Кавказ». В 1880 году в связи с открытием памятника Пушкину в Москве «Петербургский листок» опубликовал поэму в переводе Александра Соколова, сделанном белым стихом[21] (этот перевод считается первым стихотворным переводом поэмы на русский язык)[19]. В 1899 году, в связи со столетием со дня рождения Пушкина, газета «Кавказ» повторно напечатала поэму в новом переводе Бестужева, сообщив читателям[22]: «Когда до нашего края долетела роковая весть о трагической кончине гениального русского поэта, Фат-Али в звучных стихах излил свою скорбь»[23]. Произведение было также напечатано в «Иллюстрированном прибавлении» к газете «Тифлисский листок», в «Пушкиниане» В. В. Каллаша. Однако попыток вновь перевести её не было[24].
В советское время «Восточная поэма» была переведена на многие языки народов СССР — русский, украинский, белорусский, узбекский, грузинский, латышский, татарский, якутский и др.[24] Грузинский перевод поэмы, сделанный Иосифом Гришашвили с русского текста А. А. Бестужева, был напечатан в № 5 журнала «Дроша» (Знамя) за 1932 год[25].
В годы Советской власти стихотворный перевод поэмы был осуществлён поэтами Георгием Строгановым (журнал «Литературный Азербайджан», 1938, № 2, с. 40-41 и газета «Бакинский рабочий», 1938, 24 октября , № 247) и Павлом Антокольским[19]. На русском языке особую популярность получил перевод Павла Антокольского, опубликованный в первоначальном варианте впервые в «Антологии азербайджанской поэзии» в 1939 году. В дальнейшем Антокольский не раз возвращался к своему переводу, основательно его перерабатывая и совершенствуя: последний вариант этого перевода вошёл в избранное М. Ф. Ахундова «Обманутые звёзды», изданное в 1963 году в Москве государственным издательством «Художественная литература». В 1982 году в Баку вышло отдельное издание поэмы в переводе Антокольского[26]. Во всех русских изданиях сборников художественных произведений Ахундова, выпущенных в 1950, 1956, 1963, 1973 и 1987 годах, публиковался стихотворный перевод Павла Антокольского[19].
Поэму переводили также И. Гончаренко, Ашот Граши, Заки Нури, К. Мурзалиев[24].
На азербайджанский язык поэму переводили такие поэты, как Бёюкага Гасымзаде, Микаил Мушфиг (с персидского) и Маариф Солтан[27]. Отмечается, что Микаил Мушфиг «сохранил стиль и слог поэмы, передал думы и чаяния М. Ф. Ахундова, при этом мастерски использовал звуковое и смысловое богатство родного языка»[24]. В обработке Джафара Хандана строки поэмы звучат в Балладе-романсе (музыка Сулеймана Алескерова)[24].
(перевод П. Г. Антокольского)
…Вся русская земля рыдает в скорбной муке,—
Он лютым палачом безжалостно убит.
Он правдой не спасен — заветным талисманом —
От кривды колдовской, от козней и обид.
Он в дальний путь ушел и всех друзей покинул.
Будь милосерд к нему, Аллах! Он крепко спит.
Пусть вечно плачущий фонтан Бахчисарая
Благоуханьем слез две розы окропит.
Пусть в бейтах Сабухи Кавказ сереброкудрый
Справляет траур свой, о Пушкине скорбит![7]
Оригинал поэмы
Адольф Берже, а также Владимир Каллаш в своей книге «Пушкиниана» («Puschkiniana») утверждали, что оригинал поэмы утерян и не сохранился. Так, в предисловии к опубликованной в «Русской старине» поэме Берже также пишет, что «оригинал поэмы утрачен». И действительно, поэма Ахундова была известна только по русскому переводу. Считалось, что поэма сохранилась в отрывках у известного собирателя азербайджанских рукописей и историка тюркской литературы Салмана Мумтаза. До 1936 года предполагалось, что оригинал поэмы всё же не утерян и находится в архиве «Московского наблюдателя». В подтверждение этому приводили тот факт, что незадолго до того в материалах Института мировой литературы была обнаружена рукопись, оказавшаяся подлинником перевода поэмы с комментариями самого автора. Этот перевод был послан в «Московский наблюдатель» вместе с оригиналом[15].
Поиски подлинника поэмы считались делом бесцельным и малонадёжным. Документа не оказалось и в архиве Ахундова, который в 1928 году был приобретён Азербайджанским правительством у наследников писателя. Этот архив хранился в Тбилиси. Тем не менее текст произведения, написанный рукой самого автора, удалось найти, при разборе ряда бумаг и рукописей Ахундова, которые не вошли в упомянутый выше архив и хранились у внука Ахундова[28].
Поэма написана в форме касыды на персидском языке, состоит из пятидесяти бейтов (двустиший), и содержит единственную рифму на «ар». Все рифмуемые строки состоят из четырнадцати слогов.[29]. Рукопись сохранилась очень хорошо и, как отмечается, читается свободно. Обнаруженный подлинник поэмы был предоставлен на хранение в Институт истории, языка и литературы Азербайджанского филиала Академии наук СССР. Его фотокопия была опубликована в газете «Бакинский рабочий» от 18 ноября 1936 года[5] № 267 (5066), а также в других бакинских органах печати[28].
Анализ произведения
 Критик Яшар Караев и философ Фуад Касимзаде отмечают, что это произведение является первым произведением на Востоке, посвящённым русской литературе[30]. Ещё Самед Вургун писал: «Мы гордимся тем, что значение Пушкина в мировой поэзии впервые на Востоке было понято и любовно воспето великим Мирза Фатали. Мы ему за это вечно благодарны»[24].
Критик Яшар Караев и философ Фуад Касимзаде отмечают, что это произведение является первым произведением на Востоке, посвящённым русской литературе[30]. Ещё Самед Вургун писал: «Мы гордимся тем, что значение Пушкина в мировой поэзии впервые на Востоке было понято и любовно воспето великим Мирза Фатали. Мы ему за это вечно благодарны»[24].
Анализируя стихотворение Сейфулла Асадуллаев отмечает, что в первой его части, согласно восточной поэтической традиции, преобладают поэтические символы и образы, а во второй, большей по объёму части, элементы жанра поэтической критики[22].
Оценки и наблюдения автора в поэме, по мнению Асадуллаева, свидетельствуют о том, что Ахундов хорошо знал творчество Пушкина и был осведомлён о его славе[22]. Так, Ахундов даёт свою оценку творчества поэта, называет его «главой собора поэтов», подчёркивает его мировую известность — «распространилась слава его гения по Европе…», говорит «о том Пушкине, которому стократно гремела хвала со всех концов, когда он игриво изливал свои мечтания»[прим. 6]. В элегии упоминаются такие произведения Пушкина, как «Кавказ», «Талисман», «Бахчисарайский фонтан»[9].
 Автор, как отмечает Асадуллаев, характеризуя заслуги и место писателей допушкинской поры в развитии русской литературы, прибегает к приёмам контраста и сравнения. Сейфулла Асадуллаев считает, что это позволяет Ахундову рельефно выделить место и значение Пушкина в истории русской литературы. При этом Ахундов не противопоставляет Пушкина его предшественникам, а видит в нём их преемника, продолжающего и завершающего начатое ими дело обновления русской литературы[22]:
Автор, как отмечает Асадуллаев, характеризуя заслуги и место писателей допушкинской поры в развитии русской литературы, прибегает к приёмам контраста и сравнения. Сейфулла Асадуллаев считает, что это позволяет Ахундову рельефно выделить место и значение Пушкина в истории русской литературы. При этом Ахундов не противопоставляет Пушкина его предшественникам, а видит в нём их преемника, продолжающего и завершающего начатое ими дело обновления русской литературы[22]:

|
…Ломоносов красою гения украшал обитель поэзии, но его мечта в ней утвердилась. Хотя Державин завоевал Державу литературы, но для укрепления и устройства её избран он. Карамзин наполнил чашу вином знания, он выпил вино сей наполненной чаши…[17] Перевод М. Ф. Ахундова
|

|
Литературовед Микаэль Рафили отмечал, что в поэме чувствуется глубокая и искренняя скорбь Ахундова о смерти Пушкина, что автор относится к творчеству поэта с уважением и любовью. Рафили, сравнивая поэму Ахундова со стихотворением Лермонтова «На смерть поэта», пишет, что у Ахундова — больше элегичности, больше поэтической грусти, больше лирики, пробуждающей у читателя любовь и симпатии к Пушкину. Если Лермонтов в выражении своей ненависти и печали прибегает к сильным, бичующим, гневным словам, то Ахундов достигает художественного эффекта лиричностью поэмы, живописностью и мягкостью красок, образами природы (характерной особенностью восточной поэзии). «Восточную поэму» и произведение Лермонтова Рафили называет лучшими поэтическими памятниками на смерть Пушкина, которые оставили его современники[15].
Литературовед Надир Мамедов характеризует поэтическую форму поэмы отчётливо выраженным восточным романтическим духом, сравнениями, метафорами и эпитетами, которые присущи восточной классической поэзии, а также яркостью и причудливостью орнаментации стиха. По его мнению, художественная форма и структура произведения «вполне традиционны и ничего новаторского в себе не несут». Мамедов отмечает, что художественная сила и ценность поэмы «заключены прежде всего в новизне и действенности её материала, глубине чувства, эмоциональности содержания»[10].
Напишите отзыв о статье "Восточная поэма на смерть Пушкина"
Примечания
- ↑ Будучи в 1837 году в Тифлисе, Лермонтов принялся учить азербайджанский («татарский», по тогдашней терминологии) язык, с которым его знакомил сам Ахундов. См. В. В. Трепавлов. Русские в Евразии XVII-XIX веков. — Институт российской истории РАН, 2008. — С. 382. — 477 с. См. также [lermontov.niv.ru/lermontov/pisma/pismo-42.htm письмо Лермонтова Раевскому] (вторая половина ноября — начало декабря 1837 г. Из Тифлиса в Петрозаводск)
- ↑ «Московский наблюдатель», 1837, ч. XI, кн. II (март), с. 297—304.
- ↑ Бестужев обучал Ахундова русской литературе в обмен на уроки азербайджанского.
- ↑ «Русская старина», 1874, кн. XI, сентябрь, стр. 76—79.
- ↑ исключая опубликованный в журнале «Литературное Закавказье» (Тифлис, 1933, № 1) вариант, который является неточным и сокращённым текстом перевода Бестужева
- ↑ Текст приводится в переводе самого М. Ф. Ахундова.
Источники
- ↑ Ахундов / Под ред. Дж. Кулиева. — Азербайджанская советская энциклопедия: Главная редакция Азербайджанской советской энциклопедии, 1976. — Т. I. — С. 498.
- ↑ Л. А. Серяков. Русские дѣятели в портретах. — Санкт-Петербург: Тип. В. С. Балашева, 1882. — С. 122. — 131 с.
- ↑ «Русская старина», 1874, кн. XI, сентябрь, стр. 76—79
- ↑ З. М. Уметбаев. К вопросу о диалектике национального и интернационального в преподавании литературы. — Лики творчества: воспоминания о будущем : сб. науч. ст.: Издательство МаГУ, 2008. — С. 109. Оригинальный текст (рус.)
Так, синхронное рассмотрение на одном из уроков в 9 классе произведений М.Ю. Лермонтова «Смерть поэта» и М.Ф. Ахундова «Восточная поэма на смерть Пушкина» позволяет организовать, с одной стороны, внеклассное занятие по теме «М.Ю. Лермонтов и поэзия народов ближнего зарубежья», а с другой, - факультативное занятие по переводам произведений Н.Ф. Ахундова на русский язык.
- ↑ 1 2 3 4 Аз. Шариф. [feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/ke1/ke1-3752.htm Ахундов] // 8 / Под ред. А. А. Суркова. — Краткая литературная энциклопедия: Советская энциклопедия, 1962. — Т. I. — С. 364.
- ↑ Ахундов, 1987, с. 191.
- ↑ 1 2 П. Г. Антокольский. О Пушкине. — Москва: Советский писатель, 1960. — С. 109—113. — 133 с.
- ↑ Ахундов // Ангола — Барзас. — М. : Советская энциклопедия, 1970. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 2).</span>
- ↑ 1 2 3 4 5 Канд. филол. наук А. 3. Розенфельд. [lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=GULutzBnaYo%3D&tabid=10396 А. С. Пушкин в персидских переводах]. — Вестник Ленинградского университета, 1949. — № 6. — С. 83.
- ↑ 1 2 Н. Мамедов. Реализм М.Ф. Ахундова. — Баку: Маариф, 1982. — С. 68. — 286 с. Оригинальный текст (рус.)
Как и упомянутое выше первое стихотворение М. Ф. Ахундова, «Восточная поэма на смерть Пушкина» написана на персидском языке и в традициях классической восточной поэзии. Поэтическая форма произведения характеризуется отчетливо выраженным восточным романтическим духом, сравнениями, метафорами и эпитетами, присущими восточной классической поэзии, яркостью и причудливостью орнаментации стиха. Художественная форма и структура «Восточной поэмы на смерть Пушкина» вполне традиционны и ничего новаторского в себе не несут. Вся художественная сила и ценность поэмы М. Ф. Ахундова заключены прежде всего в новизне и действенности её материала, глубине чувства, эмоциональности содержания…
- ↑ 1 2 3 4 5 Ахундов, 1987, с. 278.
- ↑ Н. Дж. Мамедов. М. Ф. Ахундов (К 175-летию со дня рождения). — Советская тюркология: Коммунист, 1989. — № 1. — С. 42—53. Оригинальный текст (рус.)
Второе дошедшее до нас в оригинале поэтическое произведение М. Ф. Ахундова — «Восточная поэма на смерть Пушкина». Весть о трагической гибели А. С. Пушкина глубоко потрясла молодого азербайджанского поэта. Его поэма проникнута горячей любовью к великому русскому поэту. Гневно заклеймив убийц Пушкина, он горько оплакивает его безвременную кончину.
- ↑ 1 2 3 4 5 H. Algar. [www.iranicaonline.org/articles/akundzada-playwright Āḵūndzāda] (англ.). — Encyclopædia Iranica, 1984. — Vol. I. — P. 735—740.
- ↑ Андомирская В. Б., Антоненкова А. П. 125-летие со дня гибели А. С. Пушкина // Известия Академии наук СССР. — Наука, 1962. — Т. 21. — С. 283. Оригинальный текст (рус.)
…Мнение общества о событиях, предшествовавших дуэли, находило выражение не в печати, где господствовала официальная, правительственная версия, но главным образом в разговорах, частной переписке, поэтических откликах…
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 М. Рафили. [feb-web.ru/feb/pushkin/serial/v36/v36-240-.htm Пушкин и Мирза-Фатали Ахундов.]. — «Пушкинский временник»: Издательство Академии наук СССР, 1936. — С. 240—256.
- ↑ М. Г. Рафили. Ахундов / Под общей редакцией Дж. Джафарова. — 2-е. — М.: «Молодая гвардия», 1959. — 192 с. — (Жизнь замечательных людей). — 25 000 экз.
- ↑ 1 2 3 Шихали Курбанов. А. С. Пушкин и Азербайджан. — Азербайджанское издательство детской литературы, 1959. — С. 108. Оригинальный текст (рус.)
Как видно из сравнения, в тексте, опубликованном в «Московском наблюдателе», редакцией внесены лишь незначительные исправления. Перевод поэмы на русский язык, сделанный самим М. Ф. Ахундовым, был первой попыткой молодого азербайджанского поэта в этой области. И, надо отметить, попыткой вполне удачной. Публикация этого перевода на страницах русской печати явилась событием, заслуживающим внимания.
- ↑ А. В. Попов. Лермонтов на Кавказе. — Ставропольское книжное издательство, 1954. — С. 85. — 219 с. Оригинальный текст (рус.)
Этот авторский перевод восточной поэмы «На смерть Пушкина» приятелем и сослуживцем М. Ф. Ахундова по канцелярии главноуправляющего в Грузии И. И. Клементьевым, возможно даже без ведома автора, был послан в Москву и напечатан в мартовской книжке журнала «Московский Наблюдатель» за 1837 год.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ахундов, 1987, с. 279.
- ↑ «Русская старина», 1874, кн. XI, стр. 77
- ↑ А. А. Шариф. Из истории публикаций поэмы М.-Ф. Ахундова «На смерть Пушкина» // Пушкин в странах зарубежного Востока : Сборник статей. — Наука, 1979. — С. 224. Оригинальный текст (рус.)
Еще через несколько лет, в 1880 г., в связи с открытием памятника Пушкину в Москве «Петербургский листок» поместил поэму Ахундова в переводе А. Соколова, сделанном белым стихом.
- ↑ 1 2 3 4 С. Г. Асадуллаев. Из истории восприятия и оценки творчества Пушкина в Азербайджане. — Пушкин и литература народов Советского Союза: Издательство Ереванского университета, 1975. — С. 331—332. Оригинальный текст (рус.)
Это был молодой М. Ф. Ахундов, который сразу откликнулся на трагическую гибель Пушкина и создал в 1837 году вслед за лермонтовским стихотворением «Смерть поэта» свою известную «Восточную поэму на смерть Пушкина», написанную, что называется, кровью сердца.
В 1899 году, в связи со столетием со дня рождения Пушкина, газета «Кавказ», издававшаяся в Тифлисе, повторно печатая поэму М. Ф. Ахундова в новом переводе на русский язык, сообщала читателям: «Когда до нашего края долетела роковая весть о трагической кончине гениального русского поэта, Фат-Али в звучных стихах излил свою скорбь». «Восточная поэма на смерть Пушкина» — произведение поэтическое, и может показаться, что к нашей теме отношения не имеет. Однако при внимательном прочтении этого произведения легко убедиться в том, что поэтическая образная жизнь органически сочетается в нем с критической мыслью, постоянно сопровождается критическими оценками. Если первая часть поэмы выдержана в стиле восточной поэтической традиции, насыщена поэтическими символами и образами, то во второй части её преобладают критические оценки и определения, критическая мысль превалирует над поэтической мыслью. Точнее сказать, вторая часть заключает в себе черты жанра поэтической критики.
В поэтических образах и сравнениях поэмы Ахундов высказывает свою точку зрення на творчество Пушкина, весьма четкую концепцию места и роли великого поэта в истории русской поэзии. Оценки и наблюдения автора поэмы свидетельствуют о том, что он хорошо знал творчество Пушкина, был осведомлен о его громкой славе. Говоря «о Пушкине, которому стократно гремела хвала со всех концов, когда он игриво изливал свои мечтания», Ахундов дает свою оценку творчества поэта, называет его «главой собора поэтов», подчёркивает его мировую известность — «распространилась слава его гения по Европе…». В поэме содержится стройная концепция развития русской литературы от Ломоносова до Пушкина. Причем, характеризуя заслуги и место выдающихся писателей допушкинской поры в развитии русской литературы, автор прибегает к приемам контраста и сравнения, позволяющим ему рельефно выделить и определить место и значение Пушкина в истории русской литературы. Разумеется, Ахундов не противопоставляет поэта его предшественникам, а видит в нем их преемника, продолжающего и завершающего начатое ими дело обновления русской литературы
Ломоносов красою гения украшал
обитель поэзии, но его мечта в ней
утвердилась.
Хотя Державин завоевал державу
литературы, но для укрепления и
устройства её избран он (Пушкин).
Карамзин наполнил чашу вином знания,
он выпил вино сей наполненной чаши
Ломоносов, Державин, Карамзин — три крупные фигуры, с именем каждого из них связано начало новой тенденции, нового направления в развитии допушкинской русской литературы. Но все эти начинання, направления и тенденции сошлись и объединились в творчестве Пушкина в единое реалистическое направление, обозначившее новый этап в развитии русской литературы. Такова ахундовская концепция русской литературы XVIII и первой трети XIX века, которая почти совпадает с концепцией развития русской литературы указанного периода, выдвинутой позднее В. Г. Белинским… - ↑ Газета «Кавказ», 26 мая 1899 (цитата по книге Шихали Курбанова «Пушкин, и Азербайджан», Баку, 1959, с. 121)
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Диляра Шарифова. «Рукою вдохновенного поэта» // Литературный Азербайджан. — Издательство Союза советских писателей Азербайджана, 1987. — № августовский. — С. 119. Оригинальный текст (рус.)
Поэма Ахундова не была забыта и не раз издавалась — в газете «Кавказ» в 1871 и 1899 годах, была напечатана в «Иллюстрированном прибавлении» к газете «Тифлисский листок», в «Пушкиниане» В. Каллаш, хотя попыток вновь перевести её не было. В советское время ахундовская поэма была переведена на многие языки народов СССР — русский, украинский, белорусский, узбекский, грузинский, латышский, татарский, якутский и др. Такие переводчики, как П. Антокольский, И. Гончаренко, Ашот Граши, Заки Нури, К. Мурзалиев, по-своему сохраняли в своих переводах красоту и обаяние «Восточной поэмы».
Поэма переведена и на азербайджанский язык. Перевод с фарси был осуществлен Микаилом Мушфиком, который со всей силой чувств, сохранив стиль и слог поэмы, передал думы и чаяния М. Ф. Ахундова, при этом мастерски использовал звуковое и смысловое богатство родного языка. В обработке Джафара Хандана строки Ахундова звучат в Балладе-романсе (музыка Сулеймана Алескерова).
Значение «Восточной поэмы» непреходяще. Читая её, мы как бы прикасаемся к неиссякаемому источнику возвышенного чувства любви к великому Пушкину. «Мы гордимся тем, — писал Самед Вургун, — что значение Пушкина в мировой поэзии впервые на Востоке было понято и любовно воспето великим Мирза Фатали. Мы ему за это вечно благодарны». - ↑ Азиз Шариф. Прекрасный цветок на могилу Пушкина // Литературный Азербайджан. — Издательство Союза советских писателей Азербайджана, 1977. — С. 127. Оригинальный текст (рус.)
Первым после торжества Октябрьской революции вспомнил о поэме Мирзы Фатали Ахундова на смерть Пушкина грузинский поэт и ученый Иосиф Гришашвили, который поместил в № 5 грузинского журнала «Дроша» («Знамя») за 1932 год свой перевод бестужевского текста поэмы на грузинский язык, а в следующем году сообщил о публикации Адольфа Берже в № 1 журнала «Литературное Закавказье» за 1933 год…
- ↑ П. Г. Антокольский. Восточная поэма на смерть А. С. Пушкина. [Пер. П. Антокольского] / Мирза Фатали Ахундов; [Худож. Н. Бабаев]. — Баку: Язычы, 1982. — 22 с.
- ↑ Leyla Məmmədova. [www.azyb.net/cgi-bin/jurn/main.cgi?id=2486 Rəsul Rzanın M. F. Axundzadənin ədəbi irsinə münasibəti] (азерб.) // журнал «Azərbaycan».
- ↑ 1 2 М. Ф. Ахундов. Сочинения / Вступительная статья, редакция и комментарии Азиза Шарифа. — Заря Востока, 1938. — С. 362. — 365 с. Оригинальный текст (рус.)
Однако, при разборе некоторых бумаг и рукописей М.-Ф. Ахундова, не вошедших в приобретенный правительством ССР Азербайджана архив и хранившихся в Тбилиси, у внука писателя, мы обнаружили текст этой поэмы, написанный рукой самого М.-Ф. Ахундова, что не оставляет никаких сомнений в его подлиности.
Поэма написана на четырех страницах большого развернутого листа. Она написана на фарсидском языке и состоит из пятидесяти двустиший, рифмующихся от начала до конца одной рифмой. Рукопись сохранилась очень хорошо и читается свободно.
При сличении подлинника поэмы с русским переводом А. А. Бестужева (Марлинского) оказалось, что этот перевод сделан весьма близко к подлиннику, поэтому мы и решили оставить в настоящем собрании сочинений М.-Ф. Ахундова именно этот прозаический перевод, хотя за последние месяцы сделаны более или менее удачные попытки стихотворного перевода этой поэмы на русский язык.
Обнаруженный нами подлинник поэмы М.-Ф. Ахундова «На смерть А. С. Пушкина», хранящийся ныне в Институте истории, языка и литературы Азербайджанского филиала Академии наук Союза ССР, был опубликован в снимке в газете «Бакинский рабочий» от 18 ноября 1936 г. № 267 (5066), а также в других органах печати в Баку… - ↑ Азиз Шариф. Прекрасный цветок на могилу Пушкина. // Литературный Азербайджан. — Издательство Союза советских писателей Азербайджана, 1977. — С. 128. Оригинальный текст (рус.)
Поэма на смерть Пушкина состоит из пятидесяти бейтов (двустиший) и написана в форме касиды: рифмуется она от начала до конца одной рифмой на «ар», которая заключает первую и все последующие четные строки поэмы, состоящие из четырнадцати слогов.
- ↑ Я. Караев, Ф. Касимзаде. [feb-web.ru/feb/ivl/vl7/vl7-2152.htm Азербайджанская литература]. — История всемирной литературы в девяти томах: Наука, 1991. — Т. 7. — С. 216. Оригинальный текст (рус.)
«Восточная поэма» (1837), которой двадцатипятилетний Ахундов отозвался на смерть Пушкина, факт знаменательный. Впервые Восток обратился к сокровищнице русской литературы с таким глубоким пониманием и проникновением, впервые скорбь о русском поэте стала предметом восточного художественного произведения и прозвучала как клятва любви и духовной верности одновременно с такой же клятвой двадцатитрехлетнего Лермонтова…
</ol>
Ссылки и литература
| |
Восточная поэма на смерть Пушкина в Викитеке? |
|---|
- М. Ф. Ахундов. Избранные произведения / Подготовка к печати, вступительная статья и комментарии Надира Мамедова. — Б.: Азербайджанское государственное издательство, 1987. — 294 с.
- М. Рафили. [feb-web.ru/feb/pushkin/serial/v36/v36-240-.htm Пушкин и Мирза-Фатали Ахундов.]. — «Пушкинский временник»: Издательство Академии наук СССР, 1936. — С. 240—256.
- Дмитриев Н. К. Восточная поэма на смерть Пушкина. — «Книжные новости», 1937. — № 2.
- Канд. филол. наук А. 3. Розенфельд. [lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=GULutzBnaYo%3D&tabid=10396 А. С. Пушкин в персидских переводах]. — Вестник Ленинградского университета, 1949. — № 6. — С. 83.
- С. Г Асадуллаев. Духовное общение и взаимное познание / Рецензент доктор филологических наук Агиль Гаджиев. — Язычы, 1986. — С. 12. — 294 с.
- H. Algar. [www.iranicaonline.org/articles/akundzada-playwright Āḵūndzāda] (англ.). — Encyclopædia Iranica, 1984. — Vol. I. — P. 735—740.
- Я. Караев, Ф. Касимзаде. [feb-web.ru/feb/ivl/vl7/vl7-2152.htm Азербайджанская литература]. — История всемирной литературы в девяти томах: Наука, 1991. — Т. 7. — С. 216.
| Статья является кандидатом к лишению статуса хорошей с 31 августа 2015 |
Отрывок, характеризующий Восточная поэма на смерть Пушкина
Дочь укладывала за спину и под него ситцевые пуховые подушки. Свояченица старушка тайком сунула узелок. Один из кучеров подсадил его под руку.– Ну, ну, бабьи сборы! Бабы, бабы! – пыхтя, проговорил скороговоркой Алпатыч точно так, как говорил князь, и сел в кибиточку. Отдав последние приказания о работах земскому и в этом уж не подражая князю, Алпатыч снял с лысой головы шляпу и перекрестился троекратно.
– Вы, ежели что… вы вернитесь, Яков Алпатыч; ради Христа, нас пожалей, – прокричала ему жена, намекавшая на слухи о войне и неприятеле.
– Бабы, бабы, бабьи сборы, – проговорил Алпатыч про себя и поехал, оглядывая вокруг себя поля, где с пожелтевшей рожью, где с густым, еще зеленым овсом, где еще черные, которые только начинали двоить. Алпатыч ехал, любуясь на редкостный урожай ярового в нынешнем году, приглядываясь к полоскам ржаных пелей, на которых кое где начинали зажинать, и делал свои хозяйственные соображения о посеве и уборке и о том, не забыто ли какое княжеское приказание.
Два раза покормив дорогой, к вечеру 4 го августа Алпатыч приехал в город.
По дороге Алпатыч встречал и обгонял обозы и войска. Подъезжая к Смоленску, он слышал дальние выстрелы, но звуки эти не поразили его. Сильнее всего поразило его то, что, приближаясь к Смоленску, он видел прекрасное поле овса, которое какие то солдаты косили, очевидно, на корм и по которому стояли лагерем; это обстоятельство поразило Алпатыча, но он скоро забыл его, думая о своем деле.
Все интересы жизни Алпатыча уже более тридцати лет были ограничены одной волей князя, и он никогда не выходил из этого круга. Все, что не касалось до исполнения приказаний князя, не только не интересовало его, но не существовало для Алпатыча.
Алпатыч, приехав вечером 4 го августа в Смоленск, остановился за Днепром, в Гаченском предместье, на постоялом дворе, у дворника Ферапонтова, у которого он уже тридцать лет имел привычку останавливаться. Ферапонтов двенадцать лет тому назад, с легкой руки Алпатыча, купив рощу у князя, начал торговать и теперь имел дом, постоялый двор и мучную лавку в губернии. Ферапонтов был толстый, черный, красный сорокалетний мужик, с толстыми губами, с толстой шишкой носом, такими же шишками над черными, нахмуренными бровями и толстым брюхом.
Ферапонтов, в жилете, в ситцевой рубахе, стоял у лавки, выходившей на улицу. Увидав Алпатыча, он подошел к нему.
– Добро пожаловать, Яков Алпатыч. Народ из города, а ты в город, – сказал хозяин.
– Что ж так, из города? – сказал Алпатыч.
– И я говорю, – народ глуп. Всё француза боятся.
– Бабьи толки, бабьи толки! – проговорил Алпатыч.
– Так то и я сужу, Яков Алпатыч. Я говорю, приказ есть, что не пустят его, – значит, верно. Да и мужики по три рубля с подводы просят – креста на них нет!
Яков Алпатыч невнимательно слушал. Он потребовал самовар и сена лошадям и, напившись чаю, лег спать.
Всю ночь мимо постоялого двора двигались на улице войска. На другой день Алпатыч надел камзол, который он надевал только в городе, и пошел по делам. Утро было солнечное, и с восьми часов было уже жарко. Дорогой день для уборки хлеба, как думал Алпатыч. За городом с раннего утра слышались выстрелы.
С восьми часов к ружейным выстрелам присоединилась пушечная пальба. На улицах было много народу, куда то спешащего, много солдат, но так же, как и всегда, ездили извозчики, купцы стояли у лавок и в церквах шла служба. Алпатыч прошел в лавки, в присутственные места, на почту и к губернатору. В присутственных местах, в лавках, на почте все говорили о войске, о неприятеле, который уже напал на город; все спрашивали друг друга, что делать, и все старались успокоивать друг друга.
У дома губернатора Алпатыч нашел большое количество народа, казаков и дорожный экипаж, принадлежавший губернатору. На крыльце Яков Алпатыч встретил двух господ дворян, из которых одного он знал. Знакомый ему дворянин, бывший исправник, говорил с жаром.
– Ведь это не шутки шутить, – говорил он. – Хорошо, кто один. Одна голова и бедна – так одна, а то ведь тринадцать человек семьи, да все имущество… Довели, что пропадать всем, что ж это за начальство после этого?.. Эх, перевешал бы разбойников…
– Да ну, будет, – говорил другой.
– А мне что за дело, пускай слышит! Что ж, мы не собаки, – сказал бывший исправник и, оглянувшись, увидал Алпатыча.
– А, Яков Алпатыч, ты зачем?
– По приказанию его сиятельства, к господину губернатору, – отвечал Алпатыч, гордо поднимая голову и закладывая руку за пазуху, что он делал всегда, когда упоминал о князе… – Изволили приказать осведомиться о положении дел, – сказал он.
– Да вот и узнавай, – прокричал помещик, – довели, что ни подвод, ничего!.. Вот она, слышишь? – сказал он, указывая на ту сторону, откуда слышались выстрелы.
– Довели, что погибать всем… разбойники! – опять проговорил он и сошел с крыльца.
Алпатыч покачал головой и пошел на лестницу. В приемной были купцы, женщины, чиновники, молча переглядывавшиеся между собой. Дверь кабинета отворилась, все встали с мест и подвинулись вперед. Из двери выбежал чиновник, поговорил что то с купцом, кликнул за собой толстого чиновника с крестом на шее и скрылся опять в дверь, видимо, избегая всех обращенных к нему взглядов и вопросов. Алпатыч продвинулся вперед и при следующем выходе чиновника, заложив руку зазастегнутый сюртук, обратился к чиновнику, подавая ему два письма.
– Господину барону Ашу от генерала аншефа князя Болконского, – провозгласил он так торжественно и значительно, что чиновник обратился к нему и взял его письмо. Через несколько минут губернатор принял Алпатыча и поспешно сказал ему:
– Доложи князю и княжне, что мне ничего не известно было: я поступал по высшим приказаниям – вот…
Он дал бумагу Алпатычу.
– А впрочем, так как князь нездоров, мой совет им ехать в Москву. Я сам сейчас еду. Доложи… – Но губернатор не договорил: в дверь вбежал запыленный и запотелый офицер и начал что то говорить по французски. На лице губернатора изобразился ужас.
– Иди, – сказал он, кивнув головой Алпатычу, и стал что то спрашивать у офицера. Жадные, испуганные, беспомощные взгляды обратились на Алпатыча, когда он вышел из кабинета губернатора. Невольно прислушиваясь теперь к близким и все усиливавшимся выстрелам, Алпатыч поспешил на постоялый двор. Бумага, которую дал губернатор Алпатычу, была следующая:
«Уверяю вас, что городу Смоленску не предстоит еще ни малейшей опасности, и невероятно, чтобы оный ею угрожаем был. Я с одной, а князь Багратион с другой стороны идем на соединение перед Смоленском, которое совершится 22 го числа, и обе армии совокупными силами станут оборонять соотечественников своих вверенной вам губернии, пока усилия их удалят от них врагов отечества или пока не истребится в храбрых их рядах до последнего воина. Вы видите из сего, что вы имеете совершенное право успокоить жителей Смоленска, ибо кто защищаем двумя столь храбрыми войсками, тот может быть уверен в победе их». (Предписание Барклая де Толли смоленскому гражданскому губернатору, барону Ашу, 1812 года.)
Народ беспокойно сновал по улицам.
Наложенные верхом возы с домашней посудой, стульями, шкафчиками то и дело выезжали из ворот домов и ехали по улицам. В соседнем доме Ферапонтова стояли повозки и, прощаясь, выли и приговаривали бабы. Дворняжка собака, лая, вертелась перед заложенными лошадьми.
Алпатыч более поспешным шагом, чем он ходил обыкновенно, вошел во двор и прямо пошел под сарай к своим лошадям и повозке. Кучер спал; он разбудил его, велел закладывать и вошел в сени. В хозяйской горнице слышался детский плач, надрывающиеся рыдания женщины и гневный, хриплый крик Ферапонтова. Кухарка, как испуганная курица, встрепыхалась в сенях, как только вошел Алпатыч.
– До смерти убил – хозяйку бил!.. Так бил, так волочил!..
– За что? – спросил Алпатыч.
– Ехать просилась. Дело женское! Увези ты, говорит, меня, не погуби ты меня с малыми детьми; народ, говорит, весь уехал, что, говорит, мы то? Как зачал бить. Так бил, так волочил!
Алпатыч как бы одобрительно кивнул головой на эти слова и, не желая более ничего знать, подошел к противоположной – хозяйской двери горницы, в которой оставались его покупки.
– Злодей ты, губитель, – прокричала в это время худая, бледная женщина с ребенком на руках и с сорванным с головы платком, вырываясь из дверей и сбегая по лестнице на двор. Ферапонтов вышел за ней и, увидав Алпатыча, оправил жилет, волосы, зевнул и вошел в горницу за Алпатычем.
– Аль уж ехать хочешь? – спросил он.
Не отвечая на вопрос и не оглядываясь на хозяина, перебирая свои покупки, Алпатыч спросил, сколько за постой следовало хозяину.
– Сочтем! Что ж, у губернатора был? – спросил Ферапонтов. – Какое решение вышло?
Алпатыч отвечал, что губернатор ничего решительно не сказал ему.
– По нашему делу разве увеземся? – сказал Ферапонтов. – Дай до Дорогобужа по семи рублей за подводу. И я говорю: креста на них нет! – сказал он.
– Селиванов, тот угодил в четверг, продал муку в армию по девяти рублей за куль. Что же, чай пить будете? – прибавил он. Пока закладывали лошадей, Алпатыч с Ферапонтовым напились чаю и разговорились о цене хлебов, об урожае и благоприятной погоде для уборки.
– Однако затихать стала, – сказал Ферапонтов, выпив три чашки чая и поднимаясь, – должно, наша взяла. Сказано, не пустят. Значит, сила… А намесь, сказывали, Матвей Иваныч Платов их в реку Марину загнал, тысяч осьмнадцать, что ли, в один день потопил.
Алпатыч собрал свои покупки, передал их вошедшему кучеру, расчелся с хозяином. В воротах прозвучал звук колес, копыт и бубенчиков выезжавшей кибиточки.
Было уже далеко за полдень; половина улицы была в тени, другая была ярко освещена солнцем. Алпатыч взглянул в окно и пошел к двери. Вдруг послышался странный звук дальнего свиста и удара, и вслед за тем раздался сливающийся гул пушечной пальбы, от которой задрожали стекла.
Алпатыч вышел на улицу; по улице пробежали два человека к мосту. С разных сторон слышались свисты, удары ядер и лопанье гранат, падавших в городе. Но звуки эти почти не слышны были и не обращали внимания жителей в сравнении с звуками пальбы, слышными за городом. Это было бомбардирование, которое в пятом часу приказал открыть Наполеон по городу, из ста тридцати орудий. Народ первое время не понимал значения этого бомбардирования.
Звуки падавших гранат и ядер возбуждали сначала только любопытство. Жена Ферапонтова, не перестававшая до этого выть под сараем, умолкла и с ребенком на руках вышла к воротам, молча приглядываясь к народу и прислушиваясь к звукам.
К воротам вышли кухарка и лавочник. Все с веселым любопытством старались увидать проносившиеся над их головами снаряды. Из за угла вышло несколько человек людей, оживленно разговаривая.
– То то сила! – говорил один. – И крышку и потолок так в щепки и разбило.
– Как свинья и землю то взрыло, – сказал другой. – Вот так важно, вот так подбодрил! – смеясь, сказал он. – Спасибо, отскочил, а то бы она тебя смазала.
Народ обратился к этим людям. Они приостановились и рассказывали, как подле самих их ядра попали в дом. Между тем другие снаряды, то с быстрым, мрачным свистом – ядра, то с приятным посвистыванием – гранаты, не переставали перелетать через головы народа; но ни один снаряд не падал близко, все переносило. Алпатыч садился в кибиточку. Хозяин стоял в воротах.
– Чего не видала! – крикнул он на кухарку, которая, с засученными рукавами, в красной юбке, раскачиваясь голыми локтями, подошла к углу послушать то, что рассказывали.
– Вот чуда то, – приговаривала она, но, услыхав голос хозяина, она вернулась, обдергивая подоткнутую юбку.
Опять, но очень близко этот раз, засвистело что то, как сверху вниз летящая птичка, блеснул огонь посередине улицы, выстрелило что то и застлало дымом улицу.
– Злодей, что ж ты это делаешь? – прокричал хозяин, подбегая к кухарке.
В то же мгновение с разных сторон жалобно завыли женщины, испуганно заплакал ребенок и молча столпился народ с бледными лицами около кухарки. Из этой толпы слышнее всех слышались стоны и приговоры кухарки:
– Ой о ох, голубчики мои! Голубчики мои белые! Не дайте умереть! Голубчики мои белые!..
Через пять минут никого не оставалось на улице. Кухарку с бедром, разбитым гранатным осколком, снесли в кухню. Алпатыч, его кучер, Ферапонтова жена с детьми, дворник сидели в подвале, прислушиваясь. Гул орудий, свист снарядов и жалостный стон кухарки, преобладавший над всеми звуками, не умолкали ни на мгновение. Хозяйка то укачивала и уговаривала ребенка, то жалостным шепотом спрашивала у всех входивших в подвал, где был ее хозяин, оставшийся на улице. Вошедший в подвал лавочник сказал ей, что хозяин пошел с народом в собор, где поднимали смоленскую чудотворную икону.
К сумеркам канонада стала стихать. Алпатыч вышел из подвала и остановился в дверях. Прежде ясное вечера нее небо все было застлано дымом. И сквозь этот дым странно светил молодой, высоко стоящий серп месяца. После замолкшего прежнего страшного гула орудий над городом казалась тишина, прерываемая только как бы распространенным по всему городу шелестом шагов, стонов, дальних криков и треска пожаров. Стоны кухарки теперь затихли. С двух сторон поднимались и расходились черные клубы дыма от пожаров. На улице не рядами, а как муравьи из разоренной кочки, в разных мундирах и в разных направлениях, проходили и пробегали солдаты. В глазах Алпатыча несколько из них забежали на двор Ферапонтова. Алпатыч вышел к воротам. Какой то полк, теснясь и спеша, запрудил улицу, идя назад.
– Сдают город, уезжайте, уезжайте, – сказал ему заметивший его фигуру офицер и тут же обратился с криком к солдатам:
– Я вам дам по дворам бегать! – крикнул он.
Алпатыч вернулся в избу и, кликнув кучера, велел ему выезжать. Вслед за Алпатычем и за кучером вышли и все домочадцы Ферапонтова. Увидав дым и даже огни пожаров, видневшиеся теперь в начинавшихся сумерках, бабы, до тех пор молчавшие, вдруг заголосили, глядя на пожары. Как бы вторя им, послышались такие же плачи на других концах улицы. Алпатыч с кучером трясущимися руками расправлял запутавшиеся вожжи и постромки лошадей под навесом.
Когда Алпатыч выезжал из ворот, он увидал, как в отпертой лавке Ферапонтова человек десять солдат с громким говором насыпали мешки и ранцы пшеничной мукой и подсолнухами. В то же время, возвращаясь с улицы в лавку, вошел Ферапонтов. Увидав солдат, он хотел крикнуть что то, но вдруг остановился и, схватившись за волоса, захохотал рыдающим хохотом.
– Тащи всё, ребята! Не доставайся дьяволам! – закричал он, сам хватая мешки и выкидывая их на улицу. Некоторые солдаты, испугавшись, выбежали, некоторые продолжали насыпать. Увидав Алпатыча, Ферапонтов обратился к нему.
– Решилась! Расея! – крикнул он. – Алпатыч! решилась! Сам запалю. Решилась… – Ферапонтов побежал на двор.
По улице, запружая ее всю, непрерывно шли солдаты, так что Алпатыч не мог проехать и должен был дожидаться. Хозяйка Ферапонтова с детьми сидела также на телеге, ожидая того, чтобы можно было выехать.
Была уже совсем ночь. На небе были звезды и светился изредка застилаемый дымом молодой месяц. На спуске к Днепру повозки Алпатыча и хозяйки, медленно двигавшиеся в рядах солдат и других экипажей, должны были остановиться. Недалеко от перекрестка, у которого остановились повозки, в переулке, горели дом и лавки. Пожар уже догорал. Пламя то замирало и терялось в черном дыме, то вдруг вспыхивало ярко, до странности отчетливо освещая лица столпившихся людей, стоявших на перекрестке. Перед пожаром мелькали черные фигуры людей, и из за неумолкаемого треска огня слышались говор и крики. Алпатыч, слезший с повозки, видя, что повозку его еще не скоро пропустят, повернулся в переулок посмотреть пожар. Солдаты шныряли беспрестанно взад и вперед мимо пожара, и Алпатыч видел, как два солдата и с ними какой то человек во фризовой шинели тащили из пожара через улицу на соседний двор горевшие бревна; другие несли охапки сена.
Алпатыч подошел к большой толпе людей, стоявших против горевшего полным огнем высокого амбара. Стены были все в огне, задняя завалилась, крыша тесовая обрушилась, балки пылали. Очевидно, толпа ожидала той минуты, когда завалится крыша. Этого же ожидал Алпатыч.
– Алпатыч! – вдруг окликнул старика чей то знакомый голос.
– Батюшка, ваше сиятельство, – отвечал Алпатыч, мгновенно узнав голос своего молодого князя.
Князь Андрей, в плаще, верхом на вороной лошади, стоял за толпой и смотрел на Алпатыча.
– Ты как здесь? – спросил он.
– Ваше… ваше сиятельство, – проговорил Алпатыч и зарыдал… – Ваше, ваше… или уж пропали мы? Отец…
– Как ты здесь? – повторил князь Андрей.
Пламя ярко вспыхнуло в эту минуту и осветило Алпатычу бледное и изнуренное лицо его молодого барина. Алпатыч рассказал, как он был послан и как насилу мог уехать.
– Что же, ваше сиятельство, или мы пропали? – спросил он опять.
Князь Андрей, не отвечая, достал записную книжку и, приподняв колено, стал писать карандашом на вырванном листе. Он писал сестре:
«Смоленск сдают, – писал он, – Лысые Горы будут заняты неприятелем через неделю. Уезжайте сейчас в Москву. Отвечай мне тотчас, когда вы выедете, прислав нарочного в Усвяж».
Написав и передав листок Алпатычу, он на словах передал ему, как распорядиться отъездом князя, княжны и сына с учителем и как и куда ответить ему тотчас же. Еще не успел он окончить эти приказания, как верховой штабный начальник, сопутствуемый свитой, подскакал к нему.
– Вы полковник? – кричал штабный начальник, с немецким акцентом, знакомым князю Андрею голосом. – В вашем присутствии зажигают дома, а вы стоите? Что это значит такое? Вы ответите, – кричал Берг, который был теперь помощником начальника штаба левого фланга пехотных войск первой армии, – место весьма приятное и на виду, как говорил Берг.
Князь Андрей посмотрел на него и, не отвечая, продолжал, обращаясь к Алпатычу:
– Так скажи, что до десятого числа жду ответа, а ежели десятого не получу известия, что все уехали, я сам должен буду все бросить и ехать в Лысые Горы.
– Я, князь, только потому говорю, – сказал Берг, узнав князя Андрея, – что я должен исполнять приказания, потому что я всегда точно исполняю… Вы меня, пожалуйста, извините, – в чем то оправдывался Берг.
Что то затрещало в огне. Огонь притих на мгновенье; черные клубы дыма повалили из под крыши. Еще страшно затрещало что то в огне, и завалилось что то огромное.
– Урруру! – вторя завалившемуся потолку амбара, из которого несло запахом лепешек от сгоревшего хлеба, заревела толпа. Пламя вспыхнуло и осветило оживленно радостные и измученные лица людей, стоявших вокруг пожара.
Человек во фризовой шинели, подняв кверху руку, кричал:
– Важно! пошла драть! Ребята, важно!..
– Это сам хозяин, – послышались голоса.
– Так, так, – сказал князь Андрей, обращаясь к Алпатычу, – все передай, как я тебе говорил. – И, ни слова не отвечая Бергу, замолкшему подле него, тронул лошадь и поехал в переулок.
От Смоленска войска продолжали отступать. Неприятель шел вслед за ними. 10 го августа полк, которым командовал князь Андрей, проходил по большой дороге, мимо проспекта, ведущего в Лысые Горы. Жара и засуха стояли более трех недель. Каждый день по небу ходили курчавые облака, изредка заслоняя солнце; но к вечеру опять расчищало, и солнце садилось в буровато красную мглу. Только сильная роса ночью освежала землю. Остававшиеся на корню хлеба сгорали и высыпались. Болота пересохли. Скотина ревела от голода, не находя корма по сожженным солнцем лугам. Только по ночам и в лесах пока еще держалась роса, была прохлада. Но по дороге, по большой дороге, по которой шли войска, даже и ночью, даже и по лесам, не было этой прохлады. Роса не заметна была на песочной пыли дороги, встолченной больше чем на четверть аршина. Как только рассветало, начиналось движение. Обозы, артиллерия беззвучно шли по ступицу, а пехота по щиколку в мягкой, душной, не остывшей за ночь, жаркой пыли. Одна часть этой песочной пыли месилась ногами и колесами, другая поднималась и стояла облаком над войском, влипая в глаза, в волоса, в уши, в ноздри и, главное, в легкие людям и животным, двигавшимся по этой дороге. Чем выше поднималось солнце, тем выше поднималось облако пыли, и сквозь эту тонкую, жаркую пыль на солнце, не закрытое облаками, можно было смотреть простым глазом. Солнце представлялось большим багровым шаром. Ветра не было, и люди задыхались в этой неподвижной атмосфере. Люди шли, обвязавши носы и рты платками. Приходя к деревне, все бросалось к колодцам. Дрались за воду и выпивали ее до грязи.
Князь Андрей командовал полком, и устройство полка, благосостояние его людей, необходимость получения и отдачи приказаний занимали его. Пожар Смоленска и оставление его были эпохой для князя Андрея. Новое чувство озлобления против врага заставляло его забывать свое горе. Он весь был предан делам своего полка, он был заботлив о своих людях и офицерах и ласков с ними. В полку его называли наш князь, им гордились и его любили. Но добр и кроток он был только с своими полковыми, с Тимохиным и т. п., с людьми совершенно новыми и в чужой среде, с людьми, которые не могли знать и понимать его прошедшего; но как только он сталкивался с кем нибудь из своих прежних, из штабных, он тотчас опять ощетинивался; делался злобен, насмешлив и презрителен. Все, что связывало его воспоминание с прошедшим, отталкивало его, и потому он старался в отношениях этого прежнего мира только не быть несправедливым и исполнять свой долг.
Правда, все в темном, мрачном свете представлялось князю Андрею – особенно после того, как оставили Смоленск (который, по его понятиям, можно и должно было защищать) 6 го августа, и после того, как отец, больной, должен был бежать в Москву и бросить на расхищение столь любимые, обстроенные и им населенные Лысые Горы; но, несмотря на то, благодаря полку князь Андрей мог думать о другом, совершенно независимом от общих вопросов предмете – о своем полку. 10 го августа колонна, в которой был его полк, поравнялась с Лысыми Горами. Князь Андрей два дня тому назад получил известие, что его отец, сын и сестра уехали в Москву. Хотя князю Андрею и нечего было делать в Лысых Горах, он, с свойственным ему желанием растравить свое горе, решил, что он должен заехать в Лысые Горы.
Он велел оседлать себе лошадь и с перехода поехал верхом в отцовскую деревню, в которой он родился и провел свое детство. Проезжая мимо пруда, на котором всегда десятки баб, переговариваясь, били вальками и полоскали свое белье, князь Андрей заметил, что на пруде никого не было, и оторванный плотик, до половины залитый водой, боком плавал посредине пруда. Князь Андрей подъехал к сторожке. У каменных ворот въезда никого не было, и дверь была отперта. Дорожки сада уже заросли, и телята и лошади ходили по английскому парку. Князь Андрей подъехал к оранжерее; стекла были разбиты, и деревья в кадках некоторые повалены, некоторые засохли. Он окликнул Тараса садовника. Никто не откликнулся. Обогнув оранжерею на выставку, он увидал, что тесовый резной забор весь изломан и фрукты сливы обдерганы с ветками. Старый мужик (князь Андрей видал его у ворот в детстве) сидел и плел лапоть на зеленой скамеечке.
Он был глух и не слыхал подъезда князя Андрея. Он сидел на лавке, на которой любил сиживать старый князь, и около него было развешено лычко на сучках обломанной и засохшей магнолии.
Князь Андрей подъехал к дому. Несколько лип в старом саду были срублены, одна пегая с жеребенком лошадь ходила перед самым домом между розанами. Дом был заколочен ставнями. Одно окно внизу было открыто. Дворовый мальчик, увидав князя Андрея, вбежал в дом.
Алпатыч, услав семью, один оставался в Лысых Горах; он сидел дома и читал Жития. Узнав о приезде князя Андрея, он, с очками на носу, застегиваясь, вышел из дома, поспешно подошел к князю и, ничего не говоря, заплакал, целуя князя Андрея в коленку.
Потом он отвернулся с сердцем на свою слабость и стал докладывать ему о положении дел. Все ценное и дорогое было отвезено в Богучарово. Хлеб, до ста четвертей, тоже был вывезен; сено и яровой, необыкновенный, как говорил Алпатыч, урожай нынешнего года зеленым взят и скошен – войсками. Мужики разорены, некоторый ушли тоже в Богучарово, малая часть остается.
Князь Андрей, не дослушав его, спросил, когда уехали отец и сестра, разумея, когда уехали в Москву. Алпатыч отвечал, полагая, что спрашивают об отъезде в Богучарово, что уехали седьмого, и опять распространился о долах хозяйства, спрашивая распоряжении.
– Прикажете ли отпускать под расписку командам овес? У нас еще шестьсот четвертей осталось, – спрашивал Алпатыч.
«Что отвечать ему? – думал князь Андрей, глядя на лоснеющуюся на солнце плешивую голову старика и в выражении лица его читая сознание того, что он сам понимает несвоевременность этих вопросов, но спрашивает только так, чтобы заглушить и свое горе.
– Да, отпускай, – сказал он.
– Ежели изволили заметить беспорядки в саду, – говорил Алпатыч, – то невозмежио было предотвратить: три полка проходили и ночевали, в особенности драгуны. Я выписал чин и звание командира для подачи прошения.
– Ну, что ж ты будешь делать? Останешься, ежели неприятель займет? – спросил его князь Андрей.
Алпатыч, повернув свое лицо к князю Андрею, посмотрел на него; и вдруг торжественным жестом поднял руку кверху.
– Он мой покровитель, да будет воля его! – проговорил он.
Толпа мужиков и дворовых шла по лугу, с открытыми головами, приближаясь к князю Андрею.
– Ну прощай! – сказал князь Андрей, нагибаясь к Алпатычу. – Уезжай сам, увози, что можешь, и народу вели уходить в Рязанскую или в Подмосковную. – Алпатыч прижался к его ноге и зарыдал. Князь Андрей осторожно отодвинул его и, тронув лошадь, галопом поехал вниз по аллее.
На выставке все так же безучастно, как муха на лице дорогого мертвеца, сидел старик и стукал по колодке лаптя, и две девочки со сливами в подолах, которые они нарвали с оранжерейных деревьев, бежали оттуда и наткнулись на князя Андрея. Увидав молодого барина, старшая девочка, с выразившимся на лице испугом, схватила за руку свою меньшую товарку и с ней вместе спряталась за березу, не успев подобрать рассыпавшиеся зеленые сливы.
Князь Андрей испуганно поспешно отвернулся от них, боясь дать заметить им, что он их видел. Ему жалко стало эту хорошенькую испуганную девочку. Он боялся взглянуть на нее, по вместе с тем ему этого непреодолимо хотелось. Новое, отрадное и успокоительное чувство охватило его, когда он, глядя на этих девочек, понял существование других, совершенно чуждых ему и столь же законных человеческих интересов, как и те, которые занимали его. Эти девочки, очевидно, страстно желали одного – унести и доесть эти зеленые сливы и не быть пойманными, и князь Андрей желал с ними вместе успеха их предприятию. Он не мог удержаться, чтобы не взглянуть на них еще раз. Полагая себя уже в безопасности, они выскочили из засады и, что то пища тоненькими голосками, придерживая подолы, весело и быстро бежали по траве луга своими загорелыми босыми ножонками.
Князь Андрей освежился немного, выехав из района пыли большой дороги, по которой двигались войска. Но недалеко за Лысыми Горами он въехал опять на дорогу и догнал свой полк на привале, у плотины небольшого пруда. Был второй час после полдня. Солнце, красный шар в пыли, невыносимо пекло и жгло спину сквозь черный сюртук. Пыль, все такая же, неподвижно стояла над говором гудевшими, остановившимися войсками. Ветру не было, В проезд по плотине на князя Андрея пахнуло тиной и свежестью пруда. Ему захотелось в воду – какая бы грязная она ни была. Он оглянулся на пруд, с которого неслись крики и хохот. Небольшой мутный с зеленью пруд, видимо, поднялся четверти на две, заливая плотину, потому что он был полон человеческими, солдатскими, голыми барахтавшимися в нем белыми телами, с кирпично красными руками, лицами и шеями. Все это голое, белое человеческое мясо с хохотом и гиком барахталось в этой грязной луже, как караси, набитые в лейку. Весельем отзывалось это барахтанье, и оттого оно особенно было грустно.
Один молодой белокурый солдат – еще князь Андрей знал его – третьей роты, с ремешком под икрой, крестясь, отступал назад, чтобы хорошенько разбежаться и бултыхнуться в воду; другой, черный, всегда лохматый унтер офицер, по пояс в воде, подергивая мускулистым станом, радостно фыркал, поливая себе голову черными по кисти руками. Слышалось шлепанье друг по другу, и визг, и уханье.
На берегах, на плотине, в пруде, везде было белое, здоровое, мускулистое мясо. Офицер Тимохин, с красным носиком, обтирался на плотине и застыдился, увидав князя, однако решился обратиться к нему:
– То то хорошо, ваше сиятельство, вы бы изволили! – сказал он.
– Грязно, – сказал князь Андрей, поморщившись.
– Мы сейчас очистим вам. – И Тимохин, еще не одетый, побежал очищать.
– Князь хочет.
– Какой? Наш князь? – заговорили голоса, и все заторопились так, что насилу князь Андрей успел их успокоить. Он придумал лучше облиться в сарае.
«Мясо, тело, chair a canon [пушечное мясо]! – думал он, глядя и на свое голое тело, и вздрагивая не столько от холода, сколько от самому ему непонятного отвращения и ужаса при виде этого огромного количества тел, полоскавшихся в грязном пруде.
7 го августа князь Багратион в своей стоянке Михайловке на Смоленской дороге писал следующее:
«Милостивый государь граф Алексей Андреевич.
(Он писал Аракчееву, но знал, что письмо его будет прочтено государем, и потому, насколько он был к тому способен, обдумывал каждое свое слово.)
Я думаю, что министр уже рапортовал об оставлении неприятелю Смоленска. Больно, грустно, и вся армия в отчаянии, что самое важное место понапрасну бросили. Я, с моей стороны, просил лично его убедительнейшим образом, наконец и писал; но ничто его не согласило. Я клянусь вам моею честью, что Наполеон был в таком мешке, как никогда, и он бы мог потерять половину армии, но не взять Смоленска. Войска наши так дрались и так дерутся, как никогда. Я удержал с 15 тысячами более 35 ти часов и бил их; но он не хотел остаться и 14 ти часов. Это стыдно, и пятно армии нашей; а ему самому, мне кажется, и жить на свете не должно. Ежели он доносит, что потеря велика, – неправда; может быть, около 4 тысяч, не более, но и того нет. Хотя бы и десять, как быть, война! Но зато неприятель потерял бездну…
Что стоило еще оставаться два дни? По крайней мере, они бы сами ушли; ибо не имели воды напоить людей и лошадей. Он дал слово мне, что не отступит, но вдруг прислал диспозицию, что он в ночь уходит. Таким образом воевать не можно, и мы можем неприятеля скоро привести в Москву…
Слух носится, что вы думаете о мире. Чтобы помириться, боже сохрани! После всех пожертвований и после таких сумасбродных отступлений – мириться: вы поставите всю Россию против себя, и всякий из нас за стыд поставит носить мундир. Ежели уже так пошло – надо драться, пока Россия может и пока люди на ногах…
Надо командовать одному, а не двум. Ваш министр, может, хороший по министерству; но генерал не то что плохой, но дрянной, и ему отдали судьбу всего нашего Отечества… Я, право, с ума схожу от досады; простите мне, что дерзко пишу. Видно, тот не любит государя и желает гибели нам всем, кто советует заключить мир и командовать армиею министру. Итак, я пишу вам правду: готовьте ополчение. Ибо министр самым мастерским образом ведет в столицу за собою гостя. Большое подозрение подает всей армии господин флигель адъютант Вольцоген. Он, говорят, более Наполеона, нежели наш, и он советует все министру. Я не токмо учтив против него, но повинуюсь, как капрал, хотя и старее его. Это больно; но, любя моего благодетеля и государя, – повинуюсь. Только жаль государя, что вверяет таким славную армию. Вообразите, что нашею ретирадою мы потеряли людей от усталости и в госпиталях более 15 тысяч; а ежели бы наступали, того бы не было. Скажите ради бога, что наша Россия – мать наша – скажет, что так страшимся и за что такое доброе и усердное Отечество отдаем сволочам и вселяем в каждого подданного ненависть и посрамление. Чего трусить и кого бояться?. Я не виноват, что министр нерешим, трус, бестолков, медлителен и все имеет худые качества. Вся армия плачет совершенно и ругают его насмерть…»
В числе бесчисленных подразделений, которые можно сделать в явлениях жизни, можно подразделить их все на такие, в которых преобладает содержание, другие – в которых преобладает форма. К числу таковых, в противоположность деревенской, земской, губернской, даже московской жизни, можно отнести жизнь петербургскую, в особенности салонную. Эта жизнь неизменна.
С 1805 года мы мирились и ссорились с Бонапартом, мы делали конституции и разделывали их, а салон Анны Павловны и салон Элен были точно такие же, какие они были один семь лет, другой пять лет тому назад. Точно так же у Анны Павловны говорили с недоумением об успехах Бонапарта и видели, как в его успехах, так и в потакании ему европейских государей, злостный заговор, имеющий единственной целью неприятность и беспокойство того придворного кружка, которого представительницей была Анна Павловна. Точно так же у Элен, которую сам Румянцев удостоивал своим посещением и считал замечательно умной женщиной, точно так же как в 1808, так и в 1812 году с восторгом говорили о великой нации и великом человеке и с сожалением смотрели на разрыв с Францией, который, по мнению людей, собиравшихся в салоне Элен, должен был кончиться миром.
В последнее время, после приезда государя из армии, произошло некоторое волнение в этих противоположных кружках салонах и произведены были некоторые демонстрации друг против друга, но направление кружков осталось то же. В кружок Анны Павловны принимались из французов только закоренелые легитимисты, и здесь выражалась патриотическая мысль о том, что не надо ездить во французский театр и что содержание труппы стоит столько же, сколько содержание целого корпуса. За военными событиями следилось жадно, и распускались самые выгодные для нашей армии слухи. В кружке Элен, румянцевском, французском, опровергались слухи о жестокости врага и войны и обсуживались все попытки Наполеона к примирению. В этом кружке упрекали тех, кто присоветывал слишком поспешные распоряжения о том, чтобы приготавливаться к отъезду в Казань придворным и женским учебным заведениям, находящимся под покровительством императрицы матери. Вообще все дело войны представлялось в салоне Элен пустыми демонстрациями, которые весьма скоро кончатся миром, и царствовало мнение Билибина, бывшего теперь в Петербурге и домашним у Элен (всякий умный человек должен был быть у нее), что не порох, а те, кто его выдумали, решат дело. В этом кружке иронически и весьма умно, хотя весьма осторожно, осмеивали московский восторг, известие о котором прибыло вместе с государем в Петербург.
В кружке Анны Павловны, напротив, восхищались этими восторгами и говорили о них, как говорит Плутарх о древних. Князь Василий, занимавший все те же важные должности, составлял звено соединения между двумя кружками. Он ездил к ma bonne amie [своему достойному другу] Анне Павловне и ездил dans le salon diplomatique de ma fille [в дипломатический салон своей дочери] и часто, при беспрестанных переездах из одного лагеря в другой, путался и говорил у Анны Павловны то, что надо было говорить у Элен, и наоборот.
Вскоре после приезда государя князь Василий разговорился у Анны Павловны о делах войны, жестоко осуждая Барклая де Толли и находясь в нерешительности, кого бы назначить главнокомандующим. Один из гостей, известный под именем un homme de beaucoup de merite [человек с большими достоинствами], рассказав о том, что он видел нынче выбранного начальником петербургского ополчения Кутузова, заседающего в казенной палате для приема ратников, позволил себе осторожно выразить предположение о том, что Кутузов был бы тот человек, который удовлетворил бы всем требованиям.
Анна Павловна грустно улыбнулась и заметила, что Кутузов, кроме неприятностей, ничего не дал государю.
– Я говорил и говорил в Дворянском собрании, – перебил князь Василий, – но меня не послушали. Я говорил, что избрание его в начальники ополчения не понравится государю. Они меня не послушали.
– Все какая то мания фрондировать, – продолжал он. – И пред кем? И все оттого, что мы хотим обезьянничать глупым московским восторгам, – сказал князь Василий, спутавшись на минуту и забыв то, что у Элен надо было подсмеиваться над московскими восторгами, а у Анны Павловны восхищаться ими. Но он тотчас же поправился. – Ну прилично ли графу Кутузову, самому старому генералу в России, заседать в палате, et il en restera pour sa peine! [хлопоты его пропадут даром!] Разве возможно назначить главнокомандующим человека, который не может верхом сесть, засыпает на совете, человека самых дурных нравов! Хорошо он себя зарекомендовал в Букарещте! Я уже не говорю о его качествах как генерала, но разве можно в такую минуту назначать человека дряхлого и слепого, просто слепого? Хорош будет генерал слепой! Он ничего не видит. В жмурки играть… ровно ничего не видит!

