Инсула
 И́нсула (лат. Insula, МФА (лат.): [ˈiːn.su.la]) — в архитектуре Древнего Рима — многоэтажный жилой дом с комнатами и квартирами, предназначенными для сдачи внаём. Инсулы появились не ранее III века до н. э.
Верхние этажи инсул занимали в основном бедняки, более зажиточные слои населения снимали более комфортабельные квартиры на первых этажах. Большинство квартир в инсулах были неотапливаемыми, малоосвещёнными. За исключением первого этажа некоторых инсул, в них отсутствовали водоснабжение и канализация.
И́нсула (лат. Insula, МФА (лат.): [ˈiːn.su.la]) — в архитектуре Древнего Рима — многоэтажный жилой дом с комнатами и квартирами, предназначенными для сдачи внаём. Инсулы появились не ранее III века до н. э.
Верхние этажи инсул занимали в основном бедняки, более зажиточные слои населения снимали более комфортабельные квартиры на первых этажах. Большинство квартир в инсулах были неотапливаемыми, малоосвещёнными. За исключением первого этажа некоторых инсул, в них отсутствовали водоснабжение и канализация.
Перенаселённые многоэтажные инсулы Рима были подвержены частым обвалам, вызванным нарушением правил строительства и использованием некачественных строительных материалов. Применение деревянных конструкций и небольшое расстояние между соседними домами способствовали распространению пожаров. Арендная плата даже за очень скромное жилище была в Риме очень высока, в провинции условия проживания в инсулах были лучше, а арендная плата ниже.
Содержание
Значение термина «инсула»
В узком смысле под «инсулой» подразумевается римский многоквартирный дом. Первоначально латинское слово insula означало «остров», затем так стали называть ограниченный улицами земельный участок с выстроенным на нём домом. Со временем особняки стали расширяться за счёт помещений под лавки и магазины, а небольшие квартиры на втором этаже — сдаваться. Эти особняки и прилегавшие к ним здания также получили название insula, так как были отделены от соседнего имения узкой полосой свободной земли (лат. «ambitus»)[1].
Позднее дома стали строить стена к стене, и земельный участок с несколькими такими зданиями также стали называть insula. Понятие insula в значении «прямоугольный квартал» и сегодня применяется в европейской археологии при раскопках и описании провинциальных городов римского государства, например, Помпей, Геркуланума, Августа-Раурика, или поселений ветеранов — Тимгада, Ксантена и других[2]. Затем жители Древнего Рима словом «инсула» стали называть любой многоквартирный многоэтажный жилой дом с отдельными квартирами, предназначенными для съёма, в том числе и особняк-домус, перестроенный в дом с отдельными съёмными квартирами, а также дом, изначально выстроенный в несколько этажей[K 1]. Такое толкование термина «инсула» признано множеством историков с XIX века до наших дней[3][4][5][6][7]. Инсула как архитектурный тип встречалась в основном в больших и быстро развивающихся городах римского государства — Рим, Остия, Александрия, Антиохия[8].
Архитектурный тип «инсула» произошёл, скорее всего, не от особняка-домуса, а появился в Риме, когда над рядами лавок стали надстраивать жилые помещения, к которым вели отдельные лестницы. Возможно, уже в IV веке до н. э. подобные сооружения были высотой в 2—3 этажа[9]. Развитие домуса в многоквартирный жилой дом наблюдалось лишь в небольших провинциальных городах, таких как Помпеи и Геркуланум[10].
Инсула в статистике IV века
По статистическим данным Curiosum urbis Romae к IV веку н. э. в 14 римских округах насчитывалось 46 290 инсул, согласно Notitia urbis Romae — 46 602[11].
Начиная с XIX века[12] и по сегодняшний день, сомнению подвергается не только надёжность этих данных[13], но и понимание слова «инсула» в IV веке. Употребление слова «инсула» для списков регионов объясняется следующим образом[14]:
- Инсула, как и в литературных и юридических источниках, означает «многоквартирный дом»[15], при этом в списках могли быть допущены ошибки[14].
По другой гипотезе, для такого количества инсул в пределах стен Рима не хватило бы места. Только для региона «Forum Romanum» списки насчитывают почти 4 тысячи инсул, так что форум должен был быть застроен исключительно домами, а не общественными постройками. Данные IV века, таким образом, не могут быть основаны на численности отдельных домов-инсул. И поэтому «инсула» в списках районов Рима, по всей видимости, может означать:
- отдельную квартиру в жилом многоквартирном доме[16][17];
- этаж многоквартирного дома с одной или несколькими квартирами;
- часть дома с отдельным входом.
Тип дома
Реконструкции остийских инсул работы итальянского археолога Итало Гизмонди:
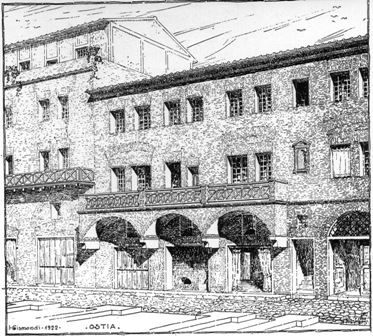
| |||
| «Casa dei Dipinti». | «Casa di Diana». | «Casa di via della Fortuna». | «Casa del Termopolio». |
В Древнем Риме существовало два типа италийского дома[18]:
- домус — 1-2-этажный дом-особняк, в котором первоначально проживала одна семья. Домус представлял собой автономное архитектурное целое, имеющее самостоятельные выходы на улицу. Позднее части домуса стали сдаваться под лавки, мастерские, на втором этаже надстраивались съёмные квартиры.
- инсула — многоэтажный многоквартирный городской жилой дом, где проживало множество семей, не связанных между собой. В инсуле резиденция каждой семьи не самостоятельна, а включена в архитектурный комплекс и не имеет отдельных выходов на улицу. К верхним этажам вели отдельные лестницы. Типичными для многоквартирных домов являются ряды торговых и ремесленных лавок на первом этаже, а также балконы или портики вдоль фасадов.
Распространение инсул
Многоквартирные жилые дома не строились в римских деревнях, очень редко встречались в провинциальных городах[1], в небольших городах, например, Помпеях и Пренесте, были найдены руины домов без атриев, с рядами смежных лавок и мастерских и лестницами на верхние этажи.
По распространённому мнению, инсула является самостоятельным архитектурным решением римлян — жилой дом с лавками на первом этаже появляется в Риме в конце II века до н. э.[19] И хотя Геродот описывал вавилонские дома в 3—4 этажа, по сообщению Страбона, дома Тира были выше, чем в Риме[20], а высокие дома доримского периода в Карфагене насчитывали до 6 этажей, непосредственное влияние архитектуры восточных и эллинистических городов на развитие архитектуры римских многоэтажных домов не доказано. Лишь при новых раскопках в Эфесе были обнаружены постройки, сходные с римскими инсулами.
В республиканский период в Риме началось энергичное строительство инсул на месте городских особняков, и, по сообщениям римских авторов, в городе ко времени падения республики преобладали многоэтажные дома[21][22]. Более раннее упоминание многоэтажного римского дома содержится у Тита Ливия[23]: в 218 году до н. э., накануне второй Пунической войны, бык, сбежав с Коровьего рынка, забрался по лестнице на третий этаж, что сочли дурным предзнаменованием[24]. Цицерон в 63 году до н. э. писал, что «Рим… поднялся кверху и повис в воздухе»[22]. Рост домов по вертикали стал важным архитектурным решением для Рима из-за увеличения населения города, становления Рима как социального, религиозного и торгового центра.
Остийская инсула
Порт Остия была построен по стандартному плану римских городов во II веке, её многоэтажные дома были солидными постройками из кирпича и бетонных конструкций. Инсулы Остии являются лучшими примерами строительства античных многоэтажных домов, сохранившимися до наших дней[25]. Остийская инсула, достигавшая четырёх этажей в высоту, некоторыми археологами рассматривается как более качественная копия римской[26][27][28], по другим предположениям, Остия являлась «маленьким подобием Рима»[29].
На сегодняшний день считается, что хотя условия проживания в Остии и нельзя сравнивать со столичными, раскопки остийских инсул дают представление о римских инсулах[24][30][31]. На данный момент в Остии раскопано 364 здания, 205 из них являются многоэтажными домами[32]. Высказано предположение, что около 91—95% населения Остии проживало в лавках, на антресолях и в небольших квартирах над ними или просто на улице[33].
На первых этажах большинства домов Остии располагались магазины, этажами выше, по большей части, находились двухкомнатные квартиры.
Римская инсула
Наряду с литературными источниками, эпиграфическими данными и юридическими текстами реконструировать римские городские инсулы позволяют археологические раскопки, по большей части, в Остии.
В Риме до наших дней сохранились лишь немногочисленные руины многоквартирных домов II—III веков. Мраморный план Рима подтверждает наличие многочисленных инсул, не только по размерам совпадающих с раскопанными, но и значительно меньших по размеру, у подножия холмов Эсквилин, Виминал и Квиринал, от Капитолия в северо-восточном направлении к Марсову полю, вблизи цирка Фламиния, в районах Субура, Велабр, Аргилет, на правом берегу Тибра в районе Трастевере.
В Риме были как добротно выстроенные дома типа остийских инсул, так и многочисленные ветхие здания. О среднем качестве римских домов, однако, трудно судить, так как всё, что состояло из дерева, фахверка и кирпича-сырца, со временем разрушилось. Считается, что большинство римских инсул были, скорее всего, небольшими по площади ветхими постройками, скученно выстроенными в центре города, даже несмотря на восстановления зданий некоторых районов после пожара 64 года и в более поздние периоды[34].
По принципу конструкции и разрезу инсулы Остии и Рима сходны, сравнение позволяют сохранившиеся римские инсулы и мраморный план Рима. Небольшие городские особняки в Риме чаще всего перестраивались в инсулы. Инсулы в Риме располагались как в центре города, так и на окраинах, а также на неустойчивой почве у Тибра. Сохранившиеся фрагменты мраморного плана Рима, по мнению учёных, доказывают, что Рим на самом деле был городом многоквартирных домов, несмотря на то, что на плане изображены только первые этажи построек.
Инсулы в римских городах
Застройка инсулами римского Карфагена или крупных городов римской Африки на данный момент точно не доказана[35]. Наличие инсул в римской Александрии предполагается на основании записей на папирусах, археологические доказательства также пока не найдены[36]. Согласно одному исследованию египетских папирусов времён Римской империи, 2—3-этажные здания встречались в небольших поселениях, инсулы в 4 этажа только в городах[37].
Застройка 3—5-этажными инсулами позднеантичной Антиохии предполагается также на основании литературных источников[38][39].
По некоторым предположениям, в архитектуре городов римской провинции Asia Minor, также как и в Риме, Остии и Антиохии, преобладали многоэтажные съёмные дома[40]. Недавние археологические работы, проводившиеся с помощью радара и GPS-технологий, показали, что основной формой проживания большей части населения Эфеса с большой вероятностью был тип многоэтажного жилого дома, сходный с остийскими инсулами[41]. В Эфесе хорошо изучены руины лишь двух сохранившихся инсул с квартирами на террасах на склоне холма. На первом этаже одной из инсул было 12 торговых лавок, одной из них был термополий, на всех этажах — проточная вода.
Типология инсул
Существует несколько попыток классификации инсул по их архитектурным особенностям. Аксель Боэций, например, предложил 4 категории для остийских инсул:
- Основной архитектурный тип с лавками на первом этаже и квартирами выше;
- Сочетание двух объединённых, с задней стороны граничащих рядов лавок с квартирами на первом этаже;
- Сочетание первых двух основных типов построек вокруг внутреннего дворика;
- Предложенный Гвидо Кальца тип — palazzi di tutti — с лавками, выходившими на улицу, и внутренним двориком с перистилем. Архитектурное решение отдельной инсулы по замыслу архитектора могло быть изменено, однако эти стандартные типы часто встречаются в Остии[42].

|

|

| |
| Инсулы на форуме Траяна с торговыми лавками на первом этаже, антресолями и квартирами выше. Рим | Торговая лавка. Реконструкция конца XIX века | Дубильня на первом этаже инсулы под Санта-Чечилия-ин-Трастевере. Рим | Термополий — закусочная на первом этаже инсулы. Остия |
Первый, основной тип инсул. На первом этаже большинства инсул располагались торговые лавки и ремесленные мастерские, а также закусочные и таверны, на верхних этажах сдавались 1—2-комнатные квартиры[43][44]. Иногда перед рядом лавок на первом этаже шёл портик с колоннами из обожжённого кирпича, обычно высотой в два этажа. Тип здания с портиком появился после пожара в Риме при Нероне, с целью ограничить распространение огня, а также для защиты посетителей лавок от падающих предметов; портик также мог служить террасой для выходящих на него помещений.
Второй тип инсул, встречавшийся гораздо реже — дом, состоящий исключительно из квартир. Окна первого этажа располагались выше над землёй, чем в первом типе инсул. Квартиры были просторнее, имели 3 и более комнат площадью до 30 м². В таких зданиях в Остии, верхние этажи по планировке повторяли первый этаж, и в них проживало гораздо меньше жильцов, чем в домах с мастерскими или лавками[45].
В Остии археологами выделен тип простых и, скорее всего, дешёвых в строительстве инсул с рядом лавок на первом этаже и маленькими квартирами над ними — так называевыми «Casette-tipo». Внешние стены были построены из кирпича, внутренние выложены из туфовых блоков, зачастую небрежно.
Инсулы имели несколько входов — одни к магазинам, другие — к квартирам. Вход в лавки был шириной около 3 метров и высотой около 3,5 метров, окна лавок в основном 1,5 м в ширину и 2 м в высоту. На ночь лавки закрывались деревянными ставнями, в которые, возможно, была встроена небольшая дверь для входа ночью или во время обеденного перерыва[25].
Вход к квартирам был около 1 м шириной и 2 м высотой, окна квартир — около 50—60 см на 80 см. Окна были обычно прямоугольной формы, окна антресолей и выходившие на лестницы были меньше по размеру, чем окна, выходившие на улицу, в сад или внутренний дворик. Две дверные створки основного входа в инсулу были из дерева и открывались вовнутрь.
Инсула имела строгий и простой внешний вид, без лишних украшений, наружные кирпичные стены, по некоторым предположениям, не были оштукатурены[K 2]. В инсулах с более богатыми квартирами вход обрамляли колонны или пилястры, сложенные из кирпича[24]. Каждый этаж рядом окон выходил на улицу, а также в небольшой внутренний дворик, если таковой имелся, для того, чтобы в квартиры проникал свет.
Хотя многие комфортабельные квартиры и даже некоторые лавки в Остии украшались мраморными инкрустациями, мозаиками и настенными росписями, внутренняя отделка инсул, в общем, была невысокого художественного уровня[46]. Иногда пол в коридорах первого этажа украшался мозаикой. Внутренние стены были оштукатурены.
Вдоль фасада, выходившего на декуманус, часто шёл ряд деревянных или кирпичных балконов (maenianae) и лоджий. Балконы имелись не только у отдельных квартир, а могли также и образовывать сплошную террасу, проходившую вдоль всего фасада дома[47]. Балкончики служили, скорее, не для использования жильцами, а украшали фасад, и зачастую по ним невозможно было ходить[48]. Лоджии и балконы украшали цветы, на подоконниках стояли растения в горшках, служившие небольшими огородиками для жильцов[49].
Толщина стен инсул в Остии составляла 0,5—0,8 м, в зависимости от этажа; в Риме ширина стен из-за недостатка места в городе составляла не более 0,6 м. Многие улицы Рима были узкими, инсулы на противоположных сторонах улицы практически смыкались: например, Марциал писал, что он мог через окно дотронуться до своего соседа Новия[50][51]. Инсулы, стоявшие на одной стороне улицы, строились практически вплотную: расстояние между римскими инсулами донероновской постройки (I век), сохранившимися под базиликой святого Климента, составляло около 30 см (см. [www.basilicasanclemente.com/tour/mithraic/vicolo.htm Расстояние между раскопанными домами под базиликой.]).
Главным фасадом инсулы выходили на улицу, реже строились инсулы с небольшим внутренним двориком, в таком случае окна выходили и на этот дворик[52].
Высота и площадь инсул
Для уменьшения опасности пожаров и обвалов в инсулах во время правления императора Августа (около 6 года до н. э.) высота многоквартирных домов была ограничена до 20,72 метра[K 3][53], а во II веке н. э. при императоре Траяне, так как нарушения строительных норм и обвалы не прекратились, высоту инсул ограничили до 17,76 метра[K 4]. Запрещение, однако, относилось только к домам, выходившим на улицу, поэтому высота зданий, выходивших на частные владения или во двор, не ограничивалась указом, так что внутри квартала дома, скорее всего, могли строиться и выше[54].
Инсулы в Остии имели до 4 этажей[K 5], не меньшее количество этажей предполагается и для римских инсул, которые были, как минимум, 5-этажными[55]. Об этом свидетельствуют и литературные источники: Витрувий[56] пишет о инсулах Рима, с верхних этажей которых открывался вид на весь город, так что, предположительно, инсула во времена Витрувия была по крайней мере 4—5-этажной[30]. Ювенал пишет о ночном пожаре на третьем этаже инсулы и о том, что жильцы этажей выше до крыши, не зная о происходящем, спали[57].
Инсула, в среднем, занимала площадь 211—222 м²[58], даже самые маленькие инсулы на мраморном плане Рима имели не меньшую площадь[59]. По мнению историков XIX века[60], в среднем, на инсулу приходилось около 350 м²[11], 282 м²[12][K 6]. Некоторые исследователи предполагают среднюю площадь в 300—400 м², при этом даже такая площадь, по мнению Каркопино, была недостаточной для дома высотой до 20 метров[61].
Учитывая размеры римских инсул на плане Рима, считается, что многие из домов имели очень узкие фасады — от 6 до 15 метров шириной, некоторые, однако, сходны по площади с остийскими жилыми комплексами в 200—400 м²[62]. Проекты планировки солидных инсул в Риме также существовали, например, во время правления императора Адриана многоэтажные дома строились на площади 1000—2500 м² восточнее и западнее Виа Лата на северном Марсовом поле[63].
Отдельные квартиры и комнаты
Отдельные квартиры (caenaculum, cenaculum) в многоквартирном доме арендовались жильцами разного общественного положения и состояния, однако были в основном одинаковы по плану и величине: в квартире имелось по две комнаты (cella) площадью до 20 м², в надстроенных верхних этажах жилая площадь уменьшалась. Это доказано раскопками в Остии, в Риме были, скорее всего, сходные условия проживания.
В квартирах богатых жильцов иногда проводилась индивидуальная перепланировка: квартиру увеличивали, например, за счёт второго этажа, в этом случае квартиры соединялись внутренней лестницей[K 7], или же отдельные комнаты объединялись в более просторные[K 8]. Квартиры до 12 комнат раскопаны в Остии[K 9].
Каждая комната (cella) квартиры имела свою функцию. Дигесты[64] упоминают три отдельных вида комнат: cubiculum — спальня, exedra — экседра и medianum. В Остии был распространён тип квартир с «medianum» (в переводе Сергеенко «с коридорной системой»[24]). Medianum при этом являлся прямоугольной комнатой в центре квартиры, которая всегда выходила окнами на улицу и была хорошо освещена. Эта комната, которую некоторые археологи сочли своего рода атрием съёмных квартир[65], имела одновременно функцию зала и коридора, и из неё можно было попасть в остальные комнаты квартиры. Поскольку все жильцы имели доступ к этому помещению, предполагается, что её не мог снимать один съёмщик[66].
Комнаты квартир на верхних этажах не имели чёткого предназначения и могли быть разделены перегородками для аренды отдельных помещений. Особняки иногда перестраивались в инсулы — разбивались на небольшие отдельные помещения, однако и инсулы могли перестраиваться в роскошные частные дома[67].
Хозяева лавок и мастерских жили в одно- и двухкомнатных квартирах[K 10][68], расположенных за магазином или чаще всего над ним, на антресолях (pergula) между двумя этажами, связанных с лавкой или мастерской небольшой каменной или приставной лестницей. Потолки помещений первого этажа были очень высокие — до 5,8 метра, что и позволяло расположить между ними и вторым этажом ещё одно жилое помещение.
К квартирам вели отдельные входы и лестницы, обычно из камня или кирпича на первых этажах и деревянные на верхних этажах (см. раздел Строительные материалы и конструкции). Так, в Риме сохранились остатки лестницы из травертина (инсула в районе вокзала Термини), в ступенях которой имелись отверстия для освещения. Вход к этой лестнице закрывался двустворчатой дверью.

|

| ||
| Лавки на первом этаже обычно не сообщались с квартирами выше, к ним вели отдельные лестницы | Травертиновая лестница на верхние этажи инсулы | Ларарий в инсуле «Caseggiato del larario» в Остии | Настенные росписи на первом этаже |
Строительство инсул
Инсулы первоначально строились способом бутовой кладки. Во времена Республики в качестве строительного материала стали использоваться небольшие туфовые блоки неправильной формы, скреплённые цементом. Позже инсулы начали строить из кирпича-сырца, позднее и обожжённого кирпича.
Те инсулы, которые возводились с соблюдением всех правил строительства, были надёжно защищены как от обвалов, так и от быстрого распространения огня в случае пожара[30].
Правила строительства упоминаются в сочинении «Десять книг об архитектуре», например, о правильном приготовлении бетона и извести, правилах сушки кирпича, закладке фундамента и т. д. Витрувий писал, что по закону внешние стены должны были быть толщиной не менее 45 см, внутренние стены — тоньше, чтобы не занимать слишком много места под постройку[69]. Римские императоры также издавали некоторые законы, регулировавшие строительство многоэтажных домов. Например, законы императоров Августа, Нерона, Траяна по ограничению высоты инсул (см. раздел Высота и площадь инсул) или закон императора Валентиниана (367—368 года), по которому запрещалось строительство балконов в Риме, а старые деревянные балконы сносились[70].
Для частного строительства нанимались мелкие предприниматели, которые состояли в гильдиях строителей[71][K 11]. Стоимость, архитектурные особенности и условия строительства оговаривались в подрядном договоре[K 12][72].
Строительные материалы и конструкции
Инсулы были построены из тех же материалов, что и римские общественные здания. Однако, стремление к дешевизне и простоте в строительстве доходных домов привело к тому, что детали из обработанного камня в инсулах являлись редкостью, а доля деревянных элементов и конструкций была большей. В своей основе инсула была характерным римским сооружением — капитальным зданием с клеткой стен смешанной конструкции, которая сочетала участки кирпичной кладки, бутовой кладки, иногда кладки из отделанного камня[необходимо викифицировать] и различных забутовок между наружными вёрстами[Непонятный термин] из кладки.
Основным материалом в конструкции стен был кирпич. Из сплошной кирпичной кладки выполнялись более нагруженные части стен — узкие простенки, столбы, разгрузочные арки в стенах и перемычки над проёмами и т. д. Менее нагруженные участки стен имели наружную и внутреннюю вёрсту (равно как и откосы проёмов) из кирпичной кладки, а внутренняя часть стены была заполнена забутовкой; если такие участки стен были большими, они разделялись своего рода скрытым каркасом — находящимися в массиве стены столбами и горизонтальными перемычками из кирпичной кладки. В тех случаях, когда бутовая засыпка плотно заливалась известковым раствором и трамбовалась, такая конструкция — opus caementicium (называемая в наше время римским бетоном[73]) приобретала несущую способность, не уступающую основной кладке. Введение в строительную практику этого своеобразного бетона[K 13] позволило удешевить дома, сооружаемые для растущего населения Рима. Хотя Витрувий сомневался в долговечности и прочности смеси, которая, по его мнению, лишь по истечении 80 лет становилась крепкой, он выражал своё восхищение новыми домами (около 25 года до н. э.) из бетона и обожжённого кирпича.
Римский кирпич был, на современный взгляд, крупным и плоским. Во времена Витрувия стандартный размер кирпича в плане был 1х1,5 фута (30х45 см) при высоте в 4 дюйма (10 см). Однако такой крупный (и дорогой) кирпич применялся преимущественно для кладки арок, для кладки стен использовался кирпич половинного размера (22х30х10 и 40х15х10 см)[74][K 14].
Римляне применяли два вида кирпича — обожжённый и высушенный на воздухе (кирпич-сырец). Для Витрувия (то есть в конце I века до н. э.) кирпич «по умолчанию» — это кирпич-сырец, а обожжённый кирпич — современный высококачественный материал, позволяющий возводить дома невиданной ранее высоты. Обожжённый кирпич был более прочным, долговечным, но и более дорогим. Здания, построенные из качественного обожжённого кирпича, с добротно выполненным бетонным заполнением стен, с перевязкой наружных кирпичных верст горизонтальными участками кладки, были достаточно прочными и надежными[75]. Витрувий указывал, что только стены, выполненные кладкой из обожжённого кирпича, могли быть многоэтажными[69]. Вместе с тем, в литературных источниках сохранились сведения о частом использовании кирпича-сырца, зачастую низкого качества, особенно во время империи[76]. В плохо просушенном кирпиче появлялись трещины, в них быстро проникала вода, так что конструкция теряла прочность. Дион[77] пишет, что дома из кирпича при наводнении всасывают воду и распадаются. Витрувий советовал не применять кирпич-сырец, как менее прочный материал, для строительства инсул с тонкими стенами в многонаселённом Риме[78]. Так как сырец всё же применялся для построек, а стены, из-за стремления к экономии, зачастую имели недостаточную толщину, возникала опасность частых обвалов, особенно, если достраивались дополнительные верхние этажи.
Методы римской кладки были разнообразны. Внешние стены остийских инсул выкладывались во время правления Траяна чаще всего кладкой opus reticulatum и opus latericium, при императоре Адриане (117—138 года) — почти полностью из кирпичной кладки в opus latericium, чередование кирпича и туфа в кладке opus vittarum было распространено в постройках между 150—450 годами. Витрувий критикует opus reticulatum как не обеспечивающий достаточную прочность стены, каменная верста при данном методе кладки служит скорее несъёмной опалубкой, чем несущим элементом конструкции.
Римляне чаще всего не применяли в перекрытиях многоэтажных инсул сводчатые и купольные конструкции, представляющие собой вершину римского строительного искусства; эти типы конструкций были слишком сложными и дорогими, а также занимали много места по высоте. Вместо этого в инсулах преимущественно использовались весьма простые перекрытия по деревянным балкам. На массивные балки укладывался дощатый настил, поверх которого устраивалась основательная стяжка из известкового раствора. Витрувий рекомендует крайне тяжелую конструкцию стяжки — по его мнению, рекомендуемая толщина растворного слоя (или бетонного, если в конструкцию введён щебень) должна быть от фута до полутора (30-45 см). Покрытия полов римских зданий были разнообразны и зависели от бюджета заказчика — от наиболее дорогих мозаик до простых керамических плиток и далее до примитивной затирки растворной стяжки.
Проёмы в стенах перекрывались кирпичными арками и арочными перемычками, часто в массиве стены устраивались разгрузочные арки. Если нужно было сделать прямоугольный проём, над ним устраивалась очень пологая арочная перемычка, под арку устанавливалась небольшая деревянная горизонтальная перемычка, пространство между ней и аркой заполнялось кирпичной кладкой. Реже применялись плоские клинчатые перемычки из кирпича, каменные перемычки и деревянные перемычки[79].
Лестничные марши в домах добротной постройки были по кирпичным сводам, со ступенями из травертина; более экономичным вариантом были бетонные ступени с наполнителем из обожжённого кирпича. В совсем дешёвых домах лестничные марши были деревянными.
Конструкции балконов были разнообразны. Несущей конструкцией деревянных балконов были деревянные балки, заделанные в стены. Кирпичные балконы опирались на цилиндрические своды по консолям из травертина, заделанным в наружные стены. Также применялась оригинальная конструкция балкона в виде массивного кирпичного полусвода, консольно выступающего из стены[K 15]. В некоторых случаях здания имели эркеры.
В качестве вяжущих веществ римляне применяли известково-пуццолановые смеси, получаемые добавлением к обычной гашеной извести материалов вулканического происхождения. Эти вяжущие по характеру химических реакций при твердении были подобны известковому раствору, то есть требовали длительного высыхания. В то же время, по прочности и влагостойкости такие материалы был близки к современным цементным растворам высоких марок, чем и объясняется высокая долговечность римской кладки. Для кладки, тонких стяжек и штукатурки стен римляне пользовались известково-песчаными растворами, а при добавлении к раствору щебня (римляне не вводили щебень в раствор, а заливали им слой щебня) получался бетон. При необходимости облегчить конструкцию римляне использовали лёгкий бетон с заполнением из пемзы или легкого туфа. Там, где требовались декоративные качества поверхности, мог применяться мраморный песок.

|
|||
| Отделка стен внутреннего дворика выполнена из камня, выложенного в виде сети — opus reticulatum. Выемки под арочными перемычками — следы от утраченных вспомогательных горизонтальных перемычек из дерева | Вход в инсулу «Casa delle Volte Dipinte». Фасад выложен кирпичом в opus latericium. Внутри отделка выполнена в opus reticulatum | Входы в инсулу. Фасад полностью выложен кирпичной кладкой. Лестница из травертина ведёт на второй этаж инсулы | Жилой комплекс, выстроенный из кирпича: в стене «Caseggiato del Balcone a mensole» (слева) хорошо видна структура кирпично-бетонной постройки. Сохранились консоли под балкон из цельного камня. Справа — «Caseggiato dei Misuratori del Grano» с портиком |
Римляне были знакомы и с фахверковыми конструкциями. Чаще всего их применяли в качестве перегородок выше первого этажа, так как кирпичные перегородки были слишком тяжелыми для перекрытий по деревянным балкам. Горизонтальные и вертикальные элементы таких стен выполнялись из деревянного бруска, а заполнение — из плетёных матов. Витрувий критично относился к плетёным конструкциям[80]:«Лучше бы их и не придумывали! они сберегают место и время…, но при пожаре это готовые факелы». Дерево разбухало при высокой влажности и снова сжималось, отчего на оштукатуренных стенах появлялись трещины. В трещины фахверковой конструкции могла попадать вода, так что содержимое такой стены начинало гнить, и со временем могла повредиться и вся несущая конструкция. Если фахверк был заполнен сплетённым тростником, то сквозь трещины могли выходить наружу отдельные соломинки, что также могло способствовать распространению пожаров. Из фахверковых конструкций могли также возводиться целиком верхние этажи[81], выполняться эркеры.
В строительстве инсул использовалось достаточно много деревянных элементов. Кроме описанных выше фахверковых стенок и перегородок, а также балок перекрытий, из дерева выполнялись стропильная система и обрешётка под черепицу, стенки эркеров, ограждения балконов, двери, ставни окон. На слабых и болотистых грунтах под фундаменты укладывались лежни из брёвен. Заполнения оконных и дверных проёмов были сплошными деревянными; хотя римляне и были хорошо знакомы со стеклом, этот материал был слишком дорогим для того, чтобы устраивать из него окна многоквартирных домов[82][83].
Скатные кровли инсул были покрыты черепицей [84]; римское черепичное покрытие собиралось из элементов двух видов: плоской плитки tegula и выпуклого полукруглого гребня imbrex. По некоторым предположениям, иногда кровли домов могли быть плоскими, в виде террас[85].
Снижение затрат на строительство
Стремление быстро получить доходы при минимальных вложениях приводило к тому, что при возведении инсул строители экономили на материалах и затраченном на работу времени[K 16]. Это вело к недостаткам и нарушениям: устройству слабых фундаментов и фахверковых конструкций там, где требовались капитальные стены, возведение стен без выдерживания времени для высушивания кладочного раствора и бетонных забутовок[K 17], возведение стен недостаточной толщины и из недостаточно прочных материалов[30]. От подрядчика также нельзя было ожидать особенно хорошего качества постройки, тем более, если соглашение предусматривало низкие расходы на постройку. Если срок сдачи дома задерживался, то подрядчик мог потерять заказ и даже получить штраф. Если во время постройки дома строительство приостанавливалось, то случалось, что другой подрядчик достраивал дом некачественными строительными материалами[K 18][86].
Часто в целях снижения затрат на строительство использовались дешёвые и некачественные материалы: низкосортное дерево, плохо обожжённый или недосушенный кирпич. Для более быстрой доставки строительных материалов использовались те, которые имелись вблизи города или стройки. Как указывал Витрувий, для снижения затрат на транспорт и дорогостоящий материал, например, применялась ель из окрестностей Рима, а не более огнеупорная лиственница из римских провинций, или вместо прочного базальта из Этрурии употреблялся менее прочный туф из окрестностей города.
При использовании бетонных забутовок стен могли быть допущены нарушения технологии, существенно влиявшие на качество: не полностью погашенная известь; нагружение конструкции без выдерживания времени для отвердевания; замена скрытых в толще бетонной конструкции кирпичных столбов деревянными стойками. Также был возможен неправильный подбор фракций заполнителя, ухудшавший прочность раствора (например, при применении крупных фракций морского песка). Отклонения в составе бетонной смеси могли не сразу повлиять на эксплуатационную надежность конструкции и лишь со временем привести к обрушению.
Опасность пожаров и обвалов в Риме
Инсулы в Риме строились иногда без точного соблюдения техник строительства, с нарушением строительных норм, часто употреблялись некачественные или дешёвые строительные материалы. Широкое применение дерева способствовало распространению пожаров в столице римского государства с конца республики до поздней античности. Из-за частых обрушений и пожаров в Риме съёмщики квартир и комнат в инсулах жили в постоянной опасности потери жилья и собственной жизни.
О постоянных пожарах в Риме писали Страбон, Цицерон, Ювенал и другие античные авторы[22][57][87][88]. Плутарх называл пожары и обвалы «сожителями Рима»[89], Сенека описывал трескающиеся, рушащиеся и горящие многоквартирные дома[90], для него пожар стал явлением естественным и неизбежным[91].
...мы населяем столицу,
Всю среди тонких подпор, которыми держит обвалы
Домоправитель: прикрыв зияние трещин давнишних,
Нам предлагают спокойно спать в нависших руинах.
Жить-то надо бы там, где нет ни пожаров, ни страхов.
Укалегон уже просит воды и выносит пожитки.
Уж задымился и третий этаж, — а ты и не знаешь:
Если с самых низов поднялась тревога у лестниц,
После всех погорит живущий под самою крышей,
Где черепицы одни, где мирно несутся голубки...
[57].
При возникновении пожара огонь быстро охватывал всё многоэтажное здание и перекидывался на соседние дома. Скученность домов, узость римских улиц и переулков (4,5—5 м), отсутствие эффективных противопожарных средств способствовали распространению огня и затрудняли эвакуацию жильцов[24].
У Ювенала владелец дома уговаривает своих съёмщиков не волноваться и спать спокойно в доме, который еле держится на тонких подпорках[57].
Многочисленные литературные источники свидетельствуют также о частых обрушениях домов в Риме во время или после наводнений[92]. Причинами обвалов в этом случае могло стать низкое качество кирпича, слабая конструкция фундаментов, недостаточная толщина стен, низкое качество кладки.
Значительное улучшение состояния городских построек произошло после пожара при Нероне: дома стали чаще строиться из обожжённого кирпича и бетона. Однако из-за потребности в жилье и в погоне за наживой указы Нерона стали обходиться: при строительстве по-прежнему пользовались деревом и необожжённым кирпичом, для штукатурки применяли глину с соломой, а для связующего раствора — низкокачественные компоненты[24].
Марциал и Ювенал писали о плохом состоянии столичных инсул во времена Флавиев и в начале эры Антонинов[57][88][93]. К середине II века ситуация не изменилась, так, Авл Геллий вновь описывает постоянную опасность пожаров в римских инсулах[94]. Во время правления Антонина Пия Рим по-прежнему опустошали серьёзные пожары[95], подверженность пожарам многоквартирных домов юрист Ульпиан принимает как должное[96] и сообщает, что в императорском Риме ни дня не проходило без пожара[97]. Историк III века Геродиан разъясняет причину постоянных бедствий: многие из домов столицы всё ещё частично были выстроены из дерева[98]. Полтора века после Геродиана Симмах описывал как катастрофу обвал жилого дома на форум Траяна[99].
Быт и условия проживания
При исследовании условий проживания в римских инсулах историки опираются в основном на античные письменные источники. Однако эти работы описывают лишь наиболее общую картину жизни бедных слоёв населения и не содержат точной информации о размерах инсул, количестве комнат или состоянии квартир в доме[100].
В квартирах простых людей не было водоснабжения, канализации, туалета и отопления. Квартиры беднякам, скорее, служили местом для ночёвки и хранения скромного имущества, большую часть дня жители города проводили на улице, в лавках и на рынках, в забегаловках и банях. Для некоторых горожан единственным местом ночёвки становилось пространство под лестницей (subscalaria)[101] в инсуле или в подвале (fornix) торговой лавки или мастерской. В вонючих подвалах, по сообщениям античных авторов, обитали проститутки, останавливались на ночлег попрошайки и нищие. Государственным служащим, садовникам и писцам разрешалось ночевать в общественных постройках, самые неимущие ютились под мостами[102][103]. В Дигестах сообщается, что инсулы и склады чаще всего подвергались ограблениям[104].
Владельцы инсул в Риме зачастую не заботились о надлежащем ремонте своих зданий[105]. Сенека упоминает здания в аварийном состоянии: «Мы совершенно спокойно смотрим на покосившиеся стены инсулы в дырах и трещинах»[106], или в другом письме: «Какое благодеяние оказывает нам тот, кто подпирает наше пошатнувшееся жилище и с искусством невероятным удерживает от падения инсулу, давшую трещины с самого низу!»[107] Цицерон направил архитектора в одну из своих инсул лишь после того, как несколько лавок в ней обрушились, а жильцы дома разбежались[108][109].
Жильцы инсул
Территория Рима во время империи не вся была застроена жилыми домами: места отводились для религиозных и общественных построек, непригодной для строительства была болотистая местность у русла Тибра, 200 га занимало Марсово Поле, на Палатинском холме располагались дворцы императоров. Витрувий писал, что огромная численность людей, живущих в Риме, требует громадного количества жилищ, и что «сами обстоятельства заставили искать помощи в возведении верхних этажей»[110]. Жилья, однако, в столице не хватало: «…посмотри на это множество людей, которое едва вмещается в бесчисленных домах города!»[111]
Люди проживали стеснённо вблизи городского центра, даже в таком небольшом городе, как Остия[112]. Точное число жильцов в отдельной квартире нельзя установить, предположительно, в ней проживало несколько человек, что связано, прежде всего, с нехваткой жилой площади и высокой арендной платой. По предположению Каркопино, в одной инсуле было до 6 квартир, в каждой из них проживало 5—6 человек[113]; Кальца предположил, что каждый из многоквартирных домов населяло, в среднем, сорок человек. По некоторым предположениям, на 4—5 этажах инсулы у основания Капитолия в Риме в комнатах по 10 м² проживали небольшие семьи[114]. В Остии, по крайней мере в 33 крупных инсулах, число жителей превышало сто человек, а некоторые жилые комплексы вдоль Decumanus Maximus могли вместить до 280 человек (район II, квартал III) или до 328 (район II, квартал IV)[63].
На первых этажах инсул, в более комфортабельных квартирах селились обеспеченные жильцы — зажиточные вольноотпущенники, всадники и даже сенаторы. Для населения Остии предполагается, что количество жильцов в комфортабельной квартире примерно равнялось количеству спален (cubicula), а число жителей в каждом из этих домов варьировалось в соответствии с планом постройки[112]. Если на первом этаже были лавки, то в них проживали бедняки. Так, в Остии, предположительно, и сами лавки, в том числе в домах, где не было антресолей или задних комнат, были заселены[115]. В подсобных помещениях лавок могли проживать, в среднем, 4 человека[32]. В квартирах, начиная с третьего этажа, селились представители менее обеспеченных слоёв населения, беднейшие из бедных проживали на самых верхних этажах и в пристройках[116]. Цицерон подчёркивал, что ни владельцы дома, ни арендаторы сами не жили в инсулах, а искали более комфортные условия проживания[117], а переезд даже из комфортабельной квартиры в домус считался признаком возвышения по социальной лестнице[118].
В римских городах не было районов, где селились только бедняки, — рядом с ветхими инсулами строились городские особняки и общественные постройки. Самыми неблагоприятными для проживания районами в столице были расположенные у реки, там жили более бедные римляне. После реконструкции отдельных районов Рима, разрушенных после пожара при Нероне, более обеспеченные римляне стали селиться в новых солидно выстроенных инсулах, более бедные жили по-прежнему скученно в центре города и у Тибра[K 19].
В квартирах даже обеспеченных римлян было, скорее всего, очень мало мебели, а у бедняков лишь одна кровать и стул[119].
Водоснабжение и канализация
Особенностью римского водоснабжения было то, что вода всегда лилась непрерывным потоком; хотя римляне и были знакомы с конструкцией запорного крана, они никогда не применяли его для водопроводов. Соответственно, в частные дома вода подавалась через фонтаны, бассейны и нимфеи — конструкции, подразумевающие непрерывный проток воды[120]. Это было возможным только для достаточно обширных помещений, и только на уровне земли. Водоснабжение и канализация в остийских инсулах и, с большой вероятностью, и в Риме имелись только на первых этажах в комфортабельных квартирах[121][122][123][124][125].
Жильцам верхних этажей приходилось пользоваться банями, покупать воду у водоносов или ходить за ней во двор[K 20], к ближайшему фонтану или колодцу. Водой инсулы снабжали также многочисленные разносчики воды — aquarii[K 21][126].
Из-за отсутствия водопровода в инсуле тушить огонь в случае пожара, особенно на верхних этажах, было нечем. Существовали особые инструкции, предписывавшие жильцам хранить в каждой квартире сосуд с водой про запас: «Все жильцы обязаны следить за тем, чтобы по небрежности их не возникло пожара; кроме того, каждый жилец должен держать в квартире воду». За нарушение этих распоряжений виновный подвергался телесному наказанию[127].
Римляне умели устраивать единые городские системы канализации, и подключали к ним общественные уборные и публичные здания. Однако, инсулы в подавляющем большинстве случаев не были подключены к канализационной сети. Раскопки в Остии показали, что в простых квартирах канализация и туалеты отсутствовали. Даже в инсулах повышенного комфорта лишь в редких случаях имелись туалеты, в основном вблизи лестничной площадки размещался туалет для всех жильцов[128]. Большинство обитателей инсул как в Риме, так и в других городах были вынуждены пользоваться общественными туалетами, ночным горшком или амфорами сукновальщиков, выставленными для сбора мочи на улицах.
В Риме нечистоты выносились на навозные кучи, в выгребные ямы или просто выбрасывались из окон. Ювенал упоминает о несчастных случаях, которые подстерегали прохожего, идущего мимо окон: «сверху летит битая посуда; хорошо, если только выплеснут объёмистую лоханку»[57]. Для жильцов это был удобный способ быстро опустошить содержимое ночных горшков[129][K 22]
Отопление и освещение
Римляне не были знакомы с комнатными печами. Для крупных зданий они применяли центральное отопление тёплым воздухом, при котором воздух подавался в помещение через каналы в полу и стенах. Но так в инсулах можно было отапливать только первый этаж; чтобы протопить таким образом многоэтажное здание, надо было устраивать для размещения каналов чрезмерно толстые стены[105][128]. Поэтому верхние этажи инсул не имели удовлетворительной системы отопления, и их жильцы обогревались зимой отопительными жаровнями, похожими на самовары, или бронзовыми или медными жаровнями, на установленной на них решётке также готовилась пища[24]. В квартирах с коридорной системой, возможно, жильцы готовили и употребляли пищу в общей комнате — medianum[130]. В переполненных квартирах или на выстроенных из дерева верхних этажах при таком отоплении особенно возрастала опасность пожаров[30], а продукты сгорания, при отсутствии дымоходов, попадали непосредственно в жилые комнаты.
Для защиты от ветра, дождя и холода окна закрывались деревянными ставнями, на верхних этажах лишь прикрывались занавесками из ткани или шкуры. В квартиру проникало мало свежего воздуха, а из-за отопления жаровнями и освещения масляными лампами и свечами в помещениях оседала копоть и чад[24].
Античные авторы свидетельствуют, что иногда даже днём жителям инсулы приходилось сидеть в темноте или полумраке «в затхлой каморке»[131]. По словам Ювенала, бедняк снимает для жилья fusca cella — «потёмки»[57]. Если ставни неплотно закрывались, то в комнате зимой становилось ветрено и очень холодно. Марциал жаловался, что в его комнате не согласится жить сам бог ветров, потому что в ней невозможно было плотно закрыть окошко[132].
Антресоли — жилище ремесленника и его семьи — были маленькими, низкими и тёмными, окошки над входом в лавку или мастерскую были небольшими. Мало дневного света попадало и в сами торговые лавки, особенно если перед ними располагался портик[133].
На городские земельные участки распространялось предписание, по которому домовладелецу не разрешалось заслонять своей постройкой или надстройкой свет соседу. Однако, если хозяин обладал несколькими инсулами или комплексом зданий, он мог застроить участок по своему желанию, и, таким образом, на некоторых этажах освещение в инсуле могло значительно ухудшиться.
У небольших инсул не было внутреннего дворика, на который окна могли выходить и освещать комнаты[K 23][133].
Особенности аренды
Если квартира освобождалась, хозяин инсулы размещал на фасаде дома табличку с объявлением о сдаче квартиры и о сроке аренды. Квартиры арендовались зачастую на один год, при этом можно было договориться и о продлении срока. Договоры заключали, по всей видимости, 1 июля. После двух лет неуплаты за квартиру или комнату договор автоматически прекращал силу[134].
Хозяева инсул не занимались их управлением. Дом сдавался основному съёмщику, который сдавал в аренду квартиры и комнаты по отдельности. За порядком в доме, уплатой квартплаты и улаживанием конфликтов между жильцами обычно следил insularius — доверенный раб или вольноотпущенный владельца дома. У аристократов, владевших большим числом городской недвижимости, в числе служащих состоял управляющий инсулами — procurator insularum. Арендная плата собиралась инсуларием согласно договору об аренде — раз в год, раз в квартал или раз в полгода к 1 января и 1 июля. Возможно, бедняки платили за жильё ежедневно[135].
Инсулы могли иметь как одного владельца, так и нескольких, отдельные квартиры продавались или также передавались по наследству. Большие инсулы, скорее всего, назывались по имени хозяина или строителя, например, в Риме insula Sertoriana, insula Felicles, insula Vitaliana[134]. После смерти хозяина название могло закрепиться за конкретным домом. Табличка[K 24] с названием укреплялась на фасаде дома и служила не для ориентировки в городе, а скорее для обозначения городской недвижимости[136].
Инсула, выстроенная Аррием Поллионом, принадлежащая Гн. Аллию Нигидию Маю, сдаётся с июльских календ: лавки со своими антресолями, прекрасные квартиры вверху (cenacula equestria) и дом. Съёмщик пусть обращается к Приму, рабу Гн. Аллия Нигидия Мая.— Пример объявления о сдаче жилья в Помпеях[24]
Арендная плата
Сведения о ценах на жильё в инсуле очень отрывочны. Арендная плата в инсулах в Риме была достаточно высока. Оплата до 2 тысяч сестерциев в год за очень скромное жилище в Риме была высокой, так что при доходе около тысячи сестерциев в год низшие слои населения нуждались в дополнительном заработке, если речь шла не о крохотной комнатке на самом верху инсулы[K 25]. Плутарх сообщает, что Сулла в молодости платил за скромную квартиру 3 тысячи сестерциев в год, тогда как вольноотпущенник за квартиру такого же размера, но этажом выше платил 2 тысячи[137]. Через несколько десятилетий столько платить приходилось уже за самое простое жильё в центре города. Гай Веллей Патеркул[138] называет годовую плату в 6 тысяч сестерциев слишком низкой и неподобающей рангу сенатора. Эквиту Целию, другу Цицерона, квартира обходилась в сумму до 30 тысяч, при этом для его статуса такая сумма не считалась большой[139]. Квартиры на верхних этажах сдавались за более низкую арендную плату, чем на нижних этажах. По некоторым подсчётам, арендная плата за скромную квартиру в Риме составляла около 500 сестерциев в год[140].
Проблема высокой арендной платы встречается в литературных и эпиграфических источниках. Надгробная надпись одного вольноотпущенника сообщает о том, что смерть освободила его от забот оплаты жилья[141]. О проблеме оплаты писал Ювенал, считавший, что цена ветхого жилища в Риме такова, что этих денег хватило бы на покупку дома с садиком в провинции недалеко от Рима[142]. Марциал сочувствовал бедным юристам и поэтам столицы, которые не могли позволить себе даже скромную квартиру[143]. Проблема арендной стоимости жилья затрагивала не только самых бедных. Так, Цицерон, владевший инсулами в Риме, жаловался на трудности при сборе оплаты с жильцов — съёмщики просто не могли оплатить проживание[144]. Даже сенаторы, по сообщению Светония, в поисках недорогой квартиры пропускали заседания сената[145].
В редких случаях императоры освобождали городской плебс от оплаты за жильё. Так, эдиктом Цезаря от годовой арендной платы освобождались те, кому в Риме она обходилась до 2 тысяч, а в окрестностях Рима — до 500 сестерциев[146].
Права съёмщиков
Права съёмщиков и хозяев недвижимости регулировались законами, если в договоре об аренде не были оговорены особые условия.
Хозяин инсулы мог в любой момент выселить жильцов. Если съёмщик к означенному в договоре сроку, обычно в календы, не оплачивал квартиру, хозяин имел право немедленно его выселить[147]. Вещи жильца, «ввезённое и внесённое», считались отданными хозяину в залог, обеспечивающий аккуратное внесение квартирной платы. В случае неуплаты хозяин имел право забрать те из них, которые стояли в квартире постоянно, а не оказались там случайно или временно[24].
Съёмщик должен был оставить квартиру после окончания договора в таком виде, какой её снял, иначе хозяин также имел право взять всё имущество под залог на случай будущих затрат, например, на необходимые ремонтные работы[148]. Если в инсуле проходил небольшой ремонт или даже снос части здания, то жильцы должны были мириться с ухудшением условий проживания, при этом оплата за жильё не уменьшалась. Только в случае, если работы затрагивали часть помещения, где съёмщик непосредственно проживал, он имел право потребовать снижения арендной платы.
Съёмщик квартиры платил вперёд[149]. Если съёмщик оплатил аренду за весь год, а квартира через несколько месяцев вследствие пожара или обвала становилась непригодной для проживания, сумму за оставшееся время аренды он мог потребовать назад. Если хозяин инсулы решал использовать здание для себя, то он имел право расторгнуть договор. Если, однако, сдавший в аренду расторг договор без причины, то съёмщик имел право потребовать возмещения ущерба. В случае продажи недвижимости жильцов также могли выселить новые хозяева.
Съёмщик имел право в любое время расторгнуть договор, если в договоре не указывались иные условия. Договор об аренде мог быть расторгнут досрочно одной из сторон без выплаты штрафа, только в случае нарушения условий договора: при неуплате за жильё или значительном ухудшении условий проживания, например, если жильцу замуровали окна квартиры.
Инвестиции в инсулы и спекуляции
Спекуляция, наряду со спросом на жильё в Риме и высокими ценами на участки под строительство, имела значительное влияние на дороговизну столичных квартир.
Страбон писал о том, что в Риме «строятся непрерывно по причине обвалов, пожаров и перепродаж, которые происходят тоже непрерывно. Эти перепродажи являются своего рода обвалами, вызванными по доброй воле: дома по желанию разрушают и строят наново»[150]. Владельцы участка пытались выстроить недорогой многоквартирный дом и быстро получить доход от съёма, сдав его за более высокую арендную плату или же выстроив на месте инсулы роскошный особняк[24].
По закону хозяин обязан был вернуть съёмщику дома внесённую аренду и добавить к ней деньги, которые арендатор рассчитывал получить за квартиры и которых лишился с выездом жильцов. Хозяин также должен был возместить ущерб съёмщику, если он сдал квартиры с целью наживы, зная, что ветхий дом нужно сносить[151].
Особенно выгодным предприятием являлась спекуляция готовым строительным материалом, прежде всего камнем и кирпичом: инсулу по желанию хозяина сносили, а строительные материалы выгодно распродавали. В 44 году указом было запрещено продавать городские дома «negotiandi causa» — «по соглашению сторон». Этот запрет был узаконен и в других городах — Таренте, Малаке, колонии Colonia Iulia Genetiva Urbanorum. После обрушений или пожаров некоторые предприимчивые римляне скупали у хозяина пострадавшего дома по сходной цене участок. На месте сгоревшего дома строились новые инсулы или особняки. По словам Плутарха, таким образом в руках Красса оказалось около половины земельной площади в Риме[24].
Капиталовложения в даже солидно выстроенную инсулу могли стать рискованными из-за ветхих соседних построек. Хозяин инсулы также хотел поскорее вернуть вложенные в дом деньги, поэтому не имел долгосрочного интереса к отдельной инсуле[K 26]. Несмотря на пожары и обвалы, владение инсулами было очень выгодным вложением денег, приносившим хорошие доходы, хотя и не все, учитывая многочисленные опасности, в том числе и нестабильную политическую ситуацию, вкладывали деньги в городское строительство. Состоятельные римляне с хорошими связями даже извлекали выгоду из пожара или обрушения инсулы, так как их друзья оказывали им в этом случае значительную финансовую поддержку, окупавшую потерю недвижимости.
Единичные попытки, например, императора Нерона[152], предложившего жителям с латинским правом римское гражданство, при условии, если они вложат капитал в римские инсулы, не улучшили ситуацию с жильём в столице.
Строительство инсулы в Риме в I веке н. э. стоило, по некоторым подсчётам, около 100 тысяч сестерциев[154]. В своих письмах Цицерон указывает на то, что ежегодный доход с одной из его инсул составлял 80 тысяч сестерциев[155].
Посредники и съёмщики зачастую извлекали выгоду из последующего поднаёма. Некоторые посредники снимали весь дом и затем предлагали для аренды отдельные этажи, съёмщики этих этажей, в свою очередь, сдавали уже отдельные квартиры. Съёмщики квартир затем за огромные деньги сдавали отдельные комнаты или углы. Для пересъёмщиков домов и квартир прибыль могла составить около 20—33 %[156].
Инсула в истории и культуре
Инсулы являются примером градостроительного искусства древнего Рима, они строились в крупных и быстроразвивающихся городах римского государства.
В Помпеях было построено лишь несколько домов такого типа, и, вероятно, если бы город не был разрушен в 79 году, его бы постепенно перестроили в архитектурном стиле Остии[157] — на смену домам с атрием пришли бы многоэтажные инсулы.
В позднеантичный период отдельные инсулы стали перестраиваться в роскошные домусы, например, один из домов, раскопанный недалеко от фонтана Треви в Риме, или инсулы на Целии. Сходная ситуация была и в Остии: некоторые крупные остийские инсулы стали приходить в запустение уже в конце III века, при этом особняки-домусы стали заново перестраиваться[158].
О судьбе античных инсул Рима в раннее Средневековье известно очень мало[159]. В 40 — х годах XX века возникло предположение, что типичные средневековые дома с мастерскими на первом этаже и жилыми помещениями этажами выше, были построены на основе античных жилых домов. До сих пор, однако, средневековые дома такого типа в Риме, в которых бы заново использовались античные инсулы, не были обнаружены[159]. Точно известно лишь о некоторых инсулах времён империи, которые стали частью последующих средневековых построек[160], например, в качестве фундамента для раннехристианских церквей. Так, инсула с 11 торговыми лавками у подножия Палатина, датируемая II—III веками, была позднее встроена в церковь Санта-Анастазия. Части инсулы на Эсквилине между виа С. Мартино-аи-Монти и базиликой святой Пракседы были встроены в более поздние жилые постройки. Два помещения инсулы у Треви, перестроенные во время правления императора Адриана в резервуар с водой, стали частью акведука Аква Вирго. Этот резервуар был заброшен в VI веке. Одна из стен 4-этажной инсулы до 20 метров высотой была встроена в III веке в стену Аврелиана между Тибуртинскими и Пренестинскими воротами.
В Европе, после падения Римской империи, многоквартирные дома начали строить только в эпоху позднего Средневековья, за исключением Византии, где зодческая традиция не прерывалась. Сохранились литературные свидетельства о жилой застройке Константинополя, например, упоминания узких улиц и переполненных многоэтажных домов[161]
Изучение инсул
Ещё в 1885 году в руководстве о римских древностях Марквардт писал, что историкам неизвестно, как выглядели инсулы. Исследователь римских древностей Ланчиани считал возможным сравнивать города XIX века с античными, однако учитывая различия гигиенических норм и стандартов строительства. Так, например, наличие туалета, отопления и водоснабжения в древнеримской квартире считалось роскошью[162].

В XIX веке историки Ланчиани и Нибур считали, что римские районы у моста Сант-Анджело, римского гетто, в Регола могли быть похожи на античные плебейские районы, такие как Субура или Transtiberim, и их застройку[163][164]. Лишь после раскопок в Остии, когда были обнаружены многочисленные руины многоэтажных домов, появились первые исследования и реконструкции этих зданий, позднее и сравнения архитектурных особенностей Рима и Остии.
Инсулы Рима в исследованиях оцениваются в основном негативно из-за предполагаемой скученности и антисанитарных условий проживания[165]. По словам Каркопино, инсулы Рима представляли собой одновременно «убожество и мощь античности»[29]. Остия оценивается скорее как «примерный» город, в котором жило «счастливое население»[166].
Некоторые учёные пытаются найти сходство античных районов, застроенных инсулами, с современными городскими трущобами. Однако в инсулах могли проживать как бедняки, так и зажиточные римляне, поэтому такое сравнение неправомерно. Инсулы строились, прежде всего, в центре города, соседствуя с особняками и общественными постройками. При этом даже самые бедные жильцы населяли дома, выстроенные по большей части из кирпича или камня[156].

Реконструкцией остийских инсул, а также многочисленных инсул на макете императорского Рима занимался Итало Гизмонди (макеты в Музее римской цивилизации). Остийские инсулы на рисунках Гизмонди поначалу (около 1916 года) изображены 2—3-этажными, на последующих рисунках 1922 года инсулы представлены 4-этажными, без достаточных археологических доказательств[167]. Вид остийских многоэтажных домов на реконструкциях Гизмонди критиковали некоторые историки уже в 40-х годах XX века, в особенности изображение верхних этажей и балконов[168]. Римские инсулы были реконструированы по типу солидных остийских построек, хотя для античного Рима предполагаются более ветхие строения и стеснённые условия проживания[K 27][169]. По мнению одной из критиков, работы Гизмонди являются скорее эскизами, создающими убедительную иллюзию античности, а не археологическими реконструкциями[170].
Существует мнение, что «псевдо-аутентичные» реконструкции остийских инсул 20-х годов XX века оказали влияние на архитектуру новых районов Рима при фашистском режиме[167]. Возможно, это влияние было существенным в применении декоративных элементов фасадов, например, использовании кирпича, арок и т. д.[170]
Древнеримские инсулы сегодня
 В Риме не были найдены руины инсул времён Республики или ранней империи. В городе раскопаны и доступны для посещения некоторые руины инсул времён империи:
В Риме не были найдены руины инсул времён Республики или ранней империи. В городе раскопаны и доступны для посещения некоторые руины инсул времён империи:
- У подножия Капитолия, у лестницы к церкви Санта-Мария-ин-Арачели сохранилась пятиэтажная инсула. На первом этаже дома располагались торговые лавки, над ними были антресоли, на верхних этажах квартиры. Часть верхнего этажа в средневековье была перестроена в церковь.
- Постройки на рынках Траяна, на Via Biberatica могут считаться примерами античных инсул. Помещения, однако, первоначально предназначались, скорее всего, под магазины и служебные помещения[159].
- Руины инсул были найдены под некоторыми христианскими базиликами и также открыты для посещения:
- под Санта-Чечилия-ин-Трастевере — руины инсулы с дубильной мастерской на первом этаже;
- на самом нижнем уровне раскопок под базиликой Святого Климента раскопаны фрагменты инсулы I века, встроенные в стены раннехристианской базилики;
- под церковью Святых Иоанна и Павла на Целии — остатки инсулы, перестроенные в городской особняк, а затем в церковь, видны с левой стороны церкви.
- Фундаменты инсул в Риме обнаружены также под галереей Колонна, руины крупной инсулы III века под церковью Сан-Лоренцо-ин-Лучина.
Необходимо учитывать, что те инсулы, на опасно низкое, угрожающее обвалами качество строительства которых так часто жаловались античные авторы, исчезли без следа. До нашего времени сохранились остатки наиболее доброкачественных и капитально построенных зданий[171]. У сохранившихся инсул утрачены все деревянные элементы; хорошая сохранность римских деревянных конструкций наблюдается только в Геркулануме, где больших инсул нет. Не сохранились в полном объёме и инсулы, имевшие максимально возможную высоту (20-30 м). Сохранившиеся здания либо всегда были 2-3-этажными, либо у них утрачены верхние этажи.
Инсула в культуре
|
См. также
Напишите отзыв о статье "Инсула"
Комментарии
- ↑ В Помпеях, например, инсула Арриана Поллиана (Corpus Inscriptionum Latinarum [db.edcs.eu/epigr/epi_einzel_de.php?p_belegstelle=CIL+04%2C+00138&r_sortierung=Belegstelle 4, 138]).
- ↑ По мнению Кальца, фасады остийских инсул не были оштукатурены.
- ↑ Ограничения императора Августа касались только новых домов, что, по мнению Родольфо Ланчиани, доказывает, что инсулы высотой в 20 метров и выше в Риме существовали и до времён Августа.
- ↑ Римский фут = 296 мм: 20,72 м = 70 римских футов, 17,76 м = 60 футов.
- ↑ В Остии сохранились руины инсул до 3 этажей, остальные этажи лишь предполагаются на основании толщины стен.
- ↑ Де Марчи указывает для сравнения, что в старых кварталах Милана, которые до XIX века не были перестроены, площадь съёмных домов составляла 112—270 м².
- ↑ Например, в Остии, в «Доме Юпитера и Ганимеда».
- ↑ В Остии в «Доме с расписными потолками» квартира на первом этаже располагала по первоначальному плану пятью комнатами внизу, потом помещения объединили в 2 более просторные комнаты в 90 и 60 м².
- ↑ Например, Casa delle Volte Dipinte, 7 из них располагались на первом этаже, остальные на втором.
- ↑ В Остии, например, 56,7 % лавок и мастерских имели только одно помещение.
- ↑ Витрувий жаловался на строителей, которые ничего не смыслят в своём ремесле и при этом не несут наказания за совершённые ошибки при строительстве жилых домов.
- ↑ Пример подрядного договора известен по надписи из Поццуоли.
- ↑ Римский бетон не являлся бетоном в современном смысле этого слова — щебень не замешивался в известково-песчаный раствор, а укладывался в конструкцию и после этого послойно заливался раствором.
- ↑ На фотографии инсулы в Остии хорошо видно, что арка выложена из полноразмерного кирпича, а все остальное — из половинного. На стене, видимой с торца, хорошо заметны два различных формата половинного кирпича.
- ↑ Балкон хорошо виден на фотографии инсулы в Остии; этажи выше балкона не сохранились, поэтому его можно принять за венчающий карниз.
- ↑ Вложение денег в дорогие строительные материалы, особенно для жилищ плебса, не оправдывались, так как эти слои населения не могли оплачивать дорогие квартиры.
- ↑ Античные известково-пуццолановые вяжущие (иногда не вполне точно называемые цементом) требовали для полной высушки от нескольких месяцев до года.
- ↑ В Эфесе, например, существовал закон против подобных нарушений.
- ↑ В том числе и по причине того, что ремесленники, чернорабочие, чиновники не могли селиться за городом из-за отсутствия транспорта.
- ↑ Например, в Доме Дианы в Остии во дворе находилась большая цистерна с водой.
- ↑ Акварии были неотъемлемой частью инсулы, и зачастую с покупкой дома новым хозяином перенимались и прежние снабжатели водой.
- ↑ Согласно Ульпиану, съёмщик квартиры, из окна или с балкона которой содержимое горшка было вылито на улицу, нёс ответственность за принесённый тем самым ущерб, даже если сделавший это человек и не был точно установлен (Дигесты XIX, 3, 5, 7 (Ульпиан), Дигесты 54, 7, 5, 18 (Гай)).
- ↑ Свет, согласно Дигестам, означал для инсул возможность видеть кусочек неба.
- ↑ В Риме была найдена подобная табличка с надписью: [I]nsula|Eutychetis. Высота букв составляла 9,5 см и 4 см.
- ↑ См. доходы ремесленников в месяц: Эдикт Диоклетиана о ценах.
- ↑ В одном из писем Цицерон пишет о выгоде обрушения инсулы, несмотря на краткосрочные убытки.
- ↑ Мнение учёных об условиях проживания, по крайней мере в инсуле Аракоели в Риме, в последние годы несколько изменилось. Относительно хорошее освещение некоторых комнат и высокие потолки на всех сохранившихся этажах позволяют предполагать неплохие условия для проживания.
Примечания
- ↑ 1 2 Lanciani, 1896, p. 705.
- ↑ Kunst, 2008, p. 16.
- ↑ Pöhlmann R. Überbevölkerung der antiken Städte. — С. 73—76.
- ↑ Lanciani, 1896, p. 706.
- ↑ Calza, 1958.
- ↑ Carcopino, 1992, p. 40—55.
- ↑ Packer, 1964, p. 4—17; 266.
- ↑ Kunst, 2008, p. 96.
- ↑ Boethius2, 1935, p. 164—195.
- ↑ McKay, 1998, p. 76.
- ↑ 1 2 Jordan H. Topographie der Stadt Rom im Althertum, II. — Berlin, 1871.
- ↑ 1 2 Richter O. [www.jstor.org/stable/4471947 Insula] // Hermes. — 1885. — Т. 20, № 1. — С. 91—100.
- ↑ Hermansen, 1978, p. 167.
- ↑ 1 2 Kolb, 2002, p. 455.
- ↑ Calza, 1958, p. 145—149.
- ↑ Boethius, 1934, p. 137.
- ↑ Gerkan A. von. Die Einwohnerzahl Roms in der Kaiserzeit // Römische Mitteilungen. MDAI 55. 1940. — Rom, 1940. — № 55.
- ↑ 1 2 Кнабе, 1979.
- ↑ McKay, 1998, p. 78.
- ↑ Страбон. XVI, 1, 5; 2, 23
- ↑ Витрувий. II, 8, 17; Цицерон. Att. 14, 9 и 15, 17
- ↑ 1 2 3 Цицерон. Leg. agr. 2
- ↑ Ливий. XXI. 62. 3
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Сергеенко, 2000.
- ↑ 1 2 McKay, 1998, p. 74.
- ↑ Packer, 1967, p. 82—83.
- ↑ Packer, 1971, p. 78—79.
- ↑ Kolb, 2002, p. 435—436.
- ↑ 1 2 Carcopino, 1992, p. 40.
- ↑ 1 2 3 4 5 Bottke, 1999.
- ↑ Priester, 2002, p. 218.
- ↑ 1 2 McKay, 1998, p. 88.
- ↑ Frier, 1977, p. 30.
- ↑ Packer, 1967, p. 82.
- ↑ Lezine A. Sur la population des villes africaines // Antiquites africaines. — 1969. — № 3. — С. 70—74.
- ↑ Priester, 2002, p. 227.
- ↑ Husson G. Oikia. Le vocabulaire de la maison privee en Egypte d'apres les papyrus grecs. — Publications de la Sorbonne, 1983. — С. 257.
- ↑ Priester, 2002, p. 228.
- ↑ Liban. Epist. or. 11, 217; 221; Theophan. Chron. A.M. 6018
- ↑ Hanfmann G. From Croesus to Constantine: The Cities of Western Asia Minor and their Arts in Greek and Roman Times. — Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1975. — С. 50.
- ↑ Groh S. et al. Neue Forschungen zur Stadtplanung in Ephesos // Antiquites africaines. — 2006. — № 3. — С. 47—116.
- ↑ McKay, 1998, p. 87—88.
- ↑ Packer, 1964, p. 225.
- ↑ Packer, 1971, p. 73.
- ↑ Packer, 1964, p. 866.
- ↑ McKay, 1998, p. 90.
- ↑ Meiggs, 1985, p. 20.
- ↑ McKay, 1998, p. 87.
- ↑ Carcopino, 1992, p. 54.
- ↑ Марциал, I, 86
- ↑ Kunst, 2008, p. 112.
- ↑ Kolb, 2002, p. 285.
- ↑ Lanciani, 1896, p. 710.
- ↑ Kolb, 2002, p. 446.
- ↑ Meiggs, 1985, p. 533.
- ↑ Витрувий. VII, 20, 20
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Ювенал. Сатира 3.
- ↑ Calza, 1958, p. 145-149.
- ↑ Kolb, 2002, p. 415, 420, 434—435.
- ↑ Lanciani, 1896, p. 703.
- ↑ Carcopino, 1992, p. 55.
- ↑ Kunst, 2008, p. 102.
- ↑ 1 2 Kunst, 2008, p. 116.
- ↑ Дигесты. 19.3.5
- ↑ Meiggs, 1985, p. 274.
- ↑ Hermansen G. [www.jstor.org/stable/1087740 The Medianum and the Roman Apartment] // Phoenix. — 1970. — Т. 24, № 4. — С. 342—347.
- ↑ Kunst, 2008, p. 99.
- ↑ Packer, 1967, p. 66.
- ↑ 1 2 Витрувий. II, 8, 17
- ↑ Lamprecht, 2001, p. 18.
- ↑ Lamprecht, 2001, p. 20.
- ↑ Wiegand T. Die Puteolanische Bauinschrift: Sachlich Erlautert (1894). — Kessinger Publishing, LLC, 2010. — 124 p.
- ↑ Beton, 1991, p. 27.
- ↑ Beton, 1991, p. 20.
- ↑ Lamprecht, 2001, p. 264.
- ↑ Плиний. Естественная история. XVI, 10, 15; Ювенал. 3, 201
- ↑ Кассий Дион. 39, 61, 2
- ↑ Витрувий. II, 8, 17 — 18
- ↑ Beton, 1991, p. 15.
- ↑ Витрувий. II, 8; II. 2. 20
- ↑ Тацит. Hist. 3, 71
- ↑ Meiggs, 1985, p. 37.
- ↑ Packer, 1971, p. 21.
- ↑ Packer2, 1971, p. 50.
- ↑ Meiggs, 1973, p. 251.
- ↑ Kolb, 2002, p. 288.
- ↑ Страбон 5, 3, 7; Катулл 23, 9; Сенека. contr. 2, 1, 11 — 12; Тацит. Анналы, 15, 38 и 43; Светоний. Нерон, 37 — 40; Геродиан 7, 12, 5 — 6; Аммиан. 29, 6, 18
- ↑ 1 2 Марциал 5
- ↑ Плутарх. Красс, 2-5
- ↑ Сенека. De Beneficiis 4, 6, 2, 6, 5 I, 7; Сенека. De Ira 3, 35, 4-5
- ↑ Сенка. de tranq. animi, XI. 7
- ↑ Ливий. 35, 9, 1 — 4; Кассий Дион. 39, 61, 1 — 3; Цицерон. ad Q. fr. 3, 7, 1
- ↑ Марциал. 11, 93, I, io8, 3 ; II7, 6-7; 3, 30, 3 ; 4, 37; 5, 22; 6, 27, I-2; 7, 20, 20, 8, 14. Ювенал II, I2-I3.
- ↑ [simposium.ru/ru/node/857 Авл Геллий. Аттические ночи, 15, I, 2-3]
- ↑ Scriptores Historiae Augustae, Антонин Пий 9
- ↑ Дигесты XIX, 2, 27, 8 (Ульпиан)
- ↑ Дигесты I, 15, 2 (Ульпиан)
- ↑ Геродиан, 7, 12, 5-6.
- ↑ Симмах, Epistulae 6, 37, 3-5.
- ↑ Carcopino, 1992, p. 29-39.
- ↑ Hermansen, 1978, p. 166.
- ↑ Scobie, 1986, p. 403.
- ↑ Kolb, 2002, p. 439—440.
- ↑ Дигесты I,15,3,1 (Павел)
- ↑ 1 2 Bottke, 1999, p. 65.
- ↑ Сенека. de ira, III. 35. 5
- ↑ Сенека. de benef. VI. 15. 7
- ↑ Цицерон. Att. 14.9.1
- ↑ Frier B. W. [www.jstor.org/stable/3296928 Cicero's Management of His Urban Properties] // The Classical Journal. — 1978. — Vol. 74, № 1. — P. 1—6.
- ↑ Витрувий. II. 8. 17
- ↑ Сенека. ad. Helv. 6
- ↑ 1 2 Packer, 1967, p. 86.
- ↑ Carcopino, 1992, p. 36.
- ↑ Frier, 1977, p. 15.
- ↑ Kolb, 2002, p. 438.
- ↑ Scobie, 1986, p. 401.
- ↑ Цицерон. Mil. 24, 64
- ↑ Kunst, 2008.
- ↑ Kolb, 2002, p. 286.
- ↑ Подробно о данной особенности римского водоснабжения: Кнабе Г. С. Древний Рим: история и повседневность. — М.: Искусство, 1986., очерк 1.
- ↑ Packer, 1964, p. 220, 223, 242.
- ↑ Carcopino, 1992.
- ↑ Bruun C. The Water Supply of Ancient Rome. A Study of Roman Imperial Administration. — 1991. — С. 63-96.
- ↑ Stambaugh, 1988, p. 178.
- ↑ Scobie, 1986, p. 407—422.
- ↑ Дигесты III, 6, 58 (Павел)
- ↑ Дигесты I, 15, 3, 3-5 (Павел)
- ↑ 1 2 Packer, 1964, p. 222.
- ↑ Carcopino, 1992, p. 71.
- ↑ Hermansen, 1981, p. 43.
- ↑ Плиний. epist. 2, 17, 16 — 22; 7, 21, 2; 9, 36, 1; Апулей. met. 2, 23; Марциал. 11, 18
- ↑ Марциал. VIII. 14. 5—6
- ↑ 1 2 Kunst, 2008, p. 111.
- ↑ 1 2 Kolb, 2002, p. 441.
- ↑ Frier, 1980, p. 39.
- ↑ Priester, 2002, p. 25.
- ↑ Plut. Sulla 1
- ↑ Веллей Патеркул. 2, 10, 1
- ↑ Цицерон. Pro Coel. 7. 17
- ↑ Kolb, 2002, p. 291.
- ↑ Corpus Inscriptionum Latinarum [db.edcs.eu/epigr/epi_einzel_de.php?p_belegstelle=CIL+06%2C+07193&r_sortierung=Belegstelle 6, 7193]
- ↑ Ювенал. 9, 63
- ↑ Марциал 3
- ↑ Цицерон. Att. 15, 17, 1; 15, 20, 4
- ↑ Светоний. Тиберий, 35, 2
- ↑ Светоний. Юлий Цезарь, 38; Цицерон. off. 2, 83 — 84; Кассий Дион. 42, 51, 1 — 2 и 48, 9, 5
- ↑ Дигесты XIX, 2, 54, 1 (Павел); Марциал. 12, 32
- ↑ Дигесты XX, 2, 2 (Марциан)
- ↑ Дигесты XIX, 2, 19, 6 (Ульпиан)
- ↑ Страбон. 5, 3, 7
- ↑ Дигесты XIX, 2, 27, 1 (Альфен)
- ↑ Gai. 1, 33
- ↑ Boethius, 1934, p. 159.
- ↑ Kolb, 2002, p. 445.
- ↑ Цицерон. Att. 16, 1, 5.
- ↑ 1 2 Kolb, 2002, p. 426.
- ↑ Boethius, 1934, p. 169.
- ↑ Meiggs, 1985, p. 252.
- ↑ 1 2 3 Magnuson, 2004, p. 91-92.
- ↑ Krautheimer R. Rom. Schicksal einer Stadt 312-1308 = Rome. Profile of a City 312-1308. — München: Verlag C. H. Beck, 1987. — С. 25.
- ↑ Agath. 5, 3, 6 N 283; Зосим. 2, 35.
- ↑ Lanciani, 1896, p. 704.
- ↑ Lanciani, 1896, p. 629.
- ↑ Niebuhr B. G. Vorträge über römische Althertümer. — Berlin: Georg Reimer, 1858. — P. 628.
- ↑ Priester, 2002, p. 231.
- ↑ McKay, 1998, p. 93.
- ↑ 1 2 Kockel, 1996, p. 26-27.
- ↑ Kockel, 1996, p. 28.
- ↑ Priester, 2002, p. 110.
- ↑ 1 2 Muntoni, A. Italo Gismondi e la lezione di Ostia Antica // Rassegna. — 1993. — Т. 15, № 55. — С. 74-81.
- ↑ Magnuson, 2004, p. 48.
- ↑ Тертуллиан. Против валентиниан 7.
- ↑ Ювенал. Сатира 3, 155
- ↑ Петроний Арбитр. Сатирикон. 74, 13
- ↑ Kolb, 2002, p. 324.
Литература
- Витрувий. 10 книг об архитектуре.
- [www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/digest/index.php Дигесты]. — Дигесты. Проверено 23 февраля 2012. [www.webcitation.org/67vJ15KXA Архивировано из первоисточника 25 мая 2012].
Исследования
- на английском языке
- Boëthius A. [www.jstor.org/stable/498943 Remarks on the Development of Domestic Architecture in Rome] // American Journal of Archaeology. — 1934. — Т. 38, № 1. — P. 158—170.
- Frier B. W. [www.jstor.org/stable/299916 The Rental Market in Early Imperial Rome] // The Journal of Roman Studies. — 1977. — Т. 67. — P. 27-37.
- Frier B. W. Landlords and Tenants in imperial Rome. — Princeton, NJ: Princeton University Press, 1980. — P. 251.
- Hermansen G. [www.jstor.org/discover/10.2307/4435588?uid=3737864&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=55854677363 The Population of Imperial Rome: The Regionaries] // Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte. — 1978. — № 27 (1). — P. 129—168.
Hermansen G. Ostia. Aspects of Roman City Life.. — Alberta, Canada: The University of Alberta Press, 1981. — P. 261.
- Lanciani R. [www.jstor.org/stable/25118661 The Sky Scrapers of Rome] // The North American Review. — 1896. — № 475. — P. 705—715.
- Magnuson T. The urban transformation of medieval Rome, 312-1420. — Stockholm: Suecoromana VII, 2004. — 164 p. — ISBN 91-7042-167-6.
- McKay A. Houses, villas, and palaces in the Roman world. — JHU Press, 1998. — P. 76-94. — 288 p.
- Meiggs R. Roman Ostia. — Oxford Univercity Press, 1985. — P. 722.
- Packer J. E. The Insulae of Imperial Ostia (Diss.). — Berkeley, 1964.
- Packer J. E. [cnes.cla.umn.edu/courses/archaeology/documents/Wk6-Packer.pdf Housing and Population in Imperial Ostia and Rome] // JRS. — 1967. — № 57. — P. 80—95.
- Packer J. E. The Insulae of Imperial Ostia. — Rom, 1971.
- Scobie A. [www.plu.edu/~315j06/doc/slums-sanitation.pdf Slums, Sanitation, and Mortality in the Roman World] // KLIO. — 1986. — № 68/2. — P. 399—433.
- Stambaugh J. E. The Ancient Roman City. — London: The Johns Hopkins University Press, 1988. — P. 172—178. — ISBN 0-8018-3574-7.
- на немецком языке
- Boëthius A. Das Stadtbild im spätrepublikanischen Rom // Opuscula Archeologica. — 1935. — P. 164—195.
- Bottke H.-D. [duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-5070/inhalt.htm Römische Mietshäuser. Die Wohnverhältnisse sozialer Unterschichten von der ausgehenden Republik bis zur hohen Kaiserzeit und deren bautechnische sowie ökonomische Ursachen]. — 1999.
- Calza G., Becatti G. Ostia. — Roma: Istituto Poligr. dello Stato, 1958. — P. 126.
- Carcopino J. Rom. Leben und Kultur in der Kaiserzeit. — Stuttgart: Philipp Reclam, 1992. — ISBN 3-15-010382-7.
- Kockel V. [uni-augsburg.academia.edu/ValentinKockel/Papers/1227662/_Il_palazzo_per_tutti_._Die_Entdeckung_des_antiken_Mietshauses_und_seine_Wirkung_auf_die_Architektur_des_faschistischen_Rom Il palazzo per tutti. Die Entdeckung des antiken Miethauses und seine Wirkung auf die Architektur des faschistischen Rom] // Nürnberger Blätter zur Archäologie. — 1996. — Т. 11. — С. 23-36.
- Kolb F. Rom. Die Geschichte der Stadt in der Antike. — München: C. H. Beck Verlag, 2002. — 783 p. — ISBN 3406469884.
- Kunst Ch. Leben und Wohnen in der römischen Stadt. — Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2008. — 167 p. — ISBN 3534162854.
- Lamprecht H.-O. Opus Caementitium. Bautechnik der Römer. — Düsseldorf: Vbt Verlag Bau U. Technik, 2001. — P. 264.
- Priester S. Ad summas tegulas Untersuchungen zu vielgeschossigen Gebäudeblöcken mit Wohneinheiten und Insulae im kaiserzeitlichen Rom. — Roma: L'Erma di Bretschneider, 2002. — 304 p. — ISBN 88-8265-218-1.
- на русском языке
- Кнабе Г. С. [www.pompeii.ru/casa/knabe.htm Теснота и история в Древнем Риме] // Культура и искусство античного мира. Материалы научной конференции (1979). — 1980. — С. 385—405.
- Сергеенко М. Глава 2. Дом // Жизнь Древнего Рима. — СПб.: Летний Сад, 2000.
- Кочетов В.А. Римский бетон. — М.: Стройиздат, 1991.
Ссылки
- Реконструкции инсул
- [www.youtube.com/watch?v=jIWQvdZdaAA Реконструкция инсулы (Insula do Vaso Fálico)]. Конимбрига, Португалия. Проверено 26 мая 2012.
- [www.youtube.com/watch?v=vrIEwjgfbYs&feature=related Реконструкции Рима]. Проект [www.romereborn.virginia.edu/ Rome Reborn]. Проверено 26 мая 2012.
| Эта статья входит в число избранных статей русскоязычного раздела Википедии. |
| Статья содержит короткие («гарвардские») ссылки на публикации, не указанные или неправильно описанные в библиографическом разделе. Список неработающих ссылок: Кнабе, 1979, Frier, 1977, Hermansen, 1981, Lamprecht, 2001, Meiggs, 1973, Packer, 1967, Packer, 1971 Пожалуйста, исправьте ссылки согласно инструкции к шаблону {{sfn}} и дополните библиографический раздел корректными описаниями цитируемых публикаций, следуя руководствам ВП:Сноски и ВП:Ссылки на источники.
|
Отрывок, характеризующий Инсула
Князь Андрей приехал в квартиру генерала Бенигсена, занимавшего небольшой помещичий дом на самом берегу реки. Ни Бенигсена, ни государя не было там, но Чернышев, флигель адъютант государя, принял Болконского и объявил ему, что государь поехал с генералом Бенигсеном и с маркизом Паулучи другой раз в нынешний день для объезда укреплений Дрисского лагеря, в удобности которого начинали сильно сомневаться.Чернышев сидел с книгой французского романа у окна первой комнаты. Комната эта, вероятно, была прежде залой; в ней еще стоял орган, на который навалены были какие то ковры, и в одном углу стояла складная кровать адъютанта Бенигсена. Этот адъютант был тут. Он, видно, замученный пирушкой или делом, сидел на свернутой постеле и дремал. Из залы вели две двери: одна прямо в бывшую гостиную, другая направо в кабинет. Из первой двери слышались голоса разговаривающих по немецки и изредка по французски. Там, в бывшей гостиной, были собраны, по желанию государя, не военный совет (государь любил неопределенность), но некоторые лица, которых мнение о предстоящих затруднениях он желал знать. Это не был военный совет, но как бы совет избранных для уяснения некоторых вопросов лично для государя. На этот полусовет были приглашены: шведский генерал Армфельд, генерал адъютант Вольцоген, Винцингероде, которого Наполеон называл беглым французским подданным, Мишо, Толь, вовсе не военный человек – граф Штейн и, наконец, сам Пфуль, который, как слышал князь Андрей, был la cheville ouvriere [основою] всего дела. Князь Андрей имел случай хорошо рассмотреть его, так как Пфуль вскоре после него приехал и прошел в гостиную, остановившись на минуту поговорить с Чернышевым.
Пфуль с первого взгляда, в своем русском генеральском дурно сшитом мундире, который нескладно, как на наряженном, сидел на нем, показался князю Андрею как будто знакомым, хотя он никогда не видал его. В нем был и Вейротер, и Мак, и Шмидт, и много других немецких теоретиков генералов, которых князю Андрею удалось видеть в 1805 м году; но он был типичнее всех их. Такого немца теоретика, соединявшего в себе все, что было в тех немцах, еще никогда не видал князь Андрей.
Пфуль был невысок ростом, очень худ, но ширококост, грубого, здорового сложения, с широким тазом и костлявыми лопатками. Лицо у него было очень морщинисто, с глубоко вставленными глазами. Волоса его спереди у висков, очевидно, торопливо были приглажены щеткой, сзади наивно торчали кисточками. Он, беспокойно и сердито оглядываясь, вошел в комнату, как будто он всего боялся в большой комнате, куда он вошел. Он, неловким движением придерживая шпагу, обратился к Чернышеву, спрашивая по немецки, где государь. Ему, видно, как можно скорее хотелось пройти комнаты, окончить поклоны и приветствия и сесть за дело перед картой, где он чувствовал себя на месте. Он поспешно кивал головой на слова Чернышева и иронически улыбался, слушая его слова о том, что государь осматривает укрепления, которые он, сам Пфуль, заложил по своей теории. Он что то басисто и круто, как говорят самоуверенные немцы, проворчал про себя: Dummkopf… или: zu Grunde die ganze Geschichte… или: s'wird was gescheites d'raus werden… [глупости… к черту все дело… (нем.) ] Князь Андрей не расслышал и хотел пройти, но Чернышев познакомил князя Андрея с Пфулем, заметив, что князь Андрей приехал из Турции, где так счастливо кончена война. Пфуль чуть взглянул не столько на князя Андрея, сколько через него, и проговорил смеясь: «Da muss ein schoner taktischcr Krieg gewesen sein». [«То то, должно быть, правильно тактическая была война.» (нем.) ] – И, засмеявшись презрительно, прошел в комнату, из которой слышались голоса.
Видно, Пфуль, уже всегда готовый на ироническое раздражение, нынче был особенно возбужден тем, что осмелились без него осматривать его лагерь и судить о нем. Князь Андрей по одному короткому этому свиданию с Пфулем благодаря своим аустерлицким воспоминаниям составил себе ясную характеристику этого человека. Пфуль был один из тех безнадежно, неизменно, до мученичества самоуверенных людей, которыми только бывают немцы, и именно потому, что только немцы бывают самоуверенными на основании отвлеченной идеи – науки, то есть мнимого знания совершенной истины. Француз бывает самоуверен потому, что он почитает себя лично, как умом, так и телом, непреодолимо обворожительным как для мужчин, так и для женщин. Англичанин самоуверен на том основании, что он есть гражданин благоустроеннейшего в мире государства, и потому, как англичанин, знает всегда, что ему делать нужно, и знает, что все, что он делает как англичанин, несомненно хорошо. Итальянец самоуверен потому, что он взволнован и забывает легко и себя и других. Русский самоуверен именно потому, что он ничего не знает и знать не хочет, потому что не верит, чтобы можно было вполне знать что нибудь. Немец самоуверен хуже всех, и тверже всех, и противнее всех, потому что он воображает, что знает истину, науку, которую он сам выдумал, но которая для него есть абсолютная истина. Таков, очевидно, был Пфуль. У него была наука – теория облического движения, выведенная им из истории войн Фридриха Великого, и все, что встречалось ему в новейшей истории войн Фридриха Великого, и все, что встречалось ему в новейшей военной истории, казалось ему бессмыслицей, варварством, безобразным столкновением, в котором с обеих сторон было сделано столько ошибок, что войны эти не могли быть названы войнами: они не подходили под теорию и не могли служить предметом науки.
В 1806 м году Пфуль был одним из составителей плана войны, кончившейся Иеной и Ауерштетом; но в исходе этой войны он не видел ни малейшего доказательства неправильности своей теории. Напротив, сделанные отступления от его теории, по его понятиям, были единственной причиной всей неудачи, и он с свойственной ему радостной иронией говорил: «Ich sagte ja, daji die ganze Geschichte zum Teufel gehen wird». [Ведь я же говорил, что все дело пойдет к черту (нем.) ] Пфуль был один из тех теоретиков, которые так любят свою теорию, что забывают цель теории – приложение ее к практике; он в любви к теории ненавидел всякую практику и знать ее не хотел. Он даже радовался неуспеху, потому что неуспех, происходивший от отступления в практике от теории, доказывал ему только справедливость его теории.
Он сказал несколько слов с князем Андреем и Чернышевым о настоящей войне с выражением человека, который знает вперед, что все будет скверно и что даже не недоволен этим. Торчавшие на затылке непричесанные кисточки волос и торопливо прилизанные височки особенно красноречиво подтверждали это.
Он прошел в другую комнату, и оттуда тотчас же послышались басистые и ворчливые звуки его голоса.
Не успел князь Андрей проводить глазами Пфуля, как в комнату поспешно вошел граф Бенигсен и, кивнув головой Болконскому, не останавливаясь, прошел в кабинет, отдавая какие то приказания своему адъютанту. Государь ехал за ним, и Бенигсен поспешил вперед, чтобы приготовить кое что и успеть встретить государя. Чернышев и князь Андрей вышли на крыльцо. Государь с усталым видом слезал с лошади. Маркиз Паулучи что то говорил государю. Государь, склонив голову налево, с недовольным видом слушал Паулучи, говорившего с особенным жаром. Государь тронулся вперед, видимо, желая окончить разговор, но раскрасневшийся, взволнованный итальянец, забывая приличия, шел за ним, продолжая говорить:
– Quant a celui qui a conseille ce camp, le camp de Drissa, [Что же касается того, кто присоветовал Дрисский лагерь,] – говорил Паулучи, в то время как государь, входя на ступеньки и заметив князя Андрея, вглядывался в незнакомое ему лицо.
– Quant a celui. Sire, – продолжал Паулучи с отчаянностью, как будто не в силах удержаться, – qui a conseille le camp de Drissa, je ne vois pas d'autre alternative que la maison jaune ou le gibet. [Что же касается, государь, до того человека, который присоветовал лагерь при Дрисее, то для него, по моему мнению, есть только два места: желтый дом или виселица.] – Не дослушав и как будто не слыхав слов итальянца, государь, узнав Болконского, милостиво обратился к нему:
– Очень рад тебя видеть, пройди туда, где они собрались, и подожди меня. – Государь прошел в кабинет. За ним прошел князь Петр Михайлович Волконский, барон Штейн, и за ними затворились двери. Князь Андрей, пользуясь разрешением государя, прошел с Паулучи, которого он знал еще в Турции, в гостиную, где собрался совет.
Князь Петр Михайлович Волконский занимал должность как бы начальника штаба государя. Волконский вышел из кабинета и, принеся в гостиную карты и разложив их на столе, передал вопросы, на которые он желал слышать мнение собранных господ. Дело было в том, что в ночь было получено известие (впоследствии оказавшееся ложным) о движении французов в обход Дрисского лагеря.
Первый начал говорить генерал Армфельд, неожиданно, во избежание представившегося затруднения, предложив совершенно новую, ничем (кроме как желанием показать, что он тоже может иметь мнение) не объяснимую позицию в стороне от Петербургской и Московской дорог, на которой, по его мнению, армия должна была, соединившись, ожидать неприятеля. Видно было, что этот план давно был составлен Армфельдом и что он теперь изложил его не столько с целью отвечать на предлагаемые вопросы, на которые план этот не отвечал, сколько с целью воспользоваться случаем высказать его. Это было одно из миллионов предположений, которые так же основательно, как и другие, можно было делать, не имея понятия о том, какой характер примет война. Некоторые оспаривали его мнение, некоторые защищали его. Молодой полковник Толь горячее других оспаривал мнение шведского генерала и во время спора достал из бокового кармана исписанную тетрадь, которую он попросил позволения прочесть. В пространно составленной записке Толь предлагал другой – совершенно противный и плану Армфельда и плану Пфуля – план кампании. Паулучи, возражая Толю, предложил план движения вперед и атаки, которая одна, по его словам, могла вывести нас из неизвестности и западни, как он называл Дрисский лагерь, в которой мы находились. Пфуль во время этих споров и его переводчик Вольцоген (его мост в придворном отношении) молчали. Пфуль только презрительно фыркал и отворачивался, показывая, что он никогда не унизится до возражения против того вздора, который он теперь слышит. Но когда князь Волконский, руководивший прениями, вызвал его на изложение своего мнения, он только сказал:
– Что же меня спрашивать? Генерал Армфельд предложил прекрасную позицию с открытым тылом. Или атаку von diesem italienischen Herrn, sehr schon! [этого итальянского господина, очень хорошо! (нем.) ] Или отступление. Auch gut. [Тоже хорошо (нем.) ] Что ж меня спрашивать? – сказал он. – Ведь вы сами знаете все лучше меня. – Но когда Волконский, нахмурившись, сказал, что он спрашивает его мнение от имени государя, то Пфуль встал и, вдруг одушевившись, начал говорить:
– Все испортили, все спутали, все хотели знать лучше меня, а теперь пришли ко мне: как поправить? Нечего поправлять. Надо исполнять все в точности по основаниям, изложенным мною, – говорил он, стуча костлявыми пальцами по столу. – В чем затруднение? Вздор, Kinder spiel. [детские игрушки (нем.) ] – Он подошел к карте и стал быстро говорить, тыкая сухим пальцем по карте и доказывая, что никакая случайность не может изменить целесообразности Дрисского лагеря, что все предвидено и что ежели неприятель действительно пойдет в обход, то неприятель должен быть неминуемо уничтожен.
Паулучи, не знавший по немецки, стал спрашивать его по французски. Вольцоген подошел на помощь своему принципалу, плохо говорившему по французски, и стал переводить его слова, едва поспевая за Пфулем, который быстро доказывал, что все, все, не только то, что случилось, но все, что только могло случиться, все было предвидено в его плане, и что ежели теперь были затруднения, то вся вина была только в том, что не в точности все исполнено. Он беспрестанно иронически смеялся, доказывал и, наконец, презрительно бросил доказывать, как бросает математик поверять различными способами раз доказанную верность задачи. Вольцоген заменил его, продолжая излагать по французски его мысли и изредка говоря Пфулю: «Nicht wahr, Exellenz?» [Не правда ли, ваше превосходительство? (нем.) ] Пфуль, как в бою разгоряченный человек бьет по своим, сердито кричал на Вольцогена:
– Nun ja, was soll denn da noch expliziert werden? [Ну да, что еще тут толковать? (нем.) ] – Паулучи и Мишо в два голоса нападали на Вольцогена по французски. Армфельд по немецки обращался к Пфулю. Толь по русски объяснял князю Волконскому. Князь Андрей молча слушал и наблюдал.
Из всех этих лиц более всех возбуждал участие в князе Андрее озлобленный, решительный и бестолково самоуверенный Пфуль. Он один из всех здесь присутствовавших лиц, очевидно, ничего не желал для себя, ни к кому не питал вражды, а желал только одного – приведения в действие плана, составленного по теории, выведенной им годами трудов. Он был смешон, был неприятен своей ироничностью, но вместе с тем он внушал невольное уважение своей беспредельной преданностью идее. Кроме того, во всех речах всех говоривших была, за исключением Пфуля, одна общая черта, которой не было на военном совете в 1805 м году, – это был теперь хотя и скрываемый, но панический страх перед гением Наполеона, страх, который высказывался в каждом возражении. Предполагали для Наполеона всё возможным, ждали его со всех сторон и его страшным именем разрушали предположения один другого. Один Пфуль, казалось, и его, Наполеона, считал таким же варваром, как и всех оппонентов своей теории. Но, кроме чувства уважения, Пфуль внушал князю Андрею и чувство жалости. По тому тону, с которым с ним обращались придворные, по тому, что позволил себе сказать Паулучи императору, но главное по некоторой отчаянности выражении самого Пфуля, видно было, что другие знали и он сам чувствовал, что падение его близко. И, несмотря на свою самоуверенность и немецкую ворчливую ироничность, он был жалок с своими приглаженными волосами на височках и торчавшими на затылке кисточками. Он, видимо, хотя и скрывал это под видом раздражения и презрения, он был в отчаянии оттого, что единственный теперь случай проверить на огромном опыте и доказать всему миру верность своей теории ускользал от него.
Прения продолжались долго, и чем дольше они продолжались, тем больше разгорались споры, доходившие до криков и личностей, и тем менее было возможно вывести какое нибудь общее заключение из всего сказанного. Князь Андрей, слушая этот разноязычный говор и эти предположения, планы и опровержения и крики, только удивлялся тому, что они все говорили. Те, давно и часто приходившие ему во время его военной деятельности, мысли, что нет и не может быть никакой военной науки и поэтому не может быть никакого так называемого военного гения, теперь получили для него совершенную очевидность истины. «Какая же могла быть теория и наука в деле, которого условия и обстоятельства неизвестны и не могут быть определены, в котором сила деятелей войны еще менее может быть определена? Никто не мог и не может знать, в каком будет положении наша и неприятельская армия через день, и никто не может знать, какая сила этого или того отряда. Иногда, когда нет труса впереди, который закричит: „Мы отрезаны! – и побежит, а есть веселый, смелый человек впереди, который крикнет: «Ура! – отряд в пять тысяч стоит тридцати тысяч, как под Шепграбеном, а иногда пятьдесят тысяч бегут перед восемью, как под Аустерлицем. Какая же может быть наука в таком деле, в котором, как во всяком практическом деле, ничто не может быть определено и все зависит от бесчисленных условий, значение которых определяется в одну минуту, про которую никто не знает, когда она наступит. Армфельд говорит, что наша армия отрезана, а Паулучи говорит, что мы поставили французскую армию между двух огней; Мишо говорит, что негодность Дрисского лагеря состоит в том, что река позади, а Пфуль говорит, что в этом его сила. Толь предлагает один план, Армфельд предлагает другой; и все хороши, и все дурны, и выгоды всякого положения могут быть очевидны только в тот момент, когда совершится событие. И отчего все говорят: гений военный? Разве гений тот человек, который вовремя успеет велеть подвезти сухари и идти тому направо, тому налево? Оттого только, что военные люди облечены блеском и властью и массы подлецов льстят власти, придавая ей несвойственные качества гения, их называют гениями. Напротив, лучшие генералы, которых я знал, – глупые или рассеянные люди. Лучший Багратион, – сам Наполеон признал это. А сам Бонапарте! Я помню самодовольное и ограниченное его лицо на Аустерлицком поле. Не только гения и каких нибудь качеств особенных не нужно хорошему полководцу, но, напротив, ему нужно отсутствие самых лучших высших, человеческих качеств – любви, поэзии, нежности, философского пытливого сомнения. Он должен быть ограничен, твердо уверен в том, что то, что он делает, очень важно (иначе у него недостанет терпения), и тогда только он будет храбрый полководец. Избави бог, коли он человек, полюбит кого нибудь, пожалеет, подумает о том, что справедливо и что нет. Понятно, что исстари еще для них подделали теорию гениев, потому что они – власть. Заслуга в успехе военного дела зависит не от них, а от того человека, который в рядах закричит: пропали, или закричит: ура! И только в этих рядах можно служить с уверенностью, что ты полезен!“
Так думал князь Андрей, слушая толки, и очнулся только тогда, когда Паулучи позвал его и все уже расходились.
На другой день на смотру государь спросил у князя Андрея, где он желает служить, и князь Андрей навеки потерял себя в придворном мире, не попросив остаться при особе государя, а попросив позволения служить в армии.
Ростов перед открытием кампании получил письмо от родителей, в котором, кратко извещая его о болезни Наташи и о разрыве с князем Андреем (разрыв этот объясняли ему отказом Наташи), они опять просили его выйти в отставку и приехать домой. Николай, получив это письмо, и не попытался проситься в отпуск или отставку, а написал родителям, что очень жалеет о болезни и разрыве Наташи с ее женихом и что он сделает все возможное для того, чтобы исполнить их желание. Соне он писал отдельно.
«Обожаемый друг души моей, – писал он. – Ничто, кроме чести, не могло бы удержать меня от возвращения в деревню. Но теперь, перед открытием кампании, я бы счел себя бесчестным не только перед всеми товарищами, но и перед самим собою, ежели бы я предпочел свое счастие своему долгу и любви к отечеству. Но это последняя разлука. Верь, что тотчас после войны, ежели я буду жив и все любим тобою, я брошу все и прилечу к тебе, чтобы прижать тебя уже навсегда к моей пламенной груди».
Действительно, только открытие кампании задержало Ростова и помешало ему приехать – как он обещал – и жениться на Соне. Отрадненская осень с охотой и зима со святками и с любовью Сони открыли ему перспективу тихих дворянских радостей и спокойствия, которых он не знал прежде и которые теперь манили его к себе. «Славная жена, дети, добрая стая гончих, лихие десять – двенадцать свор борзых, хозяйство, соседи, служба по выборам! – думал он. Но теперь была кампания, и надо было оставаться в полку. А так как это надо было, то Николай Ростов, по своему характеру, был доволен и той жизнью, которую он вел в полку, и сумел сделать себе эту жизнь приятною.
Приехав из отпуска, радостно встреченный товарищами, Николай был посылал за ремонтом и из Малороссии привел отличных лошадей, которые радовали его и заслужили ему похвалы от начальства. В отсутствие его он был произведен в ротмистры, и когда полк был поставлен на военное положение с увеличенным комплектом, он опять получил свой прежний эскадрон.
Началась кампания, полк был двинут в Польшу, выдавалось двойное жалованье, прибыли новые офицеры, новые люди, лошади; и, главное, распространилось то возбужденно веселое настроение, которое сопутствует началу войны; и Ростов, сознавая свое выгодное положение в полку, весь предался удовольствиям и интересам военной службы, хотя и знал, что рано или поздно придется их покинуть.
Войска отступали от Вильны по разным сложным государственным, политическим и тактическим причинам. Каждый шаг отступления сопровождался сложной игрой интересов, умозаключений и страстей в главном штабе. Для гусар же Павлоградского полка весь этот отступательный поход, в лучшую пору лета, с достаточным продовольствием, был самым простым и веселым делом. Унывать, беспокоиться и интриговать могли в главной квартире, а в глубокой армии и не спрашивали себя, куда, зачем идут. Если жалели, что отступают, то только потому, что надо было выходить из обжитой квартиры, от хорошенькой панны. Ежели и приходило кому нибудь в голову, что дела плохи, то, как следует хорошему военному человеку, тот, кому это приходило в голову, старался быть весел и не думать об общем ходе дел, а думать о своем ближайшем деле. Сначала весело стояли подле Вильны, заводя знакомства с польскими помещиками и ожидая и отбывая смотры государя и других высших командиров. Потом пришел приказ отступить к Свенцянам и истреблять провиант, который нельзя было увезти. Свенцяны памятны были гусарам только потому, что это был пьяный лагерь, как прозвала вся армия стоянку у Свенцян, и потому, что в Свенцянах много было жалоб на войска за то, что они, воспользовавшись приказанием отбирать провиант, в числе провианта забирали и лошадей, и экипажи, и ковры у польских панов. Ростов помнил Свенцяны потому, что он в первый день вступления в это местечко сменил вахмистра и не мог справиться с перепившимися всеми людьми эскадрона, которые без его ведома увезли пять бочек старого пива. От Свенцян отступали дальше и дальше до Дриссы, и опять отступили от Дриссы, уже приближаясь к русским границам.
13 го июля павлоградцам в первый раз пришлось быть в серьезном деле.
12 го июля в ночь, накануне дела, была сильная буря с дождем и грозой. Лето 1812 года вообще было замечательно бурями.
Павлоградские два эскадрона стояли биваками, среди выбитого дотла скотом и лошадьми, уже выколосившегося ржаного поля. Дождь лил ливмя, и Ростов с покровительствуемым им молодым офицером Ильиным сидел под огороженным на скорую руку шалашиком. Офицер их полка, с длинными усами, продолжавшимися от щек, ездивший в штаб и застигнутый дождем, зашел к Ростову.
– Я, граф, из штаба. Слышали подвиг Раевского? – И офицер рассказал подробности Салтановского сражения, слышанные им в штабе.
Ростов, пожимаясь шеей, за которую затекала вода, курил трубку и слушал невнимательно, изредка поглядывая на молодого офицера Ильина, который жался около него. Офицер этот, шестнадцатилетний мальчик, недавно поступивший в полк, был теперь в отношении к Николаю тем, чем был Николай в отношении к Денисову семь лет тому назад. Ильин старался во всем подражать Ростову и, как женщина, был влюблен в него.
Офицер с двойными усами, Здржинский, рассказывал напыщенно о том, как Салтановская плотина была Фермопилами русских, как на этой плотине был совершен генералом Раевским поступок, достойный древности. Здржинский рассказывал поступок Раевского, который вывел на плотину своих двух сыновей под страшный огонь и с ними рядом пошел в атаку. Ростов слушал рассказ и не только ничего не говорил в подтверждение восторга Здржинского, но, напротив, имел вид человека, который стыдился того, что ему рассказывают, хотя и не намерен возражать. Ростов после Аустерлицкой и 1807 года кампаний знал по своему собственному опыту, что, рассказывая военные происшествия, всегда врут, как и сам он врал, рассказывая; во вторых, он имел настолько опытности, что знал, как все происходит на войне совсем не так, как мы можем воображать и рассказывать. И потому ему не нравился рассказ Здржинского, не нравился и сам Здржинский, который, с своими усами от щек, по своей привычке низко нагибался над лицом того, кому он рассказывал, и теснил его в тесном шалаше. Ростов молча смотрел на него. «Во первых, на плотине, которую атаковали, должна была быть, верно, такая путаница и теснота, что ежели Раевский и вывел своих сыновей, то это ни на кого не могло подействовать, кроме как человек на десять, которые были около самого его, – думал Ростов, – остальные и не могли видеть, как и с кем шел Раевский по плотине. Но и те, которые видели это, не могли очень воодушевиться, потому что что им было за дело до нежных родительских чувств Раевского, когда тут дело шло о собственной шкуре? Потом оттого, что возьмут или не возьмут Салтановскую плотину, не зависела судьба отечества, как нам описывают это про Фермопилы. И стало быть, зачем же было приносить такую жертву? И потом, зачем тут, на войне, мешать своих детей? Я бы не только Петю брата не повел бы, даже и Ильина, даже этого чужого мне, но доброго мальчика, постарался бы поставить куда нибудь под защиту», – продолжал думать Ростов, слушая Здржинского. Но он не сказал своих мыслей: он и на это уже имел опыт. Он знал, что этот рассказ содействовал к прославлению нашего оружия, и потому надо было делать вид, что не сомневаешься в нем. Так он и делал.
– Однако мочи нет, – сказал Ильин, замечавший, что Ростову не нравится разговор Здржинского. – И чулки, и рубашка, и под меня подтекло. Пойду искать приюта. Кажется, дождик полегче. – Ильин вышел, и Здржинский уехал.
Через пять минут Ильин, шлепая по грязи, прибежал к шалашу.
– Ура! Ростов, идем скорее. Нашел! Вот тут шагов двести корчма, уж туда забрались наши. Хоть посушимся, и Марья Генриховна там.
Марья Генриховна была жена полкового доктора, молодая, хорошенькая немка, на которой доктор женился в Польше. Доктор, или оттого, что не имел средств, или оттого, что не хотел первое время женитьбы разлучаться с молодой женой, возил ее везде за собой при гусарском полку, и ревность доктора сделалась обычным предметом шуток между гусарскими офицерами.
Ростов накинул плащ, кликнул за собой Лаврушку с вещами и пошел с Ильиным, где раскатываясь по грязи, где прямо шлепая под утихавшим дождем, в темноте вечера, изредка нарушаемой далекими молниями.
– Ростов, ты где?
– Здесь. Какова молния! – переговаривались они.
В покинутой корчме, перед которою стояла кибиточка доктора, уже было человек пять офицеров. Марья Генриховна, полная белокурая немочка в кофточке и ночном чепчике, сидела в переднем углу на широкой лавке. Муж ее, доктор, спал позади ее. Ростов с Ильиным, встреченные веселыми восклицаниями и хохотом, вошли в комнату.
– И! да у вас какое веселье, – смеясь, сказал Ростов.
– А вы что зеваете?
– Хороши! Так и течет с них! Гостиную нашу не замочите.
– Марьи Генриховны платье не запачкать, – отвечали голоса.
Ростов с Ильиным поспешили найти уголок, где бы они, не нарушая скромности Марьи Генриховны, могли бы переменить мокрое платье. Они пошли было за перегородку, чтобы переодеться; но в маленьком чуланчике, наполняя его весь, с одной свечкой на пустом ящике, сидели три офицера, играя в карты, и ни за что не хотели уступить свое место. Марья Генриховна уступила на время свою юбку, чтобы употребить ее вместо занавески, и за этой занавеской Ростов и Ильин с помощью Лаврушки, принесшего вьюки, сняли мокрое и надели сухое платье.
В разломанной печке разложили огонь. Достали доску и, утвердив ее на двух седлах, покрыли попоной, достали самоварчик, погребец и полбутылки рому, и, попросив Марью Генриховну быть хозяйкой, все столпились около нее. Кто предлагал ей чистый носовой платок, чтобы обтирать прелестные ручки, кто под ножки подкладывал ей венгерку, чтобы не было сыро, кто плащом занавешивал окно, чтобы не дуло, кто обмахивал мух с лица ее мужа, чтобы он не проснулся.
– Оставьте его, – говорила Марья Генриховна, робко и счастливо улыбаясь, – он и так спит хорошо после бессонной ночи.
– Нельзя, Марья Генриховна, – отвечал офицер, – надо доктору прислужиться. Все, может быть, и он меня пожалеет, когда ногу или руку резать станет.
Стаканов было только три; вода была такая грязная, что нельзя было решить, когда крепок или некрепок чай, и в самоваре воды было только на шесть стаканов, но тем приятнее было по очереди и старшинству получить свой стакан из пухлых с короткими, не совсем чистыми, ногтями ручек Марьи Генриховны. Все офицеры, казалось, действительно были в этот вечер влюблены в Марью Генриховну. Даже те офицеры, которые играли за перегородкой в карты, скоро бросили игру и перешли к самовару, подчиняясь общему настроению ухаживанья за Марьей Генриховной. Марья Генриховна, видя себя окруженной такой блестящей и учтивой молодежью, сияла счастьем, как ни старалась она скрывать этого и как ни очевидно робела при каждом сонном движении спавшего за ней мужа.
Ложка была только одна, сахару было больше всего, но размешивать его не успевали, и потому было решено, что она будет поочередно мешать сахар каждому. Ростов, получив свой стакан и подлив в него рому, попросил Марью Генриховну размешать.
– Да ведь вы без сахара? – сказала она, все улыбаясь, как будто все, что ни говорила она, и все, что ни говорили другие, было очень смешно и имело еще другое значение.
– Да мне не сахар, мне только, чтоб вы помешали своей ручкой.
Марья Генриховна согласилась и стала искать ложку, которую уже захватил кто то.
– Вы пальчиком, Марья Генриховна, – сказал Ростов, – еще приятнее будет.
– Горячо! – сказала Марья Генриховна, краснея от удовольствия.
Ильин взял ведро с водой и, капнув туда рому, пришел к Марье Генриховне, прося помешать пальчиком.
– Это моя чашка, – говорил он. – Только вложите пальчик, все выпью.
Когда самовар весь выпили, Ростов взял карты и предложил играть в короли с Марьей Генриховной. Кинули жребий, кому составлять партию Марьи Генриховны. Правилами игры, по предложению Ростова, было то, чтобы тот, кто будет королем, имел право поцеловать ручку Марьи Генриховны, а чтобы тот, кто останется прохвостом, шел бы ставить новый самовар для доктора, когда он проснется.
– Ну, а ежели Марья Генриховна будет королем? – спросил Ильин.
– Она и так королева! И приказания ее – закон.
Только что началась игра, как из за Марьи Генриховны вдруг поднялась вспутанная голова доктора. Он давно уже не спал и прислушивался к тому, что говорилось, и, видимо, не находил ничего веселого, смешного или забавного во всем, что говорилось и делалось. Лицо его было грустно и уныло. Он не поздоровался с офицерами, почесался и попросил позволения выйти, так как ему загораживали дорогу. Как только он вышел, все офицеры разразились громким хохотом, а Марья Генриховна до слез покраснела и тем сделалась еще привлекательнее на глаза всех офицеров. Вернувшись со двора, доктор сказал жене (которая перестала уже так счастливо улыбаться и, испуганно ожидая приговора, смотрела на него), что дождь прошел и что надо идти ночевать в кибитку, а то все растащат.
– Да я вестового пошлю… двух! – сказал Ростов. – Полноте, доктор.
– Я сам стану на часы! – сказал Ильин.
– Нет, господа, вы выспались, а я две ночи не спал, – сказал доктор и мрачно сел подле жены, ожидая окончания игры.
Глядя на мрачное лицо доктора, косившегося на свою жену, офицерам стало еще веселей, и многие не могла удерживаться от смеха, которому они поспешно старались приискивать благовидные предлоги. Когда доктор ушел, уведя свою жену, и поместился с нею в кибиточку, офицеры улеглись в корчме, укрывшись мокрыми шинелями; но долго не спали, то переговариваясь, вспоминая испуг доктора и веселье докторши, то выбегая на крыльцо и сообщая о том, что делалось в кибиточке. Несколько раз Ростов, завертываясь с головой, хотел заснуть; но опять чье нибудь замечание развлекало его, опять начинался разговор, и опять раздавался беспричинный, веселый, детский хохот.
В третьем часу еще никто не заснул, как явился вахмистр с приказом выступать к местечку Островне.
Все с тем же говором и хохотом офицеры поспешно стали собираться; опять поставили самовар на грязной воде. Но Ростов, не дождавшись чаю, пошел к эскадрону. Уже светало; дождик перестал, тучи расходились. Было сыро и холодно, особенно в непросохшем платье. Выходя из корчмы, Ростов и Ильин оба в сумерках рассвета заглянули в глянцевитую от дождя кожаную докторскую кибиточку, из под фартука которой торчали ноги доктора и в середине которой виднелся на подушке чепчик докторши и слышалось сонное дыхание.
– Право, она очень мила! – сказал Ростов Ильину, выходившему с ним.
– Прелесть какая женщина! – с шестнадцатилетней серьезностью отвечал Ильин.
Через полчаса выстроенный эскадрон стоял на дороге. Послышалась команда: «Садись! – солдаты перекрестились и стали садиться. Ростов, выехав вперед, скомандовал: «Марш! – и, вытянувшись в четыре человека, гусары, звуча шлепаньем копыт по мокрой дороге, бренчаньем сабель и тихим говором, тронулись по большой, обсаженной березами дороге, вслед за шедшей впереди пехотой и батареей.
Разорванные сине лиловые тучи, краснея на восходе, быстро гнались ветром. Становилось все светлее и светлее. Ясно виднелась та курчавая травка, которая заседает всегда по проселочным дорогам, еще мокрая от вчерашнего дождя; висячие ветви берез, тоже мокрые, качались от ветра и роняли вбок от себя светлые капли. Яснее и яснее обозначались лица солдат. Ростов ехал с Ильиным, не отстававшим от него, стороной дороги, между двойным рядом берез.
Ростов в кампании позволял себе вольность ездить не на фронтовой лошади, а на казацкой. И знаток и охотник, он недавно достал себе лихую донскую, крупную и добрую игреневую лошадь, на которой никто не обскакивал его. Ехать на этой лошади было для Ростова наслаждение. Он думал о лошади, об утре, о докторше и ни разу не подумал о предстоящей опасности.
Прежде Ростов, идя в дело, боялся; теперь он не испытывал ни малейшего чувства страха. Не оттого он не боялся, что он привык к огню (к опасности нельзя привыкнуть), но оттого, что он выучился управлять своей душой перед опасностью. Он привык, идя в дело, думать обо всем, исключая того, что, казалось, было бы интереснее всего другого, – о предстоящей опасности. Сколько он ни старался, ни упрекал себя в трусости первое время своей службы, он не мог этого достигнуть; но с годами теперь это сделалось само собою. Он ехал теперь рядом с Ильиным между березами, изредка отрывая листья с веток, которые попадались под руку, иногда дотрогиваясь ногой до паха лошади, иногда отдавая, не поворачиваясь, докуренную трубку ехавшему сзади гусару, с таким спокойным и беззаботным видом, как будто он ехал кататься. Ему жалко было смотреть на взволнованное лицо Ильина, много и беспокойно говорившего; он по опыту знал то мучительное состояние ожидания страха и смерти, в котором находился корнет, и знал, что ничто, кроме времени, не поможет ему.
Только что солнце показалось на чистой полосе из под тучи, как ветер стих, как будто он не смел портить этого прелестного после грозы летнего утра; капли еще падали, но уже отвесно, – и все затихло. Солнце вышло совсем, показалось на горизонте и исчезло в узкой и длинной туче, стоявшей над ним. Через несколько минут солнце еще светлее показалось на верхнем крае тучи, разрывая ее края. Все засветилось и заблестело. И вместе с этим светом, как будто отвечая ему, раздались впереди выстрелы орудий.
Не успел еще Ростов обдумать и определить, как далеки эти выстрелы, как от Витебска прискакал адъютант графа Остермана Толстого с приказанием идти на рысях по дороге.
Эскадрон объехал пехоту и батарею, также торопившуюся идти скорее, спустился под гору и, пройдя через какую то пустую, без жителей, деревню, опять поднялся на гору. Лошади стали взмыливаться, люди раскраснелись.
– Стой, равняйся! – послышалась впереди команда дивизионера.
– Левое плечо вперед, шагом марш! – скомандовали впереди.
И гусары по линии войск прошли на левый фланг позиции и стали позади наших улан, стоявших в первой линии. Справа стояла наша пехота густой колонной – это были резервы; повыше ее на горе видны были на чистом чистом воздухе, в утреннем, косом и ярком, освещении, на самом горизонте, наши пушки. Впереди за лощиной видны были неприятельские колонны и пушки. В лощине слышна была наша цепь, уже вступившая в дело и весело перещелкивающаяся с неприятелем.
Ростову, как от звуков самой веселой музыки, стало весело на душе от этих звуков, давно уже не слышанных. Трап та та тап! – хлопали то вдруг, то быстро один за другим несколько выстрелов. Опять замолкло все, и опять как будто трескались хлопушки, по которым ходил кто то.
Гусары простояли около часу на одном месте. Началась и канонада. Граф Остерман с свитой проехал сзади эскадрона, остановившись, поговорил с командиром полка и отъехал к пушкам на гору.
Вслед за отъездом Остермана у улан послышалась команда:
– В колонну, к атаке стройся! – Пехота впереди их вздвоила взводы, чтобы пропустить кавалерию. Уланы тронулись, колеблясь флюгерами пик, и на рысях пошли под гору на французскую кавалерию, показавшуюся под горой влево.
Как только уланы сошли под гору, гусарам ведено было подвинуться в гору, в прикрытие к батарее. В то время как гусары становились на место улан, из цепи пролетели, визжа и свистя, далекие, непопадавшие пули.
Давно не слышанный этот звук еще радостнее и возбудительное подействовал на Ростова, чем прежние звуки стрельбы. Он, выпрямившись, разглядывал поле сражения, открывавшееся с горы, и всей душой участвовал в движении улан. Уланы близко налетели на французских драгун, что то спуталось там в дыму, и через пять минут уланы понеслись назад не к тому месту, где они стояли, но левее. Между оранжевыми уланами на рыжих лошадях и позади их, большой кучей, видны были синие французские драгуны на серых лошадях.
Ростов своим зорким охотничьим глазом один из первых увидал этих синих французских драгун, преследующих наших улан. Ближе, ближе подвигались расстроенными толпами уланы, и французские драгуны, преследующие их. Уже можно было видеть, как эти, казавшиеся под горой маленькими, люди сталкивались, нагоняли друг друга и махали руками или саблями.
Ростов, как на травлю, смотрел на то, что делалось перед ним. Он чутьем чувствовал, что ежели ударить теперь с гусарами на французских драгун, они не устоят; но ежели ударить, то надо было сейчас, сию минуту, иначе будет уже поздно. Он оглянулся вокруг себя. Ротмистр, стоя подле него, точно так же не спускал глаз с кавалерии внизу.
– Андрей Севастьяныч, – сказал Ростов, – ведь мы их сомнем…
– Лихая бы штука, – сказал ротмистр, – а в самом деле…
Ростов, не дослушав его, толкнул лошадь, выскакал вперед эскадрона, и не успел он еще скомандовать движение, как весь эскадрон, испытывавший то же, что и он, тронулся за ним. Ростов сам не знал, как и почему он это сделал. Все это он сделал, как он делал на охоте, не думая, не соображая. Он видел, что драгуны близко, что они скачут, расстроены; он знал, что они не выдержат, он знал, что была только одна минута, которая не воротится, ежели он упустит ее. Пули так возбудительно визжали и свистели вокруг него, лошадь так горячо просилась вперед, что он не мог выдержать. Он тронул лошадь, скомандовал и в то же мгновение, услыхав за собой звук топота своего развернутого эскадрона, на полных рысях, стал спускаться к драгунам под гору. Едва они сошли под гору, как невольно их аллюр рыси перешел в галоп, становившийся все быстрее и быстрее по мере того, как они приближались к своим уланам и скакавшим за ними французским драгунам. Драгуны были близко. Передние, увидав гусар, стали поворачивать назад, задние приостанавливаться. С чувством, с которым он несся наперерез волку, Ростов, выпустив во весь мах своего донца, скакал наперерез расстроенным рядам французских драгун. Один улан остановился, один пеший припал к земле, чтобы его не раздавили, одна лошадь без седока замешалась с гусарами. Почти все французские драгуны скакали назад. Ростов, выбрав себе одного из них на серой лошади, пустился за ним. По дороге он налетел на куст; добрая лошадь перенесла его через него, и, едва справясь на седле, Николай увидал, что он через несколько мгновений догонит того неприятеля, которого он выбрал своей целью. Француз этот, вероятно, офицер – по его мундиру, согнувшись, скакал на своей серой лошади, саблей подгоняя ее. Через мгновенье лошадь Ростова ударила грудью в зад лошади офицера, чуть не сбила ее с ног, и в то же мгновенье Ростов, сам не зная зачем, поднял саблю и ударил ею по французу.
В то же мгновение, как он сделал это, все оживление Ростова вдруг исчезло. Офицер упал не столько от удара саблей, который только слегка разрезал ему руку выше локтя, сколько от толчка лошади и от страха. Ростов, сдержав лошадь, отыскивал глазами своего врага, чтобы увидать, кого он победил. Драгунский французский офицер одной ногой прыгал на земле, другой зацепился в стремени. Он, испуганно щурясь, как будто ожидая всякую секунду нового удара, сморщившись, с выражением ужаса взглянул снизу вверх на Ростова. Лицо его, бледное и забрызганное грязью, белокурое, молодое, с дырочкой на подбородке и светлыми голубыми глазами, было самое не для поля сражения, не вражеское лицо, а самое простое комнатное лицо. Еще прежде, чем Ростов решил, что он с ним будет делать, офицер закричал: «Je me rends!» [Сдаюсь!] Он, торопясь, хотел и не мог выпутать из стремени ногу и, не спуская испуганных голубых глаз, смотрел на Ростова. Подскочившие гусары выпростали ему ногу и посадили его на седло. Гусары с разных сторон возились с драгунами: один был ранен, но, с лицом в крови, не давал своей лошади; другой, обняв гусара, сидел на крупе его лошади; третий взлеаал, поддерживаемый гусаром, на его лошадь. Впереди бежала, стреляя, французская пехота. Гусары торопливо поскакали назад с своими пленными. Ростов скакал назад с другими, испытывая какое то неприятное чувство, сжимавшее ему сердце. Что то неясное, запутанное, чего он никак не мог объяснить себе, открылось ему взятием в плен этого офицера и тем ударом, который он нанес ему.
Граф Остерман Толстой встретил возвращавшихся гусар, подозвал Ростова, благодарил его и сказал, что он представит государю о его молодецком поступке и будет просить для него Георгиевский крест. Когда Ростова потребовали к графу Остерману, он, вспомнив о том, что атака его была начата без приказанья, был вполне убежден, что начальник требует его для того, чтобы наказать его за самовольный поступок. Поэтому лестные слова Остермана и обещание награды должны бы были тем радостнее поразить Ростова; но все то же неприятное, неясное чувство нравственно тошнило ему. «Да что бишь меня мучает? – спросил он себя, отъезжая от генерала. – Ильин? Нет, он цел. Осрамился я чем нибудь? Нет. Все не то! – Что то другое мучило его, как раскаяние. – Да, да, этот французский офицер с дырочкой. И я хорошо помню, как рука моя остановилась, когда я поднял ее».
Ростов увидал отвозимых пленных и поскакал за ними, чтобы посмотреть своего француза с дырочкой на подбородке. Он в своем странном мундире сидел на заводной гусарской лошади и беспокойно оглядывался вокруг себя. Рана его на руке была почти не рана. Он притворно улыбнулся Ростову и помахал ему рукой, в виде приветствия. Ростову все так же было неловко и чего то совестно.
Весь этот и следующий день друзья и товарищи Ростова замечали, что он не скучен, не сердит, но молчалив, задумчив и сосредоточен. Он неохотно пил, старался оставаться один и о чем то все думал.
Ростов все думал об этом своем блестящем подвиге, который, к удивлению его, приобрел ему Георгиевский крест и даже сделал ему репутацию храбреца, – и никак не мог понять чего то. «Так и они еще больше нашего боятся! – думал он. – Так только то и есть всего, то, что называется геройством? И разве я это делал для отечества? И в чем он виноват с своей дырочкой и голубыми глазами? А как он испугался! Он думал, что я убью его. За что ж мне убивать его? У меня рука дрогнула. А мне дали Георгиевский крест. Ничего, ничего не понимаю!»
Но пока Николай перерабатывал в себе эти вопросы и все таки не дал себе ясного отчета в том, что так смутило его, колесо счастья по службе, как это часто бывает, повернулось в его пользу. Его выдвинули вперед после Островненского дела, дали ему батальон гусаров и, когда нужно было употребить храброго офицера, давали ему поручения.
Получив известие о болезни Наташи, графиня, еще не совсем здоровая и слабая, с Петей и со всем домом приехала в Москву, и все семейство Ростовых перебралось от Марьи Дмитриевны в свой дом и совсем поселилось в Москве.
Болезнь Наташи была так серьезна, что, к счастию ее и к счастию родных, мысль о всем том, что было причиной ее болезни, ее поступок и разрыв с женихом перешли на второй план. Она была так больна, что нельзя было думать о том, насколько она была виновата во всем случившемся, тогда как она не ела, не спала, заметно худела, кашляла и была, как давали чувствовать доктора, в опасности. Надо было думать только о том, чтобы помочь ей. Доктора ездили к Наташе и отдельно и консилиумами, говорили много по французски, по немецки и по латыни, осуждали один другого, прописывали самые разнообразные лекарства от всех им известных болезней; но ни одному из них не приходила в голову та простая мысль, что им не может быть известна та болезнь, которой страдала Наташа, как не может быть известна ни одна болезнь, которой одержим живой человек: ибо каждый живой человек имеет свои особенности и всегда имеет особенную и свою новую, сложную, неизвестную медицине болезнь, не болезнь легких, печени, кожи, сердца, нервов и т. д., записанных в медицине, но болезнь, состоящую из одного из бесчисленных соединений в страданиях этих органов. Эта простая мысль не могла приходить докторам (так же, как не может прийти колдуну мысль, что он не может колдовать) потому, что их дело жизни состояло в том, чтобы лечить, потому, что за то они получали деньги, и потому, что на это дело они потратили лучшие годы своей жизни. Но главное – мысль эта не могла прийти докторам потому, что они видели, что они несомненно полезны, и были действительно полезны для всех домашних Ростовых. Они были полезны не потому, что заставляли проглатывать больную большей частью вредные вещества (вред этот был мало чувствителен, потому что вредные вещества давались в малом количестве), но они полезны, необходимы, неизбежны были (причина – почему всегда есть и будут мнимые излечители, ворожеи, гомеопаты и аллопаты) потому, что они удовлетворяли нравственной потребности больной и людей, любящих больную. Они удовлетворяли той вечной человеческой потребности надежды на облегчение, потребности сочувствия и деятельности, которые испытывает человек во время страдания. Они удовлетворяли той вечной, человеческой – заметной в ребенке в самой первобытной форме – потребности потереть то место, которое ушиблено. Ребенок убьется и тотчас же бежит в руки матери, няньки для того, чтобы ему поцеловали и потерли больное место, и ему делается легче, когда больное место потрут или поцелуют. Ребенок не верит, чтобы у сильнейших и мудрейших его не было средств помочь его боли. И надежда на облегчение и выражение сочувствия в то время, как мать трет его шишку, утешают его. Доктора для Наташи были полезны тем, что они целовали и терли бобо, уверяя, что сейчас пройдет, ежели кучер съездит в арбатскую аптеку и возьмет на рубль семь гривен порошков и пилюль в хорошенькой коробочке и ежели порошки эти непременно через два часа, никак не больше и не меньше, будет в отварной воде принимать больная.
Что же бы делали Соня, граф и графиня, как бы они смотрели на слабую, тающую Наташу, ничего не предпринимая, ежели бы не было этих пилюль по часам, питья тепленького, куриной котлетки и всех подробностей жизни, предписанных доктором, соблюдать которые составляло занятие и утешение для окружающих? Чем строже и сложнее были эти правила, тем утешительнее было для окружающих дело. Как бы переносил граф болезнь своей любимой дочери, ежели бы он не знал, что ему стоила тысячи рублей болезнь Наташи и что он не пожалеет еще тысяч, чтобы сделать ей пользу: ежели бы он не знал, что, ежели она не поправится, он не пожалеет еще тысяч и повезет ее за границу и там сделает консилиумы; ежели бы он не имел возможности рассказывать подробности о том, как Метивье и Феллер не поняли, а Фриз понял, и Мудров еще лучше определил болезнь? Что бы делала графиня, ежели бы она не могла иногда ссориться с больной Наташей за то, что она не вполне соблюдает предписаний доктора?
– Эдак никогда не выздоровеешь, – говорила она, за досадой забывая свое горе, – ежели ты не будешь слушаться доктора и не вовремя принимать лекарство! Ведь нельзя шутить этим, когда у тебя может сделаться пневмония, – говорила графиня, и в произношении этого непонятного не для нее одной слова, она уже находила большое утешение. Что бы делала Соня, ежели бы у ней не было радостного сознания того, что она не раздевалась три ночи первое время для того, чтобы быть наготове исполнять в точности все предписания доктора, и что она теперь не спит ночи, для того чтобы не пропустить часы, в которые надо давать маловредные пилюли из золотой коробочки? Даже самой Наташе, которая хотя и говорила, что никакие лекарства не вылечат ее и что все это глупости, – и ей было радостно видеть, что для нее делали так много пожертвований, что ей надо было в известные часы принимать лекарства, и даже ей радостно было то, что она, пренебрегая исполнением предписанного, могла показывать, что она не верит в лечение и не дорожит своей жизнью.
Доктор ездил каждый день, щупал пульс, смотрел язык и, не обращая внимания на ее убитое лицо, шутил с ней. Но зато, когда он выходил в другую комнату, графиня поспешно выходила за ним, и он, принимая серьезный вид и покачивая задумчиво головой, говорил, что, хотя и есть опасность, он надеется на действие этого последнего лекарства, и что надо ждать и посмотреть; что болезнь больше нравственная, но…
Графиня, стараясь скрыть этот поступок от себя и от доктора, всовывала ему в руку золотой и всякий раз с успокоенным сердцем возвращалась к больной.
Признаки болезни Наташи состояли в том, что она мало ела, мало спала, кашляла и никогда не оживлялась. Доктора говорили, что больную нельзя оставлять без медицинской помощи, и поэтому в душном воздухе держали ее в городе. И лето 1812 года Ростовы не уезжали в деревню.
Несмотря на большое количество проглоченных пилюль, капель и порошков из баночек и коробочек, из которых madame Schoss, охотница до этих вещиц, собрала большую коллекцию, несмотря на отсутствие привычной деревенской жизни, молодость брала свое: горе Наташи начало покрываться слоем впечатлений прожитой жизни, оно перестало такой мучительной болью лежать ей на сердце, начинало становиться прошедшим, и Наташа стала физически оправляться.
Наташа была спокойнее, но не веселее. Она не только избегала всех внешних условий радости: балов, катанья, концертов, театра; но она ни разу не смеялась так, чтобы из за смеха ее не слышны были слезы. Она не могла петь. Как только начинала она смеяться или пробовала одна сама с собой петь, слезы душили ее: слезы раскаяния, слезы воспоминаний о том невозвратном, чистом времени; слезы досады, что так, задаром, погубила она свою молодую жизнь, которая могла бы быть так счастлива. Смех и пение особенно казались ей кощунством над ее горем. О кокетстве она и не думала ни раза; ей не приходилось даже воздерживаться. Она говорила и чувствовала, что в это время все мужчины были для нее совершенно то же, что шут Настасья Ивановна. Внутренний страж твердо воспрещал ей всякую радость. Да и не было в ней всех прежних интересов жизни из того девичьего, беззаботного, полного надежд склада жизни. Чаще и болезненнее всего вспоминала она осенние месяцы, охоту, дядюшку и святки, проведенные с Nicolas в Отрадном. Что бы она дала, чтобы возвратить хоть один день из того времени! Но уж это навсегда было кончено. Предчувствие не обманывало ее тогда, что то состояние свободы и открытости для всех радостей никогда уже не возвратится больше. Но жить надо было.
Ей отрадно было думать, что она не лучше, как она прежде думала, а хуже и гораздо хуже всех, всех, кто только есть на свете. Но этого мало было. Она знала это и спрашивала себя: «Что ж дальше?А дальше ничего не было. Не было никакой радости в жизни, а жизнь проходила. Наташа, видимо, старалась только никому не быть в тягость и никому не мешать, но для себя ей ничего не нужно было. Она удалялась от всех домашних, и только с братом Петей ей было легко. С ним она любила бывать больше, чем с другими; и иногда, когда была с ним с глазу на глаз, смеялась. Она почти не выезжала из дому и из приезжавших к ним рада была только одному Пьеру. Нельзя было нежнее, осторожнее и вместе с тем серьезнее обращаться, чем обращался с нею граф Безухов. Наташа Осссознательно чувствовала эту нежность обращения и потому находила большое удовольствие в его обществе. Но она даже не была благодарна ему за его нежность; ничто хорошее со стороны Пьера не казалось ей усилием. Пьеру, казалось, так естественно быть добрым со всеми, что не было никакой заслуги в его доброте. Иногда Наташа замечала смущение и неловкость Пьера в ее присутствии, в особенности, когда он хотел сделать для нее что нибудь приятное или когда он боялся, чтобы что нибудь в разговоре не навело Наташу на тяжелые воспоминания. Она замечала это и приписывала это его общей доброте и застенчивости, которая, по ее понятиям, таковая же, как с нею, должна была быть и со всеми. После тех нечаянных слов о том, что, ежели бы он был свободен, он на коленях бы просил ее руки и любви, сказанных в минуту такого сильного волнения для нее, Пьер никогда не говорил ничего о своих чувствах к Наташе; и для нее было очевидно, что те слова, тогда так утешившие ее, были сказаны, как говорятся всякие бессмысленные слова для утешения плачущего ребенка. Не оттого, что Пьер был женатый человек, но оттого, что Наташа чувствовала между собою и им в высшей степени ту силу нравственных преград – отсутствие которой она чувствовала с Kyрагиным, – ей никогда в голову не приходило, чтобы из ее отношений с Пьером могла выйти не только любовь с ее или, еще менее, с его стороны, но даже и тот род нежной, признающей себя, поэтической дружбы между мужчиной и женщиной, которой она знала несколько примеров.
В конце Петровского поста Аграфена Ивановна Белова, отрадненская соседка Ростовых, приехала в Москву поклониться московским угодникам. Она предложила Наташе говеть, и Наташа с радостью ухватилась за эту мысль. Несмотря на запрещение доктора выходить рано утром, Наташа настояла на том, чтобы говеть, и говеть не так, как говели обыкновенно в доме Ростовых, то есть отслушать на дому три службы, а чтобы говеть так, как говела Аграфена Ивановна, то есть всю неделю, не пропуская ни одной вечерни, обедни или заутрени.
Графине понравилось это усердие Наташи; она в душе своей, после безуспешного медицинского лечения, надеялась, что молитва поможет ей больше лекарств, и хотя со страхом и скрывая от доктора, но согласилась на желание Наташи и поручила ее Беловой. Аграфена Ивановна в три часа ночи приходила будить Наташу и большей частью находила ее уже не спящею. Наташа боялась проспать время заутрени. Поспешно умываясь и с смирением одеваясь в самое дурное свое платье и старенькую мантилью, содрогаясь от свежести, Наташа выходила на пустынные улицы, прозрачно освещенные утренней зарей. По совету Аграфены Ивановны, Наташа говела не в своем приходе, а в церкви, в которой, по словам набожной Беловой, был священник весьма строгий и высокой жизни. В церкви всегда было мало народа; Наташа с Беловой становились на привычное место перед иконой божией матери, вделанной в зад левого клироса, и новое для Наташи чувство смирения перед великим, непостижимым, охватывало ее, когда она в этот непривычный час утра, глядя на черный лик божией матери, освещенный и свечами, горевшими перед ним, и светом утра, падавшим из окна, слушала звуки службы, за которыми она старалась следить, понимая их. Когда она понимала их, ее личное чувство с своими оттенками присоединялось к ее молитве; когда она не понимала, ей еще сладостнее было думать, что желание понимать все есть гордость, что понимать всего нельзя, что надо только верить и отдаваться богу, который в эти минуты – она чувствовала – управлял ее душою. Она крестилась, кланялась и, когда не понимала, то только, ужасаясь перед своею мерзостью, просила бога простить ее за все, за все, и помиловать. Молитвы, которым она больше всего отдавалась, были молитвы раскаяния. Возвращаясь домой в ранний час утра, когда встречались только каменщики, шедшие на работу, дворники, выметавшие улицу, и в домах еще все спали, Наташа испытывала новое для нее чувство возможности исправления себя от своих пороков и возможности новой, чистой жизни и счастия.
В продолжение всей недели, в которую она вела эту жизнь, чувство это росло с каждым днем. И счастье приобщиться или сообщиться, как, радостно играя этим словом, говорила ей Аграфена Ивановна, представлялось ей столь великим, что ей казалось, что она не доживет до этого блаженного воскресенья.
Но счастливый день наступил, и когда Наташа в это памятное для нее воскресенье, в белом кисейном платье, вернулась от причастия, она в первый раз после многих месяцев почувствовала себя спокойной и не тяготящеюся жизнью, которая предстояла ей.
Приезжавший в этот день доктор осмотрел Наташу и велел продолжать те последние порошки, которые он прописал две недели тому назад.
– Непременно продолжать – утром и вечером, – сказал он, видимо, сам добросовестно довольный своим успехом. – Только, пожалуйста, аккуратнее. Будьте покойны, графиня, – сказал шутливо доктор, в мякоть руки ловко подхватывая золотой, – скоро опять запоет и зарезвится. Очень, очень ей в пользу последнее лекарство. Она очень посвежела.
Графиня посмотрела на ногти и поплевала, с веселым лицом возвращаясь в гостиную.
В начале июля в Москве распространялись все более и более тревожные слухи о ходе войны: говорили о воззвании государя к народу, о приезде самого государя из армии в Москву. И так как до 11 го июля манифест и воззвание не были получены, то о них и о положении России ходили преувеличенные слухи. Говорили, что государь уезжает потому, что армия в опасности, говорили, что Смоленск сдан, что у Наполеона миллион войска и что только чудо может спасти Россию.
11 го июля, в субботу, был получен манифест, но еще не напечатан; и Пьер, бывший у Ростовых, обещал на другой день, в воскресенье, приехать обедать и привезти манифест и воззвание, которые он достанет у графа Растопчина.
В это воскресенье Ростовы, по обыкновению, поехали к обедне в домовую церковь Разумовских. Был жаркий июльский день. Уже в десять часов, когда Ростовы выходили из кареты перед церковью, в жарком воздухе, в криках разносчиков, в ярких и светлых летних платьях толпы, в запыленных листьях дерев бульвара, в звуках музыки и белых панталонах прошедшего на развод батальона, в громе мостовой и ярком блеске жаркого солнца было то летнее томление, довольство и недовольство настоящим, которое особенно резко чувствуется в ясный жаркий день в городе. В церкви Разумовских была вся знать московская, все знакомые Ростовых (в этот год, как бы ожидая чего то, очень много богатых семей, обыкновенно разъезжающихся по деревням, остались в городе). Проходя позади ливрейного лакея, раздвигавшего толпу подле матери, Наташа услыхала голос молодого человека, слишком громким шепотом говорившего о ней:
– Это Ростова, та самая…
– Как похудела, а все таки хороша!
Она слышала, или ей показалось, что были упомянуты имена Курагина и Болконского. Впрочем, ей всегда это казалось. Ей всегда казалось, что все, глядя на нее, только и думают о том, что с ней случилось. Страдая и замирая в душе, как всегда в толпе, Наташа шла в своем лиловом шелковом с черными кружевами платье так, как умеют ходить женщины, – тем спокойнее и величавее, чем больнее и стыднее у ней было на душе. Она знала и не ошибалась, что она хороша, но это теперь не радовало ее, как прежде. Напротив, это мучило ее больше всего в последнее время и в особенности в этот яркий, жаркий летний день в городе. «Еще воскресенье, еще неделя, – говорила она себе, вспоминая, как она была тут в то воскресенье, – и все та же жизнь без жизни, и все те же условия, в которых так легко бывало жить прежде. Хороша, молода, и я знаю, что теперь добра, прежде я была дурная, а теперь я добра, я знаю, – думала она, – а так даром, ни для кого, проходят лучшие годы». Она стала подле матери и перекинулась с близко стоявшими знакомыми. Наташа по привычке рассмотрела туалеты дам, осудила tenue [манеру держаться] и неприличный способ креститься рукой на малом пространстве одной близко стоявшей дамы, опять с досадой подумала о том, что про нее судят, что и она судит, и вдруг, услыхав звуки службы, ужаснулась своей мерзости, ужаснулась тому, что прежняя чистота опять потеряна ею.
Благообразный, тихий старичок служил с той кроткой торжественностью, которая так величаво, успокоительно действует на души молящихся. Царские двери затворились, медленно задернулась завеса; таинственный тихий голос произнес что то оттуда. Непонятные для нее самой слезы стояли в груди Наташи, и радостное и томительное чувство волновало ее.
«Научи меня, что мне делать, как мне исправиться навсегда, навсегда, как мне быть с моей жизнью… – думала она.
Дьякон вышел на амвон, выправил, широко отставив большой палец, длинные волосы из под стихаря и, положив на груди крест, громко и торжественно стал читать слова молитвы:
– «Миром господу помолимся».
«Миром, – все вместе, без различия сословий, без вражды, а соединенные братской любовью – будем молиться», – думала Наташа.
– О свышнем мире и о спасении душ наших!
«О мире ангелов и душ всех бестелесных существ, которые живут над нами», – молилась Наташа.
Когда молились за воинство, она вспомнила брата и Денисова. Когда молились за плавающих и путешествующих, она вспомнила князя Андрея и молилась за него, и молилась за то, чтобы бог простил ей то зло, которое она ему сделала. Когда молились за любящих нас, она молилась о своих домашних, об отце, матери, Соне, в первый раз теперь понимая всю свою вину перед ними и чувствуя всю силу своей любви к ним. Когда молились о ненавидящих нас, она придумала себе врагов и ненавидящих для того, чтобы молиться за них. Она причисляла к врагам кредиторов и всех тех, которые имели дело с ее отцом, и всякий раз, при мысли о врагах и ненавидящих, она вспоминала Анатоля, сделавшего ей столько зла, и хотя он не был ненавидящий, она радостно молилась за него как за врага. Только на молитве она чувствовала себя в силах ясно и спокойно вспоминать и о князе Андрее, и об Анатоле, как об людях, к которым чувства ее уничтожались в сравнении с ее чувством страха и благоговения к богу. Когда молились за царскую фамилию и за Синод, она особенно низко кланялась и крестилась, говоря себе, что, ежели она не понимает, она не может сомневаться и все таки любит правительствующий Синод и молится за него.
Окончив ектенью, дьякон перекрестил вокруг груди орарь и произнес:
– «Сами себя и живот наш Христу богу предадим».
«Сами себя богу предадим, – повторила в своей душе Наташа. – Боже мой, предаю себя твоей воле, – думала она. – Ничего не хочу, не желаю; научи меня, что мне делать, куда употребить свою волю! Да возьми же меня, возьми меня! – с умиленным нетерпением в душе говорила Наташа, не крестясь, опустив свои тонкие руки и как будто ожидая, что вот вот невидимая сила возьмет ее и избавит от себя, от своих сожалений, желаний, укоров, надежд и пороков.
Графиня несколько раз во время службы оглядывалась на умиленное, с блестящими глазами, лицо своей дочери и молилась богу о том, чтобы он помог ей.
Неожиданно, в середине и не в порядке службы, который Наташа хорошо знала, дьячок вынес скамеечку, ту самую, на которой читались коленопреклоненные молитвы в троицын день, и поставил ее перед царскими дверьми. Священник вышел в своей лиловой бархатной скуфье, оправил волосы и с усилием стал на колена. Все сделали то же и с недоумением смотрели друг на друга. Это была молитва, только что полученная из Синода, молитва о спасении России от вражеского нашествия.
– «Господи боже сил, боже спасения нашего, – начал священник тем ясным, ненапыщенным и кротким голосом, которым читают только одни духовные славянские чтецы и который так неотразимо действует на русское сердце. – Господи боже сил, боже спасения нашего! Призри ныне в милости и щедротах на смиренные люди твоя, и человеколюбно услыши, и пощади, и помилуй нас. Се враг смущаяй землю твою и хотяй положити вселенную всю пусту, восста на ны; се людие беззаконии собрашася, еже погубити достояние твое, разорити честный Иерусалим твой, возлюбленную тебе Россию: осквернити храмы твои, раскопати алтари и поругатися святыне нашей. Доколе, господи, доколе грешницы восхвалятся? Доколе употребляти имать законопреступный власть?
Владыко господи! Услыши нас, молящихся тебе: укрепи силою твоею благочестивейшего, самодержавнейшего великого государя нашего императора Александра Павловича; помяни правду его и кротость, воздаждь ему по благости его, ею же хранит ны, твой возлюбленный Израиль. Благослови его советы, начинания и дела; утверди всемогущною твоею десницею царство его и подаждь ему победу на врага, яко же Моисею на Амалика, Гедеону на Мадиама и Давиду на Голиафа. Сохрани воинство его; положи лук медян мышцам, во имя твое ополчившихся, и препояши их силою на брань. Приими оружие и щит, и восстани в помощь нашу, да постыдятся и посрамятся мыслящий нам злая, да будут пред лицем верного ти воинства, яко прах пред лицем ветра, и ангел твой сильный да будет оскорбляяй и погоняяй их; да приидет им сеть, юже не сведают, и их ловитва, юже сокрыша, да обымет их; да падут под ногами рабов твоих и в попрание воем нашим да будут. Господи! не изнеможет у тебе спасати во многих и в малых; ты еси бог, да не превозможет противу тебе человек.
Боже отец наших! Помяни щедроты твоя и милости, яже от века суть: не отвержи нас от лица твоего, ниже возгнушайся недостоинством нашим, но помилуй нас по велицей милости твоей и по множеству щедрот твоих презри беззакония и грехи наша. Сердце чисто созижди в нас, и дух прав обнови во утробе нашей; всех нас укрепи верою в тя, утверди надеждою, одушеви истинною друг ко другу любовию, вооружи единодушием на праведное защищение одержания, еже дал еси нам и отцем нашим, да не вознесется жезл нечестивых на жребий освященных.
Господи боже наш, в него же веруем и на него же уповаем, не посрами нас от чаяния милости твоея и сотвори знамение во благо, яко да видят ненавидящий нас и православную веру нашу, и посрамятся и погибнут; и да уведят все страны, яко имя тебе господь, и мы людие твои. Яви нам, господи, ныне милость твою и спасение твое даждь нам; возвесели сердце рабов твоих о милости твоей; порази враги наши, и сокруши их под ноги верных твоих вскоре. Ты бо еси заступление, помощь и победа уповающим на тя, и тебе славу воссылаем, отцу и сыну и святому духу и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».
В том состоянии раскрытости душевной, в котором находилась Наташа, эта молитва сильно подействовала на нее. Она слушала каждое слово о победе Моисея на Амалика, и Гедеона на Мадиама, и Давида на Голиафа, и о разорении Иерусалима твоего и просила бога с той нежностью и размягченностью, которою было переполнено ее сердце; но не понимала хорошенько, о чем она просила бога в этой молитве. Она всей душой участвовала в прошении о духе правом, об укреплении сердца верою, надеждою и о воодушевлении их любовью. Но она не могла молиться о попрании под ноги врагов своих, когда она за несколько минут перед этим только желала иметь их больше, чтобы любить их, молиться за них. Но она тоже не могла сомневаться в правоте читаемой колено преклонной молитвы. Она ощущала в душе своей благоговейный и трепетный ужас перед наказанием, постигшим людей за их грехи, и в особенности за свои грехи, и просила бога о том, чтобы он простил их всех и ее и дал бы им всем и ей спокойствия и счастия в жизни. И ей казалось, что бог слышит ее молитву.
С того дня, как Пьер, уезжая от Ростовых и вспоминая благодарный взгляд Наташи, смотрел на комету, стоявшую на небе, и почувствовал, что для него открылось что то новое, – вечно мучивший его вопрос о тщете и безумности всего земного перестал представляться ему. Этот страшный вопрос: зачем? к чему? – который прежде представлялся ему в середине всякого занятия, теперь заменился для него не другим вопросом и не ответом на прежний вопрос, а представлением ее. Слышал ли он, и сам ли вел ничтожные разговоры, читал ли он, или узнавал про подлость и бессмысленность людскую, он не ужасался, как прежде; не спрашивал себя, из чего хлопочут люди, когда все так кратко и неизвестно, но вспоминал ее в том виде, в котором он видел ее в последний раз, и все сомнения его исчезали, не потому, что она отвечала на вопросы, которые представлялись ему, но потому, что представление о ней переносило его мгновенно в другую, светлую область душевной деятельности, в которой не могло быть правого или виноватого, в область красоты и любви, для которой стоило жить. Какая бы мерзость житейская ни представлялась ему, он говорил себе:
«Ну и пускай такой то обокрал государство и царя, а государство и царь воздают ему почести; а она вчера улыбнулась мне и просила приехать, и я люблю ее, и никто никогда не узнает этого», – думал он.
Пьер все так же ездил в общество, так же много пил и вел ту же праздную и рассеянную жизнь, потому что, кроме тех часов, которые он проводил у Ростовых, надо было проводить и остальное время, и привычки и знакомства, сделанные им в Москве, непреодолимо влекли его к той жизни, которая захватила его. Но в последнее время, когда с театра войны приходили все более и более тревожные слухи и когда здоровье Наташи стало поправляться и она перестала возбуждать в нем прежнее чувство бережливой жалости, им стало овладевать более и более непонятное для него беспокойство. Он чувствовал, что то положение, в котором он находился, не могло продолжаться долго, что наступает катастрофа, долженствующая изменить всю его жизнь, и с нетерпением отыскивал во всем признаки этой приближающейся катастрофы. Пьеру было открыто одним из братьев масонов следующее, выведенное из Апокалипсиса Иоанна Богослова, пророчество относительно Наполеона.
В Апокалипсисе, главе тринадцатой, стихе восемнадцатом сказано: «Зде мудрость есть; иже имать ум да почтет число зверино: число бо человеческо есть и число его шестьсот шестьдесят шесть».
И той же главы в стихе пятом: «И даны быта ему уста глаголюща велика и хульна; и дана бысть ему область творити месяц четыре – десять два».
Французские буквы, подобно еврейскому число изображению, по которому первыми десятью буквами означаются единицы, а прочими десятки, имеют следующее значение:
a b c d e f g h i k.. l..m..n..o..p..q..r..s..t.. u…v w.. x.. y.. z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
Написав по этой азбуке цифрами слова L'empereur Napoleon [император Наполеон], выходит, что сумма этих чисел равна 666 ти и что поэтому Наполеон есть тот зверь, о котором предсказано в Апокалипсисе. Кроме того, написав по этой же азбуке слова quarante deux [сорок два], то есть предел, который был положен зверю глаголати велика и хульна, сумма этих чисел, изображающих quarante deux, опять равна 666 ти, из чего выходит, что предел власти Наполеона наступил в 1812 м году, в котором французскому императору минуло 42 года. Предсказание это очень поразило Пьера, и он часто задавал себе вопрос о том, что именно положит предел власти зверя, то есть Наполеона, и, на основании тех же изображений слов цифрами и вычислениями, старался найти ответ на занимавший его вопрос. Пьер написал в ответе на этот вопрос: L'empereur Alexandre? La nation Russe? [Император Александр? Русский народ?] Он счел буквы, но сумма цифр выходила гораздо больше или меньше 666 ти. Один раз, занимаясь этими вычислениями, он написал свое имя – Comte Pierre Besouhoff; сумма цифр тоже далеко не вышла. Он, изменив орфографию, поставив z вместо s, прибавил de, прибавил article le и все не получал желаемого результата. Тогда ему пришло в голову, что ежели бы ответ на искомый вопрос и заключался в его имени, то в ответе непременно была бы названа его национальность. Он написал Le Russe Besuhoff и, сочтя цифры, получил 671. Только 5 было лишних; 5 означает «е», то самое «е», которое было откинуто в article перед словом L'empereur. Откинув точно так же, хотя и неправильно, «е», Пьер получил искомый ответ; L'Russe Besuhof, равное 666 ти. Открытие это взволновало его. Как, какой связью был он соединен с тем великим событием, которое было предсказано в Апокалипсисе, он не знал; но он ни на минуту не усумнился в этой связи. Его любовь к Ростовой, антихрист, нашествие Наполеона, комета, 666, l'empereur Napoleon и l'Russe Besuhof – все это вместе должно было созреть, разразиться и вывести его из того заколдованного, ничтожного мира московских привычек, в которых, он чувствовал себя плененным, и привести его к великому подвигу и великому счастию.
Пьер накануне того воскресенья, в которое читали молитву, обещал Ростовым привезти им от графа Растопчина, с которым он был хорошо знаком, и воззвание к России, и последние известия из армии. Поутру, заехав к графу Растопчину, Пьер у него застал только что приехавшего курьера из армии.
Курьер был один из знакомых Пьеру московских бальных танцоров.
– Ради бога, не можете ли вы меня облегчить? – сказал курьер, – у меня полна сумка писем к родителям.
В числе этих писем было письмо от Николая Ростова к отцу. Пьер взял это письмо. Кроме того, граф Растопчин дал Пьеру воззвание государя к Москве, только что отпечатанное, последние приказы по армии и свою последнюю афишу. Просмотрев приказы по армии, Пьер нашел в одном из них между известиями о раненых, убитых и награжденных имя Николая Ростова, награжденного Георгием 4 й степени за оказанную храбрость в Островненском деле, и в том же приказе назначение князя Андрея Болконского командиром егерского полка. Хотя ему и не хотелось напоминать Ростовым о Болконском, но Пьер не мог воздержаться от желания порадовать их известием о награждении сына и, оставив у себя воззвание, афишу и другие приказы, с тем чтобы самому привезти их к обеду, послал печатный приказ и письмо к Ростовым.
Разговор с графом Растопчиным, его тон озабоченности и поспешности, встреча с курьером, беззаботно рассказывавшим о том, как дурно идут дела в армии, слухи о найденных в Москве шпионах, о бумаге, ходящей по Москве, в которой сказано, что Наполеон до осени обещает быть в обеих русских столицах, разговор об ожидаемом назавтра приезде государя – все это с новой силой возбуждало в Пьере то чувство волнения и ожидания, которое не оставляло его со времени появления кометы и в особенности с начала войны.
Пьеру давно уже приходила мысль поступить в военную службу, и он бы исполнил ее, ежели бы не мешала ему, во первых, принадлежность его к тому масонскому обществу, с которым он был связан клятвой и которое проповедывало вечный мир и уничтожение войны, и, во вторых, то, что ему, глядя на большое количество москвичей, надевших мундиры и проповедывающих патриотизм, было почему то совестно предпринять такой шаг. Главная же причина, по которой он не приводил в исполнение своего намерения поступить в военную службу, состояла в том неясном представлении, что он l'Russe Besuhof, имеющий значение звериного числа 666, что его участие в великом деле положения предела власти зверю, глаголящему велика и хульна, определено предвечно и что поэтому ему не должно предпринимать ничего и ждать того, что должно совершиться.
У Ростовых, как и всегда по воскресениям, обедал кое кто из близких знакомых.
Пьер приехал раньше, чтобы застать их одних.



