Тит Ливий
Тит Ли́вий (лат. Titus Livius; 59 до н. э., Патавий — 17 год н. э.) — древнеримский историк, автор частично сохранившейся «Истории от основания города» (Ab urbe condita). Начав составлять «Историю» около 30 года до н. э., Ливий работал над ней до конца жизни и описал события от мифического прибытия Энея из Трои на Апеннинский полуостров до 9 года до н. э. Сочинение состояло из 142 книг ( в "современном формате" эти книги соответствуют главам), но сохранились лишь книги 1–10 и 21—45 (описывают события до 292 года до н. э. и с 218 до 167 года до н. э.), небольшие фрагменты других книг, а также периохи — краткие пересказы содержания.
Ливий писал ярким и живым латинским языком, мастерски применял художественные приёмы, удачно выстраивал повествование, но не утруждал себя самостоятельными исследованиями, некритически пересказывал свои источники и не всегда разрешал противоречия между ними. На его исторические и религиозные воззрения отчасти повлияли идеи историков-предшественников (прежде всего, Саллюстия) и стоическая философия. Ливий был первым римским историком, не занимавшим никаких государственных должностей и, несмотря на близкое знакомство с императором Октавианом Августом, был свободен в выражении своих политических взглядов.
Ливий завоевал славу крупнейшего римского историка ещё в античную эпоху и удерживал её до XIX века, когда оценка его сочинения была пересмотрена ввиду серьёзных недостатков в работе с источниками и увлечённости автора стилистической отделкой в ущерб точности.
Содержание
Биография
 О жизни Тита Ливия известно немногое. Отчасти это связано с тем, что в сохранившихся книгах его сочинения историк очень редко говорил о себе. В последних книгах, которые описывали современные события, автобиографическая информация могла присутствовать, но они не сохранились. Очень мало биографической информации сообщают о нём другие римские авторы, включая и поклонников его творчества[1]. Как и большинство римских писателей, Тит Ливий происходил не из Рима[2]: известно, что он родился в Патавии (современная Падуя) — одном из богатейших городов Апеннинского полуострова после Рима[3][4]. Эта часть Италии севернее реки По (Транспадания) окончательно получила права римского гражданства лишь в 49 году до н. э. при поддержке Гая Юлия Цезаря, хотя к тому времени местное население уже было романизировано[3]. В годы гражданских войн в родном городе историка доминировали республиканские симпатии[5]. Дату рождения Ливия обычно относят к 59 году до н. э.[6][7][8] Позднеантичный хронист Иероним Стридонский сообщает о Ливии два противоречивых факта: по его сведениям, он родился в 59 году до н. э., но при этом был ровесником Марка Валерия Мессалы Корвина, который родился пятью годами ранее. По мнению историка Рональда Сайма, рождение Ливия следует относить к 64 году до н. э.: он считает, что Иероним ошибочно прочёл в своём источнике «консульство [Гая Юлия] Цезаря и Бибула» (Caesare et Bibulo — 59 год до н. э.) вместо «консульство [Луция Юлия] Цезаря и Фигула» (Caesare et Figulo — 64 год до н. э.)[9]. Впрочем, могла произойти и противоположная ошибка[10]: как замечает британский историк, Иероним нередко ошибался в датах[9].
О жизни Тита Ливия известно немногое. Отчасти это связано с тем, что в сохранившихся книгах его сочинения историк очень редко говорил о себе. В последних книгах, которые описывали современные события, автобиографическая информация могла присутствовать, но они не сохранились. Очень мало биографической информации сообщают о нём другие римские авторы, включая и поклонников его творчества[1]. Как и большинство римских писателей, Тит Ливий происходил не из Рима[2]: известно, что он родился в Патавии (современная Падуя) — одном из богатейших городов Апеннинского полуострова после Рима[3][4]. Эта часть Италии севернее реки По (Транспадания) окончательно получила права римского гражданства лишь в 49 году до н. э. при поддержке Гая Юлия Цезаря, хотя к тому времени местное население уже было романизировано[3]. В годы гражданских войн в родном городе историка доминировали республиканские симпатии[5]. Дату рождения Ливия обычно относят к 59 году до н. э.[6][7][8] Позднеантичный хронист Иероним Стридонский сообщает о Ливии два противоречивых факта: по его сведениям, он родился в 59 году до н. э., но при этом был ровесником Марка Валерия Мессалы Корвина, который родился пятью годами ранее. По мнению историка Рональда Сайма, рождение Ливия следует относить к 64 году до н. э.: он считает, что Иероним ошибочно прочёл в своём источнике «консульство [Гая Юлия] Цезаря и Бибула» (Caesare et Bibulo — 59 год до н. э.) вместо «консульство [Луция Юлия] Цезаря и Фигула» (Caesare et Figulo — 64 год до н. э.)[9]. Впрочем, могла произойти и противоположная ошибка[10]: как замечает британский историк, Иероним нередко ошибался в датах[9].
Скорее всего, Ливий происходил из состоятельной семьи[11][12]. В надписи, которая, возможно, была надгробием историка, упоминается имя его отца — Гай[13]. Тит Ливий, вероятно, получил образование в родном городе, поскольку внутренние конфликты 50-х и гражданские войны 40-х годов до н. э. препятствовали получению образования у лучших риторов в Риме и делали проблематичными учебные путешествия в Грецию. Свидетельств прохождения им военной службы нет[1]. Плутарх упоминает, что живший в Патавии авгур (гадатель по птицам) Гай Корнелий, якобы сообщивший о победе Цезаря в битве при Фарсале до прихода новостей о ней, был знакомым (др.-греч. γνώριμος) Ливия[14]. Скорее всего, Ливий перебрался в Рим вскоре после окончания гражданских войн[15] (впрочем, Г. С. Кнабе полагает, что историк прибыл в столицу уже около 38 года до н. э.[16][17]). Неизвестно, чем Ливий занимался в Риме: он никогда не занимал никаких должностей, однако мог позволить себе жизнь в столице и заниматься историей[11]. Г. С. Кнабе предполагает, что средства к существованию ему обеспечило унаследованное состояние, которое удалось сохранить от экспроприаций[18]. Рональд Меллор[en] называет его первым профессиональным историком в Риме, поскольку с начала 20-х годов до н. э. он посвятил занятию историей всю жизнь[19]. Славу он снискал ещё при жизни, и на публичных чтениях его сочинений — новинке эпохи Августа — всегда было многолюдно[1]. Плиний Младший упоминает о жителе Гадеса (современный Кадис в Испании), приплывшем в Рим только для того, чтобы посмотреть на историка[цит. 1]. «История» не была первым сочинением Тита Ливия: он писал и небольшие работы философского характера (о сочинениях в форме диалогов и трактатов упоминает Сенека[цит. 2]), но они не сохранились. Предполагается, что в них Ливий выступал с позиций философов-стоиков, адаптировавших учение Новой Стои к современности[20][комм. 1].
 В столице Ливий познакомился с Октавианом Августом. Вероятно, их знакомство произошло благодаря образованности Ливия: первый император выступал активным покровителем наук и искусств[11]. Тацит даже называет их отношения дружбой. Известно о совете Ливия будущему императору Клавдию заниматься историей[15][11]. Тот внял его рекомендации, и Светоний рассказывает о довольно крупных по объёму исторических сочинениях императора[21]. Кроме того, в сохранившихся фрагментах речей Клавдия обнаруживаются некоторые черты сходства с «Историей» Ливия[22]. За наставничество над Клавдием Ливия могли вознаградить[23]. Поскольку в годы знакомства Ливия и Августа Клавдий жил в Палатинском дворце, историк наверняка был знаком со всей семьёй императора[24]. Несмотря на близость к императору и популярность, Тит Ливий не был «придворным историографом». Благодаря Тациту известно, что взгляды историка и императора на противостояние Цезаря (приёмного отца Октавиана) и Гнея Помпея не совпадали. Нет и известий о связях Ливия с Меценатом, главным покровителем литературных талантов своего времени и ближайшим другом императора. Отношение Ливия к политике самого Августа неясно (см. раздел «Политические взгляды Ливия»)[25].
В столице Ливий познакомился с Октавианом Августом. Вероятно, их знакомство произошло благодаря образованности Ливия: первый император выступал активным покровителем наук и искусств[11]. Тацит даже называет их отношения дружбой. Известно о совете Ливия будущему императору Клавдию заниматься историей[15][11]. Тот внял его рекомендации, и Светоний рассказывает о довольно крупных по объёму исторических сочинениях императора[21]. Кроме того, в сохранившихся фрагментах речей Клавдия обнаруживаются некоторые черты сходства с «Историей» Ливия[22]. За наставничество над Клавдием Ливия могли вознаградить[23]. Поскольку в годы знакомства Ливия и Августа Клавдий жил в Палатинском дворце, историк наверняка был знаком со всей семьёй императора[24]. Несмотря на близость к императору и популярность, Тит Ливий не был «придворным историографом». Благодаря Тациту известно, что взгляды историка и императора на противостояние Цезаря (приёмного отца Октавиана) и Гнея Помпея не совпадали. Нет и известий о связях Ливия с Меценатом, главным покровителем литературных талантов своего времени и ближайшим другом императора. Отношение Ливия к политике самого Августа неясно (см. раздел «Политические взгляды Ливия»)[25].
Всего Ливий работал около 40 лет, и не остановился даже когда прославился на всю империю. По словам Плиния Старшего, «он уже достаточно приобрёл себе славы и мог бы покончить, если бы мятежный дух его не находил пищи в труде»[26]. По свидетельству Иеронима Стридонского, Ливий умер в родном Патавии в 17 году н. э.[15] Эта дата является традиционной. Рональд Сайм же, предполагая ошибку Иеронима на пять лет, предлагает в качестве даты смерти 12 год н. э.[27] Майкл Грант допускает, что историк мог умереть в 7 году н. э.[28] О семье Ливия известно немного: есть сведения, что двое его сыновей также занимались литературной деятельностью (по другой версии, его старший сын умер ещё в детстве), а дочь вышла замуж за ритора Луция Магия[1][29]. Квинтилиан упоминает о письме Ливия к сыну, в котором историк советует ориентироваться на стиль Демосфена и Цицерона[30]. В Средние века в Падуе было обнаружено надгробие, которое могло указывать на могилу Ливия. В нём упоминался Тит Ливий, сын Гая, и его жена Кассия Прима, дочь Секста[13].
«История от основания города»
Структура. Название
Важнейшее сочинение Ливия — «История от основания города» в 142 книгах. Его объём очень велик: по современным подсчётам, если бы до наших дней сохранилось всё произведение, оно насчитывало бы около восьми тысяч печатных страниц[1] и двух миллионов слов[31]. Однако полностью или почти целиком сохранилось всего 35 книг (подробнее о сохранности сочинений Ливия см. ниже). Книги сгруппированы по десять в декады (от древнегреческого δέκα [deka] — десять), а также по пять в полудекады, или пентады (от древнегреческого πέντε [pente] — пять)[32]. В начале каждой декады или полудекады обычно, но не всегда помещалось специальное введение[33]. Впрочем, точно неизвестно, ввёл ли это деление сам автор или оно появилось позднее[комм. 2]. Кроме того, по периохам прослеживается частичный отход Ливия от деления на пяти- и десятикнижия при описании истории поздней республики[40]. Сильно меняется и детализация труда: первая книга охватывает больше 250 лет, а некоторые из последних книг описывают события одного года в нескольких книгах. В качестве возможных объяснений предлагаются версии о различной степени подробности источников и осознание историком большего интереса к недавним событиям[40]. Распространено предположение, что изначально Ливий планировал довести повествование до 43 года до н. э., что составило бы 120 книг[35][40][41]. По другой версии, гипотеза о возможном окончании «Истории» 43 годом до н. э. отвечает лишь соображениям структуры — делению на декады и пентады — но такая хронология была невыгодной ни для Ливия, ни для Октавиана[42], и потому допускается, что в изначальные планы Ливия входило описание событий вплоть до окончания гражданских войн в 30 году до н. э. или до 27 года до н. э.[43] Слова Плиния Старшего (см. выше) рассматриваются как дополнительное свидетельство в пользу более скромного изначального замысла[41]. Кроме того, последние 22 книги выбиваются из изначального деления на 5 и 10 книг[41]. Если предположение о первоначальном плане в 120 книг справедливо, работа должна была демонстрировать разительный контраст эпохи гражданских войн со славным прошлым. Расширение Ливием изначального замысла в этом случае рассматривается как попытка показать возрождение Рима в правление Августа[44]. Допускается, что Ливий мог планировать написать 150 книг, и сочинение, таким образом, осталось незавершённым[8][43]. Причинами незавершённости работы называются смерть Ливия, серьёзная болезнь, вынудившая его отказаться от занятий историей, а также осознанное желание не описывать политизированные события современности[43].
Общепринятое название работы «История от основания города» является условным, поскольку настоящее заглавие неизвестно[32]. Сам Ливий называет своё сочинение «Летописью» (лат. Annales)[32]; впрочем, это может быть не название, а лишь характеристика[цит. 3]. Плиний Старший называет работу Ливия «Историей» (лат. Historiae — историческое сочинение в нескольких книгах). Название «Ab urbe condita libri» (Книги от основания города) встречается лишь в поздних рукописях. Возможно, это название заимствовано из приписки «Книга [номер] Тита Ливия от основания города закончена» в конце каждой книги в манускриптах[32]. Книги 109—116 иногда упоминаются как «книги о гражданской войне» (Belli civilis libri)[45]. По предположению Г. С. Кнабе, сочинение историка могло вообще не иметь названия[46].
Датировка
О времени начала работы над «Историей» существуют различные мнения. Традиционно считается, что Ливий начал работать над своим важнейшим сочинением не ранее 27 года до н. э., что связывается с версией о составлении первой книги между 27 и 25 годами до н. э. Предпосылки для датировки следующие: историк упоминает третье закрытие ворот храма Януса (29 год до н. э.), что символизировало окончание всех войн, но не упоминает четвёртое (25 год до н. э.); кроме того, он называет императора Августом, а этот титул он принял 16 января 27 года до н. э.[26][47][48] Впрочем, использование термина Augustus не обязательно обозначает именно титул Октавиана (оно может быть лишь эпитетом)[49]. В 1940 году Жан Байе (фр. Jean Bayet) предположил, что все фрагменты «Истории», в которых упоминается Август, являются более поздними вставками, сделанными, вероятно, после первого издания начальных книг «Истории»[50][51][комм. 3]. Впоследствии его гипотезу развил Торри Джеймс Льюс (англ. Torrey James Luce). Согласно его точке зрения, по крайней мере одна из возможных вставок, упоминающая Августа, прямо противоречит основному тексту Ливия и потому наверняка добавлена позднее[53]. Предложенные им аргументы признаются убедительными[54]. Из-за этих предположений возможна существенно более ранняя датировка «Истории» — до 31 года до н. э.[40] или даже началом 30-х годов до н. э.[6] Тем не менее, прямых подтверждений существования двух редакций первых книг нет[55]. В 2000 году Пол Бёртон предложил новый аргумент в пользу ранней датировки — упоминание в первой книге реконструкции Большой клоаки Агриппой: по мнению исследователя, Ливий имел в виду ещё незавершённую работу, что позволило ему датировать первую книгу сочинения между 33 и 31 годами до н. э.[56] Свидетельство пришедшего к схожим выводам Жана Байе он, впрочем, отверг[57]. По мнению Вальтера Шайделя[en], особенности описания результатов цензов в книге 3 и в периохе книги 59 указывают на создание этих книг вскоре после переписей Августа в 28 и 8 годах до н. э. соответственно. Косвенным аргументом в поддержку своей гипотезы исследователь считает равномерность создания книг Ливия — около трёх в год; в противном случае, Ливий должен был работать над сочинением с неравномерной скоростью[58]. Несмотря на попытки удревнить «Историю» Ливия, широко распространена традиционная версия о начале работы над ней в 20-е годы до н. э., а самой ранней датировкой предисловия считается 28 год до н. э.[59]
Третья декада традиционно датируется между 24 и 14 годами до н. э.: в 28-й книге упоминается победа над испанцами. Впрочем, неясно, какую из двух войн подразумевал Ливий — победу Агриппы над кантабрами (19 год до н. э.)[26] или кампанию Августа 27–25 годов до н. э.[50] Книга 59 была написана после 18 года до н. э.: упоминается закон этого года[26] (впрочем, текст этой книги утерян, и соответствующая информация содержится лишь в периохе[50]). Книги, рассказывавшие о жизни Гнея Помпея Магна, были написаны ещё при жизни Августа: Тацит сохранил рассказ, что император нашёл их предвзятыми в пользу этого военачальника, и даже называл Ливия помпеянцем[цит. 4]. Книга 121, если верить примечанию к периохе, появилась уже после смерти Августа[26].
Источники. Исторический метод
Источники Ливия
Как и большинство римских историков своего времени, Ливий опирался преимущественно на сочинения предшественников, а к изучению документов прибегает достаточно редко[60]. Свои источники он называет нечасто: обычно это происходит лишь когда их свидетельства не совпадают[60]. В любом случае, Ливия не интересовало исследование истинности описываемых событий и установление причинно-следственных связей. Обычно Ливий выбирал наиболее правдоподобную версию из нескольких и следовал ей[61]. Степень правдоподобности информации определялась им субъективно, о чём он сообщил: «Раз дело касается столь древних событий, я буду считать достаточным признавать за истину то, что похоже на истину»[62]. Если единственный доступный Ливию источник сообщал малоправдоподобные сведения, историк мог сообщить читателям о своём сомнении: «Хотя приводимые этим писателем [Валерием Анциатом] чи́сла [потерь римлян и лигурийцев] не вызывают доверия, ибо никому не превзойти его в преувеличениях, тем не менее очевидно, что победа была великая»[63]. Недоверие к фантастическим цифрам предшественников (нередко на одного убитого в битве римского солдата приходились якобы десятки и сотни погибших противников), впрочем, осталось во многом декларативным, поскольку альтернативные источники информации у Ливия зачастую отсутствовали[64]. Ливий упоминает о гибели почти всех записей о событиях раннеримской истории из-за разграбления Рима галлами в 390 году до н. э., что могло повлиять на его мнение о ненадёжности сведений анналистов[65]. Ливий старается не попадать под слишком сильное влияние своих источников, нередко сглаживая победные реляции римских анналистов[64]. Впрочем, среди современных исследователей встречается и мнение о некритическом восприятии Ливием хроник и сочинений предшественников[66]. Рональд Меллор призывает не судить строго Ливия за его отношение к источникам: видя одной из своих задач передачу потомкам римской традиции, он записывал даже то, с чем не был согласен. Определённую роль в сохранении сомнительных свидетельств могла сыграть убеждённость Ливия в существовании циклических закономерностей римской истории, из-за которых события, случившиеся в древности, могут повторяться[67].
 Традиционно считается, что для написания первой декады Ливий использовал труды анналистов Фабия Пиктора, Кальпурния Пизона[комм. 4], Клавдия Квадригария, Валерия Анциата, Лициния Макра, Элия Туберона (неясно, был ли это Луций Элий Туберон[fr] или его сын Квинт), Цинция Алимента, а также поэта Квинта Энния[71][69][72]. Впрочем, они использовались в различной степени: Валерий Анциат и Лициний Макр, вероятно, были важнейшими, Элий Туберон и Клавдий Квадригарий — менее значимыми[комм. 5]. Различные исследователи приходят к полярным выводам о предпочтениях Ливия в выборе источников: С. И. Соболевский отмечает, что Ливий обычно предпочитал использовать более новых авторов[62], а Т. И. Кузнецова сделала противоположное наблюдение[75]. При этом неизвестны факты использования сочинений антикваров I века до н. э. — Варрона и Аттика[76][66]. Источником отдельных фрагментов «Истории», впрочем, иногда признаются именно антикварные сочинения[72]. Таково, например, происхождение пассажа Ливия о принципах комплектования римской армии в книге 8. Указывающая на этот фрагмент Элизабет Роусон[en], однако, признаёт его уникальный характер[77]. По античной традиции, Ливий нечасто называет свои источники. Чаще других он упоминает анналиста Валерия Анциата, однако обычно делает это, чтобы не согласиться с его версией событий[78]. Частое упоминание Анциата заставило Г. С. Кнабе предположить, что этот автор был «самым излюбленным» среди всех источников[79]. Возможно, использовались и «Великие анналы» — официальная летопись Римской республики, которая составлялась понтификами и была опубликована в 123 году до н. э.,[37] хотя иногда привлечение этого сочинения отрицается[70].
Традиционно считается, что для написания первой декады Ливий использовал труды анналистов Фабия Пиктора, Кальпурния Пизона[комм. 4], Клавдия Квадригария, Валерия Анциата, Лициния Макра, Элия Туберона (неясно, был ли это Луций Элий Туберон[fr] или его сын Квинт), Цинция Алимента, а также поэта Квинта Энния[71][69][72]. Впрочем, они использовались в различной степени: Валерий Анциат и Лициний Макр, вероятно, были важнейшими, Элий Туберон и Клавдий Квадригарий — менее значимыми[комм. 5]. Различные исследователи приходят к полярным выводам о предпочтениях Ливия в выборе источников: С. И. Соболевский отмечает, что Ливий обычно предпочитал использовать более новых авторов[62], а Т. И. Кузнецова сделала противоположное наблюдение[75]. При этом неизвестны факты использования сочинений антикваров I века до н. э. — Варрона и Аттика[76][66]. Источником отдельных фрагментов «Истории», впрочем, иногда признаются именно антикварные сочинения[72]. Таково, например, происхождение пассажа Ливия о принципах комплектования римской армии в книге 8. Указывающая на этот фрагмент Элизабет Роусон[en], однако, признаёт его уникальный характер[77]. По античной традиции, Ливий нечасто называет свои источники. Чаще других он упоминает анналиста Валерия Анциата, однако обычно делает это, чтобы не согласиться с его версией событий[78]. Частое упоминание Анциата заставило Г. С. Кнабе предположить, что этот автор был «самым излюбленным» среди всех источников[79]. Возможно, использовались и «Великие анналы» — официальная летопись Римской республики, которая составлялась понтификами и была опубликована в 123 году до н. э.,[37] хотя иногда привлечение этого сочинения отрицается[70].
По мнению Роберта Огилви[en], Ливий не имел доступа к документам в сенатских и жреческих архивах, поскольку не занимал никаких должностей[66]. Впрочем, В. С. Дуров считает, что близость к императору могла открыть историку двери в государственные архивы[74]. Маловероятно, что у выходца из незнатной семьи из Северной Италии была возможность познакомиться с архивами древних римских родов, в которых хранились важные документы тех лет, когда представители семейства занимали магистратские должности[80]. Впрочем, сбор всей доступной информации не был главной целью Ливия[66]. Предполагается, что если Ливий всё же ссылается на некие документы, то он наверняка познакомился с ними через посредничество сочинений других авторов[81]. Многочисленным надписям на военных трофеях, статуях, семейных изображениях выдающихся предков, а также записям погребальных речей, он не доверял (см. врезку).
 Третья, четвёртая и пятая декады написаны под сильным влиянием Полибия. Сам Ливий утверждал, что читал всех авторов, писавших о рассматриваемом периоде[76]. С. И. Соболевский считает эти слова римского историка преувеличением, а важнейшую роль отводит «Истории» Полибия, указывая, что он «даже переводил прямо некоторые места из неё»[62]. М. Альбрехт наблюдает эволюцию предпочтений автора. По его мнению, для третьей декады Полибий сперва использовался ограниченно (основную роль играли Целий Антипатр и Валерий Анциат, в меньшей степени — Клавдий Квадригарий), но ближе к концу декады его свидетельства приводятся всё чаще; для четвёртой и пятой декад широкое использование Полибия не отрицается[68]. Рональд Меллор и С. И. Соболевский объясняют нарастающее использование греческого автора постепенным осознанием Ливием его достоинств лишь в процессе работы над третьей декадой[82][62]. Возможно, использовались и «Начала» Катона Старшего, но редко[62]. Поскольку значительная часть труда Полибия сохранилась, хорошо изучены описания параллельных событий обоими авторами. Хотя Ливий нередко пересказывает Полибия целыми фрагментами, он старался преодолеть увлечение греческого предшественниками событиями в эллинистических государствах, добавляя материалы Луция Целия Антипатра и Квинта Клавдия Квадригария о событиях в Италии и западных провинциях[69]. Особенно сильна зависимость от Полибия в деталях военных кампаний[82]. Наряду с заимствованием фактов из «Всеобщей истории» Полибия, на Ливия повлияли его рассуждения об истоках могущества Римской республики[82]. Впрочем, Ливий нередко сокращает пространные описания Полибия, если из-за них сбивается темп повествования[82]. Несмотря на это, благодаря творческой работе «История» римского историка подробнее греческого предшественника в описании войны с Ганнибалом[64]. По сравнению с первыми книгами «Истории», в событиях конца III — начала II веков до н. э. Ливий ориентируется свободнее, а вместо абстрактных рассуждений о ненадёжности источников он полемизирует с ними по существу. Например, он упрекает Валерия Анциата в искажении причины убийства знатного галла консулом Луцием Фламинином: апеллируя к выступлению Катона Старшего, Ливий доказывает, что Фламинин убил галла, чтобы произвести впечатление на своего карфагенского любовника, а не на гетеру[82][83].
Третья, четвёртая и пятая декады написаны под сильным влиянием Полибия. Сам Ливий утверждал, что читал всех авторов, писавших о рассматриваемом периоде[76]. С. И. Соболевский считает эти слова римского историка преувеличением, а важнейшую роль отводит «Истории» Полибия, указывая, что он «даже переводил прямо некоторые места из неё»[62]. М. Альбрехт наблюдает эволюцию предпочтений автора. По его мнению, для третьей декады Полибий сперва использовался ограниченно (основную роль играли Целий Антипатр и Валерий Анциат, в меньшей степени — Клавдий Квадригарий), но ближе к концу декады его свидетельства приводятся всё чаще; для четвёртой и пятой декад широкое использование Полибия не отрицается[68]. Рональд Меллор и С. И. Соболевский объясняют нарастающее использование греческого автора постепенным осознанием Ливием его достоинств лишь в процессе работы над третьей декадой[82][62]. Возможно, использовались и «Начала» Катона Старшего, но редко[62]. Поскольку значительная часть труда Полибия сохранилась, хорошо изучены описания параллельных событий обоими авторами. Хотя Ливий нередко пересказывает Полибия целыми фрагментами, он старался преодолеть увлечение греческого предшественниками событиями в эллинистических государствах, добавляя материалы Луция Целия Антипатра и Квинта Клавдия Квадригария о событиях в Италии и западных провинциях[69]. Особенно сильна зависимость от Полибия в деталях военных кампаний[82]. Наряду с заимствованием фактов из «Всеобщей истории» Полибия, на Ливия повлияли его рассуждения об истоках могущества Римской республики[82]. Впрочем, Ливий нередко сокращает пространные описания Полибия, если из-за них сбивается темп повествования[82]. Несмотря на это, благодаря творческой работе «История» римского историка подробнее греческого предшественника в описании войны с Ганнибалом[64]. По сравнению с первыми книгами «Истории», в событиях конца III — начала II веков до н. э. Ливий ориентируется свободнее, а вместо абстрактных рассуждений о ненадёжности источников он полемизирует с ними по существу. Например, он упрекает Валерия Анциата в искажении причины убийства знатного галла консулом Луцием Фламинином: апеллируя к выступлению Катона Старшего, Ливий доказывает, что Фламинин убил галла, чтобы произвести впечатление на своего карфагенского любовника, а не на гетеру[82][83].
Несохранившиеся книги Ливия о событиях конца II — I веков до н. э., вероятно, опирались на Посидония — продолжателя Полибия, а также на Семпрония Азеллиона и Корнелия Сизенну. Скорее всего, привлекались сочинения Саллюстия Криспа, Юлия Цезаря, Азиния Поллиона, мемуары Корнелия Суллы[84]. Предполагается, что в дальнейшем Ливий не находился под сильным влиянием одного источника, как в случае с Полибием, поскольку ситуация с греческим историком могла быть уникальной: только его Ливий хвалит, о других же его мнение сдержанное[82]. Однажды Ливий ссылается и на свидетельство императора Августа, сообщённое ему лично[цит. 5]. Допускается, что для описания событий своего времени, которые ещё не были написаны другими историками, Ливий был вынужден проводить самостоятельные исследования[74].
Методы работы Ливия
«Непросто одно сообщение предпочесть другому. Я думаю, [историческое] предание искажено из-за надгробных хвалебных речей и лживых подписей к изображениям предков, ибо каждое семейство старается с помощью вымыслов присвоить себе и подвиги, и должности; отсюда, конечно, и эта путаница в том, кто какие подвиги совершил, и в том, что значится в государственных записях. И нет к тому же ни одного писателя, современника тех событий, на свидетельства которого мы могли бы положиться со спокойной душой»[85].
Титу Ливию не всегда удавалось переработать источники, которые нередко противоречили друг другу, в соответствии с потребностями своего сочинения. Нередко его роль сводилась лишь к стилистической отделке материала источников. Среди наиболее ярких проявлений некритического отношения Ливия к источникам — повторы одних и тех же событий и противоречащие друг другу сообщения. Например, в книге 1 приводится одна история о происхождении Курциева озера, в книге 7 — другая, причём Ливий склоняется к последней[76][62]. Приводит он и разные версии численности армии Ганнибала, которые различаются в пять раз[64]. Иногда Ливий допускает серьёзные неточности в географии: например, маршрут армии Ганнибала через Альпы не только неисторичен, но и невозможен[64]. Путал он и родственников, причём иногда весьма далёких[86]. Некритическое отношение к источникам проявилось и в использовании Ливием различных вариантов датировок разных событий — он механически переносил их из своих источников, не озабочиваясь приведением их к единообразию[87]. Некоторые исторические ошибки были добавлены самим Ливием. Дело в том, что историк разделял обоснованное Аристотелем для драматических произведений убеждение в праве автора на реконструкцию поступков людей прошлого, исходя из собственного понимания их характера. Право историка на аналогичные действия отстаивал Цицерон. В результате, Ливий иногда придумывал факты, неизвестные из источников, но важные для связности повествования[88][89].
Подобные ошибки привели к тому, что начиная с XIX века в историографии утвердилось негативное мнение о способностях Ливия как историка. Некоторые исследователи даже допускали, что он не читал о каждом периоде римской истории ничего, кроме своего единственного источника, а на противоречия между источниками в разных частях сочинения он не обращал внимания. Лишь к концу XX века удалось сопоставить методы работы Ливия не с современными представлениями о задачах историка, а с аналогичными взглядами античной эпохи, что привело к значительному улучшению мнения о римском авторе (см. раздел «Научное изучение Ливия»). Особое внимание было обращено на объективные трудности Ливия в сборе аутентичных документов и на его стремление анализировать правдивость источников перед выбором опорного текста[80]. По мнению Роберта Огилви, основным методом работы с источниками для Ливия было следование одному из авторов-предшественников. Хотя он знал и версии других авторов, но не всегда разрешал противоречия между ними[69]. В качестве примера анализа разночтений исследователь приводит фрагмент книги 4, в котором Ливий завершает изложение противоречивых сведений о магистратах 434 года до н. э. следующими словами: «Пусть же с тем, что осталось скрыто покровом старины, уйдёт в неизвестность и это»[90][69]. Рональд Меллор же придерживается иной точки зрения. Он предполагает, что перед началом работы над каждым крупным фрагментом сочинения Ливий изучал основные сочинения предшественников по всему периоду, после чего обдумывал структуру и основные темы будущей работы. Затем, по мнению исследователя, следовало пристальное изучение источников для событий одного года или одной книги, когда выбирался основной источник. Наконец, Ливий переписывал материалы своего основного источника в изящном стиле, в процессе работы уточняя отдельные спорные вопросы[82]. Исследователь защищает методы работы Ливия аргументом, что детальное изучение всех многочисленных противоречий между источниками сделало бы невозможным завершение сочинения такого масштаба[64]. На точности его сочинения отрицательно сказывалась нередкая работа с источниками по памяти[69].
Хотя для «Истории» в целом свойственны описанные выше недостатки, в ряде случаев Ливий подвергает источники критическому анализу, насколько это было допустимо в историческом сочинении его времени. Нередко он озвучивал свои сомнения, если источник предлагал малоправдоподобную версию событий, а также указывал на расхождения во мнениях. Кроме того, Рональд Меллор замечает, что по сравнению с более подробным современником Дионисием Галикарнасским Ливий не увлекается повторением явно фантастических преданий, а самые распространённые он включает в повествование лишь из-за их популярности[80]. Некоторые из известных мифов он вовсе опускает, излагая вместо них (или вместе с ними) рационалистические толкования[91]. Например, он сперва сообщает легенду, будто младенцев Ромула и Рема выкормила волчица, а затем рассказывает другую версию — будто приёмная мать братьев, Ларенция, «звалась среди пастухов „волчицей“, потому что отдавалась любому» (в латинском языке «волчица» и «проститутка» — омонимы, и пишутся lupa)[92]. Рассказывая же о зачатии Ромула и Рема девственной весталкой, Ливий опускает известную его источникам (Эннию и Фабию Пиктору) легенду о явлении ей бога Марса, замаскировавшегося в облако[91].
Стиль
Особенности языка
Как и большинство других античных историков, Ливий придавал огромное значение стилистическому оформлению материала. По мнению М. Л. Гаспарова, единая стилистическая отделка, соответствующая вкусам публики в правление Августа, является одним из главных отличий труда Ливия от работ предшественников-анналистов[93]. Стиль Ливия заметно отличается от историков-предшественников, что знаменует разрыв и с исконно римской анналистической традицией, и с недавно возникшей искусственной архаизацией стиля, популяризованной Саллюстием[94]. Рональд Меллор полагает, что римляне нередко связывали стилистические установки авторов с их политическими взглядами, и это отождествление могло повлиять на выработку Ливием собственного стиля, отличного от историков-предшественников[94]. Традиционно считается, что в области стиля Ливий сумел реализовать идеи Цицерона, сожалевшего об отсутствии у римлян авторов, способных дать достойный ответ великим греческим историкам — Геродоту, Фукидиду, Ксенофонту[95]. Отголоски стиля Цицерона проявляются, в частности, в продуманных периодах речи по образцу великого оратора[94]. Обнаруживается и влияние Цезаря, хотя Ливий не соглашался с его подчёркнуто минималистским словарём[94]. По разным причинам (гигантский объём, длительность создания, разнородность материала) стиль Ливия не обладает цельностью, присущей, например, Саллюстию и Тациту. В зависимости от ситуации стиль Ливия меняется[96][94]. Обнаруживается у него и тяга к экспериментам (в частности, с синтаксисом латинского языка)[96][94].
Характерные черты стиля у Ливия проявляются уже в самом начале сочинения, однако к третьей-пятой декадам некоторые особенности его языка меняются. В частности, форма перфекта на -erunt становится более распространённой, чем считавшаяся архаичной и поэтичной форма на -ere[97][98]. В первой декаде глаголы с окончанием -ere используются в третьем лице множественного числа перфекта[комм. 6] в 54,7 % случаев, в третьей декаде — в 25,7 %, в четвёртой — в 13,5 %, в первой половине пятой — всего в 10,1 % случаев[98]. Сравнительно редкие, архаичные и изысканные слова постепенно сменяются более распространёнными[99], хотя архаизмы (например, duellum вместо bellum, tempestas вместо tempus) не исчезают окончательно и обнаруживаются во фрагментах последних книг[98]. Изменения в выборе лексики заметны даже при сравнении двух самых ранних пентад — книг 1—5 и 6—10: ряд слов (proles, infit, miris modis) используется только в самых первых книгах[100]. В речи историка обнаруживается немало слов и выражений, которые неизвестны в предшествующей литературе или известны только в архаической латыни. Однако сохранность латинской литературы до Ливия очень фрагментарна, и делать выводы об особенностях употребления отдельных слов проблематично[101]. Нередко Ливий использует поэтизмы[94]. Например, вместо fulmina («молнии») Ливий часто использует ignes (более распространённое значение — «огни»), вместо cupiditas — cupido («страсть», «жадность»)[102]. Присутствуют и элементы разговорного стиля[102].
Оттенок старины, присущий первой книге, иногда объясняется использованием раннеримского поэта Энния в качестве важного источника[94]. Роберт Огилви предположил, что разница в стиле между ранними и поздними книгами вызвана особенно тщательной стилистической обработкой первых книг, по сравнению с которыми интенсивность стилистической обработки речей уменьшается. Он счёл это задумкой Ливия: по его мнению, римский историк понимал различия между речью римлян древности и современности, и потому в поздних книгах чаще прибегал к хорошо известным приёмам речей, близким к выступлениям ораторов I века до н. э.[103] По другим версиям, изменение стиля могло стать следствием естественной эволюции Ливия как автора с последовавшим пересмотром манеры письма или же ответом на смену содержания работы: в первых книгах автор пересказывал многочисленные легенды и предания из раннеримской истории, что могло сказаться на намеренном выборе устаревшей лексики[98].
Особенности изложения
Подобно историкам-анналистам предшествующей эпохи, Ливий обычно начинал рассказ о событиях каждого года с перечисления вступивших в должность магистратов, распределения провинций и описания приёма посольств. В конце описания событий года обычно сообщается о выборах магистратов на следующий год, о решениях понтификов[104][105] и о прочих событиях. Впрочем, историк часто отклоняется от строгой структуры анналистов.
Иногда Ливий слишком многословен, на что обращали внимание ещё древние авторы. Квинтилиан приводит в качестве примера следующую фразу историка: «Послы, не добившись мира, пришли домой, откуда пришли». Он же противопоставляет «молочное обилие» Ливия ярко выраженной краткости Саллюстия[106]. Как и Саллюстий, Ливий нередко нарушает симметрию предложений. В частности, он использует разные обороты в одинаковых ситуациях в одном предложении: «equitum partem ad populandum... dimisit et ut palantes exciperent» — «…часть конницы он разослал для опустошения [страны] и для того, чтобы ловить рассеявшихся [врагов]»[107]. Часто главная мысль у историка выражается в придаточном предложении[108].
В целом, повествование у Ливия порой бывает монотонным, а описания битв (особенно древнейших) нередко похожи[109]. Историк часто прибегает к использованию одних и тех же образов. «Плачущие дети, жёны, которые с воплями отчаяния бросаются к своим мужьям и сыновьям, поверженные храмы богов, осквернённые могилы предков» — так суммирует обычные приёмы Ливия С. И. Соболевский[109]. Историк активно вводит драматические элементы в своё произведение — например, речи (выступления древнейших деятелей считаются вымышленными)[110]. Наиболее яркими из них считаются выступления Камилла против переселения римлян в Вейи, две пары речей Ганнибала и Сципиона, а также пара речей Катона и Луция Валерия при обсуждении закона Оппия[111]. Нередко Ливий прибегает к приёмам «трагической» историографии, стремясь поразить читателя и вызвать в нём сострадание[112]. Регулярно встречаются слова, указывающие на последовательность событий (primo, deinde, tandem — «сначала», «затем», «наконец»)[113]. Очень чётко у Ливия прослеживаются переломные моменты повествования. Часто подчёркивается неожиданность развязки или внезапная перемена ситуации. Излюбленное слово историка в таких ситуациях — repente («вдруг», «внезапно»)[108]:
В надежде взять эту крепость силой Ганнибал выступил, взяв с собой конницу и лёгкую пехоту; а так как он в тайне видел главный залог успешности предприятия, то нападение было произведено ночью. Всё же ему не удалось обмануть караульных, и внезапно был поднят такой крик, что его было слышно даже в Плацентии (XXI, 57; перевод Ф. Ф. Зелинского).
Выкрикивая эти слова, он [Фламиний] приказал поскорее взять знамёна, а сам вскочил на лошадь; лошадь внезапно упала, и консул полетел через её голову (XXII, 3; перевод М. Е. Сергеенко).
Некоторые писатели сообщают, что было дано настоящее сражение: пунийцев при первой схватке прогнали к самому лагерю, но они внезапно сделали вылазку, и теперь страх обуял римлян. Но тут вмешался самнит Децимий Нумерий, и сражение возобновилось (XXII, 24; перевод М. Е. Сергеенко).Оригинальный текст (лат.)Eius castelli oppugnandi spe cum equitibus ac levi armatura profectus Hannibal, cum plurimum in celando incepto ad effectum spei habuisset, nocte adortus non fefellit vigiles. Tantus repente clamor est sublatus ut Placentiae quoque audiretur (XXI, 57).
Haec simul increpans cum ocius signa convelli iuberet et ipse in equum insiluisset, equus repente corruit consulemque lapsum super caput effudit (XXII, 3).
Et collatis signis dimicatum quidam auctores sunt: primo concursu Poenum usque ad castra fusum, inde eruptione facta repente versum terrorem in Romanos, Numeri Decimi Samnitis deinde interventu proelium restitutum (XXII, 24).
Для Ливия свойственно наличие продуманных периодов в речи, но по сравнению с его образцом — Цицероном — они более тяжёлые и длинные[114][106]. Возможно, различие связано с ориентацией Цицерона на прочтение сочинений вслух, в то время как «История» предназначалась в первую очередь для чтения про себя[106].
 Ливий умело добавлял мелкие эпизоды, хорошо дополняющие повествование. Придавая повествованию эмоциональную окраску, он умело создавал драматические эпизоды как на макро-, так и на микроуровне[117]. Структура отдельных эпизодов тщательно продумана ради достижения внутреннего единства, а изложение обычно не перегружено маловажными подробностями[118]. Поскольку читатели знали, чем закончилась, например, Вторая Пуническая война, то после крупных поражений римлян Ливий указывает на некоторые детали, которые станут причинами будущих побед[119]. Иногда Ливий упоминает действующих лиц из будущих книг — например, Сципиона при описании самого начала Второй Пунической войны[117].
Ливий умело добавлял мелкие эпизоды, хорошо дополняющие повествование. Придавая повествованию эмоциональную окраску, он умело создавал драматические эпизоды как на макро-, так и на микроуровне[117]. Структура отдельных эпизодов тщательно продумана ради достижения внутреннего единства, а изложение обычно не перегружено маловажными подробностями[118]. Поскольку читатели знали, чем закончилась, например, Вторая Пуническая война, то после крупных поражений римлян Ливий указывает на некоторые детали, которые станут причинами будущих побед[119]. Иногда Ливий упоминает действующих лиц из будущих книг — например, Сципиона при описании самого начала Второй Пунической войны[117].
Психологические характеристики персонажей, важные для Ливия, реализуются им через описание их мыслей и чувств, через речи и реакцию оппонентов. Развёрнутый портрет человека Ливий часто приводит при описании его смерти[120]. Встречаются характеристики при первом упоминании и в важные моменты карьеры, иногда неоднократно: например, самые значительные штрихи к портрету Ганнибала приводятся в книгах 21 и 28, а характеристика Сципиона Африканского складывается из нескольких кратких описаний в книгах 21—22 и развёрнутого портрета в книге 26[121].
Отступления от основной линии повествования условно делятся на две основные группы — замечания историка о противоречиях в источниках и сухие сообщения о смертях магистратов и жрецов, основании храмов, продигиях, фактах голода и эпидемий[122]. Иногда Ливий высказывает собственные соображения о важных событиях, которые зачастую носят нравоучительный характер, но не навязывают свою точку зрения читателю[123].
Ливий достигает выразительности изложения с помощью целого ряда риторических приёмов. Излюбленные тропы Ливия — метафора («totam plebem aere alieno demersam esse» — «плебс утонул в долгах»[комм. 7]), гипербола, метонимия. Основные фигуры — хиазм, анафора, асиндетон, аллитерация (например, «...quorum robora ac vires vix sustinere vis ulla possit» — «[нет такой силы], которая могла бы противостоять их мощному напору», в переводе созвучие утеряно)[125]. По наблюдению С. И. Соболевского, чаще других применяется анафора, но в целом в «Истории» фигур сравнительно немного[106]. Т. И. Кузнецова связывает разумное использование риторических приёмов с развитым чувством меры автора[125]. На уровне синтаксиса Ливий многократно использует паратаксис и нередко прибегает к триколону — группе из трёх схожих выражений, часто всё увеличивающейся длины[126]: «tunc adgredi Larisam constituit ratus vel terrore... vel beneficio... vel exemplo» («на них должны были подействовать либо страх <...>, либо благодеяние царя <...>, либо, наконец, пример [стольких покорившихся общин][127]), иногда ограничиваясь только двумя элементами. Использует он и гипербатон, разрывая привычный порядок членов предложения: «Aetolique et Athamanes in suos receperunt se fines» («Этолийцы же и афаманы вернулись к себе» в переводе С. А. Иванова; буквально — «...в свои вернулись границы»)[127]. В некоторых случаях у Ливия встречается параллелизм частей фразы: например, «я предпочитаю, чтоб меня умный враг боялся, чем чтобы глупые сограждане хвалили» («malo, te sapiens hostis metuat, quam stulti cives laudent»)[106].
По античной традиции, в «Историю» Ливия включены речи различных персонажей. В дошедшей до наших дней части «Истории» их насчитывается 407, и они занимают около 12% текста[128]. Стиль тщательно построенных речей героев Ливия высоко ценили в античную эпоху: их хвалили Квинтилиан и Светоний[117]. При этом стиль речей и основного сочинения немного отличаются, поскольку, помимо отличий публичных выступлений, в речах древних персонажей ожидалось использование устаревших слов[129]. Если источник Ливия (например, Полибий) сочинил или воспроизвёл версию некой речи, то Ливий её значительно переписывает, причём с точки зрения стиля версия Ливия зачастую выглядит предпочтительнее[103]. Выступления играют определённую роль и в структуре сочинения. Парные речи двух Сципионов (отца и сына соответственно) и Ганнибала в книгах 21 и 30 задают рамки для всей третьей декады сочинения[121]. Помимо психологической характеристики персонажей (см. выше), речи помогают лучше раскрыть политическую или военную обстановку на момент произнесения и разъясняют политические взгляды персонажа и его оппонентов[114]. Все или почти все выступления действующих лиц в «Истории» (по крайней мере, в сохранившихся книгах его сочинения) наверняка вымышленные[114][128]. Как замечает И. М. Тронский, мысли и чувства, высказываемые в речах, более характерны для конца I века до н. э., чем для предшествующих столетий[114]. Н. Ф. Дератани констатирует, что изящные речи, построенные по всем канонам ораторского мастерства, произносят «даже мало образованные сенаторы и полководцы»[124].
Взгляды Ливия
Исторические взгляды Ливия
Начиная писать «Историю», Ливий намеревался создать целостную картину прошлого, а не ограничиться пересказом сочинений предшественников. Несмотря на масштабный характер замысла, римский автор сумел рассмотреть прошлое с единых позиций. Важным элементом исторической концепции Тита Ливия считается теория упадка нравов, которую римские историки заимствовали у греков[130]. Наибольшее развитие в Риме эта теория получила в трудах Гая Саллюстия Криспа, оказавшего значительное влияние на римскую историографию. Ещё в античную эпоху Ливия и Саллюстия сравнивали с классиками греческой историографии Геродотом и Фукидидом. С Геродотом, автором увлекательной «Истории», сопоставлялся Ливий, а пару серьёзному аналитику Фукидиду составил Саллюстий, несмотря на противоположную последовательность деятельности греческих и римских авторов. Однако, несмотря на хронологическую и — отчасти — идейную близость, Ливий не сделал сочинения Саллюстия образцом и не следовал основным принципам изучения истории, которые развивал его предшественник. По мнению А. И. Немировского, отход Ливия от исторических наработок Саллюстия был вызван падением Римской республики и, как следствие, потерей самостоятельности в мыслях и поступках[131].
Разделяя известное высказывание Цицерона (historia est magistra vitae: «История — наставница жизни»), Ливий считал историю средством воспитания. При этом исследователи по-разному понимают значение примеров (exempla) Ливия, о которых он писал во введении к первой книге. Например, В. С. Дуров понимает слова римского историка как констатацию важности истории для будущих поколений[132]. Рональд Меллор же не только акцентирует внимание на призыве Ливия к читателям выбирать пример для подражания, но видит и намеренные параллели между прошлым и современностью (например, между Тарквинием Гордым и Катилиной)[133]. На рубеже XX—XXI веков появились и новые интерпретации этого фрагмента, раскрывающие взаимосвязь примеров Ливия с идеологией и политикой Августа и рассматривающие действенность использования примеров на материале поступков римлян[134]. Примеры начали рассматриваться не как вспомогательные инструменты историка для раскрытия обстановки и характера персонажей, а как самостоятельные структурные элементы повествования с чётко выраженным моральным содержанием (при этом примеры обнаруживаются не только в прямой речи персонажей, но и в основном повествовании)[135].
Существует версия о том, что эволюция морального состояния римлян виделась Ливию более сложным процессом, нежели механическое движение от высокодуховной древности к развращённой современности. В результате, допускается, что Ливий в полной разделял циклические взгляды на историческое развитие, хотя это предположение нечасто встречается в современных исследованиях[136]. Сторонник этой точки зрения Бернар Минео (фр. Bernard Mineo) обнаруживает в «Истории» два ярко выраженных цикла римской истории приблизительно одинаковой длины (360—365 лет), не совпадающие с традиционным делением римской истории до установления принципата на царский и республиканский периоды. Начало первого цикла французский исследователь связвает с основанием города Ромулом, его апогей — с правлением Сервия Туллия, после чего следует постепенный закат. Поворотный момент в римской истории он видит в нашествии галлов в 390 году до н. э. и деятельности Марка Фурия Камилла, которого Ливий представил вторым «основателем» Рима, то есть фигурой, равноценной Ромулу (искусственную героизацию Камилла исследователи замечали и ранее). Затем начинается второй цикл, который достиг апогея при Сципионе Африканском, после чего последовал новый закат и метафорическое разграбление в годы гражданских войн, остановленное третьим «основателем» Рима Октавианом Августом. Главным критерием развития и регресса для Ливия служит не только и не столько состояние общественной морали, а господство в обществе согласия (concordia) или раздоров (discordia)[137]. Впрочем, такое деление не является общепринятым: например, В. С. Дуров обнаруживает в сочинении Ливия всего один исторический цикл, характеризующийся постепенным упадком морали и завершившийся реформаторской деятельностью Октавиана Августа[138].
Политические взгляды Ливия

 Предполагается, что Ливий не занимал никаких общественных должностей, что отличало его от других римских историков (Саллюстий был проконсулом Африки, Азиний Поллион — консулом, Лициний Макр — активным плебейским трибуном). Кроме того, Ливий нигде не заявляет прямо о своих политических убеждениях, ограничиваясь лишь общими словами о важности свободы, мира и единства. В результате, различные современные исследователи приходят к противоположным выводам о политических взглядах историка[140][141]: ему приписывают и явные республиканские симпатии[23][141][142], и умеренно-консервативную просенатскую ориентацию[143][3], и полное принятие принципата[5][141][132]. Причиной разногласий считаются противоречия между фактами из его биографии и мнениями, высказанными в «Истории» — например, его слова «мы ни пороков наших, ни лекарства от них переносить не в силах» считаются явным намёком на политику Августа, но достоверно известно о близости историка к императору. Выводы о политических взглядах Ливия иногда делаются и на основании эпитета «помпеянец», которым Октавиан Август называл историка, восхвалявшего деятельность Гнея Помпея Магна[цит. 4][141]. При описании событий позднереспубликанской эпохи Ливий высоко оценивал не только Помпея, но также Марка Юния Брута и Гая Кассия Лонгина[61]. Всё это могло расцениваться как проявление оппозиционных настроений: Помпей был противником Цезаря — посмертно обожествлённого приёмного отца Августа — в гражданской войне, а Брут и Лонгин — убийцами диктатора. Более того, Сенека оставил такое свидетельство: «Как многие говорили в народе об отце Цезаря, а Тит Ливий закрепил и в письменном виде, нельзя решить, что было лучше для государства — производить ему на свет сына или нет»[24][комм. 8].
Предполагается, что Ливий не занимал никаких общественных должностей, что отличало его от других римских историков (Саллюстий был проконсулом Африки, Азиний Поллион — консулом, Лициний Макр — активным плебейским трибуном). Кроме того, Ливий нигде не заявляет прямо о своих политических убеждениях, ограничиваясь лишь общими словами о важности свободы, мира и единства. В результате, различные современные исследователи приходят к противоположным выводам о политических взглядах историка[140][141]: ему приписывают и явные республиканские симпатии[23][141][142], и умеренно-консервативную просенатскую ориентацию[143][3], и полное принятие принципата[5][141][132]. Причиной разногласий считаются противоречия между фактами из его биографии и мнениями, высказанными в «Истории» — например, его слова «мы ни пороков наших, ни лекарства от них переносить не в силах» считаются явным намёком на политику Августа, но достоверно известно о близости историка к императору. Выводы о политических взглядах Ливия иногда делаются и на основании эпитета «помпеянец», которым Октавиан Август называл историка, восхвалявшего деятельность Гнея Помпея Магна[цит. 4][141]. При описании событий позднереспубликанской эпохи Ливий высоко оценивал не только Помпея, но также Марка Юния Брута и Гая Кассия Лонгина[61]. Всё это могло расцениваться как проявление оппозиционных настроений: Помпей был противником Цезаря — посмертно обожествлённого приёмного отца Августа — в гражданской войне, а Брут и Лонгин — убийцами диктатора. Более того, Сенека оставил такое свидетельство: «Как многие говорили в народе об отце Цезаря, а Тит Ливий закрепил и в письменном виде, нельзя решить, что было лучше для государства — производить ему на свет сына или нет»[24][комм. 8].
Об отношении Ливия к политике Октавиана Августа существуют различные мнения. По одной версии, Ливий мог быть искренним приверженцем программы Августа, а восхваление историком римской старины могло повлиять на массовое восстановление храмов и возрождение древних ритуалов императором[25]. Отмечается и происхождение Ливия из тех консервативно настроенных слоёв с периферии Италии, на которых опирался Октавиан Август в своё правление[3]. Впрочем, в современной историографии высказывается и обратное мнение — о скептическом отношении падуанского историка к политике первого императора. Согласно этой точке зрения, последние книги труда Ливия были наполнены скепсисом к политике Августа, и задержка в их публикации была вызвана исключительно желанием историка дождаться смерти Августа, чтобы опубликовать их, не опасаясь цензуры[145][35][комм. 9]. Рональд Меллор допускает, что взгляды Ливия могли измениться от первоначальной поддержки к разочарованию в связи с узурпацией власти вместо ожидавшегося восстановления республики. Впрочем, он видит в поздней публикации последних книг «Истории» проявление не страха, а уважения, и считает, что они не были слишком крамольными[146]. Роберт Огилви[en] склоняется к признанию Ливия политически нейтральным историком: по его наблюдениям, в сохранившихся частях «Истории» не прослеживаются ни нападки на политику Августа, ни попытки его оправдания, а имеются лишь общие идеи стремления к миру, стабильности, свободе[147]. Со второй половины XX века предпринимаются попытки доказать раннее создание первых книг «Истории», что позволяет предполагать не влияние политики Августа на сочинение Ливия, а обратный процесс[148].
Нет единого мнения и в вопросе о том, планировал ли Ливий повлиять своим сочинением на политическую жизнь государства в целом и на выработку политических решений императором и его окружением в частности. По мнению Роберта Огилви, историк не ставил никаких политических целей, и в «Истории» нет ни нападок на Августа, ни оправданий его политики, а присутствуют лишь общие идеи стремления к миру, стабильности, свободе[147]. Напротив, Ханс Петерсен увидел в «Истории» послания, адресованные императору, задуманные как предостережение от установления единоличной монархии[149]. А. И. Немировский видит уже в самом начале «Истории» попытку Ливия осмыслить современность и выразить отношение к событиям своего времени через описание древности, а также обнаруживает завуалированное, но узнаваемое для современников, описание Октавиана Августа при рассказе про царя-миротворца Нуму Помпилия[150]. Рональд Меллор допускает, что Ливий мог отчасти повлиять на некоторые решения императора — в частности, на программу перестройки древних храмов и на возрождение древних религиозных ритуалов[25].
Историк представляется поборником народных прав и свобод, но выступает против власти толпы[151]. При этом под свободой, замечает А. И. Немировский, Ливий понимает прежде всего «повиновение законам республики и обычаям предков»[152]. Скорее отрицательно он относится к плебеям и к деятельности народных трибунов[61]. В изображении Ливия римский народ часто сопротивляется задумкам своих лидеров, что мешает развитию государства[152]. Несмотря на заявленное намерение описать «деяния народа римского», на страницах «Истории» народ как самостоятельный субъект политической жизни появляется очень редко. Как правило, простые римляне изображены рядовыми зрителями разворачивающихся событий, которые обычно погружены во внутренние конфликты и забывают о них лишь перед лицом внешней угрозы[79]. По мнению Н. Ф. Дератани, историк пишет историю не римского народа, а римской аристократии, что красноречиво свидетельствует о его симпатиях[153]. Римский народ «занимает в труде Ливия третьестепенное место», соглашается А. И. Немировский[152]. Историк нередко предвзято относится к политикам, которые боролись с засильем нобилитета и опирались в своей деятельности на народ: например, на Гая Фламиния и Теренция Варрона возлагается вина за военные неудачи, а их оппоненты изображены в выгодном свете[154]. При этом Тит Ливий отмечает отрицательные стороны у патрициев и нобилитета и положительные — у плебеев[155]. Редки и голословные обвинения в адрес римского плебса: обычно историк признаёт несправедливое обращение аристократии с народом и сообщает о причинах возникающих противоречий[152].
Идеалом для него является исполнение законов и обычаев предков всеми гражданами, а также приоритет общественных интересов перед личными[156]. По мнению Г. С. Кнабе, наибольшим злом для Римского государства историк считал гражданские войны[24].
Его отношение к единоличной власти смешанное. Так, он в первое время оправдывает царскую власть[151], но в оценке Тарквиния Гордого подчёркивает тиранический характер его правления. Хотя последние книги «Истории» не сохранились, предполагается, что действия Августа оценивалась историком без особой лести к своему покровителю[157].
Отношение Ливия к другим народам
Тит Ливий всячески идеализирует римлян и предвзято относится к другим народам. Сосредоточенность автора на римской истории выразилась в отказе от попыток написать всеобщую историю и, в результате, другие народы появляются на страницах «Истории» только при их контактах с римлянами[73]. В отличие от живо интересовавшегося чужеземными обычаями Геродота, Ливий обычно упоминает лишь о тех элементах материальной и духовной культуры других народов, которые римляне восприняли и адаптировали[73]. В речах персонажей «Истории» неоднократно высказываются идеи об исключительности римлян и об их превосходстве над другими народами[158].
Поскольку Ливий придерживался распространённой теории об «упадке нравов», наиболее ярко традиционные черты римского национального характера проявляются при описании раннеримской истории[118]. Различные персонажи в его изображении обладают неодинаковым набором черт исконно римского характера. Идеальный римлянин — «это суровый, мужественный воин и патриот, благочестивый, гордый, здравомыслящий гражданин, отличающийся скромностью образа жизни, серьёзностью, великодушием, умением повиноваться дисциплине и умением руководить», резюмирует Т. И. Кузнецова[158]. По мнению Ливия, традиционные ценности начали постепенно забываться под влиянием чужеземных обычаев, проникших в Рим в результате завоеваний[159]. Впрочем, последние книги «Истории», в которых должна была подробно раскрываться заявленная ещё во введении тема «упадка нравов», не сохранились.
Идеализируемым качествам римлян историк противопоставляет испорченность других народов. Ливий изобразил карфагенян вероломными, жестокими, хвастливыми, надменными (из-за этих качеств они — антиподы римлян), а их союзников нумидийцев — ненадёжными. Галлов историк описывает легкомысленными, нетерпеливыми, надменными, дикими, этрусков — вероломными, а сирийцев устами одного из полководцев называет более похожими на рабов, чем на воинов. Греки в целом показаны легкомысленными, а часто упоминаемые в четвёртой декаде «Истории» этолийцы — недисциплинированными и неверными[160][118].
Историк объясняет испорченными нравами других народов и победы римлян над ними[159]. При этом солдаты противников Рима могут изображаться и положительно, но в этом случае признание их доблести лишь подчёркивает заслуги победивших римлян[161]. Тем не менее, Ливий отмечает те положительные качества противников Рима (например, сабинян и лично Ганнибала), которые совпадали с традиционными римскими доблестями[157][160]. Факты, которые могли раскрыть отрицательные черты характера римлян, Ливий нередко замалчивает или подаёт в менее невыгодном свете. Нередко неприглядные действия римлян изображаются как инициатива отдельных людей, которые действуют вопреки воле богов, повинуясь лишь собственным страстям[162].
Ливий последовательно оправдывает внешнюю политику Рима, вплоть до явного искажения действительности. В его изображении войны всегда начинаются из-за действий противников римлян[157]. Поражения римских войск обычно вызваны не зависящими от них обстоятельствами[163]. Впрочем, подобная тенденция была характерна для многих античных историков. Кроме того, допускается, что Ливий мог лишь механически заимствовать все трактовки начала войн от историков-предшественников[157]. Впрочем, Ливий признаёт жестокость римлян по отношению к покорённым народам. Так, он осуждает разграбление римлянами завоёванной Греции[163], не скрывает факты разрушения городов, не умалчивает о протестах местного населения против новой власти, хотя старается убедить читателей в том, что в конце концов римляне и покорённые народы пришли к согласию[164].
Религиозные взгляды Ливия
«Мне небезызвестно, что из-за нынешнего всеобщего безразличия, заставляющего думать, будто боги вообще ничего не предвещают, никакое знамение не принято теперь ни оглашать для народа, ни заносить в летописи. Однако же, когда пишу я о делах стародавних, душа моя каким-то образом сама преисполняется древности и некое благоговение не дозволяет мне пренебречь в летописи моей тем, что и самые рассудительные мужи почитали тогда важным для государства»[165]
Религии уделено значительное место в сочинении Ливия. Историк отстаивает убеждение, что боги участвуют в земных делах, помогают благочестивым и мешают неправедным. При этом они не сходят с неба и не вмешиваются непосредственно, но помогают предоставлением удобного случая для победы[166]. По мнению историка, боги особенно покровительствуют именно римскому народу. В то же время, пренебрежение к богам может обернуться для римлян причиной многих бедствий[167]. Он считает религию фундаментом общественной морали[168], признаёт существование свободы воли, из-за чего люди несут ответственность перед богами за свои поступки[151]. Для Ливия очень важно, действовали ли описываемые им политики и полководцы в соответствии со сверхъестественными знамениями (см. ниже) или же пренебрегали ими[89]. Начиная с третьей декады внимание Ливия к религиозным вопросам начинает снижаться — возможно, вследствие внимательного изучения рационалистически настроенного Полибия[169]. Тем не менее, Плутарх пересказывает сообщение о гадателе, узнавшем про результат битвы при Фарсале в 48 году до н. э. по полёту птиц, со ссылкой на последние, несохранившиеся книги Ливия[14].
Религиозные воззрения самого историка оценивают по-разному: ему приписывают как рациональный скептицизм, так и непоколебимую веру в римских богов[170][171][172]. Как замечает С. И. Соболевский, едва ли Ливий разделял все сверхъестественные верования, о которых писал, а его религиозные представления по меньшей мере отличались от народных[173]. А. И. Немировский полагает, что религиозные воззрения римского историка сформировались под влиянием постепенно вводимого Октавианом Августом культа императора. Ливий, предполагает исследователь, относился к религии как к проверенному временем способу умиротворить римлян[174]. Вместе с тем, наряду с демонстрацией важности религии для римского общества Ливий критически переосмысливает ряд положений мифологизированной ранней истории Рима[168][91]. Тенденция сообщать контрдоводы сразу же после рассказа о чудесах и легендах без итогового вывода может быть навеяна популярным в те годы философским скептицизмом, рекомендовавшему воздерживаться от категоричных суждений, или желанием оставить решение спорного вопроса на усмотрение читателя[172].
Нередко высказываются мнения о влиянии на Ливия философии стоицизма. Михаиэль фон Альбрехт предполагает, что историк был лишь знаком с этим учением, а отнести его к стоикам невозможно из-за рассмотрения в качестве творца истории не безличного рока, а человека[175]. Другие исследователи, напротив, обнаруживают в «Истории» последовательно проводимую мысль о решающей роли всевластной судьбы или провидения — идеи, характерной именно для стоиков[176][89][177][178][179]. По мнению Патрика Уолша[de], близость Ливия к идеям стоицизма наиболее заметна в использовании терминов «судьба» (fatum) и «удача» (fortuna) в их стоическом понимании[176]. Его стоические убеждения могли быть тем крепче, что сформировавшийся в Греции стоицизм хорошо согласовывался с принципами традиционной римской религии[176]. При этом отмечается, что сами стоики были отчасти расколоты по некоторым вопросам: в частности, Посидоний защищал значимость сверхъестественных знамений как выражения воли богов, а Панетий её отрицал. Ливий в этом вопросе присоединялся к точке зрения Посидония[176].
Ливий записывает все чудесные знамения (продигии), считая их проявлением воли богов[167]. Больше всего их содержится в описании событий после 249 года до н. э., когда римские понтифики начали вносить все сведения о продигиях в государственную летопись[180]. Повышенный интерес к сверхъестественным явлениям историка, неоднократно сомневавшегося в правдивости ряда мифов и легенд (см. выше), связывается с убеждением, будто через знамения реализуется божественная воля[178]. Впрочем, иногда Ливий сомневается в истинности чудес и продигий[173].
«Patavinitas»
Гай Азиний Поллион однажды сказал, что Ливий отличается patavinitas («падуанскостью», от названия родного города историка). Значение этого слова точно неизвестно, и в настоящее время существует несколько разных трактовок этого высказывания. По одной версии, речь шла о «падуанизмах» в его сочинении, то есть о словах и оборотах, свойственных провинциальной речи в Патавии[181]. Поллион мог иметь в виду и насыщенный[129] или возвышенный стиль «Истории»[94]. Существует и версия о намёке Поллиона на моральные качества самого Ливия: жители Патавия в римскую эпоху слыли приверженцами строгих моральных принципов[182]. Предлагается и версия о намёке Поллиона на узость мышления провинциала[140].
Сохранность сочинений
Из 142 книг «Истории» до наших дней дошло 35: книги 1—10 о событиях от мифического прибытия Энея в Италию до 292 года до н. э. и книги 21—45[комм. 10] о событиях от начала Второй Пунической войны до 167 года до н. э. Кроме того, частично уцелела книга 91 о войне с Серторием.
Называются различные причины, по которым сочинение Ливия не дошло до наших дней целиком, несмотря на огромную популярность в античную эпоху. Огромный объём работы при переписывании требовал значительных затрат и, как следствие, каждая полная копия должна была стоить целого состояния. На сохранность этого сочинения повлияли и иные факторы. В VI веке римский папа Григорий I приказал сжечь все книги историка за многочисленные рассказы об «идольском суеверии»[33][183].
До наших дней также дошли многочисленные сокращения труда Ливия, сделанные в позднеантичную эпоху. Первое подобное извлечение из труда Ливия было составлено уже в I веке н. э.: о нём упоминает Марциал. Наиболее известные из сохранившихся эпитоматоров (от др.-греч. ἐπιτομή — сокращение, извлечение, краткое изложение) Ливия — Граний Лициниан, Евтропий, Фест, Павел Орозий. Известен также папирус неизвестного автора III — начала IV века с очерком римской истории за 150—137 годы до н. э. Были и тематические извлечения: Луций Анней Флор сконцентрировался на описании войн, Юлий Обсеквент — на сверхъестественных событиях и знамениях, представления о которых играли значительную роль в общественной жизни Рима; Кассиодор заимствовал у Ливия списки консулов[184]. Впрочем, эти извлечения могли составляться на основании не оригинального сочинения, а некоего промежуточного сокращения (возможно, упомянутого Марциалом)[185]. Для навигации по огромному труду Ливия были составлены периохи (др.-греч. περιοχή — извлечение из текста, выдержка) — краткое, обычно в несколько строк[комм. 11], перечисление основных событий, о которых подробно рассказывалось в каждой книге. Периохи дошли до наших дней целиком, за исключением извлечений из книг 136 и 137. Наконец, сохранились отдельные извлечения у различных античных авторов[184].
Другие сочинения Ливия не сохранились.
Рукописи
 Большой объём «Истории» привёл к тому, что в Средние века разные части сочинения (как правило, декады) сохранялись и переписывались по отдельности, что предопределило их различную судьбу.
Большой объём «Истории» привёл к тому, что в Средние века разные части сочинения (как правило, декады) сохранялись и переписывались по отдельности, что предопределило их различную судьбу.
Первая декада сохранилась благодаря копиям IX–XI веков, которые восходят к единственной несохранившейся рукописи, отредактированной в конце IV — начале V века (см. ниже)[186] и известной как «Симмахова» или «Никомахова» (условное обозначение — «[N]»). С учётом позднесредневековых копий, сделанных незадолго до изобретения книгопечатания (лат. recentiores), общее количество рукописей первой декады превышает 200. Долгое время рукописи делили на «итальянские» и «галльские», но к концу XX века их распределили по трём группам — «μ» (мю), «Λ» (ламбда), «Π» (пи). Первая группа представлена лишь рукописью Mediceus (условное обозначение — «M»), созданной в северной Италии в середине X века, и утерянной ныне рукописью Vormaciensis (название дано из-за обнаружения в Вормсском соборе; условное обозначение — «Vo»), часть разночтений которой с другими рукописями записали филологи XVI века[187]. Отдельный интерес представляют два позднеантичных фрагмента — короткий отрывок книги 1 в папирусе IV—V веков, найденном в Оксиринхе, и фрагменты книг 3–6 в Веронском палимпсесте №XL IV–V веков (условное обозначение — «V»), который был обнаружен Карлом Блюме в 1827 году и опубликован Теодором Моммзеном в 1868 году[186][187]. В последнем тексте, при всей его краткости, обнаружилось несколько разночтений со всеми остальными известными рукописями[187].
Третья декада дошла до наших дней благодаря более чем 170 рукописям, которые делятся на две основные группы — во-первых, рукопись Puteanus Paris. lat. 5730 («P») и её многочисленные копии, во-вторых — рукописи, скопированные с утерянного codex Spirensis. Первая группа условно называется «путеанской» по латинизированному варианту фамилии гуманиста Клода Дюпюи[en] — «Puteanus», вторая группа — «шпайерской» (Spirensis) из-за Шпайерского собора, в котором была найдена самая известная рукопись этой группы. Рукописи первой группы содержат книги с 21 по 30, а в рукописях второй группы записаны книги 26—30, а также четвёртая декада «Истории». Рукопись «P» была написана в V веке унциальным письмом, впоследствии вышедшим из употребления, что предопределило многочисленные ошибки при её копировании в Средние века. За тысячу лет, прошедших до изобретения книгопечатания, состояние этой рукописи значительно ухудшилось, а некоторые страницы, особенно в самом начале и конце, были утеряны. Первые известные копии — выполненная в Туре Vaticanus Reginensis 762 (или Romanus, «R») начала IX века и сделанная в Корби или Туре Mediceus конца IX века («M») — тоже сохранились не очень хорошо, и для реконструкции изначального текста (особенно первых и последних страниц, впоследствии утерянных в оригинальном манускрипте) более ценна рукопись Parisinus Colbertinus XI века («C»), выполненная в Клюни. Все остальные копии в «путеанской» группе были сделаны с «R»[188][189][190]. В начале XIV века на основе копии этой группы была создана рукопись Aginnensis («A»), в создании которой, по теории Джузеппе Биллановича[de], активно участвовал Петрарка. Помимо третьей декады, в эту рукопись были включены первая и четвёртая декады «Истории», а в текст внесены поправки, которые Билланович приписал Петрарке. Впоследствии в эту рукопись внёс исправления и крупнейший филолог своего времени Лоренцо Валла[191]. Хотя гипотеза о серьёзном вкладе Петрарки получила широкое распространение, в настоящее время его вклад пересмотрен в сторону серьёзного уменьшения — основную работу проделали его предшественники[192]. Первоисточник рукописей «шпайерской» группы неизвестен. Долгое время им считалась рукопись, найденная Беатом Ренаном в Шпайерском соборе и вскоре утерянная: сохранилось лишь два листа, позволившие датировать её XI веком, а наиболее вероятным местом создания считать Италию. Другим возможным первоисточником для этой традиции иногда считается палимпсест Taurinensis (назван по латинизированному названию Турина, условное обозначение — «Ta») с фрагментами книг 27 и 29, рукопись с которым была утеряна в 1904 году при пожаре. Оригинальный документ был сделан в V веке и по большинству разночтений он совпадал с рукописями «шпайерской» группы. Впрочем, с конца XX века «Ta» иногда относят к самостоятельной традиции, не оставившей средневековых копий. Интерес для реконструкции изначального текста представляет и рукопись «H», созданная уже в XV веке, но по ряду вариантов прочтения отличающаяся от других рукописей «шпайерской» группы[191].
Четвёртая декада сохранилась благодаря нескольким рукописям разного происхождения. Абсолютное большинство рукописей (около ста), содержавших текст четвёртой декады, имеют две значительные по объёму лакуны — в них пропущены книга 33 и окончание книги 40. Недостающий текст был восстановлен лишь к XVII веку по двум рукописям, скопированным с других оригиналов. Первым источником для реконструкции недостающего текста стала рукопись, найденная в кафедральном соборе Майнца (Moguntinus), которая была утеряна вскоре после публикации её текста. Вторым источником стал фрагментарно сохранившийся унциальный манускрипт (Bambergensis Class. 35a), созданный в V веке и о котором известно, что его приобрёл в Пьяченце император Оттон III. С этого манускрипта успели снять две копии, прежде чем древнюю рукопись использовали в хозяйственных целях — два её фрагмента были использованы для переплёта другой книги[193][194][195]. В 1906 году в Латеранской базилике в Риме обнаружили разрозненные фрагменты рукописи книги 34 IV—V веков[195].
Пятая декада сохранилась благодаря единственной рукописи Vindobonensis Lat. 15, относящейся к началу V века и обнаруженной лишь в 1527 году в монастыре Лорш Симоном Гринеем[en][193]. Эту рукопись монастырь, предположительно, приобрёл в годы расцвета в «каролингское возрождение»[196], но она была надолго забыта. После обнаружения рукопись перевезли в Вену, хотя несколько листов к этому времени потерялись, и их содержание восстанавливается только по напечатанному Гринеем тексту. Текст рукописи довольно труден для прочтения и оставляет простор для интерпретаций, что усугубляется посредственной сохранностью полуторатысячелетнего документа и ошибками переписчика — предполагается, что он не всегда верно разбирал курсивный почерк в исходной рукописи[197].
Наконец, значительный фрагмент 91-й книги сохранился благодаря палимпсесту в рукописи Vaticanus Palatinus lat. 24[198]. Он был обнаружен в 1772 году; позднее в той же рукописи были обнаружены фрагменты работ Сенеки, которые сначала приняли за утерянные сочинения Цицерона[199]. Периохи «Истории» лучше всего сохранились в Гейдельбергской рукописи XI века[200].
Характерные для гуманистов поиски рукописей античных писателей распространялись и на Ливия — многочисленные успехи любителей старины позволяли надеяться на обнаружение недостающих книг его сочинения, поскольку о масштабности «Истории» было известно из отзывов античных писателей. Активно искал книги Ливия непосредственный предшественник гуманистов Ловато Ловати[en], живо интересовавшийся античностью[201]. Петрарка сожалел об утрате второй декады[202]. Известно, что целенаправленно разыскивал рукописи Ливия и Колюччо Салютати[203]. Поиски гуманистов подогревались циркулировавшими слухами: поговаривали, будто в монастыре под Любеком (возможно, речь шла о Цисмаре[en]) сохранился полный текст «История», а некий датчанин, прибыв в Италию, утверждал, что видел в Сорё рукописи десяти декад «Истории»[204][205]. Все эти слухи не подтвердились. Отчаявшись отыскать вторую декаду «Истории», Леонардо Бруни составил собственную историю Первой Пунической войны на латинском языке[206].
Несмотря на усилия ценителей старины по поиску рукописей утерянных частей «Истории», находки весьма редки и нередко являются копиями уже известных рукописей — такова, например, обнаруженная в Марбурге в архиве бывшего княжества Вальдек рукопись с фрагментами первой декады[207]. Рукописи потерянных книг обычно очень древние и небольшие по объёму, как небольшой фрагмент книги 11, найденный польской археологической экспедицией в древнем коптском монастыре в 1986 году[208][209].
Первые печатные издания и ранние переводы
 Первое печатное издание (лат. editio princeps) «Истории» было выполнено около 1469 года в Риме Арнольдом Паннарцем и Конрадом Свейнхеймом[210]. Предисловие к изданию написал гуманист Джованни Андреа Бусси[en], ученик Витторино да Фельтре[211]. В нём отсутствовали книги 41—45, найденные спустя полвека, и часто отсутствовавшая в рукописях книга 33[212]. В 1519 году Николай Карбах (Nicholas Carbach или Carbachius) и Вольфганг Ангст (Wolfgang Angst) издали в Майнце «Историю» с фрагментами книги 33 (начиная с середины 33.17), обнаруженными в рукописи из кафедрального собора Майнца (см. выше)[195]. В 1616 году Гаспар Лузиньян (Gaspar Lusignanus) опубликовал в Риме «Историю» с книгой 33 целиком, основываясь на Бамбергской рукописи[195].
Первое печатное издание (лат. editio princeps) «Истории» было выполнено около 1469 года в Риме Арнольдом Паннарцем и Конрадом Свейнхеймом[210]. Предисловие к изданию написал гуманист Джованни Андреа Бусси[en], ученик Витторино да Фельтре[211]. В нём отсутствовали книги 41—45, найденные спустя полвека, и часто отсутствовавшая в рукописях книга 33[212]. В 1519 году Николай Карбах (Nicholas Carbach или Carbachius) и Вольфганг Ангст (Wolfgang Angst) издали в Майнце «Историю» с фрагментами книги 33 (начиная с середины 33.17), обнаруженными в рукописи из кафедрального собора Майнца (см. выше)[195]. В 1616 году Гаспар Лузиньян (Gaspar Lusignanus) опубликовал в Риме «Историю» с книгой 33 целиком, основываясь на Бамбергской рукописи[195].
Первые переводы «Истории» на современные европейские языки — итальянский, французский и испанский — появились ещё в Средние века (см. ниже). В 1505 году Бернард Шёфферлин (нем. Bernhard Schöfferlin) и Иво Виттиг (Ivo Wittig) опубликовали первый перевод доступных им книг «Истории» на немецкий язык[213]. Поскольку они не ставили цель создать максимально точный перевод, Шёфферлин и Виттиг иногда отступали от оригинального текста и, например, вставляли комментарии о тождестве древних галлов с современными французами прямо в текст[214]. В 1523 году Николай Карбах издал новый, более полный, перевод на немецкий язык. На английский язык Ливия впервые перевёл Филемон Холланд[en] в 1600 году[213].
Влияние
Античность
Среди современников и ближайших потомков мнение о Ливии было смешанным, но в дальнейшем утвердилась высокая оценка его творчества. Гай Азиний Поллион критически отзывался о Ливии[193]. Император Калигула собирался изъять его сочинения из библиотек (см. врезку справа)[215]. Сообщение Светония об этих планах Калигулы иногда трактуется как свидетельство реального уничтожения многих рукописей, что повлияло на плохую сохранность сочинений Ливия[216]. С подозрением относился к историку и император Домициан, который казнил некоего Меттия Помпузиана, поскольку он, по словам Светония, «имел императорский гороскоп и носил с собой чертёж всей земли на пергаменте и речи царей и вождей из Тита Ливия»[217]. Квинтилиан высоко ценил стиль Ливия, сравнивая его с «отцом истории» Геродотом. Тацит считал Ливия самым красноречивым историком, а Сенека отводил ему третье место по этому показателю среди всех римских авторов после Цицерона и Азиния Поллиона[218].
Информативное сочинение Ливия стало источником для ряда авторов, писавших о прошлом. Среди них — Лукан, Силий Италик, Валерий Максим, Фронтин[111], Веллей Патеркул[219], Плутарх[220], Дион Кассий, Асконий Педиан[221], Флор, Граний Лициниан, Аврелий Виктор, Евтропий, Фест, Кассиодор, Юлий Обсеквент[198], Павел Орозий[222]. Известны также фрагменты «Эпитом», сохранившиеся в известном папирусе 13[en] из египетского Оксиринха (см. фото ниже)[198]. По версии Михаэля фон Альбрехта, поэт II века Альфий Авит[en] пересказал некоторые фрагменты Ливия в стихотворной форме[198]; Бенджамин Фостер приписывает схожий труд позднеантичному писателю Авиену[221]. Всеобщее признание «Истории» способствовало популярности стиля Ливия: античные авторы нередко ему подражали[111]. С интересом относились и к исторической концепции Ливия. Например, его младшего современника Веллея Патеркула иногда считают продолжателем Ливия, хотя сочинение Веллея многократно меньше «Истории» предшественника[223].
 Интерес к Ливию и высокая оценка его сочинения сохранялись и в позднюю античность. Иероним Стридонский считал Ливия, наряду с Геродотом, Фукидидом и Саллюстием, образцом для подражания для историков[224]. В 396 году Квинт Аврелий Симмах в письме к Протадию предлагает альтернативу «Истории» Ливия для изучения ранних войн с германцами — «Германские войны» Плиния Старшего и «Записки о Галльской войне» Цезаря[225]. Децим Магн Авсоний, рассказывая об учителях риторики и грамматики в Бурдигале (современный Бордо), упоминает о знакомстве одного из них с Ливием[226]. В конце IV — начале V века трое знатных римлян — Тасций Викториан, Никомах Декстер и Никомах Флавиан — на досуге исправляли ошибки в первых книгах Ливия. Исправленный ими текст лёг в основу всех сохранившихся рукописей с первой декадой Ливия[227][228]. В 401 году Симмах передал Валериану копию «Истории», который занялся исправлением текста. Позднейшие переписчики перенесли исправления, сделанные Валерианом, вместе с некоторыми из сопутствующих комментариев[225][комм. 12].
Интерес к Ливию и высокая оценка его сочинения сохранялись и в позднюю античность. Иероним Стридонский считал Ливия, наряду с Геродотом, Фукидидом и Саллюстием, образцом для подражания для историков[224]. В 396 году Квинт Аврелий Симмах в письме к Протадию предлагает альтернативу «Истории» Ливия для изучения ранних войн с германцами — «Германские войны» Плиния Старшего и «Записки о Галльской войне» Цезаря[225]. Децим Магн Авсоний, рассказывая об учителях риторики и грамматики в Бурдигале (современный Бордо), упоминает о знакомстве одного из них с Ливием[226]. В конце IV — начале V века трое знатных римлян — Тасций Викториан, Никомах Декстер и Никомах Флавиан — на досуге исправляли ошибки в первых книгах Ливия. Исправленный ими текст лёг в основу всех сохранившихся рукописей с первой декадой Ливия[227][228]. В 401 году Симмах передал Валериану копию «Истории», который занялся исправлением текста. Позднейшие переписчики перенесли исправления, сделанные Валерианом, вместе с некоторыми из сопутствующих комментариев[225][комм. 12].
Средние века
На рубеже античной эпохи и Средних веков Ливий сохранял авторитет — его цитировал римский папа Геласий I, а грамматик Присциан использовал «Историю» в своей работе[221]. Однако в раннее Средневековье интерес к Ливию падает вместе с общим уровнем образованности. Ярким свидетельством смены приоритетов считается повторное использование рукописей «Истории», которые стирали и использовали для записи других сочинений[229]. В Латеранской базилике в рукопись «Истории» завернули христианские реликвии[195]. Позднейшие авторы приписывали римскому папе Григорию I инициативу сожжения всех обнаружившихся экземпляров «Истории» из-за обилия в них языческих предрассудков[230] (эта версия принимается и в современной историографии[183]). В середине VII века епископ Руана Одуан[en], отстаивая приоритет церковной литературы перед светской, упомянул в числе светских авторов и Ливия. Джон Сэндис[en] обратил внимание, что епископ считал Туллия и Цицерона двумя разными людьми, поэтому, по мнению исследователя, Одуан мог осуждать светских авторов, не читая их сочинений[231]. Несмотря на обострившуюся борьбу с языческим культурным наследием, современник Одуана монах Иона из Боббио[en], автор жития Колумбана, не видел ничего дурного в цитировании Ливия[232].
Всплеск интереса к римскому историку приходится на «каролингское возрождение». Следы изучения Ливия обнаруживаются у Эйнхарда, хотя главным образцом для его биографии Карла Великого послужила «Жизнь двенадцати цезарей» Светония[233]. Отсылки к Ливию и многим другим античным авторам встречаются у Сервата Лупа[en], аббата монастыря Ферьер[en][234]. В этот период снимаются две копии «Истории»: в Туре около 800 года и в Корби в середине IX века[235]. Сто лет спустя ценную рукопись с четвёртой декадой купил император Оттон III[194] (см. раздел «Рукописи»).
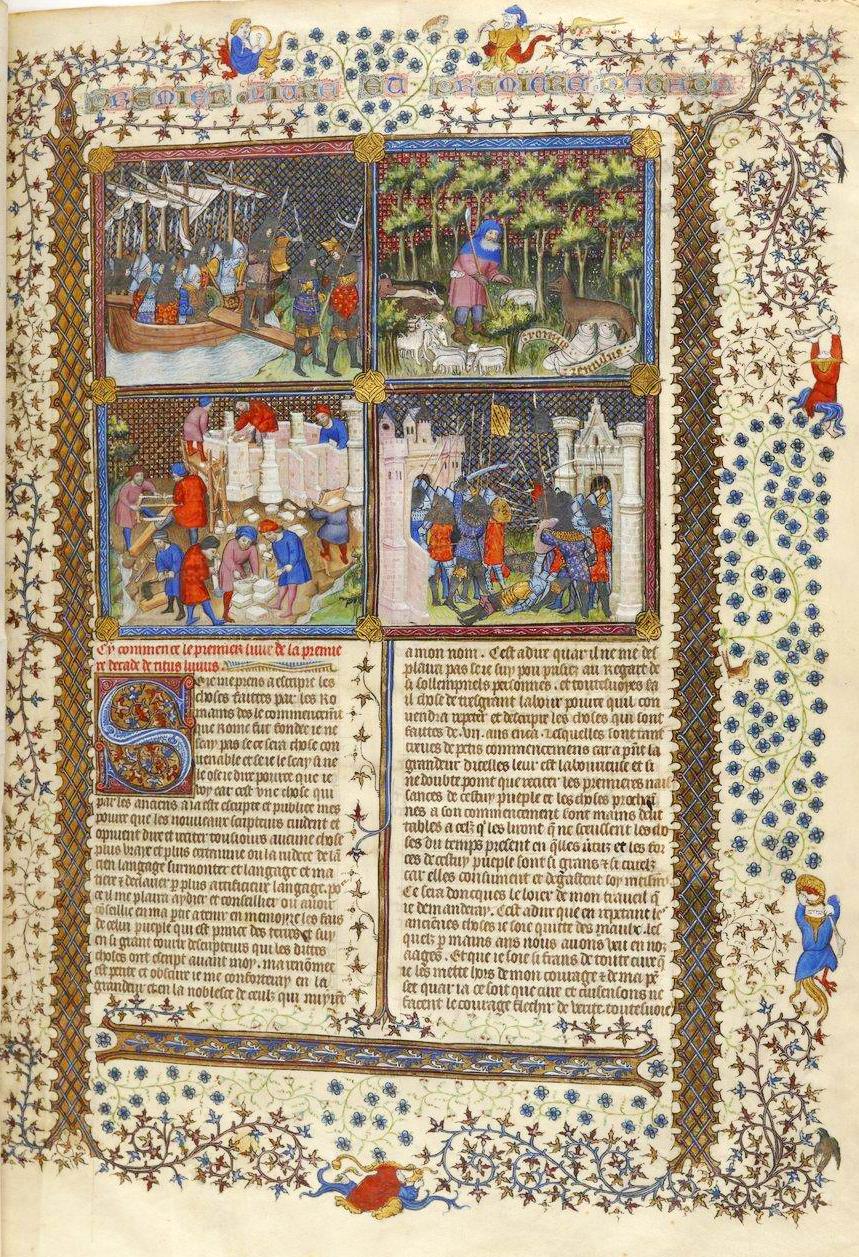 На протяжении большей части Средних веков наиболее читаемыми были первые четыре книги «Истории», в которых рассказывалось о первых столетиях римской истории[198]. Помимо интереса к фактическим сведениям Ливия, средневековые авторы ценили изящество его стиля: например, историк Ламберт Герсфельдский старался подражать стилю Ливия и Саллюстия[236]. На XII век приходится постепенное увеличение популярности Ливия[237]. Вильгельм Тирский был знаком с Ливием и использовал его социальную терминологию[238]. Его знал Иоанн Солсберийский, хотя обнаруживается всего одна ссылка на «Историю»[239]. Жан де Мен использовал рассказ о Виргинии в «Романе о Розе»[198], римского историка цитирует Пьер из Блуа[en][240] и знает Роджер Бэкон[241]. В середине XIII века профессор Сорбонны Иоанн де Гарландия включил Ливия в список литературы для изучения студентами[242]. Из-за нехватки фактических сведений средневековые авторы иногда считали Туллия и Цицерона двумя разными людьми (см. выше), а Плиния Старшего и Плиния Младшего — одним человеком. Вальтер Бурлей же смешал Ливия с Ливием Андроником[243].
На протяжении большей части Средних веков наиболее читаемыми были первые четыре книги «Истории», в которых рассказывалось о первых столетиях римской истории[198]. Помимо интереса к фактическим сведениям Ливия, средневековые авторы ценили изящество его стиля: например, историк Ламберт Герсфельдский старался подражать стилю Ливия и Саллюстия[236]. На XII век приходится постепенное увеличение популярности Ливия[237]. Вильгельм Тирский был знаком с Ливием и использовал его социальную терминологию[238]. Его знал Иоанн Солсберийский, хотя обнаруживается всего одна ссылка на «Историю»[239]. Жан де Мен использовал рассказ о Виргинии в «Романе о Розе»[198], римского историка цитирует Пьер из Блуа[en][240] и знает Роджер Бэкон[241]. В середине XIII века профессор Сорбонны Иоанн де Гарландия включил Ливия в список литературы для изучения студентами[242]. Из-за нехватки фактических сведений средневековые авторы иногда считали Туллия и Цицерона двумя разными людьми (см. выше), а Плиния Старшего и Плиния Младшего — одним человеком. Вальтер Бурлей же смешал Ливия с Ливием Андроником[243].
Значительное воздействие Ливия испытал историк Альбертино Муссато[244]. Особенно ярко влияние «Истории» проявилось в адаптации описаний Камилла и Сципиона Африканского римским историком[245]. Подражали стилю Ливия Джованни да Черменате[it][245] и написавший историю Богемии Энеа Сильвио Пикколомини, впоследствии ставший римским папой под именем Пия II[246]. Влияние языка Ливия обнаруживается и в сочинениях Данте Алигьери[247][комм. 13]. Хотя Ливий не оказался среди персонажей «Божественной комедии»[комм. 14], поэт ссылается на него как на достоверный источник информации[комм. 15]. Перу Брунетто Латини приписываются вымышленные речи из Ливия, популярные в этот период[251].
По распространённой версии, Франческо Петрарка лично участвовал в собрании воедино полного корпуса «Истории» — он корректировал 1, 3 и 4 декады, которые переписывались под его руководством. Возможно, Петрарка проделал и критическую работу, записав разночтения по другой рукописи. Рукопись с автографами Петрарки (сохранилась до наших дней) на тот момент считалась полной, поскольку книги с 41 по 45 ещё не были обнаружены[252] (о версии об активном участии Петрарки см. раздел «Рукописи»). Позднее Петрарка назвал сочинения Ливия и Валерия Максима самыми любимыми историческими книгами[253]. Итальянский поэт писал и письма к мёртвым авторам, среди адресатов которых был и Ливий[202]. Интересовался Ливием и Боккаччо. Помимо цитат из «Истории», на форзаце рукописи Ливия из Лауренцианы обнаружены комментарии итальянского писателя[254]. Предполагается, что именно Боккаччо был автором перевода книг 21—40 «Истории» на итальянский язык[146][255]. До изобретения книгопечатания рукописи «Истории» были чрезвычайно дорогими: известно, что поэт Антонио Беккаделли продал имение, чтобы купить копию труда Ливия[221].
 Друг Петрарки Пьер Берсюир[en] перевёл «Историю» Ливия на французский язык по просьбе Иоанна Доброго[комм. 16], что содействовало распространению популярности римского автора среди читающей публики[256][257]. На основе этого перевода появились на Пиренейском полуострове (Перо Лопес де Айала[en]) и в Шотландии (Джон Белленден[en])[257]. Во Франции было распространено и современное сокращение Ливия: Бенвенуто да Имола[en] написал, а Жан Мьело[en] перевёл на французский язык «Romuleon» — компиляцию о римской истории, важным источником которой был Ливий[258].
Друг Петрарки Пьер Берсюир[en] перевёл «Историю» Ливия на французский язык по просьбе Иоанна Доброго[комм. 16], что содействовало распространению популярности римского автора среди читающей публики[256][257]. На основе этого перевода появились на Пиренейском полуострове (Перо Лопес де Айала[en]) и в Шотландии (Джон Белленден[en])[257]. Во Франции было распространено и современное сокращение Ливия: Бенвенуто да Имола[en] написал, а Жан Мьело[en] перевёл на французский язык «Romuleon» — компиляцию о римской истории, важным источником которой был Ливий[258].
В эпоху Возрождения на Ливия обратили внимание как на самостоятельного автора, в то время как ранее «История» рассматривалась преимущественно как галерея образцовых героев и источник военных и политических приёмов. Тогда же за ним закрепляется слава величайшего римского историка[257][146]. Гуманисты считали сравнение современников с Ливием чрезвычайно почётным. Так, Франсуа де Ла Мот Ле Вайе сравнил заслуги историка Марка Антония Сабеллика для Венеции с ролью Ливия для Рима[259], а Леонардо Бруни сознательно пытался сделать для Флоренции то же, что Ливий сделал для Рима[260]. Поэт Генрих Бебель поставил Ливия выше всех других историков всех времён, хотя хвалил преимущественно его изящный стиль[214]. В целом, гуманистическая историография стремилась частично дистанцироваться от средневекового летописания и авторы чаще ориентировались на античные образцы — прежде всего, на популярных Саллюстия и Ливия[261].
Новое время
Никколо Макиавелли написал «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» — одно из первых сочинений по политической теории, хотя к идеям флорентийского автора был ближе не Ливий, а Тацит[257][263][146]. Другой влиятельный мыслитель XVI века Мишель Монтень свободно ориентировался в сочинении Ливия[264]. В 1548 году в Падуе был возведён мавзолей знаменитому горожанину[257].
Сюжет трагедии Джанджорджо Триссино «Софонисба» (1514—1515), оказавшей большое влияние на современный театр, основан на событиях, описанных Ливием[257]. В Англии Ливий был ценным источником вдохновения и источником политической мудрости для читающей публики в правление Елизаветы I и Якова I. «Историю» ценили за изящный стиль, но критиковали за введение в повествование вымышленных речей. Кроме того, Ливия использовали в качестве источника для драматических сочинений — во многом на материале «Истории» были написаны три пьесы Джона Уэбстера, Томаса Хейвуда и Джона Марстона, а также пьеса «Аппий и Виргиния» 1575 года неизвестного автора[265] и поэма «Лукреция» Уильяма Шекспира (впрочем, не менее важным источником для последней был Овидий)[266]. Во Франции «История» послужила основой для сюжета пьесы «Гораций» Пьера Корнеля[266] и была одним из источников вдохновения для Жана Расина[267]. Ливий был среди источников вдохновения итальянского либреттиста Апостоло Дзено[268]. Популярность сюжетов из «Истории» в европейской культуре Нового времени была обусловлена умелой композицией текста Ливия, яркими образами персонажей и обсуждением актуальных нравственных вопросов[266]. Помимо литературных произведений, «История» была источником вдохновения и для художников, писавших на популярные темы из античной истории, и для композиторов (например, для Франческо Кавалли)[267].
 К XVI веку известность Ливия стала всемирной. В Восточной Европе «История» была одной из моделей прозы, на которую ориентировались местные авторы, писавшие на латинском языке[270], а в результате колонизации Америки с Ливием познакомились и американские индейцы, поскольку «Историю» изучали в коллегиуме Санта-Крус де Тлателолько в Мехико в 1530-е годы наряду с другими классическими авторами[271].
К XVI веку известность Ливия стала всемирной. В Восточной Европе «История» была одной из моделей прозы, на которую ориентировались местные авторы, писавшие на латинском языке[270], а в результате колонизации Америки с Ливием познакомились и американские индейцы, поскольку «Историю» изучали в коллегиуме Санта-Крус де Тлателолько в Мехико в 1530-е годы наряду с другими классическими авторами[271].
Развивавший теорию международного права Гуго Гроций часто привлекал свидетельства Ливия для иллюстрации своих мыслей[266]. Первая декада «Истории» вдохновила Монтескьё на написание «Размышлений о причинах величия и падения римлян», а составленный Жаном-Жаком Руссо сборник речей из «Истории» повлиял на выступления ораторов Великой французской революции[266]. В публичных выступлениях ораторов и периодики этого времени обнаруживается много образов, взятых из читаемой в школах «Истории»[272]. Ценителем речей в сочинениях Ливия и Саллюстия был Томас Джефферсон, который, как оратор, ставил их выше выступлений Цицерона[273].
 Н. М. Карамзин писал, что «[н]икто не превзошёл Ливия в красоте повествования»[106]. Высоко оценивали Тита Ливия декабристы[275]. По воспоминаниям активного участника декабристского движения И. Д. Якушкина, «Плутарх, Тит Ливий, Цицерон и другие [древние авторы] — были почти у каждого из нас настольными книгами». По мнению Г. С. Кнабе, декабристов привлекали превознесение республиканских идеалов свободы, осуждение тиранического единовластия и поддержка борьбы с монархией[276]. В. Г. Белинский сравнил Ливия с Гомером, указывая на эпический характер «Истории»[5] (см. врезку справа).
Н. М. Карамзин писал, что «[н]икто не превзошёл Ливия в красоте повествования»[106]. Высоко оценивали Тита Ливия декабристы[275]. По воспоминаниям активного участника декабристского движения И. Д. Якушкина, «Плутарх, Тит Ливий, Цицерон и другие [древние авторы] — были почти у каждого из нас настольными книгами». По мнению Г. С. Кнабе, декабристов привлекали превознесение республиканских идеалов свободы, осуждение тиранического единовластия и поддержка борьбы с монархией[276]. В. Г. Белинский сравнил Ливия с Гомером, указывая на эпический характер «Истории»[5] (см. врезку справа).
Научное изучение
Восстановление текста. Комментарии
Критическая работа по исправлению ошибок в рукописях «Истории» началась ещё в античную эпоху — на рубеже IV и V веков усилиями Валериана, Тасция Викториана, Никомаха Декстера и Никомаха Флавиана был внесён ряд исправлений в текст первой декады[227][228]. Некоторые комментарии этих позднеантичных знатоков впоследствии механически копировались средневековыми переписчиками[225]. В эпоху Возрождения гуманисты — знатоки латинского языка продолжили работу по составлению эмендаций (исправлений). По версии Джузеппе Биллановича (см. раздел «Рукописи»), Петрарка, руководивший составлением рукописи с полным текстом «Истории», указал на несколько разночтений в тексте, используя другую рукопись[252]. Этой рукописью пользовался известный филолог Лоренцо Валла. Его исправления в книгах с 21 по 26 считаются очень ценными, и многие из них принимаются до сих пор[277]. Опубликованные отдельным трудом исправления Валлы не только решали научные задачи, но и показывали современникам, как следует вести филологическую работу. Многие образованные люди предлагали собственные варианты прочтения рукописных текстов, но Валла задал чрезвычайно высокий стандарт критической работы, тем самым дискредитировав работу некоторых своих коллег[278].
Из-за огромного объёма «Истории» и запутанности рукописной традиции (см. выше), оригинальный текст сочинения Ливия восстанавливается разными исследователями по частям. Из современных изданий «Истории» на языке оригинала лучшей версией текста первых пяти книг считается издание, подготовленное Робертом Огилви в 1974 году[279]. Из-за отсутствия новых качественных изданий книг 6-10, базовым вариантом текста является издание, отредактированное Чарльзом Уолтерсом (Charles F. Walters) и Робертом Конуэем (Robert S. Conway) в 1919 году. Ему свойственны существенные для критического издания недостатки — ненадёжность выбора вариантов в разночтениях и устаревшая реконструкция рукописной традиции, из-за которой предпочтение отдавалось текстам других рукописей[279]. Качественные издания книг 21-45 были выпущены в серии «Тейбнеровская библиотека[en]» в 1970—90-е годы. Редакторами латинского текста были Томас Дори (Thomas A. Dorey; книги 21-25), Патрик Уолш (книги 26-30) и Джон Бриско (John Briscoe; книги 31-45). Их работа оценивается высоко, хотя у каждого исследователя обнаруживаются мелкие недочёты — например, выбор Патриком Уолшем эмендаций при разночтениях в рукописях иногда признаётся неочевидным, а Джон Бриско предпочитал вовсе не заполнять короткие лакуны и повреждённые фрагменты текста эмендациями[279].
Объёмный труд Ливия с рядом неясных мест нередко требовал разъяснения различных филологических или исторических вопросов. Около 1318 года Николай Тривет[en] составил комментарий к «Истории» Ливия по просьбе папской курии[280]. Единственным полным комментарием к Ливию является 10-томный труд Вильгельма Вайсенборна[de] (позднее к работе присоединились Мориц Мюллер и Отто Россбах), издававшийся в 1880—1924 годах. Этот комментарий характеризуется акцентом на языковых особенностях «Истории», а его роль для решения исторических и общелитературных вопросов значительно меньшая. Основные современные работы — комментарии Роберта Огилви к книгам 1-5, Стивена Оукли[en] к книгам 6-10, Урсулы Гендль-Загаве (Ursula Händl-Sagawe) к книге 21 и Джона Бриско к книгам 31-40[279].
Научное изучение Ливия
 Отношение исследователей к Ливию значительно менялось на протяжении XIX—XX веков. К началу XIX века Тита Ливия сопровождала слава крупнейшего римского историка (см. раздел «Влияние»), однако внимательное изучение текста «Истории» и сопоставление с данными других источников превратило его в объект жёсткой критики. Историчность «Истории» подвергали сомнению Пьер Бейль, Луи де Бофор[en] и Бартольд Нибур, изучавшие преимущественно первую декаду сочинения Ливия, посвящённую ранней истории Рима[281]. Нибур предположил, что первоисточником для многих сведений Ливия о ранней Республике было устное народное творчество[282]. Под его влиянием в XIX века проводилось много исследований, искавших в тексте «Истории» следы заимствований из анналистов — источников Ливия. Методы, применённые исследователями при анализе сочинения Ливия, впоследствии распространились во всей исторической науке[281]. Теодор Моммзен обосновал идею о механическом переносе Ливием политико-правовых реалий своего времени на историю царского периода и ранней Римской республики[283]. В результате, в историографии на долгое время закрепился образ Ливия как рассказчика без собственного вклада и выдумщика[267]. Наряду с умеренно-критическими и гиперкритическими взглядами некоторым влиянием пользовались приверженцы правдивости Ливия. В частности, достоверной считал «Историю» Ипполит Тэн[284].
Отношение исследователей к Ливию значительно менялось на протяжении XIX—XX веков. К началу XIX века Тита Ливия сопровождала слава крупнейшего римского историка (см. раздел «Влияние»), однако внимательное изучение текста «Истории» и сопоставление с данными других источников превратило его в объект жёсткой критики. Историчность «Истории» подвергали сомнению Пьер Бейль, Луи де Бофор[en] и Бартольд Нибур, изучавшие преимущественно первую декаду сочинения Ливия, посвящённую ранней истории Рима[281]. Нибур предположил, что первоисточником для многих сведений Ливия о ранней Республике было устное народное творчество[282]. Под его влиянием в XIX века проводилось много исследований, искавших в тексте «Истории» следы заимствований из анналистов — источников Ливия. Методы, применённые исследователями при анализе сочинения Ливия, впоследствии распространились во всей исторической науке[281]. Теодор Моммзен обосновал идею о механическом переносе Ливием политико-правовых реалий своего времени на историю царского периода и ранней Римской республики[283]. В результате, в историографии на долгое время закрепился образ Ливия как рассказчика без собственного вклада и выдумщика[267]. Наряду с умеренно-критическими и гиперкритическими взглядами некоторым влиянием пользовались приверженцы правдивости Ливия. В частности, достоверной считал «Историю» Ипполит Тэн[284].
Гэри Форсайт (Gary Forsythe) разделил исследования, в которых изучаются различные аспекты «Истории», на две основные группы — традиционную «историческую школу» и «литературную школу», сформировавшуюся во второй половине XX века под влиянием работ Эриха Бурка[de] (Erich Burck) и Торри Льюса (Torrey J. Luce). Представители первого направления обычно рассматривают «Историю» как механическую компиляцию утерянных впоследствии трудов анналистов, что определяет особый интерес к поиску первоисточников Ливия. Представители «литературной школы» исходят в своих выводах из признания самостоятельности «Истории» и изучают внутренние особенности этого текста. Однако признание «Истории» самодостаточным объектом исследований имеет и обратный эффект: вместо ориентированного на практику подхода «исторической школы» представители нового поколения исследователей не всегда стремятся установить связь между текстом Ливия и исторической реальностью, а их выводы иногда вступают в противоречие с концепциями, принятыми в антиковедении. Различия между двумя направлениями распространяются и на методы исследования. В отличие от представителей «исторической школы», методы исследования которых мало изменились с XIX века и потому серьёзно устарели, исследователи «литературной школы» используют весь арсенал методов современной литературной критики[285]. Распространение нового подхода в изучении «Истории» происходило одновременно с улучшением общего мнения о Ливии. Были учтены объективные трудности, которые сопутствовали римскому историку в сборе документов, распространилось убеждение в том, что Ливий тщательно работал с доступными источниками, а многие недостатки его работы были характерны почти для всей античной историографии[80]. По замечанию Рональда Меллора, исследователи часто предъявляли к Ливию требования, принятые для современных историков, и только в XX веке стало возможным по достоинству оценить место Ливия на фоне историографии его времени[267].
Напишите отзыв о статье "Тит Ливий"
Комментарии и цитаты
- Комментарии
- ↑ И. М. Тронский признаёт за Ливием написание работ и риторического характера[6].
- ↑ Рональд Меллор относит появление деления на пентады и декады к античной эпохе[34], Роберт Огилви связывает деление на пентады со стандартной длиной папирусного свитка — на каждом свитке должны были поместиться пять книг «Истории»[35]. Однако, например, Т. И. Кузнецова относит деление на декады к V веку н. э.[36] (по-видимому, из-за упоминания этого деления у римского папы Геласия I[37]), в «Истории римской литературы» под ред. Н. Ф. Дератани деление на декады отнесено ко времени после смерти Ливия[38]. Переводчик Ливия на английский язык Бенджамин Фостер полагает, что деление всего текста на декады, включая и иные по структуре последние книги, вызвано действиями переписчиков, которые копировали текст по частям[39].
- ↑ По мнению Пола Бёртона, вторая редакция первого пятикнижия совпала с публикацией второго пятикнижия: по его мнению, Ливий опубликовал книги 1—10 вместе в 27—25 годах до н. э., хотя изначальная редакция первых книг появилась раньше[52].
- ↑ Впрочем, допускается, что Ливий использовал не оригинальные сочинения Кальпурния Пизона и Фабия Пиктора, а их более поздние обработки[68][69][70].
- ↑ Впрочем, например, А. И. Немировский и В. С. Дуров допускают, что Элий Туберон был одним из важнейших источников Ливия в первых книгах своего сочинения[73][74].
- ↑ Например, «Itaque non castris positis, non exspectato hostium exercitu, raptam ex agris praedam portantes Veios rediere» — «Не разбив лагеря, не дожидаясь войска противника, они ушли назад в Вейи, унося добычу с полей» (перевод В. М. Смирина) в книге 1 и «Consules eo anno agro tantum Ligurum populato, cum hostes exercitus numquam eduxissent, nulla re memorabili gesta Romam ad magistratus subrogandos redierunt» — «Консулы в этом году только произвели опустошение в лигурийских землях, но на битву неприятель не вышел, и они, не совершив ничего достопамятного, воротились в Рим для проведения выборов» (перевод О. Л. Левинской) в книге 45.
- ↑ Перевод Н. Ф. Дератани для «Истории римской литературы»[124]. В современном переводе на русский язык Н. А. Поздняковой под ред. М. Л. Гаспарова и Г. С. Кнабе использована другая метафора — «весь народ опутан долгами».
- ↑ Впрочем, маркировка Ливия словом «помпеянец» могла не носить негативного оттенка пока императором был Октавиан Август. Некоторые исследователи (в частности, А. И. Немировский) предполагают, что высокая оценка Помпея стала считаться проявлением оппозиционных настроений лишь при Тиберии и Калигуле[144].
- ↑ Основанием для гипотез об антиавгустовской направленности последних книг историка обычно служит примечание к периохе книги 121 о её публикации после смерти Августа[35][26]. В переводах на русский язык эта приписка отсутствует.
- ↑ Книги 41 и 43 сохранились не полностью.
- ↑ Впрочем, объём периох книг 48 и 49 превышает две печатных страницы.
- ↑ Исправления римскими аристократами рукописей «Истории» Ливия, как полагает Джон Сэндис[en], могло создать моду на подобные занятия — известно о по меньшей мере трёх попытках исправить текст Марциала в ближайшие несколько лет[225].
- ↑ Из характера упоминаний Ливия у Данте допускается, что итальянский автор мог читать только первые четыре книги «Истории»[248].
- ↑ Джон Сэндис обнаруживает в лимбе «Божественной комедии» Ливия (I, 4, 141)[249], хотя в оригинале речь идёт о Лине. Ливий присутствует лишь в переводе «Божественной комедии» на английский язык Генри Лонгфелло: «Of qualities I saw the good collector, // Hight Dioscorides; and Orpheus saw I, // Tully and Livy, and moral Seneca, <...>» (I, 4, 139—141).
- ↑ Данте. Божественная комедия, Ад, 28, 12: «итал. Livio, che non erra». В переводе М. Л. Лозинского: «Как пишет Ливий, истинный вполне». Буквальный перевод — «Ливий, который не ошибается»[114] или «Ливий, который не может ошибаться»[250]
- ↑ Джон Сэндис пишет, что заказчиком перевода был «король Иоанн III (умер в 1341)» — «...at the request of king John III (d. 1341)»[204], хотя Иоанн II был последним французским королём этого имени.
- Цитаты
- ↑ 2.3.8: «Разве ты никогда не читал про какого-то гадитанца, который был так поражён славой Тита Ливия, что с края света приехал посмотреть на него и, поглядев, сразу же уехал обратно» (перевод М. Е. Сергеенко, А. И. Доватура).
- ↑ К Луцилию, 100, 9: «Назови ещё Тита Ливия: ведь и он писал диалоги, которые можно отнести столь же к философии, сколь и к истории, и книги откровенно философского содержания».
- ↑ (Liv. XLIII, 13, 2) Тит Ливий, XLIII, 13, 2. Цитата: «Однако же, когда пишу я о делах стародавних, душа моя каким-то образом сама преисполняется древности и некое благоговение не дозволяет мне пренебречь в летописи моей тем, что и самые рассудительные мужи почитали тогда важным для государства» (перевод Н. П. Гринцера, Т. И. Давыдовой, М. М. Сокольской).
- ↑ 1 2 (Tac. Ann. IV, 34) Тацит. Анналы, IV, 34. Цитата: «Тит Ливий, самый прославленный, самый красноречивый и правдивый из наших историков, такими похвалами превознёс Гнея Помпея, что Август прозвал его помпеянцем, и, однако, это не помешало их дружеским отношениям».
- ↑ (Liv. IV, 20) Тит Ливий, IV, 20: «Следуя всем предшествующим мне писателям, я написал было, что Авл Корнелий Косс принёс вторые полководческие доспехи в храм Юпитера Подателя, будучи военным трибуном. Однако, не говоря о том, что под «тучными» мы разумеем доспехи, снятые с вождя вождём, а вождя мы знаем только того, под чьим началом ведется война, главное, ведь и надпись, сделанная на доспехах, показывает в опровержение наших слов, что Косс добыл их, будучи консулом. Когда я услышал от Августа Цезаря, основателя или восстановителя всех храмов, что, он, войдя в храм Юпитера Феретрия, который разваливался от ветхости и был потом им восстановлен, сам прочитал это на льняном нагруднике, то я почёл почти что за святотатство скрывать, что Цезарь, тот, кому обязаны мы самим храмом, освидетельствовал эти доспехи Косса».
Примечания
- ↑ 1 2 3 4 5 Mellor R. The Roman Historians. — London; New York: Routledge, 1999. — P. 49.
- ↑ Ogilvie R. M. Livy // The Cambridge History of Classical Literature / Ed. by E. J. Kenney, W. V. Clausen. — Vol. 2: Latin Literature. — Cambridge University Press, 1982. — P. 459—460.
- ↑ 1 2 3 4 Mellor R. The Roman Historians. — London—New York: Routledge, 1999. — P. 48.
- ↑ Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 911.
- ↑ 1 2 3 Кузнецова Т. И., Миллер Т. А. Античная эпическая историография. Геродот. Тит Ливий / Отв. ред. М. Л. Гаспаров. — М.: Наука, 1984. — С. 96.
- ↑ 1 2 3 Тронский И. М. История античной литературы. — Л.: Учпедгиз, 1946. — С. 420.
- ↑ Чистякова Н. А., Вулих Н. В. История античной литературы. — 2-е изд. — М.: Высшая школа, 1971. — С. 373.
- ↑ 1 2 Дуров В. С. Художественная историография Древнего Рима. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 1993. — С. 68.
- ↑ 1 2 Syme R. Livy and Augustus // Harvard Studies in Classical Philology. — 1959. — Vol. 64. — P. 40.
- ↑ Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 912.
- ↑ 1 2 3 4 Тит Ливий / История римской литературы. — Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — Т. 1. — М.: Изд-во АН СССР, 1959. — С. 471.
- ↑ Кнабе Г. С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре Древнего Рима. — М.: Индрик, 1994. — С. 431.
- ↑ 1 2 Mineo B. Introduction: Livy // A Companion to Livy. — Malden; Oxford: Wiley—Blackwell, 2014. — P. XXXIII.
- ↑ 1 2 (Plut. Caes. 47) Плутарх. Цезарь, 47.
- ↑ 1 2 3 Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 913.
- ↑ Кнабе Г. С. Рим Тита Ливия — образ, миф и история / Тит Ливий. История Рима от основания города. — М.: Ладомир, 2002. — С. 663.
- ↑ Кнабе Г. С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре Древнего Рима. — М.: Индрик, 1994. — С. 435.
- ↑ Кнабе Г. С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре Древнего Рима. — М.: Индрик, 1994. — С. 444.
- ↑ Mellor R. The Roman Historians. — London; New York: Routledge, 1999. — P. 49—50.
- ↑ Mellor R. The Roman Historians. — London; New York: Routledge, 1999. — P. 50.
- ↑ (Suet. Claudius, 41—42) Светоний. Божественный Клавдий, 41—42.
- ↑ Last D. M., Ogilvie R. M. Claudius and Livy // Latomus. — 1958. — T. 17, Fasc. 3. — P. 476—487.
- ↑ 1 2 Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume X: The Augustan Empire, 43 BC – AD 69. — Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — P. 909.
- ↑ 1 2 3 Кнабе Г. С. Рим Тита Ливия — образ, миф и история / Тит Ливий. История Рима от основания города. — М.: Ладомир, 2002. — С. 670.
- ↑ 1 2 3 Mellor R. The Roman Historians. — London; New York: Routledge, 1999. — P. 71.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Тит Ливий / История римской литературы. — Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — Т. 1. — М.: Изд-во АН СССР, 1959. — С. 475.
- ↑ Syme R. Livy and Augustus // Harvard Studies in Classical Philology. — 1959. — Vol. 64. — P. 41.
- ↑ Grant M. Greek and Roman Historians. Information and Desinformation. — London; New York: Routledge, 1995. — P. 15.
- ↑ Кнабе Г. С. Рим Тита Ливия — образ, миф и история / Тит Ливий. История Рима от основания города. — М.: Ладомир, 2002. — С. 667.
- ↑ (Qunit. Inst. X, 1, 39) Квинтилиан. Наставления, X, 1, 39.
- ↑ Mellor R. The Roman Historians. — London; New York: Routledge, 1999. — P. 58—59.
- ↑ 1 2 3 4 Тит Ливий / История римской литературы. — Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — Т. 1. — М.: Изд-во АН СССР, 1959. — С. 473.
- ↑ 1 2 Тит Ливий / История римской литературы. — Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — Т. 1. — М.: Изд-во АН СССР, 1959. — С. 474.
- ↑ Mellor R. The Roman Historians. — London; New York: Routledge, 1999. — P. 53.
- ↑ 1 2 3 4 Ogilvie R. M. Livy // The Cambridge History of Classical Literature / Ed. by E. J. Kenney, W. V. Clausen. — Vol. 2: Latin Literature. — Cambridge University Press, 1982. — P. 458.
- ↑ Кузнецова Т. И., Миллер Т. А. Античная эпическая историография. Геродот. Тит Ливий / Отв. ред. М. Л. Гаспаров. — М.: Наука, 1984. — С. 97.
- ↑ 1 2 Дуров В. С. Художественная историография Древнего Рима. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 1993. — С. 69.
- ↑ История римской литературы / Под ред. Н. Ф. Дератани. — М.: Изд-во МГУ, 1954. — С. 283.
- ↑ Livy / translation by B. O. Foster. — Loeb Classical Library, №114. — Livy, 1. Books I and II. — Harvard—London: Harvard University Press — William Heinemann, 1967. — P. XVI.
- ↑ 1 2 3 4 Mellor R. The Roman Historians. — London; New York: Routledge, 1999. — P. 55.
- ↑ 1 2 3 Woodman A. J. Rhetoric in Classical Historiography: Four Studies. — London: Routledge, 2003. — P. 136.
- ↑ Bessone L. The Periochae // A Companion to Livy. — Malden; Oxford: Wiley—Blackwell, 2014. — P. 426.
- ↑ 1 2 3 Mineo B. Introduction: Livy // A Companion to Livy. — Malden; Oxford: Wiley—Blackwell, 2014. — P. XXXVIII.
- ↑ Woodman A. J. Rhetoric in Classical Historiography: Four Studies. — London: Routledge, 2003. — P. 139.
- ↑ Livius 9 // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. — Bd. XIII,1. — Stuttgart: J. B. Metzler, 1926. — Sp. 818: текст на [de.wikisource.org/wiki/Paulys_Realencyclopädie_der_classischen_Altertumswissenschaft немецком]
- ↑ Кнабе Г. С. Рим Тита Ливия — образ, миф и история / Тит Ливий. История Рима от основания города. — М.: Ладомир, 2002. — С. 668.
- ↑ Syme R. Livy and Augustus // Harvard Studies in Classical Philology. — 1959. — Vol. 64. — P. 42.
- ↑ Luce T. J. The Dating of Livy's First Decade // Transactions and Proceedings of the American Philological Association. — 1965. — Vol. 96. — P. 209.
- ↑ Syme R. Livy and Augustus // Harvard Studies in Classical Philology. — 1959. — Vol. 64. — P. 43.
- ↑ 1 2 3 Luce T. J. The Dating of Livy's First Decade // Transactions and Proceedings of the American Philological Association. — 1965. — Vol. 96. — P. 210.
- ↑ Bayet J. Tite Live. — Livre I. — Paris, 1940. — P. XVI-XXII.
- ↑ Burton P. The Last Republican Historian: A New Date for the Composition of Livy's First Pentad // Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte. — 2000. — Bd. 49, H. 4. — P. 445.
- ↑ Luce T. J. The Dating of Livy's First Decade // Transactions and Proceedings of the American Philological Association. — 1965. — Vol. 96. — P. 216.
- ↑ Woodman A. J. Rhetoric in Classical Historiography: Four Studies. — London: Routledge, 2003. — P. 135.
- ↑ Mineo B. Introduction: Livy // A Companion to Livy. — Malden; Oxford: Wiley—Blackwell, 2014. — P. XXXVI—XXXVII.
- ↑ Burton P. The Last Republican Historian: A New Date for the Composition of Livy's First Pentad // Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte. — 2000. — Bd. 49, H. 4. — P. 438—446.
- ↑ Burton P. The Last Republican Historian: A New Date for the Composition of Livy's First Pentad // Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte. — 2000. — Bd. 49, H. 4. — P. 442.
- ↑ Scheidel W. When Did Livy Write Books 1, 3, 28 and 59? // The Classical Quarterly. New Series. — 2009. — Vol. 59, No. 2. — P. 656—657.
- ↑ Woodman A. J. Rhetoric in Classical Historiography: Four Studies. — London: Routledge, 2003. — P. 128.
- ↑ 1 2 Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 915.
- ↑ 1 2 3 Тит Ливий / История римской литературы. — Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — Т. 1. — М.: Изд-во АН СССР, 1959. — С. 482.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Тит Ливий / История римской литературы. — Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — Т. 1. — М.: Изд-во АН СССР, 1959. — С. 483.
- ↑ (Liv. XXXVI, 38) Тит Ливий, XXXVI, 38 (перевод С. А. Иванова).
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Mellor R. The Roman Historians. — London; New York: Routledge, 1999. — P. 68.
- ↑ Mellor R. The Roman Historians. — London; New York: Routledge, 1999. — P. 63—64.
- ↑ 1 2 3 4 Ogilvie R. M. Livy // The Cambridge History of Classical Literature / Ed. by E. J. Kenney, W. V. Clausen. — Vol. 2: Latin Literature. — Cambridge University Press, 1982. — P. 460.
- ↑ Mellor R. The Roman Historians. — London; New York: Routledge, 1999. — P. 64.
- ↑ 1 2 Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 916.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Ogilvie R. M. Livy // The Cambridge History of Classical Literature / Ed. by E. J. Kenney, W. V. Clausen. — Vol. 2: Latin Literature. — Cambridge University Press, 1982. — P. 461.
- ↑ 1 2 Немировский А. И. У истоков исторической мысли. — Воронеж: Изд-во ВГУ, 1979. — С. 183.
- ↑ Тит Ливий / История римской литературы. — Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — Т. 1. — М.: Изд-во АН СССР, 1959. — С. 482–483.
- ↑ 1 2 Кузнецова Т. И., Миллер Т. А. Античная эпическая историография. Геродот. Тит Ливий / Отв. ред. М. Л. Гаспаров. — М.: Наука, 1984. — С. 111.
- ↑ 1 2 3 Немировский А. И. У истоков исторической мысли. — Воронеж: Изд-во ВГУ, 1979. — С. 184.
- ↑ 1 2 3 Дуров В. С. Художественная историография Древнего Рима. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 1993. — С. 71.
- ↑ Кузнецова Т. И., Миллер Т. А. Античная эпическая историография. Геродот. Тит Ливий / Отв. ред. М. Л. Гаспаров. — М.: Наука, 1984. — С. 103.
- ↑ 1 2 3 Mellor R. The Roman Historians. — London; New York: Routledge, 1999. — P. 66.
- ↑ Rawson E. Intellectual Life in the Late Roman Republic. — London: Duckworth, 1985. — P. 240.
- ↑ Кузнецова Т. И., Миллер Т. А. Античная эпическая историография. Геродот. Тит Ливий / Отв. ред. М. Л. Гаспаров. — М.: Наука, 1984. — С. 112.
- ↑ 1 2 Кнабе Г. С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре Древнего Рима. — М.: Индрик, 1994. — С. 427.
- ↑ 1 2 3 4 Mellor R. The Roman Historians. — London; New York: Routledge, 1999. — P. 65.
- ↑ История римской литературы / Под ред. Н. Ф. Дератани. — М.: Изд-во МГУ, 1954. — С. 284.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Mellor R. The Roman Historians. — London; New York: Routledge, 1999. — P. 67.
- ↑ (Liv. XXXIX, 42-43) Тит Ливий, XXXIX, 42-43.
- ↑ Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 917.
- ↑ (Liv. VIII, 40) Тит Ливий, VIII, 40 (перевод Н. В. Брагинской).
- ↑ Mellor R. The Roman Historians. — London; New York: Routledge, 1999. — P. 64—65.
- ↑ Сидорович О. В. Анналисты и антиквары. Римская историография конца III—I вв. до н. э. — М.: РГГУ, 2005. — С. 160—161.
- ↑ Ogilvie R. M. Livy // The Cambridge History of Classical Literature / Ed. by E. J. Kenney, W. V. Clausen. — Vol. 2: Latin Literature. — Cambridge University Press, 1982. — P. 461—462.
- ↑ 1 2 3 История римской литературы / Под ред. Н. Ф. Дератани. — М.: Изд-во МГУ, 1954. — С. 286.
- ↑ (Liv. IV, 23) Тит Ливий, IV, 23 (перевод Г. Ч. Гусейнова).
- ↑ 1 2 3 Немировский А. И. У истоков исторической мысли. — Воронеж: Изд-во ВГУ, 1979. — С. 187.
- ↑ (Liv. I, 4) Тит Ливий, I, 4 (перевод В. М. Смирина).
- ↑ История всемирной литературы. — Т. 1. — М.: Наука, 1983. — С. 455.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mellor R. The Roman Historians. — London; New York: Routledge, 1999. — P. 62.
- ↑ Mellor R. The Roman Historians. — London; New York: Routledge, 1999. — P. 51.
- ↑ 1 2 Kraus C. S., Woodman A. J. Latin Historians. — Cambridge: Cambridge University Press, 1997. — P. 62.
- ↑ Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 926.
- ↑ 1 2 3 4 Oakley S. P. A Commentary on Livy, Books VI-X. — Vol. 1. — Oxford: Clarendon Press, 1997. — P. 147.
- ↑ Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 927.
- ↑ Oakley S. P. A Commentary on Livy, Books VI-X. — Vol. 1. — Oxford: Clarendon Press, 1997. — P. 148.
- ↑ Тит Ливий / История римской литературы. — Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — Т. 1. — М.: Изд-во АН СССР, 1959. — С. 488.
- ↑ 1 2 Кузнецова Т. И., Миллер Т. А. Античная эпическая историография. Геродот. Тит Ливий / Отв. ред. М. Л. Гаспаров. — М.: Наука, 1984. — С. 181.
- ↑ 1 2 Ogilvie R. M. Livy // The Cambridge History of Classical Literature / Ed. by E. J. Kenney, W. V. Clausen. — Vol. 2: Latin Literature. — Cambridge University Press, 1982. — P. 465.
- ↑ Кнабе Г. С. Рим Тита Ливия — образ, миф и история / Тит Ливий. История Рима от основания города. — М.: Ладомир, 2002. — С. 654.
- ↑ McDonald A. H. The Style of Livy // The Journal of Roman Studies. — 1957. — №1/2. — P. 156.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Тит Ливий / История римской литературы. — Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — Т. 1. — М.: Изд-во АН СССР, 1959. — С. 487.
- ↑ Тит Ливий / История римской литературы. — Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — Т. 1. — М.: Изд-во АН СССР, 1959. — С. 487–488.
- ↑ 1 2 Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 921.
- ↑ 1 2 Тит Ливий / История римской литературы. — Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — Т. 1. — М.: Изд-во АН СССР, 1959. — С. 489.
- ↑ Кнабе Г. С. Рим Тита Ливия — образ, миф и история / Тит Ливий. История Рима от основания города. — М.: Ладомир, 2002. — С. 656.
- ↑ 1 2 3 Тит Ливий / История римской литературы. — Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — Т. 1. — М.: Изд-во АН СССР, 1959. — С. 490.
- ↑ Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 920.
- ↑ Кузнецова Т. И., Миллер Т. А. Античная эпическая историография. Геродот. Тит Ливий / Отв. ред. М. Л. Гаспаров. — М.: Наука, 1984. — С. 183.
- ↑ 1 2 3 4 5 Тронский И. М. История античной литературы. — Л.: Учпедгиз, 1946. — С. 422.
- ↑ Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. — М.: Крон-пресс, 1996. — С. 381.
- ↑ (Liv. II, 12) Тит Ливий, II, 12 (перевод Н. А. Поздняковой).
- ↑ 1 2 3 Mellor R. The Roman Historians. — London; New York: Routledge, 1999. — P. 60.
- ↑ 1 2 3 Тронский И. М. История античной литературы. — Л.: Учпедгиз, 1946. — С. 421.
- ↑ Kraus C. S., Woodman A. J. Latin Historians. — Cambridge: Cambridge University Press, 1997. — P. 60—61.
- ↑ Mellor R. The Roman Historians. — London; New York: Routledge, 1999. — P. 61.
- ↑ 1 2 Kraus C. S., Woodman A. J. Latin Historians. — Cambridge: Cambridge University Press, 1997. — P. 60.
- ↑ Kraus C. S., Woodman A. J. Latin Historians. — Cambridge: Cambridge University Press, 1997. — P. 61.
- ↑ Кузнецова Т. И., Миллер Т. А. Античная эпическая историография. Геродот. Тит Ливий / Отв. ред. М. Л. Гаспаров. — М.: Наука, 1984. — С. 105.
- ↑ 1 2 История римской литературы / Под ред. Н. Ф. Дератани. — М.: Изд-во МГУ, 1954. — С. 288.
- ↑ 1 2 Кузнецова Т. И., Миллер Т. А. Античная эпическая историография. Геродот. Тит Ливий / Отв. ред. М. Л. Гаспаров. — М.: Наука, 1984. — С. 182.
- ↑ Kraus C. S., Woodman A. J. Latin Historians. — Cambridge: Cambridge University Press, 1997. — P. 69.
- ↑ 1 2 (Liv. XXXVI, 10) Тит Ливий, XXXVI, 10 (перевод С. А. Иванова).
- ↑ 1 2 Кнабе Г. С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре Древнего Рима. — М.: Индрик, 1994. — С. 428.
- ↑ 1 2 Ogilvie R. M. Livy // The Cambridge History of Classical Literature / Ed. by E. J. Kenney, W. V. Clausen. — Vol. 2: Latin Literature. — Cambridge University Press, 1982. — P. 465—466.
- ↑ Утченко С. Л. Древний Рим. События. Люди. Идеи. — М.: Наука, 1969. — С. 270—271.
- ↑ Немировский А. И. У истоков исторической мысли. — Воронеж: Изд-во ВГУ, 1979. — С. 195—197.
- ↑ 1 2 Дуров В. С. Художественная историография Древнего Рима. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 1993. — С. 77.
- ↑ Mellor R. The Roman Historians. — London; New York: Routledge, 1999. — P. 56.
- ↑ Barchiesi A. [www.jstor.org/stable/4352723 Review: Livy's Exemplary History by Jane D. Chaplin] // The Classical World. — 2002. — Vol. 96, No. 1. — P. 101—102.
- ↑ Chaplin J. Livy's Use of Exempla // A Companion to Livy. — Malden; Oxford: Wiley—Blackwell, 2014. — P. 102.
- ↑ Miles G. B. Livy: Reconstructing Early Rome. — Ithaca: Cornell University Press, 1997. — P. 75.
- ↑ Mineo B. Livy's Historical Philosophy // A Companion to Livy. — Malden; Oxford: Wiley—Blackwell, 2014. — P. 140.
- ↑ Дуров В. С. Художественная историография Древнего Рима. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 1993. — С. 70.
- ↑ Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. — М.: Крон-пресс, 1996. — С. 611.
- ↑ 1 2 Sharrock A., Ash R. Fifty Key Classical Authors. — London: Routledge, 2002. — P. 271.
- ↑ 1 2 3 4 Hayne L. [www.jstor.org/stable/41535717 Livy and Pompey] // Latomus. — 1990. — T. 49, Fasc. 2. — P. 435.
- ↑ Кнабе Г. С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре Древнего Рима. — М.: Индрик, 1994. — С. 446.
- ↑ Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 938.
- ↑ Немировский А. И. У истоков исторической мысли. — Воронеж: Изд-во ВГУ, 1979. — С. 182.
- ↑ Farrell J. The Augustan Period: 40 BC — AD 14 // A Companion to Latin Literature / Ed. by S. Harrison. — Malden; Oxford: Blackwell, 2005. — P. 53—54.
- ↑ 1 2 3 4 Mellor R. The Roman Historians. — London; New York: Routledge, 1999. — P. 72.
- ↑ 1 2 Ogilvie R. M. Livy // The Cambridge History of Classical Literature / Ed. by E. J. Kenney, W. V. Clausen. — Vol. 2: Latin Literature. — Cambridge University Press, 1982. — P. 459.
- ↑ Luce T. J. The Dating of Livy's First Decade // Transactions and Proceedings of the American Philological Association. — 1965. — Vol. 96. — P. 240.
- ↑ Petersen H. [www.jstor.org/stable/283829 Livy and Augustus] // Transactions and Proceedings of the American Philological Association. — 1961. — Vol. 92. — P. 452.
- ↑ Немировский А. И. У истоков исторической мысли. — Воронеж: Изд-во ВГУ, 1979. — С. 188.
- ↑ 1 2 3 Тит Ливий / История римской литературы. — Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — Т. 1. — М.: Изд-во АН СССР, 1959. — С. 480.
- ↑ 1 2 3 4 Немировский А. И. У истоков исторической мысли. — Воронеж: Изд-во ВГУ, 1979. — С. 194.
- ↑ История римской литературы / Под ред. Н. Ф. Дератани. — М.: Изд-во МГУ, 1954. — С. 285.
- ↑ Немировский А. И. У истоков исторической мысли. — Воронеж: Изд-во ВГУ, 1979. — С. 195.
- ↑ Тит Ливий / История римской литературы. — Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — Т. 1. — М.: Изд-во АН СССР, 1959. — С. 484.
- ↑ Тит Ливий / История римской литературы. — Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — Т. 1. — М.: Изд-во АН СССР, 1959. — С. 481.
- ↑ 1 2 3 4 Тит Ливий / История римской литературы. — Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — Т. 1. — М.: Изд-во АН СССР, 1959. — С. 485.
- ↑ 1 2 Кузнецова Т. И., Миллер Т. А. Античная эпическая историография. Геродот. Тит Ливий / Отв. ред. М. Л. Гаспаров. — М.: Наука, 1984. — С. 123.
- ↑ 1 2 Кузнецова Т. И., Миллер Т. А. Античная эпическая историография. Геродот. Тит Ливий / Отв. ред. М. Л. Гаспаров. — М.: Наука, 1984. — С. 124.
- ↑ 1 2 Кузнецова Т. И., Миллер Т. А. Античная эпическая историография. Геродот. Тит Ливий / Отв. ред. М. Л. Гаспаров. — М.: Наука, 1984. — С. 125.
- ↑ Дуров В. С. Художественная историография Древнего Рима. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 1993. — С. 72.
- ↑ Кузнецова Т. И., Миллер Т. А. Античная эпическая историография. Геродот. Тит Ливий / Отв. ред. М. Л. Гаспаров. — М.: Наука, 1984. — С. 123—124.
- ↑ 1 2 Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 937.
- ↑ Кнабе Г. С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре Древнего Рима. — М.: Индрик, 1994. — С. 452.
- ↑ (Liv. XLIII, 13) Тит Ливий, XLIII, 13 (перевод Н. П. Гринцера, Т. И. Давыдовой, М. М. Сокольской).
- ↑ Тит Ливий / История римской литературы. — Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — Т. 1. — М.: Изд-во АН СССР, 1959. — С. 477.
- ↑ 1 2 Тит Ливий / История римской литературы. — Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — Т. 1. — М.: Изд-во АН СССР, 1959. — С. 478.
- ↑ 1 2 Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 934.
- ↑ Walsh P. G. Livy and Stoicism // American Journal of Philology. — 1958. — Vol. 79, No. 4. — P. 375.
- ↑ Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 933–934.
- ↑ Немировский А. И. У истоков исторической мысли. — Воронеж: Изд-во ВГУ, 1979. — С. 186.
- ↑ 1 2 Scheid J. Livy and Religion // A Companion to Livy. — Malden; Oxford: Wiley—Blackwell, 2014. — P. 78.
- ↑ 1 2 Тит Ливий / История римской литературы. — Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — Т. 1. — М.: Изд-во АН СССР, 1959. — С. 479.
- ↑ Немировский А. И. У истоков исторической мысли. — Воронеж: Изд-во ВГУ, 1979. — С. 188—189.
- ↑ Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 935.
- ↑ 1 2 3 4 Walsh P. G. Livy and Stoicism // American Journal of Philology. — 1958. — Vol. 79, No. 4. — P. 373—374.
- ↑ Немировский А. И. У истоков исторической мысли. — Воронеж: Изд-во ВГУ, 1979. — С. 190.
- ↑ 1 2 Дуров В. С. Художественная историография Древнего Рима. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 1993. — С. 75.
- ↑ Корзун М. С. Политические взгляды и провиденциальная концепция истории Тита Ливия // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны. — Вып. 2. — Мн.: БДУ, 2005. — С. 176.
- ↑ Тит Ливий / История римской литературы. — Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — Т. 1. — М.: Изд-во АН СССР, 1959. — С. 479–480.
- ↑ Тит Ливий / История римской литературы. — Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — Т. 1. — М.: Изд-во АН СССР, 1959. — С. 488–489.
- ↑ Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 911–912.
- ↑ 1 2 Maréchaux P. The Transmission of Livy from the End of the Roman Empire to the Beginning of the Seventeenth Century // A Companion to Livy. — Malden; Oxford: Wiley—Blackwell, 2014. — P. 439.
- ↑ 1 2 Тит Ливий / История римской литературы. — Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — Т. 1. — М.: Изд-во АН СССР, 1959. — С. 472–473.
- ↑ История римской литературы. — Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — Т. 1. — М.: Изд-во АН СССР, 1959. — С. 491.
- ↑ 1 2 Livy / translation by B. O. Foster. — Loeb Classical Library, №114. — Livy, 1. Books I and II. — Harvard—London: Harvard University Press — William Heinemann, 1967. — P. XXXII
- ↑ 1 2 3 de Franchis M. Livian Manuscript Tradition // A Companion to Livy. — Malden; Oxford: Wiley—Blackwell, 2014. — P. 5—8.
- ↑ de Franchis M. Livian Manuscript Tradition // A Companion to Livy. — Malden; Oxford: Wiley—Blackwell, 2014. — P. 9—10.
- ↑ Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 941.
- ↑ Reynolds L. D., Wilson N. G. Scribes and Scholars. A Guide to the Transmission of Greek and Latin Literature. — 3rd ed. — Oxford: Clarendon Press, 1991. — P. 36.
- ↑ 1 2 de Franchis M. Livian Manuscript Tradition // A Companion to Livy. — Malden; Oxford: Wiley—Blackwell, 2014. — P. 11—13.
- ↑ de Franchis M. Livian Manuscript Tradition // A Companion to Livy. — Malden; Oxford: Wiley—Blackwell, 2014. — P. 4.
- ↑ 1 2 3 Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 942.
- ↑ 1 2 Reynolds L. D., Wilson N. G. Scribes and Scholars. A Guide to the Transmission of Greek and Latin Literature. — 3rd ed. — Oxford: Clarendon Press, 1991. — P. 107—108.
- ↑ 1 2 3 4 5 de Franchis M. Livian Manuscript Tradition // A Companion to Livy. — Malden; Oxford: Wiley—Blackwell, 2014. — P. 14.
- ↑ Reynolds L. D., Wilson N. G. Scribes and Scholars. A Guide to the Transmission of Greek and Latin Literature. — 3rd ed. — Oxford: Clarendon Press, 1991. — P. 98—99.
- ↑ de Franchis M. Livian Manuscript Tradition // A Companion to Livy. — Malden; Oxford: Wiley—Blackwell, 2014. — P. 17.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 943.
- ↑ Reynolds L. D., Wilson N. G. Scribes and Scholars. A Guide to the Transmission of Greek and Latin Literature. — 3rd ed. — Oxford: Clarendon Press, 1991. — P. 193.
- ↑ Sandys J. E. A History of Classical Scholarship. — Vol. 1. — Cambridge: Cambridge University Press, 1903. — P. 633.
- ↑ Kallendorf C. W. Renaissance // A Companion to the Classical Tradition / Ed. by C. W. Kallendorf. — Malden; Oxford: Blackwell, 2007. — P. 34.
- ↑ 1 2 Sandys J. E. A History of Classical Scholarship. — Vol. 2. — Cambridge: Cambridge University Press, 1908. — P. 7.
- ↑ Sandys J. E. A History of Classical Scholarship. — Vol. 2. — Cambridge: Cambridge University Press, 1908. — P. 17.
- ↑ 1 2 Sandys J. E. A History of Classical Scholarship. — Vol. 1. — Cambridge: Cambridge University Press, 1903. — P. 634.
- ↑ Sandys J. E. A History of Classical Scholarship. — Vol. 2. — Cambridge: Cambridge University Press, 1908. — P. 32.
- ↑ Sandys J. E. A History of Classical Scholarship. — Vol. 2. — Cambridge: Cambridge University Press, 1908. — P. 46.
- ↑ Ogilvie R. M. Fragments of a New Manuscript of Livy // Rheinesches Museum für Philologie. Neue Folge. — 1971. — Bd. 114, H. 3. — P. 209—217.
- ↑ Reynolds L. D., Wilson N. G. Scribes and Scholars. A Guide to the Transmission of Greek and Latin Literature. — 3rd ed. — Oxford: Clarendon Press, 1991. — P. 197.
- ↑ [www.pcma.uw.edu.pl/en/about-pcma/history/ Seventy years of Polish archaeology and conservation/restoration in Egypt — chronological review] (англ.). Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Проверено 23 декабря 2015.
- ↑ Sandys J. E. A History of Classical Scholarship. — Vol. 2. — Cambridge: Cambridge University Press, 1908. — P. 97.
- ↑ Sandys J. E. A History of Classical Scholarship. — Vol. 2. — Cambridge: Cambridge University Press, 1908. — P. 54.
- ↑ Кнабе Г. С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре Древнего Рима. — М.: Индрик, 1994. — С. 445.
- ↑ 1 2 Highet G. The Classical Tradition: Greek and Roman Influences on Western Literature. — New York; Oxford: Oxford University Press, 1985. — P. 118.
- ↑ 1 2 Johnson C. [www.jstor.org/stable/40541186 Creating a Usable Past: Vernacular Roman Histories in Renaissance Germany] // The Sixteenth Century Journal. — 2009. — Vol. 40, No. 4. — P. 1088.
- ↑ 1 2 (Suet. Calig. 34) Светоний. Калигула, 34. Пер. М. Л. Гаспарова.
- ↑ Немировский А. И. История древнего мира. Античность. — М.: Русь-Олимп, 2007. — С. 634.
- ↑ (Suet. Dom. 10) Светоний. Домициан, 10.
- ↑ Кузнецова Т. И., Миллер Т. А. Античная эпическая историография. Геродот. Тит Ливий / Отв. ред. М. Л. Гаспаров. — М.: Наука, 1984. — С. 115.
- ↑ Gowing A. M. Empire and Memory. The Representation of the Roman Republic in Imperial Culture. — Cambridge: Cambridge University Press, 2005. — P. 50.
- ↑ Stadter P. Biography and History // A Companion to Greek and Roman Historiography / Ed. by J. Marincola. — Vol. 2. — Malden; Oxford: Blackwell, 2007. — P. 538.
- ↑ 1 2 3 4 Livy / translation by B. O. Foster. — Loeb Classical Library, №114. — Livy, 1. Books I and II. — Harvard—London: Harvard University Press — William Heinemann, 1967. — P. XXIV.
- ↑ Croke B. Late Antique Historiography, 250–650 CE // A Companion to Greek and Roman Historiography / Ed. by J. Marincola. — Vol. 2. — Malden; Oxford: Blackwell, 2007. — P. 575.
- ↑ Gowing A. M. Empire and Memory. The Representation of the Roman Republic in Imperial Culture. — Cambridge: Cambridge University Press, 2005. — P. 35.
- ↑ Croke B. Late Antique Historiography, 250–650 CE // A Companion to Greek and Roman Historiography / Ed. by J. Marincola. — Vol. 2. — Malden; Oxford: Blackwell, 2007. — P. 567.
- ↑ 1 2 3 4 Sandys J. E. A History of Classical Scholarship. — Vol. 1. — Cambridge: Cambridge University Press, 1903. — P. 215.
- ↑ Sandys J. E. A History of Classical Scholarship. — Vol. 1. — Cambridge: Cambridge University Press, 1903. — P. 210.
- ↑ 1 2 Zetzel J. E. G. The Subscriptions in the Manuscripts of Livy and Fronto and the Meaning of emendatio // Classical Philology. — 1980. — Vol. 75, No. 1. — P. 38.
- ↑ 1 2 Reynolds L. D., Wilson N. G. Scribes and Scholars. A Guide to the Transmission of Greek and Latin Literature. — 3rd ed. — Oxford: Clarendon Press, 1991. — P. 40.
- ↑ Reynolds L. D., Wilson N. G. Scribes and Scholars. A Guide to the Transmission of Greek and Latin Literature. — 3rd ed. — Oxford: Clarendon Press, 1991. — P. 85—86.
- ↑ Sandys J. E. A History of Classical Scholarship. — Vol. 1. — Cambridge: Cambridge University Press, 1903. — P. 433.
- ↑ Sandys J. E. A History of Classical Scholarship. — Vol. 1. — Cambridge: Cambridge University Press, 1903. — P. 445.
- ↑ Sandys J. E. A History of Classical Scholarship. — Vol. 1. — Cambridge: Cambridge University Press, 1903. — P. 440.
- ↑ Sandys J. E. A History of Classical Scholarship. — Vol. 1. — Cambridge: Cambridge University Press, 1903. — P. 464.
- ↑ Sandys J. E. A History of Classical Scholarship. — Vol. 1. — Cambridge: Cambridge University Press, 1903. — P. 472.
- ↑ Reynolds L. D., Wilson N. G. Scribes and Scholars. A Guide to the Transmission of Greek and Latin Literature. — 3rd ed. — Oxford: Clarendon Press, 1991. — P. 96—98.
- ↑ Sandys J. E. A History of Classical Scholarship. — Vol. 1. — Cambridge: Cambridge University Press, 1903. — P. 498.
- ↑ Reynolds L. D., Wilson N. G. Scribes and Scholars. A Guide to the Transmission of Greek and Latin Literature. — 3rd ed. — Oxford: Clarendon Press, 1991. — P. 112.
- ↑ Kostick C. [www.jstor.org/stable/3654135 William of Tyre, Livy, and the Vocabulary of Class] // Journal of the History of Ideas. — 2004. — Vol. 65, No. 3. — P. 356.
- ↑ Sandys J. E. A History of Classical Scholarship. — Vol. 1. — Cambridge: Cambridge University Press, 1903. — P. 521.
- ↑ Sandys J. E. A History of Classical Scholarship. — Vol. 1. — Cambridge: Cambridge University Press, 1903. — P. 522.
- ↑ Sandys J. E. A History of Classical Scholarship. — Vol. 1. — Cambridge: Cambridge University Press, 1903. — P. 574.
- ↑ Sandys J. E. A History of Classical Scholarship. — Vol. 1. — Cambridge: Cambridge University Press, 1903. — P. 528.
- ↑ Sandys J. E. A History of Classical Scholarship. — Vol. 1. — Cambridge: Cambridge University Press, 1903. — P. 579.
- ↑ Reynolds L. D., Wilson N. G. Scribes and Scholars. A Guide to the Transmission of Greek and Latin Literature. — 3rd ed. — Oxford: Clarendon Press, 1991. — P. 127.
- ↑ 1 2 Sandys J. E. A History of Classical Scholarship. — Vol. 1. — Cambridge: Cambridge University Press, 1903. — P. 588.
- ↑ Sandys J. E. A History of Classical Scholarship. — Vol. 2. — Cambridge: Cambridge University Press, 1908. — P. 72.
- ↑ Sandys J. E. A History of Classical Scholarship. — Vol. 1. — Cambridge: Cambridge University Press, 1903. — P. 591—593.
- ↑ Highet G. The Classical Tradition: Greek and Roman Influences on Western Literature. — New York; Oxford: Oxford University Press, 1985. — P. 84.
- ↑ Sandys J. E. A History of Classical Scholarship. — Vol. 1. — Cambridge: Cambridge University Press, 1903. — P. 591.
- ↑ История римской литературы / Под ред. Н. Ф. Дератани. — М.: Изд-во МГУ, 1954. — С. 289.
- ↑ Sandys J. E. A History of Classical Scholarship. — Vol. 1. — Cambridge: Cambridge University Press, 1903. — P. 590.
- ↑ 1 2 Reynolds L. D., Wilson N. G. Scribes and Scholars. A Guide to the Transmission of Greek and Latin Literature. — 3rd ed. — Oxford: Clarendon Press, 1991. — P. 130.
- ↑ Reynolds L. D., Wilson N. G. Scribes and Scholars. A Guide to the Transmission of Greek and Latin Literature. — 3rd ed. — Oxford: Clarendon Press, 1991. — P. 131—132.
- ↑ Sandys J. E. A History of Classical Scholarship. — Vol. 2. — Cambridge: Cambridge University Press, 1908. — P. 13.
- ↑ dell'Oso L. [www.brown.edu/Departments/Italian_Studies/heliotropia/10/delloso.pdf Reopening a Question of Attribution: Programmatic Notes on Boccaccio and the Translation of Livy] // Heliotropia. — 2013. — № 10/1-2. — P. 1.
- ↑ Reynolds L. D., Wilson N. G. Scribes and Scholars. A Guide to the Transmission of Greek and Latin Literature. — 3rd ed. — Oxford: Clarendon Press, 1991. — P. 170.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 944.
- ↑ Tournoy G. Low Countries // A Companion to the Classical Tradition / Ed. by C. W. Kallendorf. — Malden; Oxford: Blackwell, 2007. — P. 240.
- ↑ Chavasse R. [www.jstor.org/stable/24413369 The "studia humanitatis" and the making of a humanist career: Marcantonio Sabellico's exploitation of humanist literary genres] // Renaissance Studies. — 2003. — Vol. 17, No. 1. — P. 27.
- ↑ Baron H. [www.jstor.org/stable/649913 Leonardo Bruni: "Professional Rhetorician" or "Civic Humanist"?] // Past & Present. — 1967. — No. 36. — P. 34.
- ↑ Black R. [www.jstor.org/stable/568384 Benedetto Accolti and the Beginnings of Humanist Historiography] // The English Historical Review. — 1981. — Vol. 96, No. 378. — P. 58.
- ↑ Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. — М.: Крон-пресс, 1996. — С. 343.
- ↑ Mellor R. Tacitus. — London: Routledge, 1993. — P. 139.
- ↑ Highet G. The Classical Tradition: Greek and Roman Influences on Western Literature. — New York; Oxford: Oxford University Press, 1985. — P. 189.
- ↑ Culhane P. Livy in Early Jacobean Drama // Translation and Literature. — 2005. — Vol. 14, No. 1. — P. 21.
- ↑ 1 2 3 4 5 Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 945.
- ↑ 1 2 3 4 5 Mellor R. The Roman Historians. — London; New York: Routledge, 1999. — P. 73.
- ↑ Marsh D. Italy // A Companion to the Classical Tradition / Ed. by C. W. Kallendorf. — Malden; Oxford: Blackwell, 2007. — P. 216.
- ↑ Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. — М.: Крон-пресс, 1996. — С. 169.
- ↑ Axer J., Tomaszuk K. Central-Eastern Europe // A Companion to the Classical Tradition / Ed. by C. W. Kallendorf. — Malden; Oxford: Blackwell, 2007. — P. 138.
- ↑ Laird A. Latin America // A Companion to the Classical Tradition / Ed. by C. W. Kallendorf. — Malden; Oxford: Blackwell, 2007. — P. 231.
- ↑ Highet G. The Classical Tradition: Greek and Roman Influences on Western Literature. — New York; Oxford: Oxford University Press, 1985. — P. 393.
- ↑ Briggs W. United States // A Companion to the Classical Tradition / Ed. by C. W. Kallendorf. — Malden; Oxford: Blackwell, 2007. — P. 284.
- ↑ Белинский В. Г. Собрание сочинений в трёх томах. — Т. 2. — М.: Госполитиздат, 1948. — С. 511—512., цитируется по: История римской литературы / Под ред. Н. Ф. Дератани. — М.: Изд-во МГУ, 1954. — С. 290.
- ↑ От редакции // Тит Ливий. История Рима от основания города. — Т. 1. — М.: Наука, 1989. — С. 5.
- ↑ Кнабе Г. С. Русская античность. Содержание, роль и судьба античного наследия в культуре России. — М.: РГГУ, 2000. — С. 133.
- ↑ Sandys J. E. A History of Classical Scholarship. — Vol. 2. — Cambridge: Cambridge University Press, 1908. — P. 69.
- ↑ Reynolds L. D., Wilson N. G. Scribes and Scholars. A Guide to the Transmission of Greek and Latin Literature. — 3rd ed. — Oxford: Clarendon Press, 1991. — P. 142.
- ↑ 1 2 3 4 Levene D. [www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195389661/obo-9780195389661-0136.xml Обзор библиографии о Ливии] (англ.). Oxford University Press (28 January 2013). Проверено 23 января 2016.
- ↑ Reynolds L. D., Wilson N. G. Scribes and Scholars. A Guide to the Transmission of Greek and Latin Literature. — 3rd ed. — Oxford: Clarendon Press, 1991. — P. 128.
- ↑ 1 2 Ungern-Sternberg J. Livy and the Annalistic Tradition // A Companion to Livy. — Malden; Oxford: Wiley—Blackwell, 2014. — P. 168.
- ↑ Forsythe G. A Critical History of Early Rome: From Prehistory to the First Punic War. — Berkeley: University of California Press, 2006. — P. 75.
- ↑ Mastrocinque A. Tarquin the Superb and the Proclamation of the Roman Republic // A Companion to Livy. — Malden; Oxford: Wiley—Blackwell, 2014. — P. 301.
- ↑ Сидорович О. В. Анналисты и антиквары. Римская историография конца III—I вв. до н. э. — М.: РГГУ, 2005. — С. 10—12.
- ↑ Forsythe G. Livy and Early Rome: A Study in Historical Method and Judgement. — Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1999. — P. 7-8.
Литература
- Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С. 911–948.
- Карпюк С. Г. Полибий и Тит Ливий: ὄχλος и его римские соответствия // Вестник древней истории. — 1996. — №3. — С. 44–53.
- Кнабе Г. С. Рим Тита Ливия — образ, миф и история / Тит Ливий. История Рима от основания города. — М.: Ладомир, 2002. — С. 647–708.
- Кузнецова Т. И., Миллер Т. А. Античная эпическая историография: Геродот. Тит Ливий. — М.: Наука, 1984. — 213 с.
- Сидорович О. В. Анналисты и антиквары. Римская историография конца III—I вв. до н. э. — М.: РГГУ, 2005. — 287 с.
- Соболевский С. И. История римской литературы. — Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — Т. 1. — М.: Издательствово АН СССР, 1959. — С. 471–491.
- Ливий, Тит // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- Briscoe J. A Commentary on Livy: Books XXXI–XXXIII. — Oxford: Clarendon Press, 1973.
- Briscoe J. A Commentary on Livy: Books XXXIV–XXXVII. — Oxford: Clarendon Press, 1981.
- Briscoe J. A Commentary on Livy: Books XXXVIII–XL. — Oxford: Clarendon Press, 2008.
- Burck E. Das Geschichtswerk des Titus Livius. — Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 1992.
- Burck E. Die Erzählungskunst des T. Livius. — Berlin: Weidmann, 1934.
- Burck E. Einführung in die dritte Dekade des Livius. — 2d ed. — Heidelberg: F. H. Kerle, 1962.
- Catin L. En lisant Tite-Live. — Paris: Les Belles Lettres, 1944.
- Chaplin J. D. Livy's Exemplary History. — Oxford Unidersity Press, 2000. — 258 p.
- A Companion to Livy / Ed. by B. Mineo. — Malden; Oxford: Wiley—Blackwell, 2014. — 504 p.
- Ducos M. Les passions, les hommes et l’histoire dans l’oeuvre de Tite-Live // Revue des Études Latines. — 1987. — Vol. 65. — P. 132–147.
- Feldherr A. Spectacle and society in Livy’s history. — Berkeley: University of California Press, 1998.
- Hayne L. Livy and Pompey // Latomus. — 1990. — T. 49, Fasc. 2. — P. 435–442.
- Händl-Sagawe U. Der Beginn des 2. punischen Krieges: Ein historisch-kritischer Kommentar zu Livius Buch 21. — Munich: Editio Maris, 1995.
- Heuss A. Zur inneren Zeitform bei Livius // Livius: Werk und Rezeption: Festschrift für Erich Burck zum 80. Geburtstag / Ed. E. Lefèvre, E. Olshausen. — Munich: C. H. Beck, 1983. — S. 175–215.
- Jaeger M. Livy's Written Rome. — Ann Arbor: University of Michigan Press, 1997. — 205 p.
- Konstan D. Narrative and Ideology in Livy: Book I // Classical Antiquity. — 1986. — Vol. 5, No. 2. — P. 198–215.
- Latin historians / Ed. by C. S. Kraus and A. J. Woodman. — Oxford: Oxford University Press, 1997. — P. 51–81.
- Livy / Ed. by T. A. Dorey. — London: Routledge, 1971.
- Luce T. J. Livy: The composition of his history. — Princeton: Princeton University Press, 1977.
- Luce T. J. The Dating of Livy's First Decade // Transactions and Proceedings of the American Philological Association. — 1965. — Vol. 96. — P. 209–240.
- McDonald A. H. The Style of Livy // The Journal of Roman Studies. — 1957. — №1/2. — P. 155–172.
- Mellor R. The Roman Historians. — London—New York: Routledge, 1999. — P. 48–75.
- Miles G. Livy: Reconstructing Early Rome. — Cornell University Press, 1997. — 251 p.
- Mineo B. Tite-Live et l’histoire de Rome. — Paris: Klincksieck, 2006.
- Oakley S. A Commentary on Livy: Books VI–X. 4 vols. — Oxford: Clarendon Press, 1997—2005.
- Ogilvie R. M. A Commentary on Livy: Books I–V. — Oxford: Clarendon Press, 1965. — 774 p.
- Petersen H. Livy and Augustus // Transactions and Proceedings of the American Philological Association. — 1961. — Vol. 92. — P. 440–452.
- Stadter P. The structure of Livy’s history // Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte. — 1972. — Vol. 21, Part 2. — P. 287–307.
- Syme R. Livy and Augustus // Harvard Studies in Classical Philology. — 1959. — Vol. 64. — С. 27–87.
- Walsh P. G. Livy: His historical aims and methods. — Cambridge: Cambridge University Press, 1961.
- Walsh P. G. The Literary Techniques of Livy // Rheinisches Museum für Philologie, Neue Folge. — 1954. — №97. Bd., 2. H. — P. 97-114.
- Wille G. Der Aufbau des livianischen Geschichtswerk. — Amsterdam: B. R. Grüner, 1973.
Ссылки
-
На Викискладе есть медиафайлы по теме Тит Ливий
- [www.thelatinlibrary.com/liv.html Текст «Истории» на латинском языке] (лат.). Проверено 6 февраля 2016.
- [ancientrome.ru/antlitr/livi/index.htm Переводы «Истории» на русский язык]. Проверено 6 февраля 2016.
- Levene D. [www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195389661/obo-9780195389661-0136.xml Обзор библиографии о Ливии] (англ.). Oxford University Press. Проверено 29 ноября 2015.
| Эта статья входит в число избранных статей русскоязычного раздела Википедии. |
Отрывок, характеризующий Тит Ливий
Николай в два слова купил за шесть тысяч семнадцать жеребцов на подбор (как он говорил) для казового конца своего ремонта. Пообедав и выпив немножко лишнего венгерского, Ростов, расцеловавшись с помещиком, с которым он уже сошелся на «ты», по отвратительной дороге, в самом веселом расположении духа, поскакал назад, беспрестанно погоняя ямщика, с тем чтобы поспеть на вечер к губернатору.Переодевшись, надушившись и облив голову холодной подои, Николай хотя несколько поздно, но с готовой фразой: vaut mieux tard que jamais, [лучше поздно, чем никогда,] явился к губернатору.
Это был не бал, и не сказано было, что будут танцевать; но все знали, что Катерина Петровна будет играть на клавикордах вальсы и экосезы и что будут танцевать, и все, рассчитывая на это, съехались по бальному.
Губернская жизнь в 1812 году была точно такая же, как и всегда, только с тою разницею, что в городе было оживленнее по случаю прибытия многих богатых семей из Москвы и что, как и во всем, что происходило в то время в России, была заметна какая то особенная размашистость – море по колено, трын трава в жизни, да еще в том, что тот пошлый разговор, который необходим между людьми и который прежде велся о погоде и об общих знакомых, теперь велся о Москве, о войске и Наполеоне.
Общество, собранное у губернатора, было лучшее общество Воронежа.
Дам было очень много, было несколько московских знакомых Николая; но мужчин не было никого, кто бы сколько нибудь мог соперничать с георгиевским кавалером, ремонтером гусаром и вместе с тем добродушным и благовоспитанным графом Ростовым. В числе мужчин был один пленный итальянец – офицер французской армии, и Николай чувствовал, что присутствие этого пленного еще более возвышало значение его – русского героя. Это был как будто трофей. Николай чувствовал это, и ему казалось, что все так же смотрели на итальянца, и Николай обласкал этого офицера с достоинством и воздержностью.
Как только вошел Николай в своей гусарской форме, распространяя вокруг себя запах духов и вина, и сам сказал и слышал несколько раз сказанные ему слова: vaut mieux tard que jamais, его обступили; все взгляды обратились на него, и он сразу почувствовал, что вступил в подобающее ему в губернии и всегда приятное, но теперь, после долгого лишения, опьянившее его удовольствием положение всеобщего любимца. Не только на станциях, постоялых дворах и в коверной помещика были льстившиеся его вниманием служанки; но здесь, на вечере губернатора, было (как показалось Николаю) неисчерпаемое количество молоденьких дам и хорошеньких девиц, которые с нетерпением только ждали того, чтобы Николай обратил на них внимание. Дамы и девицы кокетничали с ним, и старушки с первого дня уже захлопотали о том, как бы женить и остепенить этого молодца повесу гусара. В числе этих последних была сама жена губернатора, которая приняла Ростова, как близкого родственника, и называла его «Nicolas» и «ты».
Катерина Петровна действительно стала играть вальсы и экосезы, и начались танцы, в которых Николай еще более пленил своей ловкостью все губернское общество. Он удивил даже всех своей особенной, развязной манерой в танцах. Николай сам был несколько удивлен своей манерой танцевать в этот вечер. Он никогда так не танцевал в Москве и счел бы даже неприличным и mauvais genre [дурным тоном] такую слишком развязную манеру танца; но здесь он чувствовал потребность удивить их всех чем нибудь необыкновенным, чем нибудь таким, что они должны были принять за обыкновенное в столицах, но неизвестное еще им в провинции.
Во весь вечер Николай обращал больше всего внимания на голубоглазую, полную и миловидную блондинку, жену одного из губернских чиновников. С тем наивным убеждением развеселившихся молодых людей, что чужие жены сотворены для них, Ростов не отходил от этой дамы и дружески, несколько заговорщически, обращался с ее мужем, как будто они хотя и не говорили этого, но знали, как славно они сойдутся – то есть Николай с женой этого мужа. Муж, однако, казалось, не разделял этого убеждения и старался мрачно обращаться с Ростовым. Но добродушная наивность Николая была так безгранична, что иногда муж невольно поддавался веселому настроению духа Николая. К концу вечера, однако, по мере того как лицо жены становилось все румянее и оживленнее, лицо ее мужа становилось все грустнее и бледнее, как будто доля оживления была одна на обоих, и по мере того как она увеличивалась в жене, она уменьшалась в муже.
Николай, с несходящей улыбкой на лице, несколько изогнувшись на кресле, сидел, близко наклоняясь над блондинкой и говоря ей мифологические комплименты.
Переменяя бойко положение ног в натянутых рейтузах, распространяя от себя запах духов и любуясь и своей дамой, и собою, и красивыми формами своих ног под натянутыми кичкирами, Николай говорил блондинке, что он хочет здесь, в Воронеже, похитить одну даму.
– Какую же?
– Прелестную, божественную. Глаза у ней (Николай посмотрел на собеседницу) голубые, рот – кораллы, белизна… – он глядел на плечи, – стан – Дианы…
Муж подошел к ним и мрачно спросил у жены, о чем она говорит.
– А! Никита Иваныч, – сказал Николай, учтиво вставая. И, как бы желая, чтобы Никита Иваныч принял участие в его шутках, он начал и ему сообщать свое намерение похитить одну блондинку.
Муж улыбался угрюмо, жена весело. Добрая губернаторша с неодобрительным видом подошла к ним.
– Анна Игнатьевна хочет тебя видеть, Nicolas, – сказала она, таким голосом выговаривая слова: Анна Игнатьевна, что Ростову сейчас стало понятно, что Анна Игнатьевна очень важная дама. – Пойдем, Nicolas. Ведь ты позволил мне так называть тебя?
– О да, ma tante. Кто же это?
– Анна Игнатьевна Мальвинцева. Она слышала о тебе от своей племянницы, как ты спас ее… Угадаешь?..
– Мало ли я их там спасал! – сказал Николай.
– Ее племянницу, княжну Болконскую. Она здесь, в Воронеже, с теткой. Ого! как покраснел! Что, или?..
– И не думал, полноте, ma tante.
– Ну хорошо, хорошо. О! какой ты!
Губернаторша подводила его к высокой и очень толстой старухе в голубом токе, только что кончившей свою карточную партию с самыми важными лицами в городе. Это была Мальвинцева, тетка княжны Марьи по матери, богатая бездетная вдова, жившая всегда в Воронеже. Она стояла, рассчитываясь за карты, когда Ростов подошел к ней. Она строго и важно прищурилась, взглянула на него и продолжала бранить генерала, выигравшего у нее.
– Очень рада, мой милый, – сказала она, протянув ему руку. – Милости прошу ко мне.
Поговорив о княжне Марье и покойнике ее отце, которого, видимо, не любила Мальвинцева, и расспросив о том, что Николай знал о князе Андрее, который тоже, видимо, не пользовался ее милостями, важная старуха отпустила его, повторив приглашение быть у нее.
Николай обещал и опять покраснел, когда откланивался Мальвинцевой. При упоминании о княжне Марье Ростов испытывал непонятное для него самого чувство застенчивости, даже страха.
Отходя от Мальвинцевой, Ростов хотел вернуться к танцам, но маленькая губернаторша положила свою пухленькую ручку на рукав Николая и, сказав, что ей нужно поговорить с ним, повела его в диванную, из которой бывшие в ней вышли тотчас же, чтобы не мешать губернаторше.
– Знаешь, mon cher, – сказала губернаторша с серьезным выражением маленького доброго лица, – вот это тебе точно партия; хочешь, я тебя сосватаю?
– Кого, ma tante? – спросил Николай.
– Княжну сосватаю. Катерина Петровна говорит, что Лили, а по моему, нет, – княжна. Хочешь? Я уверена, твоя maman благодарить будет. Право, какая девушка, прелесть! И она совсем не так дурна.
– Совсем нет, – как бы обидевшись, сказал Николай. – Я, ma tante, как следует солдату, никуда не напрашиваюсь и ни от чего не отказываюсь, – сказал Ростов прежде, чем он успел подумать о том, что он говорит.
– Так помни же: это не шутка.
– Какая шутка!
– Да, да, – как бы сама с собою говоря, сказала губернаторша. – А вот что еще, mon cher, entre autres. Vous etes trop assidu aupres de l'autre, la blonde. [мой друг. Ты слишком ухаживаешь за той, за белокурой.] Муж уж жалок, право…
– Ах нет, мы с ним друзья, – в простоте душевной сказал Николай: ему и в голову не приходило, чтобы такое веселое для него препровождение времени могло бы быть для кого нибудь не весело.
«Что я за глупость сказал, однако, губернаторше! – вдруг за ужином вспомнилось Николаю. – Она точно сватать начнет, а Соня?..» И, прощаясь с губернаторшей, когда она, улыбаясь, еще раз сказала ему: «Ну, так помни же», – он отвел ее в сторону:
– Но вот что, по правде вам сказать, ma tante…
– Что, что, мой друг; пойдем вот тут сядем.
Николай вдруг почувствовал желание и необходимость рассказать все свои задушевные мысли (такие, которые и не рассказал бы матери, сестре, другу) этой почти чужой женщине. Николаю потом, когда он вспоминал об этом порыве ничем не вызванной, необъяснимой откровенности, которая имела, однако, для него очень важные последствия, казалось (как это и кажется всегда людям), что так, глупый стих нашел; а между тем этот порыв откровенности, вместе с другими мелкими событиями, имел для него и для всей семьи огромные последствия.
– Вот что, ma tante. Maman меня давно женить хочет на богатой, но мне мысль одна эта противна, жениться из за денег.
– О да, понимаю, – сказала губернаторша.
– Но княжна Болконская, это другое дело; во первых, я вам правду скажу, она мне очень нравится, она по сердцу мне, и потом, после того как я ее встретил в таком положении, так странно, мне часто в голову приходило что это судьба. Особенно подумайте: maman давно об этом думала, но прежде мне ее не случалось встречать, как то все так случалось: не встречались. И во время, когда Наташа была невестой ее брата, ведь тогда мне бы нельзя было думать жениться на ней. Надо же, чтобы я ее встретил именно тогда, когда Наташина свадьба расстроилась, ну и потом всё… Да, вот что. Я никому не говорил этого и не скажу. А вам только.
Губернаторша пожала его благодарно за локоть.
– Вы знаете Софи, кузину? Я люблю ее, я обещал жениться и женюсь на ней… Поэтому вы видите, что про это не может быть и речи, – нескладно и краснея говорил Николай.
– Mon cher, mon cher, как же ты судишь? Да ведь у Софи ничего нет, а ты сам говорил, что дела твоего папа очень плохи. А твоя maman? Это убьет ее, раз. Потом Софи, ежели она девушка с сердцем, какая жизнь для нее будет? Мать в отчаянии, дела расстроены… Нет, mon cher, ты и Софи должны понять это.
Николай молчал. Ему приятно было слышать эти выводы.
– Все таки, ma tante, этого не может быть, – со вздохом сказал он, помолчав немного. – Да пойдет ли еще за меня княжна? и опять, она теперь в трауре. Разве можно об этом думать?
– Да разве ты думаешь, что я тебя сейчас и женю. Il y a maniere et maniere, [На все есть манера.] – сказала губернаторша.
– Какая вы сваха, ma tante… – сказал Nicolas, целуя ее пухлую ручку.
Приехав в Москву после своей встречи с Ростовым, княжна Марья нашла там своего племянника с гувернером и письмо от князя Андрея, который предписывал им их маршрут в Воронеж, к тетушке Мальвинцевой. Заботы о переезде, беспокойство о брате, устройство жизни в новом доме, новые лица, воспитание племянника – все это заглушило в душе княжны Марьи то чувство как будто искушения, которое мучило ее во время болезни и после кончины ее отца и в особенности после встречи с Ростовым. Она была печальна. Впечатление потери отца, соединявшееся в ее душе с погибелью России, теперь, после месяца, прошедшего с тех пор в условиях покойной жизни, все сильнее и сильнее чувствовалось ей. Она была тревожна: мысль об опасностях, которым подвергался ее брат – единственный близкий человек, оставшийся у нее, мучила ее беспрестанно. Она была озабочена воспитанием племянника, для которого она чувствовала себя постоянно неспособной; но в глубине души ее было согласие с самой собою, вытекавшее из сознания того, что она задавила в себе поднявшиеся было, связанные с появлением Ростова, личные мечтания и надежды.
Когда на другой день после своего вечера губернаторша приехала к Мальвинцевой и, переговорив с теткой о своих планах (сделав оговорку о том, что, хотя при теперешних обстоятельствах нельзя и думать о формальном сватовстве, все таки можно свести молодых людей, дать им узнать друг друга), и когда, получив одобрение тетки, губернаторша при княжне Марье заговорила о Ростове, хваля его и рассказывая, как он покраснел при упоминании о княжне, – княжна Марья испытала не радостное, но болезненное чувство: внутреннее согласие ее не существовало более, и опять поднялись желания, сомнения, упреки и надежды.
В те два дня, которые прошли со времени этого известия и до посещения Ростова, княжна Марья не переставая думала о том, как ей должно держать себя в отношении Ростова. То она решала, что она не выйдет в гостиную, когда он приедет к тетке, что ей, в ее глубоком трауре, неприлично принимать гостей; то она думала, что это будет грубо после того, что он сделал для нее; то ей приходило в голову, что ее тетка и губернаторша имеют какие то виды на нее и Ростова (их взгляды и слова иногда, казалось, подтверждали это предположение); то она говорила себе, что только она с своей порочностью могла думать это про них: не могли они не помнить, что в ее положении, когда еще она не сняла плерезы, такое сватовство было бы оскорбительно и ей, и памяти ее отца. Предполагая, что она выйдет к нему, княжна Марья придумывала те слова, которые он скажет ей и которые она скажет ему; и то слова эти казались ей незаслуженно холодными, то имеющими слишком большое значение. Больше же всего она при свидании с ним боялась за смущение, которое, она чувствовала, должно было овладеть ею и выдать ее, как скоро она его увидит.
Но когда, в воскресенье после обедни, лакей доложил в гостиной, что приехал граф Ростов, княжна не выказала смущения; только легкий румянец выступил ей на щеки, и глаза осветились новым, лучистым светом.
– Вы его видели, тетушка? – сказала княжна Марья спокойным голосом, сама не зная, как это она могла быть так наружно спокойна и естественна.
Когда Ростов вошел в комнату, княжна опустила на мгновенье голову, как бы предоставляя время гостю поздороваться с теткой, и потом, в самое то время, как Николай обратился к ней, она подняла голову и блестящими глазами встретила его взгляд. Полным достоинства и грации движением она с радостной улыбкой приподнялась, протянула ему свою тонкую, нежную руку и заговорила голосом, в котором в первый раз звучали новые, женские грудные звуки. M lle Bourienne, бывшая в гостиной, с недоумевающим удивлением смотрела на княжну Марью. Самая искусная кокетка, она сама не могла бы лучше маневрировать при встрече с человеком, которому надо было понравиться.
«Или ей черное так к лицу, или действительно она так похорошела, и я не заметила. И главное – этот такт и грация!» – думала m lle Bourienne.
Ежели бы княжна Марья в состоянии была думать в эту минуту, она еще более, чем m lle Bourienne, удивилась бы перемене, происшедшей в ней. С той минуты как она увидала это милое, любимое лицо, какая то новая сила жизни овладела ею и заставляла ее, помимо ее воли, говорить и действовать. Лицо ее, с того времени как вошел Ростов, вдруг преобразилось. Как вдруг с неожиданной поражающей красотой выступает на стенках расписного и резного фонаря та сложная искусная художественная работа, казавшаяся прежде грубою, темною и бессмысленною, когда зажигается свет внутри: так вдруг преобразилось лицо княжны Марьи. В первый раз вся та чистая духовная внутренняя работа, которою она жила до сих пор, выступила наружу. Вся ее внутренняя, недовольная собой работа, ее страдания, стремление к добру, покорность, любовь, самопожертвование – все это светилось теперь в этих лучистых глазах, в тонкой улыбке, в каждой черте ее нежного лица.
Ростов увидал все это так же ясно, как будто он знал всю ее жизнь. Он чувствовал, что существо, бывшее перед ним, было совсем другое, лучшее, чем все те, которые он встречал до сих пор, и лучшее, главное, чем он сам.
Разговор был самый простой и незначительный. Они говорили о войне, невольно, как и все, преувеличивая свою печаль об этом событии, говорили о последней встрече, причем Николай старался отклонять разговор на другой предмет, говорили о доброй губернаторше, о родных Николая и княжны Марьи.
Княжна Марья не говорила о брате, отвлекая разговор на другой предмет, как только тетка ее заговаривала об Андрее. Видно было, что о несчастиях России она могла говорить притворно, но брат ее был предмет, слишком близкий ее сердцу, и она не хотела и не могла слегка говорить о нем. Николай заметил это, как он вообще с несвойственной ему проницательной наблюдательностью замечал все оттенки характера княжны Марьи, которые все только подтверждали его убеждение, что она была совсем особенное и необыкновенное существо. Николай, точно так же, как и княжна Марья, краснел и смущался, когда ему говорили про княжну и даже когда он думал о ней, но в ее присутствии чувствовал себя совершенно свободным и говорил совсем не то, что он приготавливал, а то, что мгновенно и всегда кстати приходило ему в голову.
Во время короткого визита Николая, как и всегда, где есть дети, в минуту молчания Николай прибег к маленькому сыну князя Андрея, лаская его и спрашивая, хочет ли он быть гусаром? Он взял на руки мальчика, весело стал вертеть его и оглянулся на княжну Марью. Умиленный, счастливый и робкий взгляд следил за любимым ею мальчиком на руках любимого человека. Николай заметил и этот взгляд и, как бы поняв его значение, покраснел от удовольствия и добродушно весело стал целовать мальчика.
Княжна Марья не выезжала по случаю траура, а Николай не считал приличным бывать у них; но губернаторша все таки продолжала свое дело сватовства и, передав Николаю то лестное, что сказала про него княжна Марья, и обратно, настаивала на том, чтобы Ростов объяснился с княжной Марьей. Для этого объяснения она устроила свиданье между молодыми людьми у архиерея перед обедней.
Хотя Ростов и сказал губернаторше, что он не будет иметь никакого объяснения с княжной Марьей, но он обещался приехать.
Как в Тильзите Ростов не позволил себе усомниться в том, хорошо ли то, что признано всеми хорошим, точно так же и теперь, после короткой, но искренней борьбы между попыткой устроить свою жизнь по своему разуму и смиренным подчинением обстоятельствам, он выбрал последнее и предоставил себя той власти, которая его (он чувствовал) непреодолимо влекла куда то. Он знал, что, обещав Соне, высказать свои чувства княжне Марье было бы то, что он называл подлость. И он знал, что подлости никогда не сделает. Но он знал тоже (и не то, что знал, а в глубине души чувствовал), что, отдаваясь теперь во власть обстоятельств и людей, руководивших им, он не только не делает ничего дурного, но делает что то очень, очень важное, такое важное, чего он еще никогда не делал в жизни.
После его свиданья с княжной Марьей, хотя образ жизни его наружно оставался тот же, но все прежние удовольствия потеряли для него свою прелесть, и он часто думал о княжне Марье; но он никогда не думал о ней так, как он без исключения думал о всех барышнях, встречавшихся ему в свете, не так, как он долго и когда то с восторгом думал о Соне. О всех барышнях, как и почти всякий честный молодой человек, он думал как о будущей жене, примеривал в своем воображении к ним все условия супружеской жизни: белый капот, жена за самоваром, женина карета, ребятишки, maman и papa, их отношения с ней и т. д., и т. д., и эти представления будущего доставляли ему удовольствие; но когда он думал о княжне Марье, на которой его сватали, он никогда не мог ничего представить себе из будущей супружеской жизни. Ежели он и пытался, то все выходило нескладно и фальшиво. Ему только становилось жутко.
Страшное известие о Бородинском сражении, о наших потерях убитыми и ранеными, а еще более страшное известие о потере Москвы были получены в Воронеже в половине сентября. Княжна Марья, узнав только из газет о ране брата и не имея о нем никаких определенных сведений, собралась ехать отыскивать князя Андрея, как слышал Николай (сам же он не видал ее).
Получив известие о Бородинском сражении и об оставлении Москвы, Ростов не то чтобы испытывал отчаяние, злобу или месть и тому подобные чувства, но ему вдруг все стало скучно, досадно в Воронеже, все как то совестно и неловко. Ему казались притворными все разговоры, которые он слышал; он не знал, как судить про все это, и чувствовал, что только в полку все ему опять станет ясно. Он торопился окончанием покупки лошадей и часто несправедливо приходил в горячность с своим слугой и вахмистром.
Несколько дней перед отъездом Ростова в соборе было назначено молебствие по случаю победы, одержанной русскими войсками, и Николай поехал к обедне. Он стал несколько позади губернатора и с служебной степенностью, размышляя о самых разнообразных предметах, выстоял службу. Когда молебствие кончилось, губернаторша подозвала его к себе.
– Ты видел княжну? – сказала она, головой указывая на даму в черном, стоявшую за клиросом.
Николай тотчас же узнал княжну Марью не столько по профилю ее, который виднелся из под шляпы, сколько по тому чувству осторожности, страха и жалости, которое тотчас же охватило его. Княжна Марья, очевидно погруженная в свои мысли, делала последние кресты перед выходом из церкви.
Николай с удивлением смотрел на ее лицо. Это было то же лицо, которое он видел прежде, то же было в нем общее выражение тонкой, внутренней, духовной работы; но теперь оно было совершенно иначе освещено. Трогательное выражение печали, мольбы и надежды было на нем. Как и прежде бывало с Николаем в ее присутствии, он, не дожидаясь совета губернаторши подойти к ней, не спрашивая себя, хорошо ли, прилично ли или нет будет его обращение к ней здесь, в церкви, подошел к ней и сказал, что он слышал о ее горе и всей душой соболезнует ему. Едва только она услыхала его голос, как вдруг яркий свет загорелся в ее лице, освещая в одно и то же время и печаль ее, и радость.
– Я одно хотел вам сказать, княжна, – сказал Ростов, – это то, что ежели бы князь Андрей Николаевич не был бы жив, то, как полковой командир, в газетах это сейчас было бы объявлено.
Княжна смотрела на него, не понимая его слов, но радуясь выражению сочувствующего страдания, которое было в его лице.
– И я столько примеров знаю, что рана осколком (в газетах сказано гранатой) бывает или смертельна сейчас же, или, напротив, очень легкая, – говорил Николай. – Надо надеяться на лучшее, и я уверен…
Княжна Марья перебила его.
– О, это было бы так ужа… – начала она и, не договорив от волнения, грациозным движением (как и все, что она делала при нем) наклонив голову и благодарно взглянув на него, пошла за теткой.
Вечером этого дня Николай никуда не поехал в гости и остался дома, с тем чтобы покончить некоторые счеты с продавцами лошадей. Когда он покончил дела, было уже поздно, чтобы ехать куда нибудь, но было еще рано, чтобы ложиться спать, и Николай долго один ходил взад и вперед по комнате, обдумывая свою жизнь, что с ним редко случалось.
Княжна Марья произвела на него приятное впечатление под Смоленском. То, что он встретил ее тогда в таких особенных условиях, и то, что именно на нее одно время его мать указывала ему как на богатую партию, сделали то, что он обратил на нее особенное внимание. В Воронеже, во время его посещения, впечатление это было не только приятное, но сильное. Николай был поражен той особенной, нравственной красотой, которую он в этот раз заметил в ней. Однако он собирался уезжать, и ему в голову не приходило пожалеть о том, что уезжая из Воронежа, он лишается случая видеть княжну. Но нынешняя встреча с княжной Марьей в церкви (Николай чувствовал это) засела ему глубже в сердце, чем он это предвидел, и глубже, чем он желал для своего спокойствия. Это бледное, тонкое, печальное лицо, этот лучистый взгляд, эти тихие, грациозные движения и главное – эта глубокая и нежная печаль, выражавшаяся во всех чертах ее, тревожили его и требовали его участия. В мужчинах Ростов терпеть не мог видеть выражение высшей, духовной жизни (оттого он не любил князя Андрея), он презрительно называл это философией, мечтательностью; но в княжне Марье, именно в этой печали, выказывавшей всю глубину этого чуждого для Николая духовного мира, он чувствовал неотразимую привлекательность.
«Чудная должна быть девушка! Вот именно ангел! – говорил он сам с собою. – Отчего я не свободен, отчего я поторопился с Соней?» И невольно ему представилось сравнение между двумя: бедность в одной и богатство в другой тех духовных даров, которых не имел Николай и которые потому он так высоко ценил. Он попробовал себе представить, что бы было, если б он был свободен. Каким образом он сделал бы ей предложение и она стала бы его женою? Нет, он не мог себе представить этого. Ему делалось жутко, и никакие ясные образы не представлялись ему. С Соней он давно уже составил себе будущую картину, и все это было просто и ясно, именно потому, что все это было выдумано, и он знал все, что было в Соне; но с княжной Марьей нельзя было себе представить будущей жизни, потому что он не понимал ее, а только любил.
Мечтания о Соне имели в себе что то веселое, игрушечное. Но думать о княжне Марье всегда было трудно и немного страшно.
«Как она молилась! – вспомнил он. – Видно было, что вся душа ее была в молитве. Да, это та молитва, которая сдвигает горы, и я уверен, что молитва ее будет исполнена. Отчего я не молюсь о том, что мне нужно? – вспомнил он. – Что мне нужно? Свободы, развязки с Соней. Она правду говорила, – вспомнил он слова губернаторши, – кроме несчастья, ничего не будет из того, что я женюсь на ней. Путаница, горе maman… дела… путаница, страшная путаница! Да я и не люблю ее. Да, не так люблю, как надо. Боже мой! выведи меня из этого ужасного, безвыходного положения! – начал он вдруг молиться. – Да, молитва сдвинет гору, но надо верить и не так молиться, как мы детьми молились с Наташей о том, чтобы снег сделался сахаром, и выбегали на двор пробовать, делается ли из снегу сахар. Нет, но я не о пустяках молюсь теперь», – сказал он, ставя в угол трубку и, сложив руки, становясь перед образом. И, умиленный воспоминанием о княжне Марье, он начал молиться так, как он давно не молился. Слезы у него были на глазах и в горле, когда в дверь вошел Лаврушка с какими то бумагами.
– Дурак! что лезешь, когда тебя не спрашивают! – сказал Николай, быстро переменяя положение.
– От губернатора, – заспанным голосом сказал Лаврушка, – кульер приехал, письмо вам.
– Ну, хорошо, спасибо, ступай!
Николай взял два письма. Одно было от матери, другое от Сони. Он узнал их по почеркам и распечатал первое письмо Сони. Не успел он прочесть нескольких строк, как лицо его побледнело и глаза его испуганно и радостно раскрылись.
– Нет, это не может быть! – проговорил он вслух. Не в силах сидеть на месте, он с письмом в руках, читая его. стал ходить по комнате. Он пробежал письмо, потом прочел его раз, другой, и, подняв плечи и разведя руками, он остановился посреди комнаты с открытым ртом и остановившимися глазами. То, о чем он только что молился, с уверенностью, что бог исполнит его молитву, было исполнено; но Николай был удивлен этим так, как будто это было что то необыкновенное, и как будто он никогда не ожидал этого, и как будто именно то, что это так быстро совершилось, доказывало то, что это происходило не от бога, которого он просил, а от обыкновенной случайности.
Тот, казавшийся неразрешимым, узел, который связывал свободу Ростова, был разрешен этим неожиданным (как казалось Николаю), ничем не вызванным письмом Сони. Она писала, что последние несчастные обстоятельства, потеря почти всего имущества Ростовых в Москве, и не раз высказываемые желания графини о том, чтобы Николай женился на княжне Болконской, и его молчание и холодность за последнее время – все это вместе заставило ее решиться отречься от его обещаний и дать ему полную свободу.
«Мне слишком тяжело было думать, что я могу быть причиной горя или раздора в семействе, которое меня облагодетельствовало, – писала она, – и любовь моя имеет одною целью счастье тех, кого я люблю; и потому я умоляю вас, Nicolas, считать себя свободным и знать, что несмотря ни на что, никто сильнее не может вас любить, как ваша Соня».
Оба письма были из Троицы. Другое письмо было от графини. В письме этом описывались последние дни в Москве, выезд, пожар и погибель всего состояния. В письме этом, между прочим, графиня писала о том, что князь Андрей в числе раненых ехал вместе с ними. Положение его было очень опасно, но теперь доктор говорит, что есть больше надежды. Соня и Наташа, как сиделки, ухаживают за ним.
С этим письмом на другой день Николай поехал к княжне Марье. Ни Николай, ни княжна Марья ни слова не сказали о том, что могли означать слова: «Наташа ухаживает за ним»; но благодаря этому письму Николай вдруг сблизился с княжной в почти родственные отношения.
На другой день Ростов проводил княжну Марью в Ярославль и через несколько дней сам уехал в полк.
Письмо Сони к Николаю, бывшее осуществлением его молитвы, было написано из Троицы. Вот чем оно было вызвано. Мысль о женитьбе Николая на богатой невесте все больше и больше занимала старую графиню. Она знала, что Соня была главным препятствием для этого. И жизнь Сони последнее время, в особенности после письма Николая, описывавшего свою встречу в Богучарове с княжной Марьей, становилась тяжелее и тяжелее в доме графини. Графиня не пропускала ни одного случая для оскорбительного или жестокого намека Соне.
Но несколько дней перед выездом из Москвы, растроганная и взволнованная всем тем, что происходило, графиня, призвав к себе Соню, вместо упреков и требований, со слезами обратилась к ней с мольбой о том, чтобы она, пожертвовав собою, отплатила бы за все, что было для нее сделано, тем, чтобы разорвала свои связи с Николаем.
– Я не буду покойна до тех пор, пока ты мне не дашь этого обещания.
Соня разрыдалась истерически, отвечала сквозь рыдания, что она сделает все, что она на все готова, но не дала прямого обещания и в душе своей не могла решиться на то, чего от нее требовали. Надо было жертвовать собой для счастья семьи, которая вскормила и воспитала ее. Жертвовать собой для счастья других было привычкой Сони. Ее положение в доме было таково, что только на пути жертвованья она могла выказывать свои достоинства, и она привыкла и любила жертвовать собой. Но прежде во всех действиях самопожертвованья она с радостью сознавала, что она, жертвуя собой, этим самым возвышает себе цену в глазах себя и других и становится более достойною Nicolas, которого она любила больше всего в жизни; но теперь жертва ее должна была состоять в том, чтобы отказаться от того, что для нее составляло всю награду жертвы, весь смысл жизни. И в первый раз в жизни она почувствовала горечь к тем людям, которые облагодетельствовали ее для того, чтобы больнее замучить; почувствовала зависть к Наташе, никогда не испытывавшей ничего подобного, никогда не нуждавшейся в жертвах и заставлявшей других жертвовать себе и все таки всеми любимой. И в первый раз Соня почувствовала, как из ее тихой, чистой любви к Nicolas вдруг начинало вырастать страстное чувство, которое стояло выше и правил, и добродетели, и религии; и под влиянием этого чувства Соня невольно, выученная своею зависимою жизнью скрытности, в общих неопределенных словах ответив графине, избегала с ней разговоров и решилась ждать свидания с Николаем с тем, чтобы в этом свидании не освободить, но, напротив, навсегда связать себя с ним.
Хлопоты и ужас последних дней пребывания Ростовых в Москве заглушили в Соне тяготившие ее мрачные мысли. Она рада была находить спасение от них в практической деятельности. Но когда она узнала о присутствии в их доме князя Андрея, несмотря на всю искреннюю жалость, которую она испытала к нему и к Наташе, радостное и суеверное чувство того, что бог не хочет того, чтобы она была разлучена с Nicolas, охватило ее. Она знала, что Наташа любила одного князя Андрея и не переставала любить его. Она знала, что теперь, сведенные вместе в таких страшных условиях, они снова полюбят друг друга и что тогда Николаю вследствие родства, которое будет между ними, нельзя будет жениться на княжне Марье. Несмотря на весь ужас всего происходившего в последние дни и во время первых дней путешествия, это чувство, это сознание вмешательства провидения в ее личные дела радовало Соню.
В Троицкой лавре Ростовы сделали первую дневку в своем путешествии.
В гостинице лавры Ростовым были отведены три большие комнаты, из которых одну занимал князь Андрей. Раненому было в этот день гораздо лучше. Наташа сидела с ним. В соседней комнате сидели граф и графиня, почтительно беседуя с настоятелем, посетившим своих давнишних знакомых и вкладчиков. Соня сидела тут же, и ее мучило любопытство о том, о чем говорили князь Андрей с Наташей. Она из за двери слушала звуки их голосов. Дверь комнаты князя Андрея отворилась. Наташа с взволнованным лицом вышла оттуда и, не замечая приподнявшегося ей навстречу и взявшегося за широкий рукав правой руки монаха, подошла к Соне и взяла ее за руку.
– Наташа, что ты? Поди сюда, – сказала графиня.
Наташа подошла под благословенье, и настоятель посоветовал обратиться за помощью к богу и его угоднику.
Тотчас после ухода настоятеля Нашата взяла за руку свою подругу и пошла с ней в пустую комнату.
– Соня, да? он будет жив? – сказала она. – Соня, как я счастлива и как я несчастна! Соня, голубчик, – все по старому. Только бы он был жив. Он не может… потому что, потому… что… – И Наташа расплакалась.
– Так! Я знала это! Слава богу, – проговорила Соня. – Он будет жив!
Соня была взволнована не меньше своей подруги – и ее страхом и горем, и своими личными, никому не высказанными мыслями. Она, рыдая, целовала, утешала Наташу. «Только бы он был жив!» – думала она. Поплакав, поговорив и отерев слезы, обе подруги подошли к двери князя Андрея. Наташа, осторожно отворив двери, заглянула в комнату. Соня рядом с ней стояла у полуотворенной двери.
Князь Андрей лежал высоко на трех подушках. Бледное лицо его было покойно, глаза закрыты, и видно было, как он ровно дышал.
– Ах, Наташа! – вдруг почти вскрикнула Соня, хватаясь за руку своей кузины и отступая от двери.
– Что? что? – спросила Наташа.
– Это то, то, вот… – сказала Соня с бледным лицом и дрожащими губами.
Наташа тихо затворила дверь и отошла с Соней к окну, не понимая еще того, что ей говорили.
– Помнишь ты, – с испуганным и торжественным лицом говорила Соня, – помнишь, когда я за тебя в зеркало смотрела… В Отрадном, на святках… Помнишь, что я видела?..
– Да, да! – широко раскрывая глаза, сказала Наташа, смутно вспоминая, что тогда Соня сказала что то о князе Андрее, которого она видела лежащим.
– Помнишь? – продолжала Соня. – Я видела тогда и сказала всем, и тебе, и Дуняше. Я видела, что он лежит на постели, – говорила она, при каждой подробности делая жест рукою с поднятым пальцем, – и что он закрыл глаза, и что он покрыт именно розовым одеялом, и что он сложил руки, – говорила Соня, убеждаясь, по мере того как она описывала виденные ею сейчас подробности, что эти самые подробности она видела тогда. Тогда она ничего не видела, но рассказала, что видела то, что ей пришло в голову; но то, что она придумала тогда, представлялось ей столь же действительным, как и всякое другое воспоминание. То, что она тогда сказала, что он оглянулся на нее и улыбнулся и был покрыт чем то красным, она не только помнила, но твердо была убеждена, что еще тогда она сказала и видела, что он был покрыт розовым, именно розовым одеялом, и что глаза его были закрыты.
– Да, да, именно розовым, – сказала Наташа, которая тоже теперь, казалось, помнила, что было сказано розовым, и в этом самом видела главную необычайность и таинственность предсказания.
– Но что же это значит? – задумчиво сказала Наташа.
– Ах, я не знаю, как все это необычайно! – сказала Соня, хватаясь за голову.
Через несколько минут князь Андрей позвонил, и Наташа вошла к нему; а Соня, испытывая редко испытанное ею волнение и умиление, осталась у окна, обдумывая всю необычайность случившегося.
В этот день был случай отправить письма в армию, и графиня писала письмо сыну.
– Соня, – сказала графиня, поднимая голову от письма, когда племянница проходила мимо нее. – Соня, ты не напишешь Николеньке? – сказала графиня тихим, дрогнувшим голосом, и во взгляде ее усталых, смотревших через очки глаз Соня прочла все, что разумела графиня этими словами. В этом взгляде выражались и мольба, и страх отказа, и стыд за то, что надо было просить, и готовность на непримиримую ненависть в случае отказа.
Соня подошла к графине и, став на колени, поцеловала ее руку.
– Я напишу, maman, – сказала она.
Соня была размягчена, взволнована и умилена всем тем, что происходило в этот день, в особенности тем таинственным совершением гаданья, которое она сейчас видела. Теперь, когда она знала, что по случаю возобновления отношений Наташи с князем Андреем Николай не мог жениться на княжне Марье, она с радостью почувствовала возвращение того настроения самопожертвования, в котором она любила и привыкла жить. И со слезами на глазах и с радостью сознания совершения великодушного поступка она, несколько раз прерываясь от слез, которые отуманивали ее бархатные черные глаза, написала то трогательное письмо, получение которого так поразило Николая.
На гауптвахте, куда был отведен Пьер, офицер и солдаты, взявшие его, обращались с ним враждебно, но вместе с тем и уважительно. Еще чувствовалось в их отношении к нему и сомнение о том, кто он такой (не очень ли важный человек), и враждебность вследствие еще свежей их личной борьбы с ним.
Но когда, в утро другого дня, пришла смена, то Пьер почувствовал, что для нового караула – для офицеров и солдат – он уже не имел того смысла, который имел для тех, которые его взяли. И действительно, в этом большом, толстом человеке в мужицком кафтане караульные другого дня уже не видели того живого человека, который так отчаянно дрался с мародером и с конвойными солдатами и сказал торжественную фразу о спасении ребенка, а видели только семнадцатого из содержащихся зачем то, по приказанию высшего начальства, взятых русских. Ежели и было что нибудь особенное в Пьере, то только его неробкий, сосредоточенно задумчивый вид и французский язык, на котором он, удивительно для французов, хорошо изъяснялся. Несмотря на то, в тот же день Пьера соединили с другими взятыми подозрительными, так как отдельная комната, которую он занимал, понадобилась офицеру.
Все русские, содержавшиеся с Пьером, были люди самого низкого звания. И все они, узнав в Пьере барина, чуждались его, тем более что он говорил по французски. Пьер с грустью слышал над собою насмешки.
На другой день вечером Пьер узнал, что все эти содержащиеся (и, вероятно, он в том же числе) должны были быть судимы за поджигательство. На третий день Пьера водили с другими в какой то дом, где сидели французский генерал с белыми усами, два полковника и другие французы с шарфами на руках. Пьеру, наравне с другими, делали с той, мнимо превышающею человеческие слабости, точностью и определительностью, с которой обыкновенно обращаются с подсудимыми, вопросы о том, кто он? где он был? с какою целью? и т. п.
Вопросы эти, оставляя в стороне сущность жизненного дела и исключая возможность раскрытия этой сущности, как и все вопросы, делаемые на судах, имели целью только подставление того желобка, по которому судящие желали, чтобы потекли ответы подсудимого и привели его к желаемой цели, то есть к обвинению. Как только он начинал говорить что нибудь такое, что не удовлетворяло цели обвинения, так принимали желобок, и вода могла течь куда ей угодно. Кроме того, Пьер испытал то же, что во всех судах испытывает подсудимый: недоумение, для чего делали ему все эти вопросы. Ему чувствовалось, что только из снисходительности или как бы из учтивости употреблялась эта уловка подставляемого желобка. Он знал, что находился во власти этих людей, что только власть привела его сюда, что только власть давала им право требовать ответы на вопросы, что единственная цель этого собрания состояла в том, чтоб обвинить его. И поэтому, так как была власть и было желание обвинить, то не нужно было и уловки вопросов и суда. Очевидно было, что все ответы должны были привести к виновности. На вопрос, что он делал, когда его взяли, Пьер отвечал с некоторою трагичностью, что он нес к родителям ребенка, qu'il avait sauve des flammes [которого он спас из пламени]. – Для чего он дрался с мародером? Пьер отвечал, что он защищал женщину, что защита оскорбляемой женщины есть обязанность каждого человека, что… Его остановили: это не шло к делу. Для чего он был на дворе загоревшегося дома, на котором его видели свидетели? Он отвечал, что шел посмотреть, что делалось в Москве. Его опять остановили: у него не спрашивали, куда он шел, а для чего он находился подле пожара? Кто он? повторили ему первый вопрос, на который он сказал, что не хочет отвечать. Опять он отвечал, что не может сказать этого.
– Запишите, это нехорошо. Очень нехорошо, – строго сказал ему генерал с белыми усами и красным, румяным лицом.
На четвертый день пожары начались на Зубовском валу.
Пьера с тринадцатью другими отвели на Крымский Брод, в каретный сарай купеческого дома. Проходя по улицам, Пьер задыхался от дыма, который, казалось, стоял над всем городом. С разных сторон виднелись пожары. Пьер тогда еще не понимал значения сожженной Москвы и с ужасом смотрел на эти пожары.
В каретном сарае одного дома у Крымского Брода Пьер пробыл еще четыре дня и во время этих дней из разговора французских солдат узнал, что все содержащиеся здесь ожидали с каждым днем решения маршала. Какого маршала, Пьер не мог узнать от солдат. Для солдата, очевидно, маршал представлялся высшим и несколько таинственным звеном власти.
Эти первые дни, до 8 го сентября, – дня, в который пленных повели на вторичный допрос, были самые тяжелые для Пьера.
Х
8 го сентября в сарай к пленным вошел очень важный офицер, судя по почтительности, с которой с ним обращались караульные. Офицер этот, вероятно, штабный, с списком в руках, сделал перекличку всем русским, назвав Пьера: celui qui n'avoue pas son nom [тот, который не говорит своего имени]. И, равнодушно и лениво оглядев всех пленных, он приказал караульному офицеру прилично одеть и прибрать их, прежде чем вести к маршалу. Через час прибыла рота солдат, и Пьера с другими тринадцатью повели на Девичье поле. День был ясный, солнечный после дождя, и воздух был необыкновенно чист. Дым не стлался низом, как в тот день, когда Пьера вывели из гауптвахты Зубовского вала; дым поднимался столбами в чистом воздухе. Огня пожаров нигде не было видно, но со всех сторон поднимались столбы дыма, и вся Москва, все, что только мог видеть Пьер, было одно пожарище. Со всех сторон виднелись пустыри с печами и трубами и изредка обгорелые стены каменных домов. Пьер приглядывался к пожарищам и не узнавал знакомых кварталов города. Кое где виднелись уцелевшие церкви. Кремль, неразрушенный, белел издалека с своими башнями и Иваном Великим. Вблизи весело блестел купол Ново Девичьего монастыря, и особенно звонко слышался оттуда благовест. Благовест этот напомнил Пьеру, что было воскресенье и праздник рождества богородицы. Но казалось, некому было праздновать этот праздник: везде было разоренье пожарища, и из русского народа встречались только изредка оборванные, испуганные люди, которые прятались при виде французов.
Очевидно, русское гнездо было разорено и уничтожено; но за уничтожением этого русского порядка жизни Пьер бессознательно чувствовал, что над этим разоренным гнездом установился свой, совсем другой, но твердый французский порядок. Он чувствовал это по виду тех, бодро и весело, правильными рядами шедших солдат, которые конвоировали его с другими преступниками; он чувствовал это по виду какого то важного французского чиновника в парной коляске, управляемой солдатом, проехавшего ему навстречу. Он это чувствовал по веселым звукам полковой музыки, доносившимся с левой стороны поля, и в особенности он чувствовал и понимал это по тому списку, который, перекликая пленных, прочел нынче утром приезжавший французский офицер. Пьер был взят одними солдатами, отведен в одно, в другое место с десятками других людей; казалось, они могли бы забыть про него, смешать его с другими. Но нет: ответы его, данные на допросе, вернулись к нему в форме наименования его: celui qui n'avoue pas son nom. И под этим названием, которое страшно было Пьеру, его теперь вели куда то, с несомненной уверенностью, написанною на их лицах, что все остальные пленные и он были те самые, которых нужно, и что их ведут туда, куда нужно. Пьер чувствовал себя ничтожной щепкой, попавшей в колеса неизвестной ему, но правильно действующей машины.
Пьера с другими преступниками привели на правую сторону Девичьего поля, недалеко от монастыря, к большому белому дому с огромным садом. Это был дом князя Щербатова, в котором Пьер часто прежде бывал у хозяина и в котором теперь, как он узнал из разговора солдат, стоял маршал, герцог Экмюльский.
Их подвели к крыльцу и по одному стали вводить в дом. Пьера ввели шестым. Через стеклянную галерею, сени, переднюю, знакомые Пьеру, его ввели в длинный низкий кабинет, у дверей которого стоял адъютант.
Даву сидел на конце комнаты над столом, с очками на носу. Пьер близко подошел к нему. Даву, не поднимая глаз, видимо справлялся с какой то бумагой, лежавшей перед ним. Не поднимая же глаз, он тихо спросил:
– Qui etes vous? [Кто вы такой?]
Пьер молчал оттого, что не в силах был выговорить слова. Даву для Пьера не был просто французский генерал; для Пьера Даву был известный своей жестокостью человек. Глядя на холодное лицо Даву, который, как строгий учитель, соглашался до времени иметь терпение и ждать ответа, Пьер чувствовал, что всякая секунда промедления могла стоить ему жизни; но он не знал, что сказать. Сказать то же, что он говорил на первом допросе, он не решался; открыть свое звание и положение было и опасно и стыдно. Пьер молчал. Но прежде чем Пьер успел на что нибудь решиться, Даву приподнял голову, приподнял очки на лоб, прищурил глаза и пристально посмотрел на Пьера.
– Я знаю этого человека, – мерным, холодным голосом, очевидно рассчитанным для того, чтобы испугать Пьера, сказал он. Холод, пробежавший прежде по спине Пьера, охватил его голову, как тисками.
– Mon general, vous ne pouvez pas me connaitre, je ne vous ai jamais vu… [Вы не могли меня знать, генерал, я никогда не видал вас.]
– C'est un espion russe, [Это русский шпион,] – перебил его Даву, обращаясь к другому генералу, бывшему в комнате и которого не заметил Пьер. И Даву отвернулся. С неожиданным раскатом в голосе Пьер вдруг быстро заговорил.
– Non, Monseigneur, – сказал он, неожиданно вспомнив, что Даву был герцог. – Non, Monseigneur, vous n'avez pas pu me connaitre. Je suis un officier militionnaire et je n'ai pas quitte Moscou. [Нет, ваше высочество… Нет, ваше высочество, вы не могли меня знать. Я офицер милиции, и я не выезжал из Москвы.]
– Votre nom? [Ваше имя?] – повторил Даву.
– Besouhof. [Безухов.]
– Qu'est ce qui me prouvera que vous ne mentez pas? [Кто мне докажет, что вы не лжете?]
– Monseigneur! [Ваше высочество!] – вскрикнул Пьер не обиженным, но умоляющим голосом.
Даву поднял глаза и пристально посмотрел на Пьера. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и этот взгляд спас Пьера. В этом взгляде, помимо всех условий войны и суда, между этими двумя людьми установились человеческие отношения. Оба они в эту одну минуту смутно перечувствовали бесчисленное количество вещей и поняли, что они оба дети человечества, что они братья.
В первом взгляде для Даву, приподнявшего только голову от своего списка, где людские дела и жизнь назывались нумерами, Пьер был только обстоятельство; и, не взяв на совесть дурного поступка, Даву застрелил бы его; но теперь уже он видел в нем человека. Он задумался на мгновение.
– Comment me prouverez vous la verite de ce que vous me dites? [Чем вы докажете мне справедливость ваших слов?] – сказал Даву холодно.
Пьер вспомнил Рамбаля и назвал его полк, и фамилию, и улицу, на которой был дом.
– Vous n'etes pas ce que vous dites, [Вы не то, что вы говорите.] – опять сказал Даву.
Пьер дрожащим, прерывающимся голосом стал приводить доказательства справедливости своего показания.
Но в это время вошел адъютант и что то доложил Даву.
Даву вдруг просиял при известии, сообщенном адъютантом, и стал застегиваться. Он, видимо, совсем забыл о Пьере.
Когда адъютант напомнил ему о пленном, он, нахмурившись, кивнул в сторону Пьера и сказал, чтобы его вели. Но куда должны были его вести – Пьер не знал: назад в балаган или на приготовленное место казни, которое, проходя по Девичьему полю, ему показывали товарищи.
Он обернул голову и видел, что адъютант переспрашивал что то.
– Oui, sans doute! [Да, разумеется!] – сказал Даву, но что «да», Пьер не знал.
Пьер не помнил, как, долго ли он шел и куда. Он, в состоянии совершенного бессмыслия и отупления, ничего не видя вокруг себя, передвигал ногами вместе с другими до тех пор, пока все остановились, и он остановился. Одна мысль за все это время была в голове Пьера. Это была мысль о том: кто, кто же, наконец, приговорил его к казни. Это были не те люди, которые допрашивали его в комиссии: из них ни один не хотел и, очевидно, не мог этого сделать. Это был не Даву, который так человечески посмотрел на него. Еще бы одна минута, и Даву понял бы, что они делают дурно, но этой минуте помешал адъютант, который вошел. И адъютант этот, очевидно, не хотел ничего худого, но он мог бы не войти. Кто же это, наконец, казнил, убивал, лишал жизни его – Пьера со всеми его воспоминаниями, стремлениями, надеждами, мыслями? Кто делал это? И Пьер чувствовал, что это был никто.
Это был порядок, склад обстоятельств.
Порядок какой то убивал его – Пьера, лишал его жизни, всего, уничтожал его.
От дома князя Щербатова пленных повели прямо вниз по Девичьему полю, левее Девичьего монастыря и подвели к огороду, на котором стоял столб. За столбом была вырыта большая яма с свежевыкопанной землей, и около ямы и столба полукругом стояла большая толпа народа. Толпа состояла из малого числа русских и большого числа наполеоновских войск вне строя: немцев, итальянцев и французов в разнородных мундирах. Справа и слева столба стояли фронты французских войск в синих мундирах с красными эполетами, в штиблетах и киверах.
Преступников расставили по известному порядку, который был в списке (Пьер стоял шестым), и подвели к столбу. Несколько барабанов вдруг ударили с двух сторон, и Пьер почувствовал, что с этим звуком как будто оторвалась часть его души. Он потерял способность думать и соображать. Он только мог видеть и слышать. И только одно желание было у него – желание, чтобы поскорее сделалось что то страшное, что должно было быть сделано. Пьер оглядывался на своих товарищей и рассматривал их.
Два человека с края были бритые острожные. Один высокий, худой; другой черный, мохнатый, мускулистый, с приплюснутым носом. Третий был дворовый, лет сорока пяти, с седеющими волосами и полным, хорошо откормленным телом. Четвертый был мужик, очень красивый, с окладистой русой бородой и черными глазами. Пятый был фабричный, желтый, худой малый, лет восемнадцати, в халате.
Пьер слышал, что французы совещались, как стрелять – по одному или по два? «По два», – холодно спокойно отвечал старший офицер. Сделалось передвижение в рядах солдат, и заметно было, что все торопились, – и торопились не так, как торопятся, чтобы сделать понятное для всех дело, но так, как торопятся, чтобы окончить необходимое, но неприятное и непостижимое дело.
Чиновник француз в шарфе подошел к правой стороне шеренги преступников в прочел по русски и по французски приговор.
Потом две пары французов подошли к преступникам и взяли, по указанию офицера, двух острожных, стоявших с края. Острожные, подойдя к столбу, остановились и, пока принесли мешки, молча смотрели вокруг себя, как смотрит подбитый зверь на подходящего охотника. Один все крестился, другой чесал спину и делал губами движение, подобное улыбке. Солдаты, торопясь руками, стали завязывать им глаза, надевать мешки и привязывать к столбу.
Двенадцать человек стрелков с ружьями мерным, твердым шагом вышли из за рядов и остановились в восьми шагах от столба. Пьер отвернулся, чтобы не видать того, что будет. Вдруг послышался треск и грохот, показавшиеся Пьеру громче самых страшных ударов грома, и он оглянулся. Был дым, и французы с бледными лицами и дрожащими руками что то делали у ямы. Повели других двух. Так же, такими же глазами и эти двое смотрели на всех, тщетно, одними глазами, молча, прося защиты и, видимо, не понимая и не веря тому, что будет. Они не могли верить, потому что они одни знали, что такое была для них их жизнь, и потому не понимали и не верили, чтобы можно было отнять ее.
Пьер хотел не смотреть и опять отвернулся; но опять как будто ужасный взрыв поразил его слух, и вместе с этими звуками он увидал дым, чью то кровь и бледные испуганные лица французов, опять что то делавших у столба, дрожащими руками толкая друг друга. Пьер, тяжело дыша, оглядывался вокруг себя, как будто спрашивая: что это такое? Тот же вопрос был и во всех взглядах, которые встречались со взглядом Пьера.
На всех лицах русских, на лицах французских солдат, офицеров, всех без исключения, он читал такой же испуг, ужас и борьбу, какие были в его сердце. «Да кто жо это делает наконец? Они все страдают так же, как и я. Кто же? Кто же?» – на секунду блеснуло в душе Пьера.
– Tirailleurs du 86 me, en avant! [Стрелки 86 го, вперед!] – прокричал кто то. Повели пятого, стоявшего рядом с Пьером, – одного. Пьер не понял того, что он спасен, что он и все остальные были приведены сюда только для присутствия при казни. Он со все возраставшим ужасом, не ощущая ни радости, ни успокоения, смотрел на то, что делалось. Пятый был фабричный в халате. Только что до него дотронулись, как он в ужасе отпрыгнул и схватился за Пьера (Пьер вздрогнул и оторвался от него). Фабричный не мог идти. Его тащили под мышки, и он что то кричал. Когда его подвели к столбу, он вдруг замолк. Он как будто вдруг что то понял. То ли он понял, что напрасно кричать, или то, что невозможно, чтобы его убили люди, но он стал у столба, ожидая повязки вместе с другими и, как подстреленный зверь, оглядываясь вокруг себя блестящими глазами.
Пьер уже не мог взять на себя отвернуться и закрыть глаза. Любопытство и волнение его и всей толпы при этом пятом убийстве дошло до высшей степени. Так же как и другие, этот пятый казался спокоен: он запахивал халат и почесывал одной босой ногой о другую.
Когда ему стали завязывать глаза, он поправил сам узел на затылке, который резал ему; потом, когда прислонили его к окровавленному столбу, он завалился назад, и, так как ему в этом положении было неловко, он поправился и, ровно поставив ноги, покойно прислонился. Пьер не сводил с него глаз, не упуская ни малейшего движения.
Должно быть, послышалась команда, должно быть, после команды раздались выстрелы восьми ружей. Но Пьер, сколько он ни старался вспомнить потом, не слыхал ни малейшего звука от выстрелов. Он видел только, как почему то вдруг опустился на веревках фабричный, как показалась кровь в двух местах и как самые веревки, от тяжести повисшего тела, распустились и фабричный, неестественно опустив голову и подвернув ногу, сел. Пьер подбежал к столбу. Никто не удерживал его. Вокруг фабричного что то делали испуганные, бледные люди. У одного старого усатого француза тряслась нижняя челюсть, когда он отвязывал веревки. Тело спустилось. Солдаты неловко и торопливо потащили его за столб и стали сталкивать в яму.
Все, очевидно, несомненно знали, что они были преступники, которым надо было скорее скрыть следы своего преступления.
Пьер заглянул в яму и увидел, что фабричный лежал там коленами кверху, близко к голове, одно плечо выше другого. И это плечо судорожно, равномерно опускалось и поднималось. Но уже лопатины земли сыпались на все тело. Один из солдат сердито, злобно и болезненно крикнул на Пьера, чтобы он вернулся. Но Пьер не понял его и стоял у столба, и никто не отгонял его.
Когда уже яма была вся засыпана, послышалась команда. Пьера отвели на его место, и французские войска, стоявшие фронтами по обеим сторонам столба, сделали полуоборот и стали проходить мерным шагом мимо столба. Двадцать четыре человека стрелков с разряженными ружьями, стоявшие в середине круга, примыкали бегом к своим местам, в то время как роты проходили мимо них.
Пьер смотрел теперь бессмысленными глазами на этих стрелков, которые попарно выбегали из круга. Все, кроме одного, присоединились к ротам. Молодой солдат с мертво бледным лицом, в кивере, свалившемся назад, спустив ружье, все еще стоял против ямы на том месте, с которого он стрелял. Он, как пьяный, шатался, делая то вперед, то назад несколько шагов, чтобы поддержать свое падающее тело. Старый солдат, унтер офицер, выбежал из рядов и, схватив за плечо молодого солдата, втащил его в роту. Толпа русских и французов стала расходиться. Все шли молча, с опущенными головами.
– Ca leur apprendra a incendier, [Это их научит поджигать.] – сказал кто то из французов. Пьер оглянулся на говорившего и увидал, что это был солдат, который хотел утешиться чем нибудь в том, что было сделано, но не мог. Не договорив начатого, он махнул рукою и пошел прочь.
После казни Пьера отделили от других подсудимых и оставили одного в небольшой, разоренной и загаженной церкви.
Перед вечером караульный унтер офицер с двумя солдатами вошел в церковь и объявил Пьеру, что он прощен и поступает теперь в бараки военнопленных. Не понимая того, что ему говорили, Пьер встал и пошел с солдатами. Его привели к построенным вверху поля из обгорелых досок, бревен и тесу балаганам и ввели в один из них. В темноте человек двадцать различных людей окружили Пьера. Пьер смотрел на них, не понимая, кто такие эти люди, зачем они и чего хотят от него. Он слышал слова, которые ему говорили, но не делал из них никакого вывода и приложения: не понимал их значения. Он сам отвечал на то, что у него спрашивали, но не соображал того, кто слушает его и как поймут его ответы. Он смотрел на лица и фигуры, и все они казались ему одинаково бессмысленны.
С той минуты, как Пьер увидал это страшное убийство, совершенное людьми, не хотевшими этого делать, в душе его как будто вдруг выдернута была та пружина, на которой все держалось и представлялось живым, и все завалилось в кучу бессмысленного сора. В нем, хотя он и не отдавал себе отчета, уничтожилась вера и в благоустройство мира, и в человеческую, и в свою душу, и в бога. Это состояние было испытываемо Пьером прежде, но никогда с такою силой, как теперь. Прежде, когда на Пьера находили такого рода сомнения, – сомнения эти имели источником собственную вину. И в самой глубине души Пьер тогда чувствовал, что от того отчаяния и тех сомнений было спасение в самом себе. Но теперь он чувствовал, что не его вина была причиной того, что мир завалился в его глазах и остались одни бессмысленные развалины. Он чувствовал, что возвратиться к вере в жизнь – не в его власти.
Вокруг него в темноте стояли люди: верно, что то их очень занимало в нем. Ему рассказывали что то, расспрашивали о чем то, потом повели куда то, и он, наконец, очутился в углу балагана рядом с какими то людьми, переговаривавшимися с разных сторон, смеявшимися.
– И вот, братцы мои… тот самый принц, который (с особенным ударением на слове который)… – говорил чей то голос в противуположном углу балагана.
Молча и неподвижно сидя у стены на соломе, Пьер то открывал, то закрывал глаза. Но только что он закрывал глаза, он видел пред собой то же страшное, в особенности страшное своей простотой, лицо фабричного и еще более страшные своим беспокойством лица невольных убийц. И он опять открывал глаза и бессмысленно смотрел в темноте вокруг себя.
Рядом с ним сидел, согнувшись, какой то маленький человек, присутствие которого Пьер заметил сначала по крепкому запаху пота, который отделялся от него при всяком его движении. Человек этот что то делал в темноте с своими ногами, и, несмотря на то, что Пьер не видал его лица, он чувствовал, что человек этот беспрестанно взглядывал на него. Присмотревшись в темноте, Пьер понял, что человек этот разувался. И то, каким образом он это делал, заинтересовало Пьера.
Размотав бечевки, которыми была завязана одна нога, он аккуратно свернул бечевки и тотчас принялся за другую ногу, взглядывая на Пьера. Пока одна рука вешала бечевку, другая уже принималась разматывать другую ногу. Таким образом аккуратно, круглыми, спорыми, без замедления следовавшими одно за другим движеньями, разувшись, человек развесил свою обувь на колышки, вбитые у него над головами, достал ножик, обрезал что то, сложил ножик, положил под изголовье и, получше усевшись, обнял свои поднятые колени обеими руками и прямо уставился на Пьера. Пьеру чувствовалось что то приятное, успокоительное и круглое в этих спорых движениях, в этом благоустроенном в углу его хозяйстве, в запахе даже этого человека, и он, не спуская глаз, смотрел на него.
– А много вы нужды увидали, барин? А? – сказал вдруг маленький человек. И такое выражение ласки и простоты было в певучем голосе человека, что Пьер хотел отвечать, но у него задрожала челюсть, и он почувствовал слезы. Маленький человек в ту же секунду, не давая Пьеру времени выказать свое смущение, заговорил тем же приятным голосом.
– Э, соколик, не тужи, – сказал он с той нежно певучей лаской, с которой говорят старые русские бабы. – Не тужи, дружок: час терпеть, а век жить! Вот так то, милый мой. А живем тут, слава богу, обиды нет. Тоже люди и худые и добрые есть, – сказал он и, еще говоря, гибким движением перегнулся на колени, встал и, прокашливаясь, пошел куда то.
– Ишь, шельма, пришла! – услыхал Пьер в конце балагана тот же ласковый голос. – Пришла шельма, помнит! Ну, ну, буде. – И солдат, отталкивая от себя собачонку, прыгавшую к нему, вернулся к своему месту и сел. В руках у него было что то завернуто в тряпке.
– Вот, покушайте, барин, – сказал он, опять возвращаясь к прежнему почтительному тону и развертывая и подавая Пьеру несколько печеных картошек. – В обеде похлебка была. А картошки важнеющие!
Пьер не ел целый день, и запах картофеля показался ему необыкновенно приятным. Он поблагодарил солдата и стал есть.
– Что ж, так то? – улыбаясь, сказал солдат и взял одну из картошек. – А ты вот как. – Он достал опять складной ножик, разрезал на своей ладони картошку на равные две половины, посыпал соли из тряпки и поднес Пьеру.
– Картошки важнеющие, – повторил он. – Ты покушай вот так то.
Пьеру казалось, что он никогда не ел кушанья вкуснее этого.
– Нет, мне все ничего, – сказал Пьер, – но за что они расстреляли этих несчастных!.. Последний лет двадцати.
– Тц, тц… – сказал маленький человек. – Греха то, греха то… – быстро прибавил он, и, как будто слова его всегда были готовы во рту его и нечаянно вылетали из него, он продолжал: – Что ж это, барин, вы так в Москве то остались?
– Я не думал, что они так скоро придут. Я нечаянно остался, – сказал Пьер.
– Да как же они взяли тебя, соколик, из дома твоего?
– Нет, я пошел на пожар, и тут они схватили меня, судили за поджигателя.
– Где суд, там и неправда, – вставил маленький человек.
– А ты давно здесь? – спросил Пьер, дожевывая последнюю картошку.
– Я то? В то воскресенье меня взяли из гошпиталя в Москве.
– Ты кто же, солдат?
– Солдаты Апшеронского полка. От лихорадки умирал. Нам и не сказали ничего. Наших человек двадцать лежало. И не думали, не гадали.
– Что ж, тебе скучно здесь? – спросил Пьер.
– Как не скучно, соколик. Меня Платоном звать; Каратаевы прозвище, – прибавил он, видимо, с тем, чтобы облегчить Пьеру обращение к нему. – Соколиком на службе прозвали. Как не скучать, соколик! Москва, она городам мать. Как не скучать на это смотреть. Да червь капусту гложе, а сам прежде того пропадае: так то старички говаривали, – прибавил он быстро.
– Как, как это ты сказал? – спросил Пьер.
– Я то? – спросил Каратаев. – Я говорю: не нашим умом, а божьим судом, – сказал он, думая, что повторяет сказанное. И тотчас же продолжал: – Как же у вас, барин, и вотчины есть? И дом есть? Стало быть, полная чаша! И хозяйка есть? А старики родители живы? – спрашивал он, и хотя Пьер не видел в темноте, но чувствовал, что у солдата морщились губы сдержанною улыбкой ласки в то время, как он спрашивал это. Он, видимо, был огорчен тем, что у Пьера не было родителей, в особенности матери.
– Жена для совета, теща для привета, а нет милей родной матушки! – сказал он. – Ну, а детки есть? – продолжал он спрашивать. Отрицательный ответ Пьера опять, видимо, огорчил его, и он поспешил прибавить: – Что ж, люди молодые, еще даст бог, будут. Только бы в совете жить…
– Да теперь все равно, – невольно сказал Пьер.
– Эх, милый человек ты, – возразил Платон. – От сумы да от тюрьмы никогда не отказывайся. – Он уселся получше, прокашлялся, видимо приготовляясь к длинному рассказу. – Так то, друг мой любезный, жил я еще дома, – начал он. – Вотчина у нас богатая, земли много, хорошо живут мужики, и наш дом, слава тебе богу. Сам сем батюшка косить выходил. Жили хорошо. Христьяне настоящие были. Случилось… – И Платон Каратаев рассказал длинную историю о том, как он поехал в чужую рощу за лесом и попался сторожу, как его секли, судили и отдали ь солдаты. – Что ж соколик, – говорил он изменяющимся от улыбки голосом, – думали горе, ан радость! Брату бы идти, кабы не мой грех. А у брата меньшого сам пят ребят, – а у меня, гляди, одна солдатка осталась. Была девочка, да еще до солдатства бог прибрал. Пришел я на побывку, скажу я тебе. Гляжу – лучше прежнего живут. Животов полон двор, бабы дома, два брата на заработках. Один Михайло, меньшой, дома. Батюшка и говорит: «Мне, говорит, все детки равны: какой палец ни укуси, все больно. А кабы не Платона тогда забрили, Михайле бы идти». Позвал нас всех – веришь – поставил перед образа. Михайло, говорит, поди сюда, кланяйся ему в ноги, и ты, баба, кланяйся, и внучата кланяйтесь. Поняли? говорит. Так то, друг мой любезный. Рок головы ищет. А мы всё судим: то не хорошо, то не ладно. Наше счастье, дружок, как вода в бредне: тянешь – надулось, а вытащишь – ничего нету. Так то. – И Платон пересел на своей соломе.
Помолчав несколько времени, Платон встал.
– Что ж, я чай, спать хочешь? – сказал он и быстро начал креститься, приговаривая:
– Господи, Иисус Христос, Никола угодник, Фрола и Лавра, господи Иисус Христос, Никола угодник! Фрола и Лавра, господи Иисус Христос – помилуй и спаси нас! – заключил он, поклонился в землю, встал и, вздохнув, сел на свою солому. – Вот так то. Положи, боже, камушком, подними калачиком, – проговорил он и лег, натягивая на себя шинель.
– Какую это ты молитву читал? – спросил Пьер.
– Ась? – проговорил Платон (он уже было заснул). – Читал что? Богу молился. А ты рази не молишься?
– Нет, и я молюсь, – сказал Пьер. – Но что ты говорил: Фрола и Лавра?
– А как же, – быстро отвечал Платон, – лошадиный праздник. И скота жалеть надо, – сказал Каратаев. – Вишь, шельма, свернулась. Угрелась, сукина дочь, – сказал он, ощупав собаку у своих ног, и, повернувшись опять, тотчас же заснул.
Наружи слышались где то вдалеке плач и крики, и сквозь щели балагана виднелся огонь; но в балагане было тихо и темно. Пьер долго не спал и с открытыми глазами лежал в темноте на своем месте, прислушиваясь к мерному храпенью Платона, лежавшего подле него, и чувствовал, что прежде разрушенный мир теперь с новой красотой, на каких то новых и незыблемых основах, воздвигался в его душе.
В балагане, в который поступил Пьер и в котором он пробыл четыре недели, было двадцать три человека пленных солдат, три офицера и два чиновника.
Все они потом как в тумане представлялись Пьеру, но Платон Каратаев остался навсегда в душе Пьера самым сильным и дорогим воспоминанием и олицетворением всего русского, доброго и круглого. Когда на другой день, на рассвете, Пьер увидал своего соседа, первое впечатление чего то круглого подтвердилось вполне: вся фигура Платона в его подпоясанной веревкою французской шинели, в фуражке и лаптях, была круглая, голова была совершенно круглая, спина, грудь, плечи, даже руки, которые он носил, как бы всегда собираясь обнять что то, были круглые; приятная улыбка и большие карие нежные глаза были круглые.
Платону Каратаеву должно было быть за пятьдесят лет, судя по его рассказам о походах, в которых он участвовал давнишним солдатом. Он сам не знал и никак не мог определить, сколько ему было лет; но зубы его, ярко белые и крепкие, которые все выкатывались своими двумя полукругами, когда он смеялся (что он часто делал), были все хороши и целы; ни одного седого волоса не было в его бороде и волосах, и все тело его имело вид гибкости и в особенности твердости и сносливости.
Лицо его, несмотря на мелкие круглые морщинки, имело выражение невинности и юности; голос у него был приятный и певучий. Но главная особенность его речи состояла в непосредственности и спорости. Он, видимо, никогда не думал о том, что он сказал и что он скажет; и от этого в быстроте и верности его интонаций была особенная неотразимая убедительность.
Физические силы его и поворотливость были таковы первое время плена, что, казалось, он не понимал, что такое усталость и болезнь. Каждый день утром а вечером он, ложась, говорил: «Положи, господи, камушком, подними калачиком»; поутру, вставая, всегда одинаково пожимая плечами, говорил: «Лег – свернулся, встал – встряхнулся». И действительно, стоило ему лечь, чтобы тотчас же заснуть камнем, и стоило встряхнуться, чтобы тотчас же, без секунды промедления, взяться за какое нибудь дело, как дети, вставши, берутся за игрушки. Он все умел делать, не очень хорошо, но и не дурно. Он пек, парил, шил, строгал, тачал сапоги. Он всегда был занят и только по ночам позволял себе разговоры, которые он любил, и песни. Он пел песни, не так, как поют песенники, знающие, что их слушают, но пел, как поют птицы, очевидно, потому, что звуки эти ему было так же необходимо издавать, как необходимо бывает потянуться или расходиться; и звуки эти всегда бывали тонкие, нежные, почти женские, заунывные, и лицо его при этом бывало очень серьезно.
Попав в плен и обросши бородою, он, видимо, отбросил от себя все напущенное на него, чуждое, солдатское и невольно возвратился к прежнему, крестьянскому, народному складу.
– Солдат в отпуску – рубаха из порток, – говаривал он. Он неохотно говорил про свое солдатское время, хотя не жаловался, и часто повторял, что он всю службу ни разу бит не был. Когда он рассказывал, то преимущественно рассказывал из своих старых и, видимо, дорогих ему воспоминаний «христианского», как он выговаривал, крестьянского быта. Поговорки, которые наполняли его речь, не были те, большей частью неприличные и бойкие поговорки, которые говорят солдаты, но это были те народные изречения, которые кажутся столь незначительными, взятые отдельно, и которые получают вдруг значение глубокой мудрости, когда они сказаны кстати.
Часто он говорил совершенно противоположное тому, что он говорил прежде, но и то и другое было справедливо. Он любил говорить и говорил хорошо, украшая свою речь ласкательными и пословицами, которые, Пьеру казалось, он сам выдумывал; но главная прелесть его рассказов состояла в том, что в его речи события самые простые, иногда те самые, которые, не замечая их, видел Пьер, получали характер торжественного благообразия. Он любил слушать сказки, которые рассказывал по вечерам (всё одни и те же) один солдат, но больше всего он любил слушать рассказы о настоящей жизни. Он радостно улыбался, слушая такие рассказы, вставляя слова и делая вопросы, клонившиеся к тому, чтобы уяснить себе благообразие того, что ему рассказывали. Привязанностей, дружбы, любви, как понимал их Пьер, Каратаев не имел никаких; но он любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь, и в особенности с человеком – не с известным каким нибудь человеком, а с теми людьми, которые были перед его глазами. Он любил свою шавку, любил товарищей, французов, любил Пьера, который был его соседом; но Пьер чувствовал, что Каратаев, несмотря на всю свою ласковую нежность к нему (которою он невольно отдавал должное духовной жизни Пьера), ни на минуту не огорчился бы разлукой с ним. И Пьер то же чувство начинал испытывать к Каратаеву.
Платон Каратаев был для всех остальных пленных самым обыкновенным солдатом; его звали соколик или Платоша, добродушно трунили над ним, посылали его за посылками. Но для Пьера, каким он представился в первую ночь, непостижимым, круглым и вечным олицетворением духа простоты и правды, таким он и остался навсегда.
Платон Каратаев ничего не знал наизусть, кроме своей молитвы. Когда он говорил свои речи, он, начиная их, казалось, не знал, чем он их кончит.
Когда Пьер, иногда пораженный смыслом его речи, просил повторить сказанное, Платон не мог вспомнить того, что он сказал минуту тому назад, – так же, как он никак не мог словами сказать Пьеру свою любимую песню. Там было: «родимая, березанька и тошненько мне», но на словах не выходило никакого смысла. Он не понимал и не мог понять значения слов, отдельно взятых из речи. Каждое слово его и каждое действие было проявлением неизвестной ему деятельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал. Его слова и действия выливались из него так же равномерно, необходимо и непосредственно, как запах отделяется от цветка. Он не мог понять ни цены, ни значения отдельно взятого действия или слова.
Получив от Николая известие о том, что брат ее находится с Ростовыми, в Ярославле, княжна Марья, несмотря на отговариванья тетки, тотчас же собралась ехать, и не только одна, но с племянником. Трудно ли, нетрудно, возможно или невозможно это было, она не спрашивала и не хотела знать: ее обязанность была не только самой быть подле, может быть, умирающего брата, но и сделать все возможное для того, чтобы привезти ему сына, и она поднялась ехать. Если князь Андрей сам не уведомлял ее, то княжна Марья объясняла ото или тем, что он был слишком слаб, чтобы писать, или тем, что он считал для нее и для своего сына этот длинный переезд слишком трудным и опасным.
В несколько дней княжна Марья собралась в дорогу. Экипажи ее состояли из огромной княжеской кареты, в которой она приехала в Воронеж, брички и повозки. С ней ехали m lle Bourienne, Николушка с гувернером, старая няня, три девушки, Тихон, молодой лакей и гайдук, которого тетка отпустила с нею.
Ехать обыкновенным путем на Москву нельзя было и думать, и потому окольный путь, который должна была сделать княжна Марья: на Липецк, Рязань, Владимир, Шую, был очень длинен, по неимению везде почтовых лошадей, очень труден и около Рязани, где, как говорили, показывались французы, даже опасен.
Во время этого трудного путешествия m lle Bourienne, Десаль и прислуга княжны Марьи были удивлены ее твердостью духа и деятельностью. Она позже всех ложилась, раньше всех вставала, и никакие затруднения не могли остановить ее. Благодаря ее деятельности и энергии, возбуждавшим ее спутников, к концу второй недели они подъезжали к Ярославлю.
В последнее время своего пребывания в Воронеже княжна Марья испытала лучшее счастье в своей жизни. Любовь ее к Ростову уже не мучила, не волновала ее. Любовь эта наполняла всю ее душу, сделалась нераздельною частью ее самой, и она не боролась более против нее. В последнее время княжна Марья убедилась, – хотя она никогда ясно словами определенно не говорила себе этого, – убедилась, что она была любима и любила. В этом она убедилась в последнее свое свидание с Николаем, когда он приехал ей объявить о том, что ее брат был с Ростовыми. Николай ни одним словом не намекнул на то, что теперь (в случае выздоровления князя Андрея) прежние отношения между ним и Наташей могли возобновиться, но княжна Марья видела по его лицу, что он знал и думал это. И, несмотря на то, его отношения к ней – осторожные, нежные и любовные – не только не изменились, но он, казалось, радовался тому, что теперь родство между ним и княжной Марьей позволяло ему свободнее выражать ей свою дружбу любовь, как иногда думала княжна Марья. Княжна Марья знала, что она любила в первый и последний раз в жизни, и чувствовала, что она любима, и была счастлива, спокойна в этом отношении.
Но это счастье одной стороны душевной не только не мешало ей во всей силе чувствовать горе о брате, но, напротив, это душевное спокойствие в одном отношении давало ей большую возможность отдаваться вполне своему чувству к брату. Чувство это было так сильно в первую минуту выезда из Воронежа, что провожавшие ее были уверены, глядя на ее измученное, отчаянное лицо, что она непременно заболеет дорогой; но именно трудности и заботы путешествия, за которые с такою деятельностью взялась княжна Марья, спасли ее на время от ее горя и придали ей силы.
Как и всегда это бывает во время путешествия, княжна Марья думала только об одном путешествии, забывая о том, что было его целью. Но, подъезжая к Ярославлю, когда открылось опять то, что могло предстоять ей, и уже не через много дней, а нынче вечером, волнение княжны Марьи дошло до крайних пределов.
Когда посланный вперед гайдук, чтобы узнать в Ярославле, где стоят Ростовы и в каком положении находится князь Андрей, встретил у заставы большую въезжавшую карету, он ужаснулся, увидав страшно бледное лицо княжны, которое высунулось ему из окна.
– Все узнал, ваше сиятельство: ростовские стоят на площади, в доме купца Бронникова. Недалече, над самой над Волгой, – сказал гайдук.
Княжна Марья испуганно вопросительно смотрела на его лицо, не понимая того, что он говорил ей, не понимая, почему он не отвечал на главный вопрос: что брат? M lle Bourienne сделала этот вопрос за княжну Марью.
– Что князь? – спросила она.
– Их сиятельство с ними в том же доме стоят.
«Стало быть, он жив», – подумала княжна и тихо спросила: что он?
– Люди сказывали, все в том же положении.
Что значило «все в том же положении», княжна не стала спрашивать и мельком только, незаметно взглянув на семилетнего Николушку, сидевшего перед нею и радовавшегося на город, опустила голову и не поднимала ее до тех пор, пока тяжелая карета, гремя, трясясь и колыхаясь, не остановилась где то. Загремели откидываемые подножки.
Отворились дверцы. Слева была вода – река большая, справа было крыльцо; на крыльце были люди, прислуга и какая то румяная, с большой черной косой, девушка, которая неприятно притворно улыбалась, как показалось княжне Марье (это была Соня). Княжна взбежала по лестнице, притворно улыбавшаяся девушка сказала: – Сюда, сюда! – и княжна очутилась в передней перед старой женщиной с восточным типом лица, которая с растроганным выражением быстро шла ей навстречу. Это была графиня. Она обняла княжну Марью и стала целовать ее.
– Mon enfant! – проговорила она, – je vous aime et vous connais depuis longtemps. [Дитя мое! я вас люблю и знаю давно.]
Несмотря на все свое волнение, княжна Марья поняла, что это была графиня и что надо было ей сказать что нибудь. Она, сама не зная как, проговорила какие то учтивые французские слова, в том же тоне, в котором были те, которые ей говорили, и спросила: что он?
– Доктор говорит, что нет опасности, – сказала графиня, но в то время, как она говорила это, она со вздохом подняла глаза кверху, и в этом жесте было выражение, противоречащее ее словам.
– Где он? Можно его видеть, можно? – спросила княжна.
– Сейчас, княжна, сейчас, мой дружок. Это его сын? – сказала она, обращаясь к Николушке, который входил с Десалем. – Мы все поместимся, дом большой. О, какой прелестный мальчик!
Графиня ввела княжну в гостиную. Соня разговаривала с m lle Bourienne. Графиня ласкала мальчика. Старый граф вошел в комнату, приветствуя княжну. Старый граф чрезвычайно переменился с тех пор, как его последний раз видела княжна. Тогда он был бойкий, веселый, самоуверенный старичок, теперь он казался жалким, затерянным человеком. Он, говоря с княжной, беспрестанно оглядывался, как бы спрашивая у всех, то ли он делает, что надобно. После разорения Москвы и его имения, выбитый из привычной колеи, он, видимо, потерял сознание своего значения и чувствовал, что ему уже нет места в жизни.
Несмотря на то волнение, в котором она находилась, несмотря на одно желание поскорее увидать брата и на досаду за то, что в эту минуту, когда ей одного хочется – увидать его, – ее занимают и притворно хвалят ее племянника, княжна замечала все, что делалось вокруг нее, и чувствовала необходимость на время подчиниться этому новому порядку, в который она вступала. Она знала, что все это необходимо, и ей было это трудно, но она не досадовала на них.
– Это моя племянница, – сказал граф, представляя Соню, – вы не знаете ее, княжна?
Княжна повернулась к ней и, стараясь затушить поднявшееся в ее душе враждебное чувство к этой девушке, поцеловала ее. Но ей становилось тяжело оттого, что настроение всех окружающих было так далеко от того, что было в ее душе.
– Где он? – спросила она еще раз, обращаясь ко всем.
– Он внизу, Наташа с ним, – отвечала Соня, краснея. – Пошли узнать. Вы, я думаю, устали, княжна?
У княжны выступили на глаза слезы досады. Она отвернулась и хотела опять спросить у графини, где пройти к нему, как в дверях послышались легкие, стремительные, как будто веселые шаги. Княжна оглянулась и увидела почти вбегающую Наташу, ту Наташу, которая в то давнишнее свидание в Москве так не понравилась ей.
Но не успела княжна взглянуть на лицо этой Наташи, как она поняла, что это был ее искренний товарищ по горю, и потому ее друг. Она бросилась ей навстречу и, обняв ее, заплакала на ее плече.
Как только Наташа, сидевшая у изголовья князя Андрея, узнала о приезде княжны Марьи, она тихо вышла из его комнаты теми быстрыми, как показалось княжне Марье, как будто веселыми шагами и побежала к ней.
На взволнованном лице ее, когда она вбежала в комнату, было только одно выражение – выражение любви, беспредельной любви к нему, к ней, ко всему тому, что было близко любимому человеку, выраженье жалости, страданья за других и страстного желанья отдать себя всю для того, чтобы помочь им. Видно было, что в эту минуту ни одной мысли о себе, о своих отношениях к нему не было в душе Наташи.
Чуткая княжна Марья с первого взгляда на лицо Наташи поняла все это и с горестным наслаждением плакала на ее плече.
– Пойдемте, пойдемте к нему, Мари, – проговорила Наташа, отводя ее в другую комнату.
Княжна Марья подняла лицо, отерла глаза и обратилась к Наташе. Она чувствовала, что от нее она все поймет и узнает.
– Что… – начала она вопрос, но вдруг остановилась. Она почувствовала, что словами нельзя ни спросить, ни ответить. Лицо и глаза Наташи должны были сказать все яснее и глубже.
Наташа смотрела на нее, но, казалось, была в страхе и сомнении – сказать или не сказать все то, что она знала; она как будто почувствовала, что перед этими лучистыми глазами, проникавшими в самую глубь ее сердца, нельзя не сказать всю, всю истину, какою она ее видела. Губа Наташи вдруг дрогнула, уродливые морщины образовались вокруг ее рта, и она, зарыдав, закрыла лицо руками.
Княжна Марья поняла все.
Но она все таки надеялась и спросила словами, в которые она не верила:
– Но как его рана? Вообще в каком он положении?
– Вы, вы… увидите, – только могла сказать Наташа.
Они посидели несколько времени внизу подле его комнаты, с тем чтобы перестать плакать и войти к нему с спокойными лицами.
– Как шла вся болезнь? Давно ли ему стало хуже? Когда это случилось? – спрашивала княжна Марья.
Наташа рассказывала, что первое время была опасность от горячечного состояния и от страданий, но в Троице это прошло, и доктор боялся одного – антонова огня. Но и эта опасность миновалась. Когда приехали в Ярославль, рана стала гноиться (Наташа знала все, что касалось нагноения и т. п.), и доктор говорил, что нагноение может пойти правильно. Сделалась лихорадка. Доктор говорил, что лихорадка эта не так опасна.
– Но два дня тому назад, – начала Наташа, – вдруг это сделалось… – Она удержала рыданья. – Я не знаю отчего, но вы увидите, какой он стал.
– Ослабел? похудел?.. – спрашивала княжна.
– Нет, не то, но хуже. Вы увидите. Ах, Мари, Мари, он слишком хорош, он не может, не может жить… потому что…
Когда Наташа привычным движением отворила его дверь, пропуская вперед себя княжну, княжна Марья чувствовала уже в горле своем готовые рыданья. Сколько она ни готовилась, ни старалась успокоиться, она знала, что не в силах будет без слез увидать его.
Княжна Марья понимала то, что разумела Наташа словами: сним случилось это два дня тому назад. Она понимала, что это означало то, что он вдруг смягчился, и что смягчение, умиление эти были признаками смерти. Она, подходя к двери, уже видела в воображении своем то лицо Андрюши, которое она знала с детства, нежное, кроткое, умиленное, которое так редко бывало у него и потому так сильно всегда на нее действовало. Она знала, что он скажет ей тихие, нежные слова, как те, которые сказал ей отец перед смертью, и что она не вынесет этого и разрыдается над ним. Но, рано ли, поздно ли, это должно было быть, и она вошла в комнату. Рыдания все ближе и ближе подступали ей к горлу, в то время как она своими близорукими глазами яснее и яснее различала его форму и отыскивала его черты, и вот она увидала его лицо и встретилась с ним взглядом.
Он лежал на диване, обложенный подушками, в меховом беличьем халате. Он был худ и бледен. Одна худая, прозрачно белая рука его держала платок, другою он, тихими движениями пальцев, трогал тонкие отросшие усы. Глаза его смотрели на входивших.
Увидав его лицо и встретившись с ним взглядом, княжна Марья вдруг умерила быстроту своего шага и почувствовала, что слезы вдруг пересохли и рыдания остановились. Уловив выражение его лица и взгляда, она вдруг оробела и почувствовала себя виноватой.
«Да в чем же я виновата?» – спросила она себя. «В том, что живешь и думаешь о живом, а я!..» – отвечал его холодный, строгий взгляд.
В глубоком, не из себя, но в себя смотревшем взгляде была почти враждебность, когда он медленно оглянул сестру и Наташу.
Он поцеловался с сестрой рука в руку, по их привычке.
– Здравствуй, Мари, как это ты добралась? – сказал он голосом таким же ровным и чуждым, каким был его взгляд. Ежели бы он завизжал отчаянным криком, то этот крик менее бы ужаснул княжну Марью, чем звук этого голоса.
– И Николушку привезла? – сказал он также ровно и медленно и с очевидным усилием воспоминанья.
– Как твое здоровье теперь? – говорила княжна Марья, сама удивляясь тому, что она говорила.
– Это, мой друг, у доктора спрашивать надо, – сказал он, и, видимо сделав еще усилие, чтобы быть ласковым, он сказал одним ртом (видно было, что он вовсе не думал того, что говорил): – Merci, chere amie, d'etre venue. [Спасибо, милый друг, что приехала.]
Княжна Марья пожала его руку. Он чуть заметно поморщился от пожатия ее руки. Он молчал, и она не знала, что говорить. Она поняла то, что случилось с ним за два дня. В словах, в тоне его, в особенности во взгляде этом – холодном, почти враждебном взгляде – чувствовалась страшная для живого человека отчужденность от всего мирского. Он, видимо, с трудом понимал теперь все живое; но вместе с тем чувствовалось, что он не понимал живого не потому, чтобы он был лишен силы понимания, но потому, что он понимал что то другое, такое, чего не понимали и не могли понять живые и что поглощало его всего.
– Да, вот как странно судьба свела нас! – сказал он, прерывая молчание и указывая на Наташу. – Она все ходит за мной.
Княжна Марья слушала и не понимала того, что он говорил. Он, чуткий, нежный князь Андрей, как мог он говорить это при той, которую он любил и которая его любила! Ежели бы он думал жить, то не таким холодно оскорбительным тоном он сказал бы это. Ежели бы он не знал, что умрет, то как же ему не жалко было ее, как он мог при ней говорить это! Одно объяснение только могло быть этому, это то, что ему было все равно, и все равно оттого, что что то другое, важнейшее, было открыто ему.
Разговор был холодный, несвязный и прерывался беспрестанно.
– Мари проехала через Рязань, – сказала Наташа. Князь Андрей не заметил, что она называла его сестру Мари. А Наташа, при нем назвав ее так, в первый раз сама это заметила.
– Ну что же? – сказал он.
– Ей рассказывали, что Москва вся сгорела, совершенно, что будто бы…
Наташа остановилась: нельзя было говорить. Он, очевидно, делал усилия, чтобы слушать, и все таки не мог.
– Да, сгорела, говорят, – сказал он. – Это очень жалко, – и он стал смотреть вперед, пальцами рассеянно расправляя усы.
– А ты встретилась с графом Николаем, Мари? – сказал вдруг князь Андрей, видимо желая сделать им приятное. – Он писал сюда, что ты ему очень полюбилась, – продолжал он просто, спокойно, видимо не в силах понимать всего того сложного значения, которое имели его слова для живых людей. – Ежели бы ты его полюбила тоже, то было бы очень хорошо… чтобы вы женились, – прибавил он несколько скорее, как бы обрадованный словами, которые он долго искал и нашел наконец. Княжна Марья слышала его слова, но они не имели для нее никакого другого значения, кроме того, что они доказывали то, как страшно далек он был теперь от всего живого.
– Что обо мне говорить! – сказала она спокойно и взглянула на Наташу. Наташа, чувствуя на себе ее взгляд, не смотрела на нее. Опять все молчали.
– Andre, ты хоч… – вдруг сказала княжна Марья содрогнувшимся голосом, – ты хочешь видеть Николушку? Он все время вспоминал о тебе.
Князь Андрей чуть заметно улыбнулся в первый раз, но княжна Марья, так знавшая его лицо, с ужасом поняла, что это была улыбка не радости, не нежности к сыну, но тихой, кроткой насмешки над тем, что княжна Марья употребляла, по ее мнению, последнее средство для приведения его в чувства.
– Да, я очень рад Николушке. Он здоров?
Когда привели к князю Андрею Николушку, испуганно смотревшего на отца, но не плакавшего, потому что никто не плакал, князь Андрей поцеловал его и, очевидно, не знал, что говорить с ним.
Когда Николушку уводили, княжна Марья подошла еще раз к брату, поцеловала его и, не в силах удерживаться более, заплакала.
Он пристально посмотрел на нее.
– Ты об Николушке? – сказал он.
Княжна Марья, плача, утвердительно нагнула голову.
– Мари, ты знаешь Еван… – но он вдруг замолчал.
– Что ты говоришь?
– Ничего. Не надо плакать здесь, – сказал он, тем же холодным взглядом глядя на нее.
Когда княжна Марья заплакала, он понял, что она плакала о том, что Николушка останется без отца. С большим усилием над собой он постарался вернуться назад в жизнь и перенесся на их точку зрения.
«Да, им это должно казаться жалко! – подумал он. – А как это просто!»
«Птицы небесные ни сеют, ни жнут, но отец ваш питает их», – сказал он сам себе и хотел то же сказать княжне. «Но нет, они поймут это по своему, они не поймут! Этого они не могут понимать, что все эти чувства, которыми они дорожат, все наши, все эти мысли, которые кажутся нам так важны, что они – не нужны. Мы не можем понимать друг друга». – И он замолчал.
Маленькому сыну князя Андрея было семь лет. Он едва умел читать, он ничего не знал. Он многое пережил после этого дня, приобретая знания, наблюдательность, опытность; но ежели бы он владел тогда всеми этими после приобретенными способностями, он не мог бы лучше, глубже понять все значение той сцены, которую он видел между отцом, княжной Марьей и Наташей, чем он ее понял теперь. Он все понял и, не плача, вышел из комнаты, молча подошел к Наташе, вышедшей за ним, застенчиво взглянул на нее задумчивыми прекрасными глазами; приподнятая румяная верхняя губа его дрогнула, он прислонился к ней головой и заплакал.
С этого дня он избегал Десаля, избегал ласкавшую его графиню и либо сидел один, либо робко подходил к княжне Марье и к Наташе, которую он, казалось, полюбил еще больше своей тетки, и тихо и застенчиво ласкался к ним.
Княжна Марья, выйдя от князя Андрея, поняла вполне все то, что сказало ей лицо Наташи. Она не говорила больше с Наташей о надежде на спасение его жизни. Она чередовалась с нею у его дивана и не плакала больше, но беспрестанно молилась, обращаясь душою к тому вечному, непостижимому, которого присутствие так ощутительно было теперь над умиравшим человеком.
Князь Андрей не только знал, что он умрет, но он чувствовал, что он умирает, что он уже умер наполовину. Он испытывал сознание отчужденности от всего земного и радостной и странной легкости бытия. Он, не торопясь и не тревожась, ожидал того, что предстояло ему. То грозное, вечное, неведомое и далекое, присутствие которого он не переставал ощущать в продолжение всей своей жизни, теперь для него было близкое и – по той странной легкости бытия, которую он испытывал, – почти понятное и ощущаемое.
Прежде он боялся конца. Он два раза испытал это страшное мучительное чувство страха смерти, конца, и теперь уже не понимал его.
Первый раз он испытал это чувство тогда, когда граната волчком вертелась перед ним и он смотрел на жнивье, на кусты, на небо и знал, что перед ним была смерть. Когда он очнулся после раны и в душе его, мгновенно, как бы освобожденный от удерживавшего его гнета жизни, распустился этот цветок любви, вечной, свободной, не зависящей от этой жизни, он уже не боялся смерти и не думал о ней.
Чем больше он, в те часы страдальческого уединения и полубреда, которые он провел после своей раны, вдумывался в новое, открытое ему начало вечной любви, тем более он, сам не чувствуя того, отрекался от земной жизни. Всё, всех любить, всегда жертвовать собой для любви, значило никого не любить, значило не жить этою земною жизнию. И чем больше он проникался этим началом любви, тем больше он отрекался от жизни и тем совершеннее уничтожал ту страшную преграду, которая без любви стоит между жизнью и смертью. Когда он, это первое время, вспоминал о том, что ему надо было умереть, он говорил себе: ну что ж, тем лучше.
Но после той ночи в Мытищах, когда в полубреду перед ним явилась та, которую он желал, и когда он, прижав к своим губам ее руку, заплакал тихими, радостными слезами, любовь к одной женщине незаметно закралась в его сердце и опять привязала его к жизни. И радостные и тревожные мысли стали приходить ему. Вспоминая ту минуту на перевязочном пункте, когда он увидал Курагина, он теперь не мог возвратиться к тому чувству: его мучил вопрос о том, жив ли он? И он не смел спросить этого.
Болезнь его шла своим физическим порядком, но то, что Наташа называла: это сделалось с ним, случилось с ним два дня перед приездом княжны Марьи. Это была та последняя нравственная борьба между жизнью и смертью, в которой смерть одержала победу. Это было неожиданное сознание того, что он еще дорожил жизнью, представлявшейся ему в любви к Наташе, и последний, покоренный припадок ужаса перед неведомым.
Это было вечером. Он был, как обыкновенно после обеда, в легком лихорадочном состоянии, и мысли его были чрезвычайно ясны. Соня сидела у стола. Он задремал. Вдруг ощущение счастья охватило его.
«А, это она вошла!» – подумал он.
Действительно, на месте Сони сидела только что неслышными шагами вошедшая Наташа.
С тех пор как она стала ходить за ним, он всегда испытывал это физическое ощущение ее близости. Она сидела на кресле, боком к нему, заслоняя собой от него свет свечи, и вязала чулок. (Она выучилась вязать чулки с тех пор, как раз князь Андрей сказал ей, что никто так не умеет ходить за больными, как старые няни, которые вяжут чулки, и что в вязании чулка есть что то успокоительное.) Тонкие пальцы ее быстро перебирали изредка сталкивающиеся спицы, и задумчивый профиль ее опущенного лица был ясно виден ему. Она сделала движенье – клубок скатился с ее колен. Она вздрогнула, оглянулась на него и, заслоняя свечу рукой, осторожным, гибким и точным движением изогнулась, подняла клубок и села в прежнее положение.
Он смотрел на нее, не шевелясь, и видел, что ей нужно было после своего движения вздохнуть во всю грудь, но она не решалась этого сделать и осторожно переводила дыханье.
В Троицкой лавре они говорили о прошедшем, и он сказал ей, что, ежели бы он был жив, он бы благодарил вечно бога за свою рану, которая свела его опять с нею; но с тех пор они никогда не говорили о будущем.
«Могло или не могло это быть? – думал он теперь, глядя на нее и прислушиваясь к легкому стальному звуку спиц. – Неужели только затем так странно свела меня с нею судьба, чтобы мне умереть?.. Неужели мне открылась истина жизни только для того, чтобы я жил во лжи? Я люблю ее больше всего в мире. Но что же делать мне, ежели я люблю ее?» – сказал он, и он вдруг невольно застонал, по привычке, которую он приобрел во время своих страданий.
Услыхав этот звук, Наташа положила чулок, перегнулась ближе к нему и вдруг, заметив его светящиеся глаза, подошла к нему легким шагом и нагнулась.
– Вы не спите?
– Нет, я давно смотрю на вас; я почувствовал, когда вы вошли. Никто, как вы, но дает мне той мягкой тишины… того света. Мне так и хочется плакать от радости.
Наташа ближе придвинулась к нему. Лицо ее сияло восторженною радостью.
– Наташа, я слишком люблю вас. Больше всего на свете.
– А я? – Она отвернулась на мгновение. – Отчего же слишком? – сказала она.
– Отчего слишком?.. Ну, как вы думаете, как вы чувствуете по душе, по всей душе, буду я жив? Как вам кажется?
– Я уверена, я уверена! – почти вскрикнула Наташа, страстным движением взяв его за обе руки.
Он помолчал.
– Как бы хорошо! – И, взяв ее руку, он поцеловал ее.
Наташа была счастлива и взволнована; и тотчас же она вспомнила, что этого нельзя, что ему нужно спокойствие.
– Однако вы не спали, – сказала она, подавляя свою радость. – Постарайтесь заснуть… пожалуйста.
Он выпустил, пожав ее, ее руку, она перешла к свече и опять села в прежнее положение. Два раза она оглянулась на него, глаза его светились ей навстречу. Она задала себе урок на чулке и сказала себе, что до тех пор она не оглянется, пока не кончит его.
Действительно, скоро после этого он закрыл глаза и заснул. Он спал недолго и вдруг в холодном поту тревожно проснулся.
Засыпая, он думал все о том же, о чем он думал все ото время, – о жизни и смерти. И больше о смерти. Он чувствовал себя ближе к ней.
«Любовь? Что такое любовь? – думал он. – Любовь мешает смерти. Любовь есть жизнь. Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что люблю. Все есть, все существует только потому, что я люблю. Все связано одною ею. Любовь есть бог, и умереть – значит мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источнику». Мысли эти показались ему утешительны. Но это были только мысли. Чего то недоставало в них, что то было односторонне личное, умственное – не было очевидности. И было то же беспокойство и неясность. Он заснул.
Он видел во сне, что он лежит в той же комнате, в которой он лежал в действительности, но что он не ранен, а здоров. Много разных лиц, ничтожных, равнодушных, являются перед князем Андреем. Он говорит с ними, спорит о чем то ненужном. Они сбираются ехать куда то. Князь Андрей смутно припоминает, что все это ничтожно и что у него есть другие, важнейшие заботы, но продолжает говорить, удивляя их, какие то пустые, остроумные слова. Понемногу, незаметно все эти лица начинают исчезать, и все заменяется одним вопросом о затворенной двери. Он встает и идет к двери, чтобы задвинуть задвижку и запереть ее. Оттого, что он успеет или не успеет запереть ее, зависит все. Он идет, спешит, ноги его не двигаются, и он знает, что не успеет запереть дверь, но все таки болезненно напрягает все свои силы. И мучительный страх охватывает его. И этот страх есть страх смерти: за дверью стоит оно. Но в то же время как он бессильно неловко подползает к двери, это что то ужасное, с другой стороны уже, надавливая, ломится в нее. Что то не человеческое – смерть – ломится в дверь, и надо удержать ее. Он ухватывается за дверь, напрягает последние усилия – запереть уже нельзя – хоть удержать ее; но силы его слабы, неловки, и, надавливаемая ужасным, дверь отворяется и опять затворяется.
Еще раз оно надавило оттуда. Последние, сверхъестественные усилия тщетны, и обе половинки отворились беззвучно. Оно вошло, и оно есть смерть. И князь Андрей умер.
Но в то же мгновение, как он умер, князь Андрей вспомнил, что он спит, и в то же мгновение, как он умер, он, сделав над собою усилие, проснулся.
«Да, это была смерть. Я умер – я проснулся. Да, смерть – пробуждение!» – вдруг просветлело в его душе, и завеса, скрывавшая до сих пор неведомое, была приподнята перед его душевным взором. Он почувствовал как бы освобождение прежде связанной в нем силы и ту странную легкость, которая с тех пор не оставляла его.
Когда он, очнувшись в холодном поту, зашевелился на диване, Наташа подошла к нему и спросила, что с ним. Он не ответил ей и, не понимая ее, посмотрел на нее странным взглядом.
Это то было то, что случилось с ним за два дня до приезда княжны Марьи. С этого же дня, как говорил доктор, изнурительная лихорадка приняла дурной характер, но Наташа не интересовалась тем, что говорил доктор: она видела эти страшные, более для нее несомненные, нравственные признаки.
С этого дня началось для князя Андрея вместе с пробуждением от сна – пробуждение от жизни. И относительно продолжительности жизни оно не казалось ему более медленно, чем пробуждение от сна относительно продолжительности сновидения.
Ничего не было страшного и резкого в этом, относительно медленном, пробуждении.
Последние дни и часы его прошли обыкновенно и просто. И княжна Марья и Наташа, не отходившие от него, чувствовали это. Они не плакали, не содрогались и последнее время, сами чувствуя это, ходили уже не за ним (его уже не было, он ушел от них), а за самым близким воспоминанием о нем – за его телом. Чувства обеих были так сильны, что на них не действовала внешняя, страшная сторона смерти, и они не находили нужным растравлять свое горе. Они не плакали ни при нем, ни без него, но и никогда не говорили про него между собой. Они чувствовали, что не могли выразить словами того, что они понимали.
Они обе видели, как он глубже и глубже, медленно и спокойно, опускался от них куда то туда, и обе знали, что это так должно быть и что это хорошо.
Его исповедовали, причастили; все приходили к нему прощаться. Когда ему привели сына, он приложил к нему свои губы и отвернулся, не потому, чтобы ему было тяжело или жалко (княжна Марья и Наташа понимали это), но только потому, что он полагал, что это все, что от него требовали; но когда ему сказали, чтобы он благословил его, он исполнил требуемое и оглянулся, как будто спрашивая, не нужно ли еще что нибудь сделать.
Когда происходили последние содрогания тела, оставляемого духом, княжна Марья и Наташа были тут.
– Кончилось?! – сказала княжна Марья, после того как тело его уже несколько минут неподвижно, холодея, лежало перед ними. Наташа подошла, взглянула в мертвые глаза и поспешила закрыть их. Она закрыла их и не поцеловала их, а приложилась к тому, что было ближайшим воспоминанием о нем.
«Куда он ушел? Где он теперь?..»
Когда одетое, обмытое тело лежало в гробу на столе, все подходили к нему прощаться, и все плакали.
Николушка плакал от страдальческого недоумения, разрывавшего его сердце. Графиня и Соня плакали от жалости к Наташе и о том, что его нет больше. Старый граф плакал о том, что скоро, он чувствовал, и ему предстояло сделать тот же страшный шаг.
Наташа и княжна Марья плакали тоже теперь, но они плакали не от своего личного горя; они плакали от благоговейного умиления, охватившего их души перед сознанием простого и торжественного таинства смерти, совершившегося перед ними.
Для человеческого ума недоступна совокупность причин явлений. Но потребность отыскивать причины вложена в душу человека. И человеческий ум, не вникнувши в бесчисленность и сложность условий явлений, из которых каждое отдельно может представляться причиною, хватается за первое, самое понятное сближение и говорит: вот причина. В исторических событиях (где предметом наблюдения суть действия людей) самым первобытным сближением представляется воля богов, потом воля тех людей, которые стоят на самом видном историческом месте, – исторических героев. Но стоит только вникнуть в сущность каждого исторического события, то есть в деятельность всей массы людей, участвовавших в событии, чтобы убедиться, что воля исторического героя не только не руководит действиями масс, но сама постоянно руководима. Казалось бы, все равно понимать значение исторического события так или иначе. Но между человеком, который говорит, что народы Запада пошли на Восток, потому что Наполеон захотел этого, и человеком, который говорит, что это совершилось, потому что должно было совершиться, существует то же различие, которое существовало между людьми, утверждавшими, что земля стоит твердо и планеты движутся вокруг нее, и теми, которые говорили, что они не знают, на чем держится земля, но знают, что есть законы, управляющие движением и ее, и других планет. Причин исторического события – нет и не может быть, кроме единственной причины всех причин. Но есть законы, управляющие событиями, отчасти неизвестные, отчасти нащупываемые нами. Открытие этих законов возможно только тогда, когда мы вполне отрешимся от отыскиванья причин в воле одного человека, точно так же, как открытие законов движения планет стало возможно только тогда, когда люди отрешились от представления утвержденности земли.
После Бородинского сражения, занятия неприятелем Москвы и сожжения ее, важнейшим эпизодом войны 1812 года историки признают движение русской армии с Рязанской на Калужскую дорогу и к Тарутинскому лагерю – так называемый фланговый марш за Красной Пахрой. Историки приписывают славу этого гениального подвига различным лицам и спорят о том, кому, собственно, она принадлежит. Даже иностранные, даже французские историки признают гениальность русских полководцев, говоря об этом фланговом марше. Но почему военные писатели, а за ними и все, полагают, что этот фланговый марш есть весьма глубокомысленное изобретение какого нибудь одного лица, спасшее Россию и погубившее Наполеона, – весьма трудно понять. Во первых, трудно понять, в чем состоит глубокомыслие и гениальность этого движения; ибо для того, чтобы догадаться, что самое лучшее положение армии (когда ее не атакуют) находиться там, где больше продовольствия, – не нужно большого умственного напряжения. И каждый, даже глупый тринадцатилетний мальчик, без труда мог догадаться, что в 1812 году самое выгодное положение армии, после отступления от Москвы, было на Калужской дороге. Итак, нельзя понять, во первых, какими умозаключениями доходят историки до того, чтобы видеть что то глубокомысленное в этом маневре. Во вторых, еще труднее понять, в чем именно историки видят спасительность этого маневра для русских и пагубность его для французов; ибо фланговый марш этот, при других, предшествующих, сопутствовавших и последовавших обстоятельствах, мог быть пагубным для русского и спасительным для французского войска. Если с того времени, как совершилось это движение, положение русского войска стало улучшаться, то из этого никак не следует, чтобы это движение было тому причиною.
Этот фланговый марш не только не мог бы принести какие нибудь выгоды, но мог бы погубить русскую армию, ежели бы при том не было совпадения других условий. Что бы было, если бы не сгорела Москва? Если бы Мюрат не потерял из виду русских? Если бы Наполеон не находился в бездействии? Если бы под Красной Пахрой русская армия, по совету Бенигсена и Барклая, дала бы сражение? Что бы было, если бы французы атаковали русских, когда они шли за Пахрой? Что бы было, если бы впоследствии Наполеон, подойдя к Тарутину, атаковал бы русских хотя бы с одной десятой долей той энергии, с которой он атаковал в Смоленске? Что бы было, если бы французы пошли на Петербург?.. При всех этих предположениях спасительность флангового марша могла перейти в пагубность.
В третьих, и самое непонятное, состоит в том, что люди, изучающие историю, умышленно не хотят видеть того, что фланговый марш нельзя приписывать никакому одному человеку, что никто никогда его не предвидел, что маневр этот, точно так же как и отступление в Филях, в настоящем никогда никому не представлялся в его цельности, а шаг за шагом, событие за событием, мгновение за мгновением вытекал из бесчисленного количества самых разнообразных условий, и только тогда представился во всей своей цельности, когда он совершился и стал прошедшим.
На совете в Филях у русского начальства преобладающею мыслью было само собой разумевшееся отступление по прямому направлению назад, то есть по Нижегородской дороге. Доказательствами тому служит то, что большинство голосов на совете было подано в этом смысле, и, главное, известный разговор после совета главнокомандующего с Ланским, заведовавшим провиантскою частью. Ланской донес главнокомандующему, что продовольствие для армии собрано преимущественно по Оке, в Тульской и Калужской губерниях и что в случае отступления на Нижний запасы провианта будут отделены от армии большою рекою Окой, через которую перевоз в первозимье бывает невозможен. Это был первый признак необходимости уклонения от прежде представлявшегося самым естественным прямого направления на Нижний. Армия подержалась южнее, по Рязанской дороге, и ближе к запасам. Впоследствии бездействие французов, потерявших даже из виду русскую армию, заботы о защите Тульского завода и, главное, выгоды приближения к своим запасам заставили армию отклониться еще южнее, на Тульскую дорогу. Перейдя отчаянным движением за Пахрой на Тульскую дорогу, военачальники русской армии думали оставаться у Подольска, и не было мысли о Тарутинской позиции; но бесчисленное количество обстоятельств и появление опять французских войск, прежде потерявших из виду русских, и проекты сражения, и, главное, обилие провианта в Калуге заставили нашу армию еще более отклониться к югу и перейти в середину путей своего продовольствия, с Тульской на Калужскую дорогу, к Тарутину. Точно так же, как нельзя отвечать на тот вопрос, когда оставлена была Москва, нельзя отвечать и на то, когда именно и кем решено было перейти к Тарутину. Только тогда, когда войска пришли уже к Тарутину вследствие бесчисленных дифференциальных сил, тогда только стали люди уверять себя, что они этого хотели и давно предвидели.
Знаменитый фланговый марш состоял только в том, что русское войско, отступая все прямо назад по обратному направлению наступления, после того как наступление французов прекратилось, отклонилось от принятого сначала прямого направления и, не видя за собой преследования, естественно подалось в ту сторону, куда его влекло обилие продовольствия.
Если бы представить себе не гениальных полководцев во главе русской армии, но просто одну армию без начальников, то и эта армия не могла бы сделать ничего другого, кроме обратного движения к Москве, описывая дугу с той стороны, с которой было больше продовольствия и край был обильнее.
Передвижение это с Нижегородской на Рязанскую, Тульскую и Калужскую дороги было до такой степени естественно, что в этом самом направлении отбегали мародеры русской армии и что в этом самом направлении требовалось из Петербурга, чтобы Кутузов перевел свою армию. В Тарутине Кутузов получил почти выговор от государя за то, что он отвел армию на Рязанскую дорогу, и ему указывалось то самое положение против Калуги, в котором он уже находился в то время, как получил письмо государя.
Откатывавшийся по направлению толчка, данного ему во время всей кампании и в Бородинском сражении, шар русского войска, при уничтожении силы толчка и не получая новых толчков, принял то положение, которое было ему естественно.
Заслуга Кутузова не состояла в каком нибудь гениальном, как это называют, стратегическом маневре, а в том, что он один понимал значение совершавшегося события. Он один понимал уже тогда значение бездействия французской армии, он один продолжал утверждать, что Бородинское сражение была победа; он один – тот, который, казалось бы, по своему положению главнокомандующего, должен был быть вызываем к наступлению, – он один все силы свои употреблял на то, чтобы удержать русскую армию от бесполезных сражений.
Подбитый зверь под Бородиным лежал там где то, где его оставил отбежавший охотник; но жив ли, силен ли он был, или он только притаился, охотник не знал этого. Вдруг послышался стон этого зверя.
Стон этого раненого зверя, французской армии, обличивший ее погибель, была присылка Лористона в лагерь Кутузова с просьбой о мире.
Наполеон с своей уверенностью в том, что не то хорошо, что хорошо, а то хорошо, что ему пришло в голову, написал Кутузову слова, первые пришедшие ему в голову и не имеющие никакого смысла. Он писал:
«Monsieur le prince Koutouzov, – писал он, – j'envoie pres de vous un de mes aides de camps generaux pour vous entretenir de plusieurs objets interessants. Je desire que Votre Altesse ajoute foi a ce qu'il lui dira, surtout lorsqu'il exprimera les sentiments d'estime et de particuliere consideration que j'ai depuis longtemps pour sa personne… Cette lettre n'etant a autre fin, je prie Dieu, Monsieur le prince Koutouzov, qu'il vous ait en sa sainte et digne garde,
Moscou, le 3 Octobre, 1812. Signe:
Napoleon».
[Князь Кутузов, посылаю к вам одного из моих генерал адъютантов для переговоров с вами о многих важных предметах. Прошу Вашу Светлость верить всему, что он вам скажет, особенно когда, станет выражать вам чувствования уважения и особенного почтения, питаемые мною к вам с давнего времени. Засим молю бога о сохранении вас под своим священным кровом.
Москва, 3 октября, 1812.
Наполеон. ]
«Je serais maudit par la posterite si l'on me regardait comme le premier moteur d'un accommodement quelconque. Tel est l'esprit actuel de ma nation», [Я бы был проклят, если бы на меня смотрели как на первого зачинщика какой бы то ни было сделки; такова воля нашего народа. ] – отвечал Кутузов и продолжал употреблять все свои силы на то, чтобы удерживать войска от наступления.
В месяц грабежа французского войска в Москве и спокойной стоянки русского войска под Тарутиным совершилось изменение в отношении силы обоих войск (духа и численности), вследствие которого преимущество силы оказалось на стороне русских. Несмотря на то, что положение французского войска и его численность были неизвестны русским, как скоро изменилось отношение, необходимость наступления тотчас же выразилась в бесчисленном количестве признаков. Признаками этими были: и присылка Лористона, и изобилие провианта в Тарутине, и сведения, приходившие со всех сторон о бездействии и беспорядке французов, и комплектование наших полков рекрутами, и хорошая погода, и продолжительный отдых русских солдат, и обыкновенно возникающее в войсках вследствие отдыха нетерпение исполнять то дело, для которого все собраны, и любопытство о том, что делалось во французской армии, так давно потерянной из виду, и смелость, с которою теперь шныряли русские аванпосты около стоявших в Тарутине французов, и известия о легких победах над французами мужиков и партизанов, и зависть, возбуждаемая этим, и чувство мести, лежавшее в душе каждого человека до тех пор, пока французы были в Москве, и (главное) неясное, но возникшее в душе каждого солдата сознание того, что отношение силы изменилось теперь и преимущество находится на нашей стороне. Существенное отношение сил изменилось, и наступление стало необходимым. И тотчас же, так же верно, как начинают бить и играть в часах куранты, когда стрелка совершила полный круг, в высших сферах, соответственно существенному изменению сил, отразилось усиленное движение, шипение и игра курантов.
Русская армия управлялась Кутузовым с его штабом и государем из Петербурга. В Петербурге, еще до получения известия об оставлении Москвы, был составлен подробный план всей войны и прислан Кутузову для руководства. Несмотря на то, что план этот был составлен в предположении того, что Москва еще в наших руках, план этот был одобрен штабом и принят к исполнению. Кутузов писал только, что дальние диверсии всегда трудно исполнимы. И для разрешения встречавшихся трудностей присылались новые наставления и лица, долженствовавшие следить за его действиями и доносить о них.
Кроме того, теперь в русской армии преобразовался весь штаб. Замещались места убитого Багратиона и обиженного, удалившегося Барклая. Весьма серьезно обдумывали, что будет лучше: А. поместить на место Б., а Б. на место Д., или, напротив, Д. на место А. и т. д., как будто что нибудь, кроме удовольствия А. и Б., могло зависеть от этого.
В штабе армии, по случаю враждебности Кутузова с своим начальником штаба, Бенигсеном, и присутствия доверенных лиц государя и этих перемещений, шла более, чем обыкновенно, сложная игра партий: А. подкапывался под Б., Д. под С. и т. д., во всех возможных перемещениях и сочетаниях. При всех этих подкапываниях предметом интриг большей частью было то военное дело, которым думали руководить все эти люди; но это военное дело шло независимо от них, именно так, как оно должно было идти, то есть никогда не совпадая с тем, что придумывали люди, а вытекая из сущности отношения масс. Все эти придумыванья, скрещиваясь, перепутываясь, представляли в высших сферах только верное отражение того, что должно было совершиться.
«Князь Михаил Иларионович! – писал государь от 2 го октября в письме, полученном после Тарутинского сражения. – С 2 го сентября Москва в руках неприятельских. Последние ваши рапорты от 20 го; и в течение всего сего времени не только что ничего не предпринято для действия противу неприятеля и освобождения первопрестольной столицы, но даже, по последним рапортам вашим, вы еще отступили назад. Серпухов уже занят отрядом неприятельским, и Тула, с знаменитым и столь для армии необходимым своим заводом, в опасности. По рапортам от генерала Винцингероде вижу я, что неприятельский 10000 й корпус подвигается по Петербургской дороге. Другой, в нескольких тысячах, также подается к Дмитрову. Третий подвинулся вперед по Владимирской дороге. Четвертый, довольно значительный, стоит между Рузою и Можайском. Наполеон же сам по 25 е число находился в Москве. По всем сим сведениям, когда неприятель сильными отрядами раздробил свои силы, когда Наполеон еще в Москве сам, с своею гвардией, возможно ли, чтобы силы неприятельские, находящиеся перед вами, были значительны и не позволяли вам действовать наступательно? С вероятностию, напротив того, должно полагать, что он вас преследует отрядами или, по крайней мере, корпусом, гораздо слабее армии, вам вверенной. Казалось, что, пользуясь сими обстоятельствами, могли бы вы с выгодою атаковать неприятеля слабее вас и истребить оного или, по меньшей мере, заставя его отступить, сохранить в наших руках знатную часть губерний, ныне неприятелем занимаемых, и тем самым отвратить опасность от Тулы и прочих внутренних наших городов. На вашей ответственности останется, если неприятель в состоянии будет отрядить значительный корпус на Петербург для угрожания сей столице, в которой не могло остаться много войска, ибо с вверенною вам армиею, действуя с решительностию и деятельностию, вы имеете все средства отвратить сие новое несчастие. Вспомните, что вы еще обязаны ответом оскорбленному отечеству в потере Москвы. Вы имели опыты моей готовности вас награждать. Сия готовность не ослабнет во мне, но я и Россия вправе ожидать с вашей стороны всего усердия, твердости и успехов, которые ум ваш, воинские таланты ваши и храбрость войск, вами предводительствуемых, нам предвещают».
Но в то время как письмо это, доказывающее то, что существенное отношение сил уже отражалось и в Петербурге, было в дороге, Кутузов не мог уже удержать командуемую им армию от наступления, и сражение уже было дано.
2 го октября казак Шаповалов, находясь в разъезде, убил из ружья одного и подстрелил другого зайца. Гоняясь за подстреленным зайцем, Шаповалов забрел далеко в лес и наткнулся на левый фланг армии Мюрата, стоящий без всяких предосторожностей. Казак, смеясь, рассказал товарищам, как он чуть не попался французам. Хорунжий, услыхав этот рассказ, сообщил его командиру.
Казака призвали, расспросили; казачьи командиры хотели воспользоваться этим случаем, чтобы отбить лошадей, но один из начальников, знакомый с высшими чинами армии, сообщил этот факт штабному генералу. В последнее время в штабе армии положение было в высшей степени натянутое. Ермолов, за несколько дней перед этим, придя к Бенигсену, умолял его употребить свое влияние на главнокомандующего, для того чтобы сделано было наступление.
– Ежели бы я не знал вас, я подумал бы, что вы не хотите того, о чем вы просите. Стоит мне посоветовать одно, чтобы светлейший наверное сделал противоположное, – отвечал Бенигсен.
Известие казаков, подтвержденное посланными разъездами, доказало окончательную зрелость события. Натянутая струна соскочила, и зашипели часы, и заиграли куранты. Несмотря на всю свою мнимую власть, на свой ум, опытность, знание людей, Кутузов, приняв во внимание записку Бенигсена, посылавшего лично донесения государю, выражаемое всеми генералами одно и то же желание, предполагаемое им желание государя и сведение казаков, уже не мог удержать неизбежного движения и отдал приказание на то, что он считал бесполезным и вредным, – благословил совершившийся факт.
Записка, поданная Бенигсеном о необходимости наступления, и сведения казаков о незакрытом левом фланге французов были только последние признаки необходимости отдать приказание о наступлении, и наступление было назначено на 5 е октября.
4 го октября утром Кутузов подписал диспозицию. Толь прочел ее Ермолову, предлагая ему заняться дальнейшими распоряжениями.
– Хорошо, хорошо, мне теперь некогда, – сказал Ермолов и вышел из избы. Диспозиция, составленная Толем, была очень хорошая. Так же, как и в аустерлицкой диспозиции, было написано, хотя и не по немецки:
«Die erste Colonne marschiert [Первая колонна идет (нем.) ] туда то и туда то, die zweite Colonne marschiert [вторая колонна идет (нем.) ] туда то и туда то» и т. д. И все эти колонны на бумаге приходили в назначенное время в свое место и уничтожали неприятеля. Все было, как и во всех диспозициях, прекрасно придумано, и, как и по всем диспозициям, ни одна колонна не пришла в свое время и на свое место.
Когда диспозиция была готова в должном количестве экземпляров, был призван офицер и послан к Ермолову, чтобы передать ему бумаги для исполнения. Молодой кавалергардский офицер, ординарец Кутузова, довольный важностью данного ему поручения, отправился на квартиру Ермолова.
– Уехали, – отвечал денщик Ермолова. Кавалергардский офицер пошел к генералу, у которого часто бывал Ермолов.
– Нет, и генерала нет.
Кавалергардский офицер, сев верхом, поехал к другому.
– Нет, уехали.
«Как бы мне не отвечать за промедление! Вот досада!» – думал офицер. Он объездил весь лагерь. Кто говорил, что видели, как Ермолов проехал с другими генералами куда то, кто говорил, что он, верно, опять дома. Офицер, не обедая, искал до шести часов вечера. Нигде Ермолова не было и никто не знал, где он был. Офицер наскоро перекусил у товарища и поехал опять в авангард к Милорадовичу. Милорадовича не было тоже дома, но тут ему сказали, что Милорадович на балу у генерала Кикина, что, должно быть, и Ермолов там.
– Да где же это?
– А вон, в Ечкине, – сказал казачий офицер, указывая на далекий помещичий дом.
– Да как же там, за цепью?
– Выслали два полка наших в цепь, там нынче такой кутеж идет, беда! Две музыки, три хора песенников.






