Хилья
| Мухаммед Мухаммад - (محمد) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семья
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имена и титулы
Полное имя
Абуль-Касим Мухаммад ибн Абдуллах ибн Титулы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биография
Жизнь в Мекке
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хи́лья (араб. حلية (мн. ḥilan, ḥulan); тур. hilye (мн. hilyeler) буквально «орнамент, украшение») — религиозный жанр в литературе Турции в период Османской империи, связанный со словесным описанием пророка Мухаммеда.
Хилья имеет непосредственное отношение к шамаиль, описанном в сборнике хадисов Абу Исы ат-Тирмизи «Аш-шамаиль аль-Мухаммадия ва аль-хасаиль аль-Мустафавия» («Книга о благородных чертах характера Пророка Мухаммада»).
В народном исламе времён Османской империи существовало поверье, что обладание описанием образа Мухаммеда и его прочтение защищает человека при жизни и после смерти от подстерегающих его бед. Выполненные прекрасной каллиграфией и иллюминированием, хильи носили с собой в качестве оберегов и амулетов.[1][2]
В XVII веке в Османской империи хилья получила законченную форму и стала одним из видов искусства. Хильи, заключённые в рамку, вешались в качестве украшения на стену.
Позднее хилья стала распространяться также на четырёх праведных халифов, сподвижников пророка Мухаммеда, его внуков (Хасана ибн Али и Хусейна ибн Али) и мусульманских святых.[3]
Содержание
Рождение в хадисе
Хилья возникла и как литературный жанр, и как разновидность графического искусства, в недрах шамаиля, посвящённого внешнему виду и характеру пророка Мухаммеда. Источниками хилья служат шесть книг хадисов и наряду с другими источниками хадисов, которые авторство которых приписывают Аише бинт Абу Бакр, Ибн Аббасу, Абу Хурайре и Хасану ибн Али. Лучшим источником по этому вопросу является сборник хадисов имама Абу Исы ат-Тирмизи «Аш-шамаиль аль-Мухаммадия ва аль-хасаиль аль-Мустафавия» («Книга о благородных чертах характера Пророка Мухаммада»). В книге содержатся хадисы, в которых дано описание его духовности и телесности Мухаммеда, а принятие и влияние этого труда привело к тому, что понятие «шамаиль» (внешний вид) стало применяться по отношению к его высоким нравам и неповторимой телесной красоте. Самый известный и достоверный хадис относится к его двоюродному брату и зятю Али ибн Абу Талибу.[4]
Отличие шамаиль от хилья заключает в том, что в первом случае просто подробно описываются духовные и телесные качества Мухаммеда, а во втором это же сделано в художественном стиле.[5] Шамаиль посвящены труды Абу Бакра аль-Байхаки «Далаиль ан-Нубувах» (араб. دلائل النبوة — Доказательства Пророчества), Абу Нуайма аль-Исфахани «Тарих-и Исфахан», Абуль-Фараджа ибн аль-Джаузи «Алль-Вафа би Фадаиль аль-Мустафа» и Кади Ийяда «Аш-Шифа би-та’риф хукук аль-Мустафа» (араб. الشفا بتعريف حقوق المصطفى).[5]
Литературный жанр
Хотя многие хилья присутствуют в турецкой литературе, тем не менее персидская литература достаточно бедна примерами жанров шамаиль и хилья. Абу Нуайма аль-Исфахани в своём труде «Хильятуль авлия» писал о хилья, но речь шла не о Мухаммеде. По этой причине хилья считается одним из жанров именно турецкой литературы.[5] Турецкая литература содержит ряд ранних произведений, которые вероятно вдохнули жизнь в хилья, сделав его полноценным жанром. Сулейман Бурса в «Весилетун-неджат» и Мехмед Языджиоглу в «Мухаммадия» дают описание Мухаммеда.[3]
В 255 стихе поэмы «Рисале-и Рисуль», созданной не позднее 1562 года, касательно черт Мухаммеда пишет, представленный Шехзаде Мустафе, поэт Шериф.[5] Считается, что это самое раннее упоминание о хилья в турецкой литературе.[3] Однако, Мехмет Хакани в «Хилья-и Шериф»[6] считается лучшим примером жанра.[7] Первая хилья в прозе была написана Саад-эд-дином в «Хилья-и Селиле ве Шемаиль-и Алилья.[3]
Несмотря на то, что первоначально жанр хилья повествовал только о Мухаммеде, в более позднее время он также распространился на четырёх праведных халифов, сподвижников пророка Мухаммеда, его внуков (Хасана ибн Али и Хусейна ибн Али) и мусульманских святых.[3] Второй по значимости после Хаканни является хилья Шеври Ибрагима Челеби «Хилья-и Чинар-Яр-и Гузин» (1630), посвящённая описанию внешности первых четырёх халифов.[8] Другая важная хилья была написана Несатом Ахмедом Деде, в 184 стихе поэмы которого повествуется о внешнем облике 14 пророков и Адама.[8] Ещё три известные хилья принадлежат Дурсунзаде Бакаи, написавшему о Мухаммеде и четырёх праведных халифах поэму «Хилья-туль-Анбийя ве Чеяр-и Гузин», Нахифи — прозаическая хилья «Нужет-уль-Ахяр фи Теркумент-ич-Чемил-и», и «Назир-и Хакани» Арифу Сулейману-бею.[9]
Хилья могут быть написаны как в стихах (обычно стихосложение в виде маснави), так и в прозе. Также они могут одновременно выступать в двух темах турецкой мусульманской литературы, посвящённых рождению и жизни Мухаммеда (мавлид) и ночному путешествию (Исра и мирадж).[10]
Графическое искусство
Пока поэты и писатели разрабатывали хилья как литературный жанр, каллиграфы и художники превратили её в вид изобразительного искусства. Благодаря им хилья сложилась в XVII веке в Османской империи, сосредоточившись на личности пророка Мухаммеда.[11] Также распространению хилья способствовала народное поверье в то, что её присутствие в доме убережёт от несчастий, нищеты, страха и шайтана.[5] Понятие хилья стало использоваться для обозначения таких художественных предметов, где был представлен текст, посвящённый Мухаммеду.[12] Таким образом с помощью хилья после своей кончины изображался Муххамед, что стало восприниматься как талисман, защищающий дом, детей, путешественников, а также человека попавшего в сложные жизненные обстоятельства.[7] Кроме того целью хилья провозглашалась помощь в визуализации Мухаммеда, как посредника между священным и мирским, между сакральным и профанным мирами, она давала возможность сблизиться и соединиться с ним, используя каллиграфические изображения с благословенными словами.[7][13][14]
 Карманные хилья для компактности писались на бумаге и складывались втрое. Линия сгиба особо выделялись при помощи ткани или кожи. Другие хилья могли быть изготовлены из дерева.[11] Хилья, которые вешали на стену, изготавливались из бумаги и устанавливались на деревянной дощечке, хотя в XIX веке толщина бумаги для хилья несколько уменьшилась.[11] Верхняя часть хилья обычно представляла собой резное изображение короны. Она богато украшалась иллюминированием и миниатюрами с совместным или раздельным изображением Медины, усыпальницы Мухаммеда в Масджиды ан-Набави и Каабы.[15]
Карманные хилья для компактности писались на бумаге и складывались втрое. Линия сгиба особо выделялись при помощи ткани или кожи. Другие хилья могли быть изготовлены из дерева.[11] Хилья, которые вешали на стену, изготавливались из бумаги и устанавливались на деревянной дощечке, хотя в XIX веке толщина бумаги для хилья несколько уменьшилась.[11] Верхняя часть хилья обычно представляла собой резное изображение короны. Она богато украшалась иллюминированием и миниатюрами с совместным или раздельным изображением Медины, усыпальницы Мухаммеда в Масджиды ан-Набави и Каабы.[15]
В Османской империи переписчики обладали большой искусностью в тонкой каллиграфии и иллюминировании. Являясь тестовыми изображениями пророка Мухаммеда, хилья на протяжении столетий украшали жилые дома. Они часто имели обрамление и рамку и использовались в качестве предмета интерьера в домах, мечетях и святых местах, подчас имея то же значение, какое имеют изображения Иисуса Христа в христианстве.[14][16] Являясь символическим видом искусства, хилья позволяет эстетически напомнить о том, что Мухаммед жил на Земле, при этом не превращая его в «кумира».[17] Хотя не часто, но имеют место случаи, когда некоторые хилья воплощают в себе иконописное изображение, поскольку являются подражанием триптиху.[18]
Считается, что первые хилья были выполнены известным каллиграфом Хафизом Османом (1642–1698).[11] Он был одним из тех писцов, кто первым стал выполнять подобные работы, хотя также называется Ахмед Карахисари (1468–1556), который возможно создал своей образец хилья на век раньше.[19] Хахиз Осман получил известность ещё в юности, когда стал изготавливать карманные хилья, один из которых датируется 1668 годом, имеет размеры 22x14 сантиметров и выполнены шрифтом насх. В нём дано на арабском языке описание Мухаммеда, а ниже перевод на турецкий язык, который написан по диагонали для того, чтобы придать тексту треугольные очертания.[11]
Особенность текстов хилья заключается в их похвальном отзыве о внешности и нраве пророка Мухаммеда.[14] Имея словесное описание внешности Мухаммеда, хилья в то же время не содержит его прямых изображений, которые дают свободу воображению читателя, как того требует аниконизм в исламском искусстве.[16]
Канонические стили
Закладывание основ канона хилья связывают с именем Хафиза Османа.[9]
 Сам канон включает:[7]
Сам канон включает:[7]
- «заглавие» (тур. baş makam) — верхняя часть, содержащая басмалу и благословение.[12]
- «сердцевина» (тур. göbek) — круглая форма, содержащая первую часть основного текста, написанная насхом.[12][20] Она часто содержит описание Али пророка Мумаммеда (согласно Абу Исе ат-Тирмизи), которое иногда имеет незначительные расхождения.[21]
- «полумесяц» (тур. hilâl) — дополнительный раздел без текста, обычно имеющий позолоту. Полумесяц окружает «сердцевину» сзади, а вместе они обозначают Солнце и Луну.[12][20]
- «углы» (тур. kösheler) — четыре округлые части, которые окружают «сердцевину» и, как правило, содержат имена четырёх праведных халифов, в других случаях самого Мухаммеда, его сподвижников, а иногда и имена Аллаха.[12][20]
- «пояс» (тур. kuşak) — раздел следующий за «сердцевиной» и «полумесяцем», обычно включающий следующие аяты из Корана:
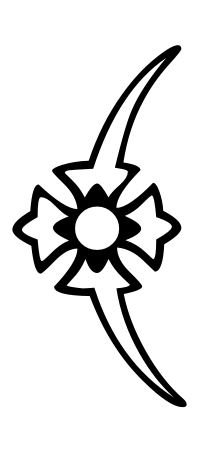
Мы [Аллах] послали тебя [Мухаммед] только как милость для миров. Коран [koran.islamnews.ru/?syra=21&ayts=107&aytp=107&kra=on&orig=on&original=og1&dictor=8&s= 21:107] (Крачковский)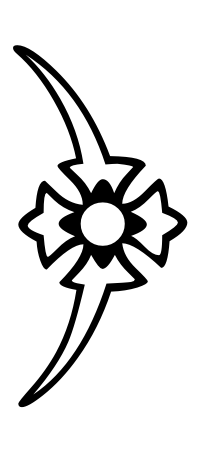
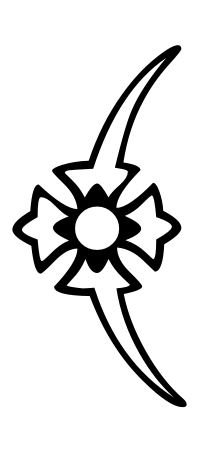
и, поистине, ты [Мухаммед] — великого нрава. Коран [koran.islamnews.ru/?syra=68&ayts=4&aytp=4&kra=on&orig=on&original=og1&dictor=8&s= 68:4] (Крачковский)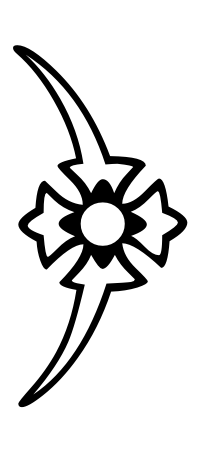
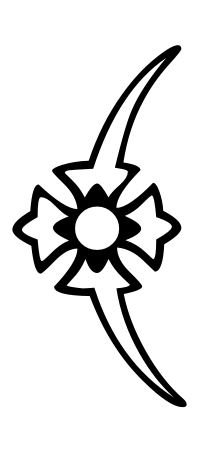
Он [Аллах] — тот, который послал Своего посланника с прямым руководством и верой истины, чтобы дать ей перевес над всякой верой; довольно Аллаха как свидетеля! Коран [koran.islamnews.ru/?syra=48&ayts=28&aytp=29&kra=on&orig=on&original=og1&dictor=8&s= 48:28,29] (Крачковский)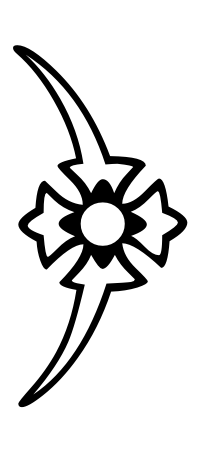
- «край» (тур. etek) — раздел, который содержит вывод из текста, начатого в «сердцевине», короткую молитву и подпись художника. Если основной текст полностью уместился в «сердцевине», то «край» может отсутствовать.[12]
- «пробелы» (тур. koltuklar) — две области, у каждого «края», где обычно представлен какой-то орнамент или иллюминирование, но совсем нет никакого текста, хотя иногда могут быть выписаны имена кого-то из десяти сподвижников пророка Мухаммеда.[12][20]
- «внешняя/внутренняя рамка» (тур. iç/dış pervaz) — декоративные обрамления, которые расположены вровень с текстом.[20]
Оставшаяся часть пространства заполняется османским иллюминированием, которое для каждого исторического периода имеет свой стиль. «Углы» и «пояс» обычно украшены сулюсом, в то время как «заглавие», содержащее басмалу, выполнено с использованием мухаккака.[22] В отличие от литературного жанра хилья, хилья как вид изобразительного искусства содержит не стихи, а прозаический текст.[11]
Турецкие названия некоторых составных частей канона имеют антропоморфную символичность, намекая на части человеческого тела, что призвано «семантически напомнить присутствие пророка Мухаммеда с помощью графических построений».[23] Существует предположение[21][24], что на создание хилья Хафиза Османа вдохновила поэма «Хилья-и Шериф», которая вероятно основана на ложном хадисе, согласно которому пророк Мухаммед сказал: «…Тот, кто видел мою хилью после меня, как будто он видел самого меня…». Если это предположение окажется верным, то хилья в таком случае создавались не для чтения, а для умозрения и созерцания.[21]
Каноническое изображение хилья складывалось начиная с XVII века. Некоторые образцы XIX века и два, принадлежащие кисти Хафиза Османа, можно увидеть ниже.
- Hilye-i serif 7.jpg
Хилья Мехмеда Тахира (ум. 1848)
Тем не менее отклонения от канона происходили и итогом этого стало появление новых образцов.[12]
- Hilye Abdulkadir Surki Efendi.JPG
Хилья (XIX век). Имя Мухаммеда заключено в круг вместе с пятикратным повторением слов «Инна Аллаху аля кулли шейн Кадир», что означает «Аллах властен над каждой вещью».
- Hilye with relics.JPG
Хилья, сочетающая текст вместе с изображениями известных реликвий Мухаммеда. XIX век, Османская империя. Чёрно-белая репродукция.
- Fft16 mf1741029.Jpeg
Хилья в свободной форме (XVIII век).
- Hilye-i Serife Sadberg.Jpeg
Хилья в свободной форме (XVIII век).
- Rose Hilye.jpg
Хилья в виде розовой розы (XVIII век).
Популярность графики
Есть несколько причин, благодаря которым графическое искусство хилья получило широкое распространение.[3][5] В исламе существует запрет на живописное изображение людей из-за опасения возникновения идолопоклонства (ширк). Поэтому исторически исламское искусство нашло своё выражение в каллиграфии, миниатюре и прочих видах искусства, где можно обойтись без изображения человека. На миниатюрах лицо пророка Мухаммеда или скрыто, или на этом месте остаётся пробел. Многие исследователи отмечают, что другой причиной является та безграничная любовь, которую мусульмане испытывают к Мухаммеду, что побуждает их искать способы выразить его телесную и нравственную красоту.[3][5]
Традиция мусульман выставлять хилья в своих домах основана, как на чувстве глубокого почтения к личности Мухаммеда, так на вере в то, что это убережёт от несчастий. Это отмечает в своей поэме «Хилья-и шериф» Хакани, говоря о том, что надеется на заступничество (шифат) Мухаммеда во время конца света. Ещё одна причина навеяна апокрифическим хадисом в той же поэме, где отмечается, что помнящий хилья, относящиеся к Мухаммеду, увидит его в своих снах, а также получит большую награду в нынешней и загробной жизни. Другие авторы отмечали своё желание воздать похвалу Мухаммеду, другим пророкам и праведным халифам, как и желание сохранить о них память.[5]
Поэма Хакани стала предметом восхищения для многих представителей турецкого народа. Она получила широкое распространение благодаря искусству каллиграфии, воплотившись на бумаге и деревянных дощечках, а также стала читаться с музыкальным сопровождением во время празднований Мавлида.[11][25]
Неосманские стили
Как вид искусства хилья ограничивалась пределами Османской империи. Небольшое число образцов хилья было изготовлено в Иране,[26] они отражают стремление шиитов приспособить хилья к своему жизненному и религиозному укладу: подстрочный перевод на персидский язык соседствует с арабским подлинником и перечислением имен двенадцати праведных имамов; в XIX веке некоторые персидские хилья сочетали в себе канонический вид вместе с местным представлением облика Мухаммеда и Али.[27]
К современным представителям мастеров неканонического хилья можно отнести известного пакистанского каллиграфа Рашида Батта, а также американского каллиграфа Мохамеда Закарии.[17]
Традиции в Турции
В Турции многие века была распространена ныне исчезающая традиция в знак пожелания супружеского счастья и безопасности дома в качестве свадебного подарка молодожёнам преподносить хилья, выполненную на деревянной дощечке.[11] А сопровождавшее эти хилья покрывало было частью религиозного фольклора домохозяйств Стамбула.[11]
Начиная с османских времён каждый каллиграф обязан изготовить одну хилью используя шрифты мухаккак, сулюс и насх.[22] Это является обязательным требованием для каллиграфа, желающего получить свидетельство искусности (иказетнаме).[11]
Богословский взгляд
Салафитская организация «Фонд Сулеймание» в своей фетве определила хилья как произведение искусства, но не имеющее никакого религиозного значения, включая те образцы, которые висят в домах. Таким образом им отказывается в наличии какого-либо чудесного воздействия.[28]
Ключевая хилья в поэзии: Хилья-и Шериф
Поэма Мехмета Хакани «Хилья-и Шариф» («Благородное описание»), созданная в 1598—1599 годы, состоит из 712 стихов, где Али даёт описание внешности Мухаммеда, а затем к каждому из них добавлено пояснение в виде 12—20 стихов.[29] Хакани не был признан современниками как выдающийся поэт, однако его произведение было очень популярным и стало вехой в формировании литературного жанра хилья.[29] Жившие позднее поэты Шеври, Несати и Нафихи высоко ценили Хакани и старались следовать по его стопам.[5]
В своей поэме автор приводит хадис, который он приписывает Али.[5] В нём повествуется о том, что незадолго до смерти Мухаммеда его дочь Фатима, плача, сказала ему: «О, пророк Аллаха, я больше увижу твоего лица!». Тогда Мухаммед приказал: «О, Али, опиши мою внешность, чтобы видеть мои качества также ясно, как меня». Точное происхождение этого хадиса неизвестно. Будучи апокрифичным, он тем не менее оказал заметное влияние на развитие жанра хилья, поскольку неоднократно был повторён другими авторами хилья.[3]
Кроме того Хакани приводит ещё один хадис, который он также приписывает Али. Этот хадис имеет неясное происхождение и вероятно был в обращении начиная с IX века[30], но не содержится в сборниках достоверных хадисов.[13] Как и первый хадис, это также неоднократно воспроизводился многими авторами хилья и оказал существенное влияние на жанр:[5][7][17][31]
Для того, кто видит мою хилью после моей смерти, это как если бы он видел меня самого, и тот, кто видит это, тоскует по мне, для того Аллах сделает преисподнюю недоступной, и он не будет воскрешён нагим в Судный день
Хилья Хакани включает историю нищего, пришедшего к аббасидскому халифу Харуну ар-Рашиду. Нищий представил ему отрывок бумаги, на котором была написана хилья, посвящённая Мухаммеду. Ар-Рашид был настолько рад увидеть этот текст, что долго угощал пришедшего дервиша и на прощание подарил ему целый мешок различных драгоценностей. Ночью ему приснился Мухаммед, который сказал: «Ты приютил и оказал честь этому нищему, поэтому я сделаю тебя счастливым. Аллах поведал мне хорошую новость о том, что всякий смотрящий на мою хилью получил восторженность от этого, прижимая груди и защищая ценой своей жизни, будет убережён от огня преисподней в Судный день; он не будет страдать ни в этом, ни в том мире. Ты будешь удостоен узреть моё лицо, и более того, мои священные огни».[5]
В дальнейшем для других авторов хилья, которые следовали или подражали Хакани, во введении (тур. havas-i hilye) стало традиционным ссылаться на хадисы из его хильи о том, что увидеть Мухаммеда во сне равносильно тому, что увидеть его на самом деле. История Харуна Ар-Рашида также часто упоминается и другими авторами.[10] Эти истории из поэмы Хакани породили поверье в то, что чтение и написание хилья защищает человека от всех бед и несчастий как в этом, так и в загробном мире.
Напишите отзыв о статье "Хилья"
Примечания
- ↑ Bakker, 2009, p. 209.
- ↑ Uğur, 1998, p. 36.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Yazar, 2007.
- ↑ Brockopp, 2010, p. 130.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Erdoğan, 2007.
- ↑ Hakani, 1889.
- ↑ 1 2 3 4 5 Gruber, 2010, p. 131–133.
- ↑ 1 2 Erkal, 1999.
- ↑ 1 2 Velioğlu, 2012.
- ↑ 1 2 İspirli, 2010.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Derman, 2000.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Derman, 1998, p. 36.
- ↑ 1 2 Zakariya, 2003-2004.
- ↑ 1 2 3 Safi, 2009, p. 276.
- ↑ Faruk Taşkale. [www.faruktaskale.com/hilye-i-serife-the-charactrestics-of-the-prophet-muhammed Hilye-i Şerife] (Turkish). Проверено 20 января 2012.
- ↑ 1 2 Peters, 2010, p. 160–161.
- ↑ 1 2 3 Ernst, 2004, p. 76–78.
- ↑ Paola Torre. [www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=object;ISL;it;Mus01;3;en Triptych with 'hilya-i-sherif' (noble description)]. Museum With No Borders. Проверено 27 января 2012.
- ↑ Abdulkadiroğlu, 1991.
- ↑ 1 2 3 4 5 Osborn, 2008, p. 236–239.
- ↑ 1 2 3 Shick, 2008.
- ↑ 1 2 Ali, 2001.
- ↑ Gruber, 2010, p. 132.
- ↑ Gruber, 2010.
- ↑ Poyraz, 2007.
- ↑ [www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=6490 حِليهنويسى]. Encyclopaedia Islamica. Проверено 20 января 2012.
- ↑ Grabar, 2003.
- ↑ Süleymaniye Vakfı. [www.fetva.net/yazili-fetvalar/hilye-i-serif-nedir-bunu-uzerimizde-tasimak-sevap-midir.html Hilye-i Şerif nedir? Bunu üzerimizde taşımak sevap mıdır?] (Turkish) (3 March 2011). Проверено 1 июня 2015.
- ↑ 1 2 Gibb, 1904.
- ↑ Soucek, 2000.
- ↑ Taşkale, Gündüz, 2006, p. 35.
Литература
- Abdulkadiroğlu A. İlk Hilye Hattatı Ahmed Karahisari mi? // Milli Kültür. — 1991. — № 82. — P. 48–52.
- Ali W. [www.staff.science.uu.nl/~gent0113/islam/downloads/ejos_4_7.pdf From the Literal to the Spiritual: The Development of the Prophet Muhammad's Portrayal from 13th Century Ilkhanid Miniatures to 17th Century Ottoman Art] // Electronic Journal of Oriental Studies. — 2001. — № 7. — P. 1–24. — ISSN [www.sigla.ru/table.jsp?f=8&t=3&v0=0928-6802&f=1003&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&bf=4&b=&d=0&ys=&ye=&lng=&ft=&mt=&dt=&vol=&pt=&iss=&ps=&pe=&tr=&tro=&cc=UNION&i=1&v=tagged&s=0&ss=0&st=0&i18n=ru&rlf=&psz=20&bs=20&ce=hJfuypee8JzzufeGmImYYIpZKRJeeOeeWGJIZRrRRrdmtdeee88NJJJJpeeefTJ3peKJJ3UWWPtzzzzzzzzzzzzzzzzzbzzvzzpy5zzjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzztzzzzzzzbzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzvzzzzzzyeyTjkDnyHzTuueKZePz9decyzzLzzzL*.c8.NzrGJJvufeeeeeJheeyzjeeeeJh*peeeeKJJJJJJJJJJmjHvOJJJJJJJJJfeeeieeeeSJJJJJSJJJ3TeIJJJJ3..E.UEAcyhxD.eeeeeuzzzLJJJJ5.e8JJJheeeeeeeeeeeeyeeK3JJJJJJJJ*s7defeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeSJJJJJJJJZIJJzzz1..6LJJJJJJtJJZ4....EK*&debug=false 0928-6802].
- Bakker F. L. [books.google.com/books?id=4KNSp-uEO18C&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false The challenge of the silver screen: an analysis of the cinematic portraits of Jesus, Rama, Buddha and Muhammad]. — Brill, 2009. — 282 p. — ISBN 978-90-04-16861-9.
- Behiery V. Hilya // Muhammad in History, Thought, and Culture: An Encyclopedia of the Prophet of God in (2 vols.) / Edited by C. Fitzpatrick and A. Walker. — Santa Barbara: ABC-CLIO, 2014. — Vol. I. — P. 258–263.
- Brockopp J. E. [books.google.ru/books?id=o58K2t344YQC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false The Cambridge companion to Muhammad]. — New York: Cambridge University Press, 2010. — 325 p. — ISBN 978-0-521-71372-6.
- Derman M. U. Letters in gold: Ottoman calligraphy from the Sakıp Sabancı collection, Istanbul. — Metropolitian Museum of Art, 1998. — 196 p. — ISBN 978-0-87099-873-7.
- Derman M. U. [ru.scribd.com/doc/71303374/Hat-Sanat%C4%B1nda-Hilye-i-%C5%9Eerif-U%C4%9Fur-DERMAN Hat Sanatında Hilye-i Şerif] (тур.) // Scribd. — 2000.
- Erdoğan M. [eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/1514.pdf Hâkim Mehmed Efendi’nin Manzum Hilyesi] (тур.) // Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. — 2007. — Num. 11. — P. 317–357.
- Erkal A. Türk Edebiyatında Hilye ve Cevri'nin "Hilye-i Çâr Yâr-ı Güzin"i (тур.) // Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. — 1999. — Num. 12. — P. 111–131.
- Ernst C. W. [books.google.co.uk/books?id=DOWn22EkJsQC&pg=PA77&hl=ru#v=onepage&q&f=false Following Muhammad: Rethinking Islam in the Contemporary World]. — UNC Press Books, 2004. — 244 p. — ISBN 978-0-8078-5577-5.
- Gibb E. J. W. A history of Ottoman poetry. — Luzac, 1904. — Vol. 3.
- Grabar O. The Story of Portraits of the Prophet Muhammad // Écriture, Calligraphie et Peinture. — 2003. — P. 19–38.
- Gruber C. J. [books.google.co.uk/books?id=lIY0oAd6Y40C&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false The Islamic manuscript tradition: ten centuries of book arts in Indiana University collections]. — Indiana University Press, 2010. — ISBN 978-0-253-35377-1.
- Hakani M. [ia802703.us.archive.org/29/items/hilyeihakani00hakauoft/hilyeihakani00hakauoft.pdf Hilye-i Hakani]. — Der Saader Mehmed Bey Matbaasi, 1889. — 64 p.
- İspirli S. A. [dokuman.tsadergisi.org/dergiler_pdf/2010/2010-Agustos/7.pdf Mustafa Fehmi Gerçeker'in Hilye-i Fahr-ı Âlem İsimli Eseri Üzerine] (тур.) // Turkısh Studies. — 2010. — Num. 2. — P. 21–36.
- Osborn J. R. [books.google.co.uk/books?id=YtQeZt7ybjwC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false The type of calligraphy: Writing, print, and technologies of the Arabic alphabet]. — ProQuest, 2008. — 397 p. — ISBN 978-0-549-51769-6.
- Peters F. E. [books.google.com/books?id=olEi-1LZYYQC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false Jesus and Muhammad: Parallel Tracks, Parallel Lives]. — Oxford University Press, 2010. — 240 p. — ISBN 978-0-19-974746-7.
- Poyraz Y. Hâkim Seyyid Mehmed Efendi’nin "Nazire-i Hilye-i Hâkanî" Adlı Eseri (тур.) // Turkish Studies. — 2007. — Num. 2(3). — P. 449–484.
- Safi O. Memories of Muhammad: why the Prophet matters. — HarperCollins, 2009. — 346 p. — ISBN 978-0-06-123134-6.
- Shick I. C. The Iconicity of Islamic Calligraphy in Turkey // RES: Anthropology and Aesthetics. — 2008. — № 53/54. — P. 211–224.
- Soucek P. [web.archive.org/web/20080516181858/cmes.hmdc.harvard.edu/files/Roxburgh_Reading1.pdf The Theory and Practice of Portraiture in the Persian Tradition] // Muqarnas. — 2000. — № 17. — P. 97–108. — DOI:10.1163/22118993-90000008.
- Taşkale F., Gündüz H. Hat sanatında hilye-i şerife: Hz. Muhammed'in özellikleri. — Antik A.Ş. Kültür yayınları, 2006. — ISBN 978-975-7843-07-8.
- Velioğlu A. K. Hilye-i Şerif (тур.) // Klasik Türk Sanatları Vakfı. — 2012.
- Uğur D. M. Letters in gold: Ottoman calligraphy from the Sakıp Sabancı collection, Istanbul. — Metropolitan Museum of Art, 1998. — 196 p. — ISBN 978-0-87099-873-7.
- Yazar S. [web.archive.org/web/20140413170136/www.egirdir.net/SeyyidMehmed.pdf Seyyid Şerîfî Mehmed Efendi ve Hilyesi (Seyyid Sherîfî Efendi and His Hilye)] (тур.) // Journal of Turkish Studies. — 2007. — Num. 2. — P. 1026–1044.
- Zakariya M. [www.zakariya.net/resources/hilye.pdf The Hilye of the Prophet Muhammad] // Seasons : Autumn–Winter. — Zaytuna Institute, 2003-2004. — P. 13-22.
Ссылки
- [www.rasheedbutt.com/about_hilya.htm "The Hilya, or the Adornment of the Prophet – A Calligraphic Icon"], by Carl W. Ernst and Rasheed Butt
- [www.zakariya.net/resources/hilye.pdf "The Hilye of the Prophet Muhammad"], by Mohamed Zakariya
- [www.faruktaskale.com/hilye-i-serife-the-charactrestics-of-the-prophet-muhammed "Hilye-i Şerife"], by Faruk Taşkale
- [www.youtube.com/watch?v=LvjejprwqtY Slideshow] of hilyes on YouTube (тур.)
- [www.klasikturksanatlarivakfi.com/indexalt.php?sayfa=fotograf&fotokateid=40 Many examples of hilye panels] at the [www.klasikturksanatlarivakfi.com/index.php?dil=en Foundation for the Classical Turkish Arts]
- [cmes.hmdc.harvard.edu/files/Schick_Presentation_Text.pdf Calligraphic representations of the Prophet Muhammad] (Shick, I.C.)
Архитектура Региональные стилиАйюбиды • Азербайджана • Китай • Индо-Исламская • Индонезия • Мавритания • Марокко • Мудехар • Моголы • Османы • Персия • Сомали • Судан • Татары • Туркестан • Омейядский халифатЭлементыИскусство Региональные стилиТканиWoodworkДругие видыИскусство в книгах МиниатюраДругие виды искусстваМуракка • Хилья • Османское украшение рукописиУкрашения Сады Музеи Берлин • Каир • Доха • Газни • Стамбул (Музей искусства • Музей каллиграфии) • Иерусалим (Исламский музей • Институт Л. А. Майера) • Куала-Лумпур • Лондон (Британский музей, Музей Виктории и Альберта) • Лос-Анджелес • Марракеш (Музей в Марракеше • Сад Мажорель) • Мельбурн • Париж (Институт арабского мира • Лувр) • Сингапур • Торонто (Ага-хан) • ТриполиПринципы,
влияниеОтрывок, характеризующий Хилья
– Так наступление окончательно решено? – сказал Болконский.
– И знаете ли, мой милый, мне кажется, что решительно Буонапарте потерял свою латынь. Вы знаете, что нынче получено от него письмо к императору. – Долгоруков улыбнулся значительно.
– Вот как! Что ж он пишет? – спросил Болконский.
– Что он может писать? Традиридира и т. п., всё только с целью выиграть время. Я вам говорю, что он у нас в руках; это верно! Но что забавнее всего, – сказал он, вдруг добродушно засмеявшись, – это то, что никак не могли придумать, как ему адресовать ответ? Ежели не консулу, само собою разумеется не императору, то генералу Буонапарту, как мне казалось.
– Но между тем, чтобы не признавать императором, и тем, чтобы называть генералом Буонапарте, есть разница, – сказал Болконский.
– В том то и дело, – смеясь и перебивая, быстро говорил Долгоруков. – Вы знаете Билибина, он очень умный человек, он предлагал адресовать: «узурпатору и врагу человеческого рода».
Долгоруков весело захохотал.
– Не более того? – заметил Болконский.
– Но всё таки Билибин нашел серьезный титул адреса. И остроумный и умный человек.
– Как же?
– Главе французского правительства, au chef du gouverienement francais, – серьезно и с удовольствием сказал князь Долгоруков. – Не правда ли, что хорошо?
– Хорошо, но очень не понравится ему, – заметил Болконский.
– О, и очень! Мой брат знает его: он не раз обедал у него, у теперешнего императора, в Париже и говорил мне, что он не видал более утонченного и хитрого дипломата: знаете, соединение французской ловкости и итальянского актерства? Вы знаете его анекдоты с графом Марковым? Только один граф Марков умел с ним обращаться. Вы знаете историю платка? Это прелесть!
И словоохотливый Долгоруков, обращаясь то к Борису, то к князю Андрею, рассказал, как Бонапарт, желая испытать Маркова, нашего посланника, нарочно уронил перед ним платок и остановился, глядя на него, ожидая, вероятно, услуги от Маркова и как, Марков тотчас же уронил рядом свой платок и поднял свой, не поднимая платка Бонапарта.
– Charmant, [Очаровательно,] – сказал Болконский, – но вот что, князь, я пришел к вам просителем за этого молодого человека. Видите ли что?…
Но князь Андрей не успел докончить, как в комнату вошел адъютант, который звал князя Долгорукова к императору.
– Ах, какая досада! – сказал Долгоруков, поспешно вставая и пожимая руки князя Андрея и Бориса. – Вы знаете, я очень рад сделать всё, что от меня зависит, и для вас и для этого милого молодого человека. – Он еще раз пожал руку Бориса с выражением добродушного, искреннего и оживленного легкомыслия. – Но вы видите… до другого раза!
Бориса волновала мысль о той близости к высшей власти, в которой он в эту минуту чувствовал себя. Он сознавал себя здесь в соприкосновении с теми пружинами, которые руководили всеми теми громадными движениями масс, которых он в своем полку чувствовал себя маленькою, покорною и ничтожной» частью. Они вышли в коридор вслед за князем Долгоруковым и встретили выходившего (из той двери комнаты государя, в которую вошел Долгоруков) невысокого человека в штатском платье, с умным лицом и резкой чертой выставленной вперед челюсти, которая, не портя его, придавала ему особенную живость и изворотливость выражения. Этот невысокий человек кивнул, как своему, Долгорукому и пристально холодным взглядом стал вглядываться в князя Андрея, идя прямо на него и видимо, ожидая, чтобы князь Андрей поклонился ему или дал дорогу. Князь Андрей не сделал ни того, ни другого; в лице его выразилась злоба, и молодой человек, отвернувшись, прошел стороной коридора.
– Кто это? – спросил Борис.
– Это один из самых замечательнейших, но неприятнейших мне людей. Это министр иностранных дел, князь Адам Чарторижский.
– Вот эти люди, – сказал Болконский со вздохом, который он не мог подавить, в то время как они выходили из дворца, – вот эти то люди решают судьбы народов.
На другой день войска выступили в поход, и Борис не успел до самого Аустерлицкого сражения побывать ни у Болконского, ни у Долгорукова и остался еще на время в Измайловском полку.
На заре 16 числа эскадрон Денисова, в котором служил Николай Ростов, и который был в отряде князя Багратиона, двинулся с ночлега в дело, как говорили, и, пройдя около версты позади других колонн, был остановлен на большой дороге. Ростов видел, как мимо его прошли вперед казаки, 1 й и 2 й эскадрон гусар, пехотные батальоны с артиллерией и проехали генералы Багратион и Долгоруков с адъютантами. Весь страх, который он, как и прежде, испытывал перед делом; вся внутренняя борьба, посредством которой он преодолевал этот страх; все его мечтания о том, как он по гусарски отличится в этом деле, – пропали даром. Эскадрон их был оставлен в резерве, и Николай Ростов скучно и тоскливо провел этот день. В 9 м часу утра он услыхал пальбу впереди себя, крики ура, видел привозимых назад раненых (их было немного) и, наконец, видел, как в середине сотни казаков провели целый отряд французских кавалеристов. Очевидно, дело было кончено, и дело было, очевидно небольшое, но счастливое. Проходившие назад солдаты и офицеры рассказывали о блестящей победе, о занятии города Вишау и взятии в плен целого французского эскадрона. День был ясный, солнечный, после сильного ночного заморозка, и веселый блеск осеннего дня совпадал с известием о победе, которое передавали не только рассказы участвовавших в нем, но и радостное выражение лиц солдат, офицеров, генералов и адъютантов, ехавших туда и оттуда мимо Ростова. Тем больнее щемило сердце Николая, напрасно перестрадавшего весь страх, предшествующий сражению, и пробывшего этот веселый день в бездействии.
– Ростов, иди сюда, выпьем с горя! – крикнул Денисов, усевшись на краю дороги перед фляжкой и закуской.
Офицеры собрались кружком, закусывая и разговаривая, около погребца Денисова.
– Вот еще одного ведут! – сказал один из офицеров, указывая на французского пленного драгуна, которого вели пешком два казака.
Один из них вел в поводу взятую у пленного рослую и красивую французскую лошадь.
– Продай лошадь! – крикнул Денисов казаку.
– Изволь, ваше благородие…
Офицеры встали и окружили казаков и пленного француза. Французский драгун был молодой малый, альзасец, говоривший по французски с немецким акцентом. Он задыхался от волнения, лицо его было красно, и, услыхав французский язык, он быстро заговорил с офицерами, обращаясь то к тому, то к другому. Он говорил, что его бы не взяли; что он не виноват в том, что его взяли, а виноват le caporal, который послал его захватить попоны, что он ему говорил, что уже русские там. И ко всякому слову он прибавлял: mais qu'on ne fasse pas de mal a mon petit cheval [Но не обижайте мою лошадку,] и ласкал свою лошадь. Видно было, что он не понимал хорошенько, где он находится. Он то извинялся, что его взяли, то, предполагая перед собою свое начальство, выказывал свою солдатскую исправность и заботливость о службе. Он донес с собой в наш арьергард во всей свежести атмосферу французского войска, которое так чуждо было для нас.
Казаки отдали лошадь за два червонца, и Ростов, теперь, получив деньги, самый богатый из офицеров, купил ее.
– Mais qu'on ne fasse pas de mal a mon petit cheval, – добродушно сказал альзасец Ростову, когда лошадь передана была гусару.
Ростов, улыбаясь, успокоил драгуна и дал ему денег.
– Алё! Алё! – сказал казак, трогая за руку пленного, чтобы он шел дальше.
– Государь! Государь! – вдруг послышалось между гусарами.
Всё побежало, заторопилось, и Ростов увидал сзади по дороге несколько подъезжающих всадников с белыми султанами на шляпах. В одну минуту все были на местах и ждали. Ростов не помнил и не чувствовал, как он добежал до своего места и сел на лошадь. Мгновенно прошло его сожаление о неучастии в деле, его будничное расположение духа в кругу приглядевшихся лиц, мгновенно исчезла всякая мысль о себе: он весь поглощен был чувством счастия, происходящего от близости государя. Он чувствовал себя одною этою близостью вознагражденным за потерю нынешнего дня. Он был счастлив, как любовник, дождавшийся ожидаемого свидания. Не смея оглядываться во фронте и не оглядываясь, он чувствовал восторженным чутьем его приближение. И он чувствовал это не по одному звуку копыт лошадей приближавшейся кавалькады, но он чувствовал это потому, что, по мере приближения, всё светлее, радостнее и значительнее и праздничнее делалось вокруг него. Всё ближе и ближе подвигалось это солнце для Ростова, распространяя вокруг себя лучи кроткого и величественного света, и вот он уже чувствует себя захваченным этими лучами, он слышит его голос – этот ласковый, спокойный, величественный и вместе с тем столь простой голос. Как и должно было быть по чувству Ростова, наступила мертвая тишина, и в этой тишине раздались звуки голоса государя.
– Les huzards de Pavlograd? [Павлоградские гусары?] – вопросительно сказал он.
– La reserve, sire! [Резерв, ваше величество!] – отвечал чей то другой голос, столь человеческий после того нечеловеческого голоса, который сказал: Les huzards de Pavlograd?
Государь поровнялся с Ростовым и остановился. Лицо Александра было еще прекраснее, чем на смотру три дня тому назад. Оно сияло такою веселостью и молодостью, такою невинною молодостью, что напоминало ребяческую четырнадцатилетнюю резвость, и вместе с тем это было всё таки лицо величественного императора. Случайно оглядывая эскадрон, глаза государя встретились с глазами Ростова и не более как на две секунды остановились на них. Понял ли государь, что делалось в душе Ростова (Ростову казалось, что он всё понял), но он посмотрел секунды две своими голубыми глазами в лицо Ростова. (Мягко и кротко лился из них свет.) Потом вдруг он приподнял брови, резким движением ударил левой ногой лошадь и галопом поехал вперед.
Молодой император не мог воздержаться от желания присутствовать при сражении и, несмотря на все представления придворных, в 12 часов, отделившись от 3 й колонны, при которой он следовал, поскакал к авангарду. Еще не доезжая до гусар, несколько адъютантов встретили его с известием о счастливом исходе дела.
Сражение, состоявшее только в том, что захвачен эскадрон французов, было представлено как блестящая победа над французами, и потому государь и вся армия, особенно после того, как не разошелся еще пороховой дым на поле сражения, верили, что французы побеждены и отступают против своей воли. Несколько минут после того, как проехал государь, дивизион павлоградцев потребовали вперед. В самом Вишау, маленьком немецком городке, Ростов еще раз увидал государя. На площади города, на которой была до приезда государя довольно сильная перестрелка, лежало несколько человек убитых и раненых, которых не успели подобрать. Государь, окруженный свитою военных и невоенных, был на рыжей, уже другой, чем на смотру, энглизированной кобыле и, склонившись на бок, грациозным жестом держа золотой лорнет у глаза, смотрел в него на лежащего ничком, без кивера, с окровавленною головою солдата. Солдат раненый был так нечист, груб и гадок, что Ростова оскорбила близость его к государю. Ростов видел, как содрогнулись, как бы от пробежавшего мороза, сутуловатые плечи государя, как левая нога его судорожно стала бить шпорой бок лошади, и как приученная лошадь равнодушно оглядывалась и не трогалась с места. Слезший с лошади адъютант взял под руки солдата и стал класть на появившиеся носилки. Солдат застонал.
– Тише, тише, разве нельзя тише? – видимо, более страдая, чем умирающий солдат, проговорил государь и отъехал прочь.
Ростов видел слезы, наполнившие глаза государя, и слышал, как он, отъезжая, по французски сказал Чарторижскому:
– Какая ужасная вещь война, какая ужасная вещь! Quelle terrible chose que la guerre!
Войска авангарда расположились впереди Вишау, в виду цепи неприятельской, уступавшей нам место при малейшей перестрелке в продолжение всего дня. Авангарду объявлена была благодарность государя, обещаны награды, и людям роздана двойная порция водки. Еще веселее, чем в прошлую ночь, трещали бивачные костры и раздавались солдатские песни.
Денисов в эту ночь праздновал производство свое в майоры, и Ростов, уже довольно выпивший в конце пирушки, предложил тост за здоровье государя, но «не государя императора, как говорят на официальных обедах, – сказал он, – а за здоровье государя, доброго, обворожительного и великого человека; пьем за его здоровье и за верную победу над французами!»
– Коли мы прежде дрались, – сказал он, – и не давали спуску французам, как под Шенграбеном, что же теперь будет, когда он впереди? Мы все умрем, с наслаждением умрем за него. Так, господа? Может быть, я не так говорю, я много выпил; да я так чувствую, и вы тоже. За здоровье Александра первого! Урра!
– Урра! – зазвучали воодушевленные голоса офицеров.
И старый ротмистр Кирстен кричал воодушевленно и не менее искренно, чем двадцатилетний Ростов.
Когда офицеры выпили и разбили свои стаканы, Кирстен налил другие и, в одной рубашке и рейтузах, с стаканом в руке подошел к солдатским кострам и в величественной позе взмахнув кверху рукой, с своими длинными седыми усами и белой грудью, видневшейся из за распахнувшейся рубашки, остановился в свете костра.
– Ребята, за здоровье государя императора, за победу над врагами, урра! – крикнул он своим молодецким, старческим, гусарским баритоном.
Гусары столпились и дружно отвечали громким криком.
Поздно ночью, когда все разошлись, Денисов потрепал своей коротенькой рукой по плечу своего любимца Ростова.
– Вот на походе не в кого влюбиться, так он в ца'я влюбился, – сказал он.
– Денисов, ты этим не шути, – крикнул Ростов, – это такое высокое, такое прекрасное чувство, такое…
– Ве'ю, ве'ю, д'ужок, и 'азделяю и одоб'яю…
– Нет, не понимаешь!
И Ростов встал и пошел бродить между костров, мечтая о том, какое было бы счастие умереть, не спасая жизнь (об этом он и не смел мечтать), а просто умереть в глазах государя. Он действительно был влюблен и в царя, и в славу русского оружия, и в надежду будущего торжества. И не он один испытывал это чувство в те памятные дни, предшествующие Аустерлицкому сражению: девять десятых людей русской армии в то время были влюблены, хотя и менее восторженно, в своего царя и в славу русского оружия.
На следующий день государь остановился в Вишау. Лейб медик Вилье несколько раз был призываем к нему. В главной квартире и в ближайших войсках распространилось известие, что государь был нездоров. Он ничего не ел и дурно спал эту ночь, как говорили приближенные. Причина этого нездоровья заключалась в сильном впечатлении, произведенном на чувствительную душу государя видом раненых и убитых.
На заре 17 го числа в Вишау был препровожден с аванпостов французский офицер, приехавший под парламентерским флагом, требуя свидания с русским императором. Офицер этот был Савари. Государь только что заснул, и потому Савари должен был дожидаться. В полдень он был допущен к государю и через час поехал вместе с князем Долгоруковым на аванпосты французской армии.
Как слышно было, цель присылки Савари состояла в предложении свидания императора Александра с Наполеоном. В личном свидании, к радости и гордости всей армии, было отказано, и вместо государя князь Долгоруков, победитель при Вишау, был отправлен вместе с Савари для переговоров с Наполеоном, ежели переговоры эти, против чаяния, имели целью действительное желание мира.
Ввечеру вернулся Долгоруков, прошел прямо к государю и долго пробыл у него наедине.
18 и 19 ноября войска прошли еще два перехода вперед, и неприятельские аванпосты после коротких перестрелок отступали. В высших сферах армии с полдня 19 го числа началось сильное хлопотливо возбужденное движение, продолжавшееся до утра следующего дня, 20 го ноября, в который дано было столь памятное Аустерлицкое сражение.
До полудня 19 числа движение, оживленные разговоры, беготня, посылки адъютантов ограничивались одной главной квартирой императоров; после полудня того же дня движение передалось в главную квартиру Кутузова и в штабы колонных начальников. Вечером через адъютантов разнеслось это движение по всем концам и частям армии, и в ночь с 19 на 20 поднялась с ночлегов, загудела говором и заколыхалась и тронулась громадным девятиверстным холстом 80 титысячная масса союзного войска.
Сосредоточенное движение, начавшееся поутру в главной квартире императоров и давшее толчок всему дальнейшему движению, было похоже на первое движение серединного колеса больших башенных часов. Медленно двинулось одно колесо, повернулось другое, третье, и всё быстрее и быстрее пошли вертеться колеса, блоки, шестерни, начали играть куранты, выскакивать фигуры, и мерно стали подвигаться стрелки, показывая результат движения.
Как в механизме часов, так и в механизме военного дела, так же неудержимо до последнего результата раз данное движение, и так же безучастно неподвижны, за момент до передачи движения, части механизма, до которых еще не дошло дело. Свистят на осях колеса, цепляясь зубьями, шипят от быстроты вертящиеся блоки, а соседнее колесо так же спокойно и неподвижно, как будто оно сотни лет готово простоять этою неподвижностью; но пришел момент – зацепил рычаг, и, покоряясь движению, трещит, поворачиваясь, колесо и сливается в одно действие, результат и цель которого ему непонятны.
Как в часах результат сложного движения бесчисленных различных колес и блоков есть только медленное и уравномеренное движение стрелки, указывающей время, так и результатом всех сложных человеческих движений этих 1000 русских и французов – всех страстей, желаний, раскаяний, унижений, страданий, порывов гордости, страха, восторга этих людей – был только проигрыш Аустерлицкого сражения, так называемого сражения трех императоров, т. е. медленное передвижение всемирно исторической стрелки на циферблате истории человечества.
Князь Андрей был в этот день дежурным и неотлучно при главнокомандующем.
В 6 м часу вечера Кутузов приехал в главную квартиру императоров и, недолго пробыв у государя, пошел к обер гофмаршалу графу Толстому.
Болконский воспользовался этим временем, чтобы зайти к Долгорукову узнать о подробностях дела. Князь Андрей чувствовал, что Кутузов чем то расстроен и недоволен, и что им недовольны в главной квартире, и что все лица императорской главной квартиры имеют с ним тон людей, знающих что то такое, чего другие не знают; и поэтому ему хотелось поговорить с Долгоруковым.
– Ну, здравствуйте, mon cher, – сказал Долгоруков, сидевший с Билибиным за чаем. – Праздник на завтра. Что ваш старик? не в духе?
– Не скажу, чтобы был не в духе, но ему, кажется, хотелось бы, чтоб его выслушали.
– Да его слушали на военном совете и будут слушать, когда он будет говорить дело; но медлить и ждать чего то теперь, когда Бонапарт боится более всего генерального сражения, – невозможно.
– Да вы его видели? – сказал князь Андрей. – Ну, что Бонапарт? Какое впечатление он произвел на вас?
– Да, видел и убедился, что он боится генерального сражения более всего на свете, – повторил Долгоруков, видимо, дорожа этим общим выводом, сделанным им из его свидания с Наполеоном. – Ежели бы он не боялся сражения, для чего бы ему было требовать этого свидания, вести переговоры и, главное, отступать, тогда как отступление так противно всей его методе ведения войны? Поверьте мне: он боится, боится генерального сражения, его час настал. Это я вам говорю.
– Но расскажите, как он, что? – еще спросил князь Андрей.
– Он человек в сером сюртуке, очень желавший, чтобы я ему говорил «ваше величество», но, к огорчению своему, не получивший от меня никакого титула. Вот это какой человек, и больше ничего, – отвечал Долгоруков, оглядываясь с улыбкой на Билибина.
– Несмотря на мое полное уважение к старому Кутузову, – продолжал он, – хороши мы были бы все, ожидая чего то и тем давая ему случай уйти или обмануть нас, тогда как теперь он верно в наших руках. Нет, не надобно забывать Суворова и его правила: не ставить себя в положение атакованного, а атаковать самому. Поверьте, на войне энергия молодых людей часто вернее указывает путь, чем вся опытность старых кунктаторов.
– Но в какой же позиции мы атакуем его? Я был на аванпостах нынче, и нельзя решить, где он именно стоит с главными силами, – сказал князь Андрей.
Ему хотелось высказать Долгорукову свой, составленный им, план атаки.
– Ах, это совершенно всё равно, – быстро заговорил Долгоруков, вставая и раскрывая карту на столе. – Все случаи предвидены: ежели он стоит у Брюнна…
И князь Долгоруков быстро и неясно рассказал план флангового движения Вейротера.
Князь Андрей стал возражать и доказывать свой план, который мог быть одинаково хорош с планом Вейротера, но имел тот недостаток, что план Вейротера уже был одобрен. Как только князь Андрей стал доказывать невыгоды того и выгоды своего, князь Долгоруков перестал его слушать и рассеянно смотрел не на карту, а на лицо князя Андрея.
– Впрочем, у Кутузова будет нынче военный совет: вы там можете всё это высказать, – сказал Долгоруков.
– Я это и сделаю, – сказал князь Андрей, отходя от карты.
– И о чем вы заботитесь, господа? – сказал Билибин, до сих пор с веселой улыбкой слушавший их разговор и теперь, видимо, собираясь пошутить. – Будет ли завтра победа или поражение, слава русского оружия застрахована. Кроме вашего Кутузова, нет ни одного русского начальника колонн. Начальники: Неrr general Wimpfen, le comte de Langeron, le prince de Lichtenstein, le prince de Hohenloe et enfin Prsch… prsch… et ainsi de suite, comme tous les noms polonais. [Вимпфен, граф Ланжерон, князь Лихтенштейн, Гогенлое и еще Пришпршипрш, как все польские имена.]
– Taisez vous, mauvaise langue, [Удержите ваше злоязычие.] – сказал Долгоруков. – Неправда, теперь уже два русских: Милорадович и Дохтуров, и был бы 3 й, граф Аракчеев, но у него нервы слабы.
– Однако Михаил Иларионович, я думаю, вышел, – сказал князь Андрей. – Желаю счастия и успеха, господа, – прибавил он и вышел, пожав руки Долгорукову и Бибилину.
Возвращаясь домой, князь Андрей не мог удержаться, чтобы не спросить молчаливо сидевшего подле него Кутузова, о том, что он думает о завтрашнем сражении?
Кутузов строго посмотрел на своего адъютанта и, помолчав, ответил:
– Я думаю, что сражение будет проиграно, и я так сказал графу Толстому и просил его передать это государю. Что же, ты думаешь, он мне ответил? Eh, mon cher general, je me mele de riz et des et cotelettes, melez vous des affaires de la guerre. [И, любезный генерал! Я занят рисом и котлетами, а вы занимайтесь военными делами.] Да… Вот что мне отвечали!
В 10 м часу вечера Вейротер с своими планами переехал на квартиру Кутузова, где и был назначен военный совет. Все начальники колонн были потребованы к главнокомандующему, и, за исключением князя Багратиона, который отказался приехать, все явились к назначенному часу.
Вейротер, бывший полным распорядителем предполагаемого сражения, представлял своею оживленностью и торопливостью резкую противоположность с недовольным и сонным Кутузовым, неохотно игравшим роль председателя и руководителя военного совета. Вейротер, очевидно, чувствовал себя во главе.движения, которое стало уже неудержимо. Он был, как запряженная лошадь, разбежавшаяся с возом под гору. Он ли вез, или его гнало, он не знал; но он несся во всю возможную быстроту, не имея времени уже обсуждать того, к чему поведет это движение. Вейротер в этот вечер был два раза для личного осмотра в цепи неприятеля и два раза у государей, русского и австрийского, для доклада и объяснений, и в своей канцелярии, где он диктовал немецкую диспозицию. Он, измученный, приехал теперь к Кутузову.
Он, видимо, так был занят, что забывал даже быть почтительным с главнокомандующим: он перебивал его, говорил быстро, неясно, не глядя в лицо собеседника, не отвечая на деланные ему вопросы, был испачкан грязью и имел вид жалкий, измученный, растерянный и вместе с тем самонадеянный и гордый.
Кутузов занимал небольшой дворянский замок около Остралиц. В большой гостиной, сделавшейся кабинетом главнокомандующего, собрались: сам Кутузов, Вейротер и члены военного совета. Они пили чай. Ожидали только князя Багратиона, чтобы приступить к военному совету. В 8 м часу приехал ординарец Багратиона с известием, что князь быть не может. Князь Андрей пришел доложить о том главнокомандующему и, пользуясь прежде данным ему Кутузовым позволением присутствовать при совете, остался в комнате.
– Так как князь Багратион не будет, то мы можем начинать, – сказал Вейротер, поспешно вставая с своего места и приближаясь к столу, на котором была разложена огромная карта окрестностей Брюнна.
Кутузов в расстегнутом мундире, из которого, как бы освободившись, выплыла на воротник его жирная шея, сидел в вольтеровском кресле, положив симметрично пухлые старческие руки на подлокотники, и почти спал. На звук голоса Вейротера он с усилием открыл единственный глаз.
– Да, да, пожалуйста, а то поздно, – проговорил он и, кивнув головой, опустил ее и опять закрыл глаза.
Ежели первое время члены совета думали, что Кутузов притворялся спящим, то звуки, которые он издавал носом во время последующего чтения, доказывали, что в эту минуту для главнокомандующего дело шло о гораздо важнейшем, чем о желании выказать свое презрение к диспозиции или к чему бы то ни было: дело шло для него о неудержимом удовлетворении человеческой потребности – .сна. Он действительно спал. Вейротер с движением человека, слишком занятого для того, чтобы терять хоть одну минуту времени, взглянул на Кутузова и, убедившись, что он спит, взял бумагу и громким однообразным тоном начал читать диспозицию будущего сражения под заглавием, которое он тоже прочел:
«Диспозиция к атаке неприятельской позиции позади Кобельница и Сокольница, 20 ноября 1805 года».
Диспозиция была очень сложная и трудная. В оригинальной диспозиции значилось:
Da der Feind mit seinerien linken Fluegel an die mit Wald bedeckten Berge lehnt und sich mit seinerien rechten Fluegel laengs Kobeinitz und Sokolienitz hinter die dort befindIichen Teiche zieht, wir im Gegentheil mit unserem linken Fluegel seinen rechten sehr debordiren, so ist es vortheilhaft letzteren Fluegel des Feindes zu attakiren, besondere wenn wir die Doerfer Sokolienitz und Kobelienitz im Besitze haben, wodurch wir dem Feind zugleich in die Flanke fallen und ihn auf der Flaeche zwischen Schlapanitz und dem Thuerassa Walde verfolgen koennen, indem wir dem Defileen von Schlapanitz und Bellowitz ausweichen, welche die feindliche Front decken. Zu dieserien Endzwecke ist es noethig… Die erste Kolonne Marieschirt… die zweite Kolonne Marieschirt… die dritte Kolonne Marieschirt… [Так как неприятель опирается левым крылом своим на покрытые лесом горы, а правым крылом тянется вдоль Кобельница и Сокольница позади находящихся там прудов, а мы, напротив, превосходим нашим левым крылом его правое, то выгодно нам атаковать сие последнее неприятельское крыло, особливо если мы займем деревни Сокольниц и Кобельниц, будучи поставлены в возможность нападать на фланг неприятеля и преследовать его в равнине между Шлапаницем и лесом Тюрасским, избегая вместе с тем дефилеи между Шлапаницем и Беловицем, которою прикрыт неприятельский фронт. Для этой цели необходимо… Первая колонна марширует… вторая колонна марширует… третья колонна марширует…] и т. д., читал Вейротер. Генералы, казалось, неохотно слушали трудную диспозицию. Белокурый высокий генерал Буксгевден стоял, прислонившись спиною к стене, и, остановив свои глаза на горевшей свече, казалось, не слушал и даже не хотел, чтобы думали, что он слушает. Прямо против Вейротера, устремив на него свои блестящие открытые глаза, в воинственной позе, оперев руки с вытянутыми наружу локтями на колени, сидел румяный Милорадович с приподнятыми усами и плечами. Он упорно молчал, глядя в лицо Вейротера, и спускал с него глаза только в то время, когда австрийский начальник штаба замолкал. В это время Милорадович значительно оглядывался на других генералов. Но по значению этого значительного взгляда нельзя было понять, был ли он согласен или несогласен, доволен или недоволен диспозицией. Ближе всех к Вейротеру сидел граф Ланжерон и с тонкой улыбкой южного французского лица, не покидавшей его во всё время чтения, глядел на свои тонкие пальцы, быстро перевертывавшие за углы золотую табакерку с портретом. В середине одного из длиннейших периодов он остановил вращательное движение табакерки, поднял голову и с неприятною учтивостью на самых концах тонких губ перебил Вейротера и хотел сказать что то; но австрийский генерал, не прерывая чтения, сердито нахмурился и замахал локтями, как бы говоря: потом, потом вы мне скажете свои мысли, теперь извольте смотреть на карту и слушать. Ланжерон поднял глаза кверху с выражением недоумения, оглянулся на Милорадовича, как бы ища объяснения, но, встретив значительный, ничего не значущий взгляд Милорадовича, грустно опустил глаза и опять принялся вертеть табакерку.

