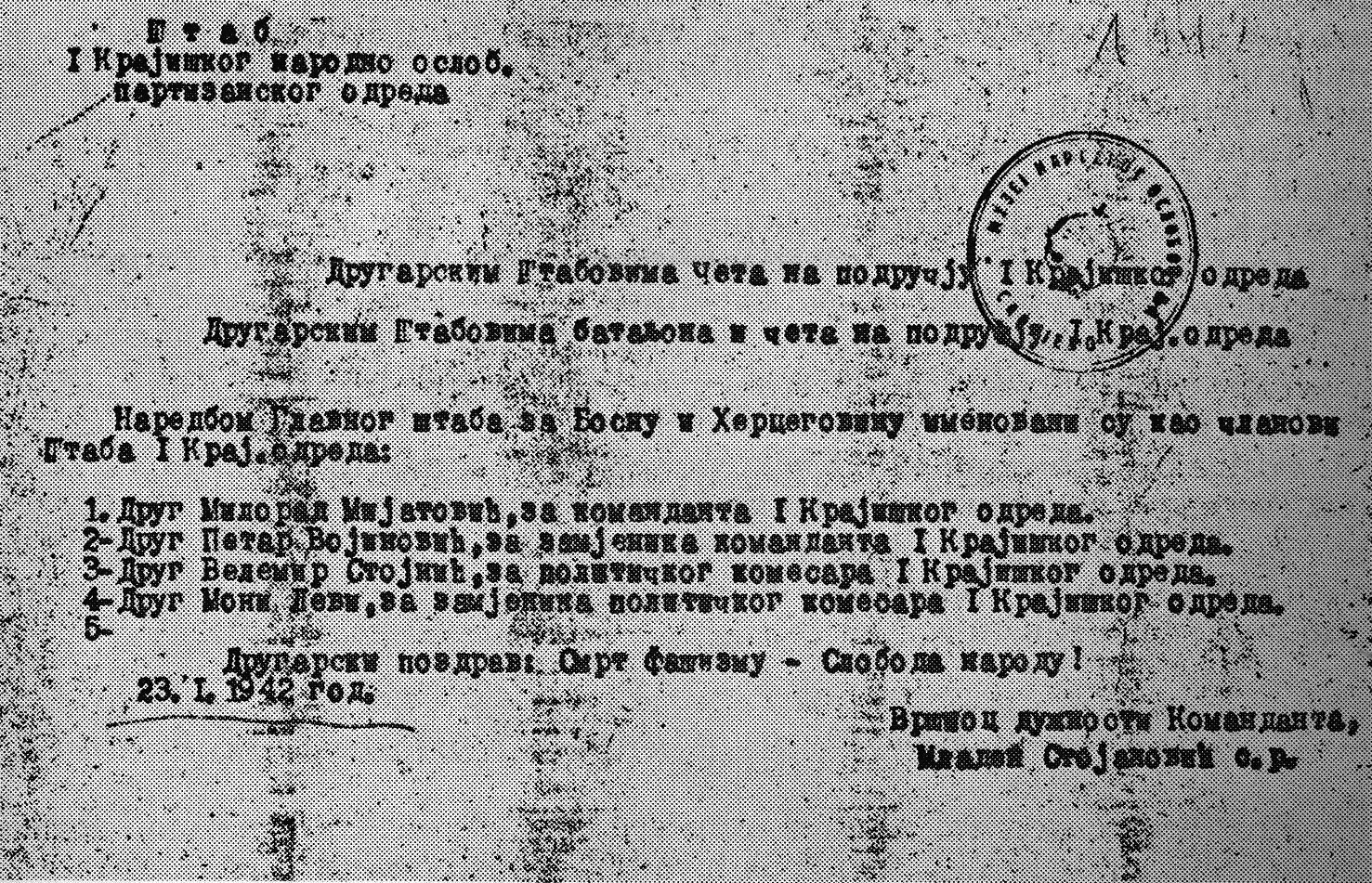Стоянович, Младен
| Младен Стоянович | |
| Младен Стојановић | |
| Прозвище |
Доктор Младен |
|---|---|
| Принадлежность | |
| Род войск |
военные врачи |
| Годы службы |
1941—1942 |
| Звание |
|
| Командовал | |
| Сражения/войны | |
| Награды и премии | |
| Связи |
Стоянович, Сретен (брат) |
Младен Стоянович (серб. Mladen Stojanović / Младен Стојановић; 7 апреля 1896, Приедор — 1 апреля 1942, Йошавка) — сербский боснийский врач и революционер, один из известнейших деятелей югославского партизанского движения в годы Народно-освободительной войны Югославии, командир и главный медик 2-го Краинского партизанского отряда. Народный герой Югославии.
В возрасте 15 лет Стоянович стал активистом студенческой группы «Млада Босна», выступавшей против владычества Австро-Венгрии в Боснии и Герцеговине. В 1912 году он вошёл в состав сербской националистической группы «Народная оборона», которая под покровительством Королевства Сербии вела партизанскую войну на территории Боснии. Стоянович был арестован полицией в июле 1914 года и осуждён на 16 лет тюрьмы, но помилован в 1917 году. После Первой мировой войны он получил высшее медицинское образование и начал в 1929 году частную практику в Приедоре. С сентября 1940 года состоял в Коммунистической партии Югославии.
После вторжения в Югославию армий блока Оси и образования Независимого государства Хорватии Стояновича бросили в тюрьму усташи, пришедшие к власти, но он сбежал оттуда и выбрался на гору Козара, где вступил в группу сбежавших из Приедора коммунистов. Партия назначила Стояновича лидером партизанского движения в Приедоре: 30 июля 1941 началась партизанская война против усташей в тех краях. Жители сербских деревень собрали армию и окружили Приедор, защищаемый гарнизоном из немцев, усташей и хорватских домобранцев. В августе 1941 года Стоянович стал лидером всего движения в Козаре и стал организовывать партизанские отряды. Под его руководством партизаны завязали бои с конца сентября 1941 года. В начале ноября 1941 года из партизан Козары был образован 2-й Краинский народно-освободительный партизанский отряд, командовать которым и стал Младен Стоянович. К концу 1941 года отряд контролировал территорию около Козары площадью почти 2500 км².
30 декабря 1941 Стоянович прибыл в округ Грмеч, контролируемый 1-м Краинским народно-освободительным партизанским отрядом. Итальянские войска убеждали местное сербское население, что охраняют их от нападений бандитов. Стояновичу предстояло переубедить местных жителей и попросить их помочь партизанам выгнать итальянцев. Вплоть до февраля 1942 года Стоянович занимался этой деятельностью, пока партия не подтвердила, что он справился успешно с заданием. В феврале 1942 года он стал начальником Оперативного штаба НОАЮ в Боснийской Краине, который следил за действиями сербских четников, с которыми враждовали партизаны. 5 марта 1942 Стоянович был тяжело ранен после нападения засады четников и был отправлен в полевой госпиталь в Йошавке. В ночь с 31 марта на 1 апреля 1942 Йошавский партизанский отряд выдал Младена Стояновича четникам, и те нашли, захватили его в плен и потом убили.
2-й Краинский партизанский отряд получил имя Младена Стояновича как память о нём, а 7 августа 1942 доктору присвоили посмертно звание Народного героя Югославии. После войны в Приедоре был открыт мемориальный парк, память также была увековечена в наименованиях улиц, общественных учреждений, песнях и кинофильмах.
Содержание
Ранние годы
 Младен Стоянович родился 7 апреля 1896 года в городе Приедор, расположенном в Боснийской Краине[1]. Он тогда входил в состав Кондоминиума Босния и Герцеговина, принадлежавшего Австро-Венгрии. Отец — Симо Стоянович, священник Сербской православной церкви в третьем поколении; окончил факультет богословия и стал первым представителем семьи, получившим высшее университетское образование. Симо выступал за широкую церковную и образовательную автономию для сербов в Боснии и Герцеговине. Мать — Йованка Стоянович. Дедушка Младена по материнской линии, Теодор Вуясинович, родом из Дубицы[2], также был православным священником и участвовал в восстании Петра Пеции против османского владычества[3].
Младен Стоянович родился 7 апреля 1896 года в городе Приедор, расположенном в Боснийской Краине[1]. Он тогда входил в состав Кондоминиума Босния и Герцеговина, принадлежавшего Австро-Венгрии. Отец — Симо Стоянович, священник Сербской православной церкви в третьем поколении; окончил факультет богословия и стал первым представителем семьи, получившим высшее университетское образование. Симо выступал за широкую церковную и образовательную автономию для сербов в Боснии и Герцеговине. Мать — Йованка Стоянович. Дедушка Младена по материнской линии, Теодор Вуясинович, родом из Дубицы[2], также был православным священником и участвовал в восстании Петра Пеции против османского владычества[3].
Стоянович окончил сербскую начальную школу в Приедоре в 1906 году, а в 1907 году первый класс гимназии в Сараево, после чего переехал в Тузлу, где окончил семь классов гимназии и получил среднее образование. С 1908 года он учился со своим братом Сретеном Стояновичем, будущим известным скульптором[1].
Активист «Млады Босны»
Австро-Венгрия аннексировала Боснию и Герцеговину 6 октября 1908 года, что вызвало кризис в Европе и раскалило до предела отношения между ведущими державами. Сербия мобилизовала свои войска, но 31 марта 1909 года признала аннексирование Боснии и Герцеговины[4]. В 1911 году Младен Стоянович вступил в секретную студенческую организацию из гимназии в Тузле, называвшуюся «Народное единство» (серб. Narodno Jedinstvo); члены Единства называли себя молодым обществом националистов[5][6]. Эта организация, как и многие другие, входила в группу под названием «Млада Босна», боровшуюся за выход Боснии и Герцеговины из состава Австро-Венгрии[7]. В состав «Млады Босны» входили боснийские сербы, хорваты и славяне-мусульмане, но большинство группы составляли всё же сербы[8]. Свою историю группа отсчитывает с 1904 года, когда в гимназии Мостара появилась первая её ячейка[9]. В 1905 году в гимназии в Тузле началась политическая нестабильность: сербские и хорватские студенты стали чаще называть свои родные языки сербским и хорватским соответственно, хотя правительство запретило подобные высказывания, называя официальным языком всех жителей Боснии и Герцеговины боснийский[10].
Активисты «Млады Босны» считали, что литература необходима для свершения революции: многие из студентов писали стихи, рассказы или критические заметки[11]. Стоянович писал стихи[12], читал произведения Петара Кочича, Алексы Шантича, Владислава Петковича Диса, Симы Пандуровича, Милана Ракича, а также увлекался русской литературой[13]. В последние годы обучения в гимназии он стал читать произведения Платона, Аристотеля, Жан-Жака Руссо, Михаила Бакунина, Фридриха Ницше, Жана Жореса, Густава Лебона, Генрика Ибсена и Филиппо Маринетти[14]. «Народное единство» проводило встречи, на которых его члены читали лекции и обсуждали различные темы жизни боснийских сербов[13]. В состав Единства входили только сербы[5]. Лекции Стояновича были посвящены практическим вопросам здравоохранения и экономики. Летом 1911 года Стоянович путешествовал по Боснийской Краине, читая лекции в деревнях[15]. Одной из целей «Млады Босны» была ликвидация отсталости страны[9].
В первой половине 1912 года Младен Стоянович и Тодор Илич, его одноклассник, вступили в «Народную оборону»[5], основанную в Сербии в декабре 1908 года. Их туда пригласил Бранислав Нушич. «Народная оборона» готовилась вести партизанскую войну против австрийских властей и распространять националистическую пропаганду. В Сербии и Боснии были образованы множество локальных комитетов, чьи члены собирали разведывательную информацию о перемещениях австрийских войск и докладывали всё сербской тайной разведке[16].
Летом 1912 года Стоянович и Илич путешествовали тайно по Сербии, проходя начальную военную подготовку. В Белграде они пробыли несколько дней, встретившись там с Гаврило Принципом, активистом «Млады Босны» и «Народной обороны». Стоянович и Илич проходили военную подготовку в течение месяца в казармах Вране в Южной Сербии под руководством Воина Поповича, известного лидера сербских четников. Вернувшись в школу, Младен и Тодор продолжили работу в «Народном единстве» и договорились принимать в Единство и мусульман. После того, как Трифко Грабеж был исключён из гимназии за драку с учителем, ассоциация устроила забастовку в гимназии. Подавляющую часть протестующих составляли сербы. Руководство гимназии в ответ предприняло меры наказания против Илича и Стояновича как зачинщиков забастовки и лишило Илича стипендии[5].
Осенью 1913 года Стоянович отучился последний год в гимназии: в расположение руководства «Народного единства» прибыли активисты «Млады Босны», коими были студенты высших учебных заведений Праги, Вены и городов Швейцарии. Для членов ассоциации состоялись лекции, на которых лидеры славянского движения выразили своё видение политической ситуации в Европе и поддержали объединение южных славян с целью борьбы с австро-венгерским игом. Лекции повлияли на Стояновича очень сильно, и он стал одним из адептов движения югославизма. В начале 1914 года Илич и Стоянович возглавили «Народное единство», став президентом и вице-президентом соответственно. В состав «Единства» входили 34 человека — 26 сербов, 4 хорвата и 4 славянина-мусульманина[17]. «Народное единство» стало крупнейшей и активнейшей группой движения «Млада Босна»[18].
По свидетельству Вида Гаковича, входившего в «Народное единство» в 1914 году, Стоянович был амбициозным и образованным молодым человеком. Он был убеждён, что его голос услышат; также ему нравилось быть в центре внимания. Он был довольно строг к юным членам «Единства» и критиковался за это, но всё же был популярным среди студентов. Гакович описывал его как высокого и привлекательного человека, следившего за своей внешностью. Отличительными признаками Младена Стояновича в одежде были галстук-бабочка и широкополая шляпа[19].
Утром 28 июня 1914 Сараево было потрясено: Гаврило Принцип застрелил Франца Фердинанда, эрцгерцога Австрийского и наследника престола, а также его супругу Софию Хотек[20]. Отряд Принципа, куда входил и Трифко Грабеж, был пойман сразу же австрийской полицией[21]. Австрия, обвинившая Сербию в подстраивании покушения, объявила через месяц войну Сербии и развязала тем самым Первую мировую войну[22]. После убийства Стоянович записал в своём дневнике: «Нет более священной вещи в мире, чем обязанность заговорщика, который становится мстителем за человечество и посланником постоянных законов природы»[9]. 29 июня Стоянович сдал успешно последние экзамены в гимназии Тузлы и вскоре с Иличем написал обращение к южнославянской молодёжи, в котором упоминал «Младу Босну»[17][6]:
Неужели вы не чувствуете, сыны единой Югославии, что в крови лежит наша жизнь и убийство есть бог богов народа, ибо он доказывает, что жива Молодая Босния, что жив элемент, который прогибается под невыносимым балластом империализма; элемент, который готов умереть.
Оригинальный текст (серб.)Зар не осјећате, синови једне Југославије, да у крви лежи наш живот и да је атентат бог богова Нације, јер он доказује да живи Млада Босна, да живи елеменат којег притишће несносни баласт империјалистички, елеменат који је готов да гине[6].
Воислав Васильевич, близкий друг Принципа, был членом «Народного единства», и когда полиция Австрии обыскала его личные дневники, она обнаружила список членов организации. Васильевич хранил эту информацию как доказательство выплаты членских взносов[6]. Всех, кто был в этом списке (в том числе и Стояновича), арестовали 3 июля 1914 года[17]. Чуть позже младший брат Младена, Сретен, также был арестован за антиавстрийскую революционную переписку с Тодором Иличем[19]. Помимо всех вышеперечисленных, была арестована группа из шести активистов «Млады Босны» и «Народного единства»[6], которую назвали «Тузланской группой». Расследование против всех началось 9 июля и затянулось на год[17]. Арестованных держали в тюрьмах Тузлы, Баня-Луки и Бихача. В Баня-Луке их всех держали в одной камере, позволяя им устраивать политические и литературные дискуссии: заключённые стали издавать сатирической журнал «Мала паприка», копии которого распространяли на копировальной бумаге. Часть экземпляров вышла за пределы тюрьмы[19].
В Бихачской тюрьме Тузланская группа выпускала литературный журнал «Альманах», но в печать попал всего один номер. Младен в нём опубликовал несколько стихов и эссе. Главным редактором был Илич, а Сретен Стоянович и Коста Хакман — художниками. За время тюрьмы Илич и Стояновичи выучили французский язык[19]. Суд над Тузланской группой состоялся с 13 по 30 сентября 1915 в Бихаче. Илич был приговорён к смертной казни, Младен — к 16 годам лишения свободы, остальным присвоили сроки от 10 месяцев до 15 лет лишения свободы[6]. Отягчающим обстоятельством для Илича и Младена было их участие в военных учениях 1912 года в Сербии. Австрийцы узнали об этом, поскольку их армия тогда уже взяла город Лозницу и обнаружила в Архиве Национальной Обороны документы об участии арестованных боснийцев в учениях[17].
Младен и другие члены Тузланской группы были отправлены в тюрьму в Зенице. Спустя три месяца к ним присоединился Илич, смертную казнь которому заменили на 20 лет тюрьмы. В Зеницкой тюрьме первые три месяца каждый заключённый проводил в отдельной камере одиночного заключения. Для Младена это было невыносимой пыткой, у которого стали проявляться признаки психического расстройства, причём Илич его не узнавал очень часто. Чтобы успокоиться, Младен занимался изготовлением обуви. Вскоре он заболел и был отправлен в тюремную больницу[23]. В конце 1917 года австрийцы, положение которых на военных фронтах ухудшилось до критического, даровали помилование всем заключённым Тузланской группы, кроме Илича. Младен отправился к своей семье в Приедор и после медицинского обследования был признан негодным к воинской службе. В ноябре 1918 года Австро-Венгрия распалась, а на её руинах появился ряд государств, в том числе и Государство словенцев, хорватов и сербов, куда вошла Босния и Герцеговина. Младен Стоянович поступил в медицинскую школу Загребского университета[23].
Межвоенный период
Королевство сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года — Королевство Югославия) появилось 1 декабря 1918, включив в себя почти полностью территорию современных Сербии, Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговины, Македонии и Черногории[24]. Стоядинович как полноправный подданный нового государства спокойно обучался в Загребе медицине. Будучи активистом «Млады Босны», он имел право на специальную королевскую стипендию, но отказался от неё. В Загребе он встретился со своим бывшим другом Николой Николичем, также состоявшим в «Народном единстве». После освобождения из Зеницкой тюрьмы Николич был призван в австрийскую армию и отправлен на Восточный фронт, но сдался русской армии. Николич участвовал в Октябрьской революции и вернулся домой уже сторонником левого политического движения. Стоянович в это время читал сочинения Максима Горького и Мирослава Крлежи. Его преподаватель анатомии, Драго Перович, организовал для Младена несколько визитов в анатомический институт Вены с 1921 по 1922 годы. Там же Младен подружился с югославскими студентами Венского университета[25]. После устроенного студентами протеста против короля и действий правительства Югославии Стоянович даже выступил с речью. Протест стал толчком к основанию Коммунистической партии Югославии[26].
В 1926 году Стоянович получил степень доктора медицинских наук и проработал два года практикантом в Загребе и Сараево, после чего стал заниматься частной деятельностью в Пучишче на острове Брач. В 1929 году он вернулся в Приедор, где открыл свою клинику на втором этаже своего семейного дома: мать жила одна в доме после смерти отца в 1926 году[27][28]. Стоянович стал вскоре очень популярной фигурой в стране, а его пациенты говорили, что им становилось легче уже после первого разговора с доктором Младеном. Он оказывал медицинскую помощь бесплатно: однажды он отвёз бездомного в больницу Загреба и сам оплатил его лечение[27]. Впрочем, сам он зарабатывал достаточно на жизнь[29]. Жители всей Боснийской Краины часто посещали Младена Стояновича, а в деревнях даже сочиняли про него песни[27]:
| Udri baja nek palija ječi, |
Бей, брат, пусть палица звучит, |
 В 1931 году Стоянович стал работать по контракту в государственной железнодорожной компании, чтобы производить лекарства для работников[30]. В 1936 году он стал работать уже на компанию по добыче железа в Любле (под Приедором) и посещать два раза в неделю клинику при компании[31]. Также он проводил занятия в Приедорской гимназии по обучению правилам гигиены[32]. Вместе с прочими представителями интеллигенции он читал лекции шахтёрам в Любле, посвящённые медицинским проблемам, хотя иногда он затрагивал экономическое и социальное положения рабочих в более развитых странах. Помощь семьям шахтёров Стоянович оказывал бесплатно[31]. Помимо всего прочего, он активно занимался спортом и его развитием в стране: в 1932 году был основан теннисный клуб в Приедоре, носящий и поныне имя Младена Стояновича[27][33]. Однажды Стоянович лично закупил футбольную форму для команды «Рудар» из Приедора[34]. Его контракты с железнодорожной компанией и шахтами закончились в 1939 году, однако железнодорожники в Приедоре запротестовали, и Стоянович продлил свой контракт с компанией[30].
В 1931 году Стоянович стал работать по контракту в государственной железнодорожной компании, чтобы производить лекарства для работников[30]. В 1936 году он стал работать уже на компанию по добыче железа в Любле (под Приедором) и посещать два раза в неделю клинику при компании[31]. Также он проводил занятия в Приедорской гимназии по обучению правилам гигиены[32]. Вместе с прочими представителями интеллигенции он читал лекции шахтёрам в Любле, посвящённые медицинским проблемам, хотя иногда он затрагивал экономическое и социальное положения рабочих в более развитых странах. Помощь семьям шахтёров Стоянович оказывал бесплатно[31]. Помимо всего прочего, он активно занимался спортом и его развитием в стране: в 1932 году был основан теннисный клуб в Приедоре, носящий и поныне имя Младена Стояновича[27][33]. Однажды Стоянович лично закупил футбольную форму для команды «Рудар» из Приедора[34]. Его контракты с железнодорожной компанией и шахтами закончились в 1939 году, однако железнодорожники в Приедоре запротестовали, и Стоянович продлил свой контракт с компанией[30].
Однажды шахтёры Любли устроили стачку, продолжавшуюся со 2 августа по 8 сентября 1940[31]. Некоторые из лидеров состояли в ячейке Коммунистической партии Югославии (ячейка появилась в январе 1940 года), хотя сама партия была запрещена в 1921 году с момента своего образования. Руководство КПЮ в Баня-Луке отправила своего работника Бранко Бабича помочь бастующим[35]. Бабич рассказывал, что в начале сентября 1940 года один из жителей Приедора представил его Стояновичу. Бабич проживал некоторое время в доме доктора, руководя стачкой. Бабич, видя симпатию Стояновича к бастующим, предложил Стояновичу вступить в партию. Доктор сначала отказывался, утверждая, что не избавился ото всех буржуазных привычек, хотя уже ознакомился с различными книгами по марксизму. После долгих уговоров Стоянович согласился вступить в партию[29]. В конце сентября 1940 года Бабич и пять членов Любльской ячейки КПЮ тайно встретились и согласились принять доктора Младена в партию[35]. Бабич присматривал за новобранцем в рядах партии очень тщательно, поскольку верил в его преданность делу коммунизма[29]. Впрочем, помимо поддерживавших Стояновича[36], нашлись и те, кто презрительно его считал его «салонным коммунистом»[29].
Начало Второй мировой войны
6 апреля 1941 Югославия вступила во Вторую мировую войну против нацистской Германии и её союзников[37]. Стоянович был мобилизован в армию и назначен врачом-терапевтом в пехотном батальоне Баня-Луки. В течение нескольких дней батальон двигался в направлении Далмации, но после ряда затяжных боёв был разгромлен, а Стоянович поспешил в Приедор[38]. Югославская королевская армия почти не оказала сопротивления немцам, и 17 апреля 1941 страна капитулировала. На её развалинах было создано Независимое государство Хорватия, включавшее в себя всю Хорватию, Боснию и Герцеговину и часть Сербии[37] и являвшееся германско-итальянским квази-протекторатом[39]. Во главе государства де-юре стоял король Томислав II (так и не побывавший в своем королевстве), фактическим лидером был поглавник Анте Павелич. Усташи развязали террор против сербского населения, насильно обращая в католичество, изгоняя сербов с земель или просто убивая их массово. Многие бежали на территорию «недичевской Сербии», которой руководил Милан Недич[37].
Чтобы не подвергнуться пыткам и не стать заложником в руках усташей, Стоянович откупился 100 тысячами югославских динаров[38]. В самой Югославии начались партизанские бои против оккупационных сил: не признавшие капитуляцию сербские националисты под командованием полковника Драгослава Михайловича основали Равногорское движение, члены которого называли себя «четниками»[40][41]. С другой стороны, коммунисты во главе с Иосипом Брозом Тито аналогично стали готовиться к боям за освобождение страны от немецких оккупантов и их пособников[42]: Тито считал, что это будет война всех народов Югославии против незваных гостей[43][44].
«Я издал решительные законы касаемо полного разрушения [сербской] экономики, а следующие будут стремиться к их полному уничтожению. Не надо быть щедрым к кому-нибудь из них. Имейте в виду, что они всегда были нашими могильщиками, и истребляйте их, где бы они ни находились. Пускай им не на что будет надеяться. Ради их же блага будет лучше, если они уедут отсюда. Пусть они убираются из нашего региона, из нашей Родины.».
|
22 июня 1941 началась операция «Барбаросса»: Германия вторглась в СССР[46]. В тот же день по Боснийской Краине прокатилась волна арестов и убийств как коммунистов, так и любых иных врагов усташей: усташи разграбили ряд городов, в том числе Приедор. Многие из местных жителей бежали в деревни или спрятались в заброшенных кварталах городов. Стояновича арестовали в Приедоре[47] и отвели в школу, посадив его в зал на третьем этаже, ставший тюремной камерой. Пленных сербов отправляли на принудительные работы, особенно на восстановление дороги к Козарацу. Стоянович, возглавлявший колонну, обычно нёс лопату а плече[38]. Хорватские домобранцы обращались с ним вполне приемлемо, и он сам читал лекцию сербским рабочим о марксизме[48].
В тот же день Исполком Коминтерна, расположенный в Москве, телеграфировал срочно ЦК Компартии Югославии призыв принять меры и выступить как с поддержкой советского народа в борьбе с гитлеровцами, так и начать организацию партизанских сил и вступить в борьбу с оккупантами Югославии[46]. Исполком заявил, что эта война уже не социалистическая революция, а война за освобождение всех народов от нацистской и фашистской оккупации. 4 июля 1941 руководство КПЮ объявило о начале вооружённой борьбы с оккупантами[42] (первый бой состоялся 7 июля в Западной Сербии)[49], а верховным главнокомандующим партизанского движения был назначен Иосип Броз Тито[42]. 13 июля Боснийский покраинский комитет партии, ведомый Светозаром Вукмановичем, организовал первые боевые группы в Боснийской Краине, Герцеговине, Тузле и Сараево[50][51].
Коммунистам из Приедора была поставлена задача вызволить Стояновича, однако подкупить усташей им не получалось. Шли разговоры о том, чтоб взять штурмом школу[48]. Но Стоянович сам спасся: 17 июля в полночь он попросил стражников отпустить его в туалет на втором этаже. Стража пошла вслед за ним, но на лестнице Стоянович внезапно заорал: «Пожар!», поскольку из комнаты на третьем этаже пошёл густой дым. Воспользовавшись неразберихой во время тушения пожара, Стоянович заскочил в туалет и выпрыгнул в окно[52]. Потом он помчался к деревне Орловци в нескольких километрах от Приедора, где его встретил юный Раде Башич, спасшийся ранее точно таким же способом. Башич и Стоянович дошли до горы Козара (978 м) к северу от Приедора[48][53].
После побега Стояновича усташи арестовали его жену Миру. Сын Воин, родившийся в 1940 году, был спрятан у бывшего мужа Миры. Вскоре Миру отпустили из тюрьмы, и она с ребёнком уехала в Дубровник[54]. Братья и сёстры Младена проживали в Белграде ещё до войны[55].
В рядах партизан
Козарский район
Июль — август 1941
 Утром 19 июля 1941 года Стоянович и Башич прибыли в лагерь коммунистов и симпатизирующих им лиц, которые выбрались из Приедора. Лагерь располагался на Райличе-Косе над деревней Мало-Паланчиште[52]. Новости о бегстве Стояновича вскоре распространились по всем окрестностям Приедора. В группе было много молодёжи, родившейся в 1920-е годы. Они были рады прибытию известного и уважаемого доктора Младена[47]. Из соседних деревень люди приносили еду и припасы Стояновичу и его юным товарищам. Стоянович выступал перед жителями деревень, призывая их готовиться к трудным испытаниям, и попросил их вынести ружья, которые они спрятали в домах[52]. Лагерь на Райличе-Косе стал первым партизанским лагерем на Козаре[56].
Утром 19 июля 1941 года Стоянович и Башич прибыли в лагерь коммунистов и симпатизирующих им лиц, которые выбрались из Приедора. Лагерь располагался на Райличе-Косе над деревней Мало-Паланчиште[52]. Новости о бегстве Стояновича вскоре распространились по всем окрестностям Приедора. В группе было много молодёжи, родившейся в 1920-е годы. Они были рады прибытию известного и уважаемого доктора Младена[47]. Из соседних деревень люди приносили еду и припасы Стояновичу и его юным товарищам. Стоянович выступал перед жителями деревень, призывая их готовиться к трудным испытаниям, и попросил их вынести ружья, которые они спрятали в домах[52]. Лагерь на Райличе-Косе стал первым партизанским лагерем на Козаре[56].
Горный массив Козара площадью 2500 км² располагался на севере Боснийской Краины, в центре его находилась одноимённая гора. В 1941 году здесь проживало порядка 200 тысяч человек, премиущественно сербов. Крупнейшим городом был Приедор, где проживали сербы, славяне-мусульмане и хорваты. В нескольких деревнях жили фольксдойче. Экономика Козары строилась на сельском хозяйстве, около 6 тысяч человек работали в шахтах и на электростанциях. Компартия начала свою деятельность здесь ещё до войны, а сама Козара была известна благодаря четырём восстаниям против турецкого владычества в XIX веке[53].
Ночью 25 июля 1941 года в Орловцах Стоянович с семью другими жителями Козары назначил встречу с Джуро Пуцаром, главой регионального комитета Боснийской Краины при КПЮ. Пуцар призвал Стояновича начать бои с противником поскорее: необходимо было вести партизанскую войну при помощи соответствующих формирований. Стоянович и Осман Карабегович должны были возглавить восстание под Приедором[57]. 27 июля на западе Боснийской Краины началось восстание: партизанами был взят Дрвар[58]. Восставшие в Козаре в основном не были организованы как следует[57], а вот в Приедоре Стоянович и Карабегович сумели взять под контроль партизан из деревень[52], из которых, по словам Пуцара, была собрана Приедорская партизанская рота численностью несколько сот человек[59]. Они были вооружены плохо или не вооружены совсем[52].
Приедорская рота должна была атаковать Люблю[59]. 30 июля, вопреки приказам Стояновича, они атаковали Велико-Паланчиште и освободили 15 человек, пленённых усташами[57], после чего двинулись к Приедору и подошли к нему довольно близко. Город охранялся силами хорватского домобранства, усташей и немецких солдат. Линия фронта стабилизировалась после трёхдневных боёв, оставив в руках Приедорской роты семь деревень[59]. Железнодорожное сообщение между Люблей и Загребом было нарушено, и поставка железа в Германию временно остановилась. Восстание затронуло также Дубицу и Нови-Град. К середине августа пять партизанских отрядов были сформированы на Козаре и с учётом Приедорского партизанского отряда, ведомого Стояновичем, держались на линии Козарац — Приедор — Лешляни — Добрлин — Костайница — Дубица[60].
Лидеры восстания встретились 15 августа 1941 года в деревне Кнежица, там Стояновича официально признали лидером движения благодаря его довоенному статусу и хорошей репутации среди людей. Партизаны признали, что образовывать линию фронта было ошибкой, поскольку противоречило правилам ведения партизанской войны[61]. На встрече Стоянович выступил за то, чтобы стянуть на себя как можно больше сил немцев, чтобы сорвать их переброску на Восточный фронт и не допустить тем самым разгрома Красной Армии[62]. Пять партизанских отрядов были закреплены за своими территориями, поэтому срочно было принято решение о создании мобильного отряда — Козарского отряда, в котором Стоянович был назначен командиром, а Карабегович политруком. Численность отряда составляла 40 человек. Отряд прошёл с красным знаменем по нескольким деревням для поднятия боевого духа, в каждой из них Стоянович читал речи для местных жителей[61].
Хорватские домобранцы, усташи и немецкий батальон из Баня-Луки численностью 10 тысяч человек атаковали партизанскую территорию 18 августа 1941 года. Противник прорвал линию фронта и ворвался на партизанскую территорию: немцы и хорваты сожгли дома и угнали весь крупный рогатый скот[60]. Многие из крестьян были морально подавлены, кто-то даже проклинал партизан за это, а кто-то вывесил белый флаг на своих домах. Партизаны ушли глубже, в лесные массивы на склонах. Стоянович повёл свой отряд к Лисине, высочайшему пику Козарского массива. Вечером он призвал всех своих солдат не приписывать себя к какой-то деревне или территории, а помнить о том, что они сражаются за всю страну. Тем, кто так не считал, он предложил сложить оружие и уйти. Всего несколько человек ушли из отряда, а остальные двинулись к Лисине, где организовали лагерь и занялись военно-политической подготовкой[62]. Нападение 18 августа стало первым наступлением немцев против партизан, но значительных потерь движение не понесло[60].
Сентябрь — декабрь 1941
 Лидеры Козарского восстания снова собрались 10 сентября 1941 года у подошвы Лисины. Пять партизанских отрядов Козары были собраны в три роты численностью 217 штыков[63]. В конце сентября козарские партизаны снова начали нападать на хорватские и немецкие силы, в основном на слабо обученные и плохо подготовленные отряды. Эти операции предоставили военное превосходство партизанам: тем удалось захватить огромное количество оружия и боеприпасов. Благодаря успехам партизанского движения оно пополнилось ещё двумя ротами к концу октября. Партизанами контролировался тогда ряд деревень[64]. Реорганизация привела к образованию 2-го Краинского народно-освободительного партизанского отряда в начале ноября 1941 года, командиром которого и стал Стоянович[65]. В середине ноября отряд насчитывал 670 человек, вооружённых 510 винтовками, 5 ручными пулемётами и одним тяжёлым станковым пулемётом[64].
Лидеры Козарского восстания снова собрались 10 сентября 1941 года у подошвы Лисины. Пять партизанских отрядов Козары были собраны в три роты численностью 217 штыков[63]. В конце сентября козарские партизаны снова начали нападать на хорватские и немецкие силы, в основном на слабо обученные и плохо подготовленные отряды. Эти операции предоставили военное превосходство партизанам: тем удалось захватить огромное количество оружия и боеприпасов. Благодаря успехам партизанского движения оно пополнилось ещё двумя ротами к концу октября. Партизанами контролировался тогда ряд деревень[64]. Реорганизация привела к образованию 2-го Краинского народно-освободительного партизанского отряда в начале ноября 1941 года, командиром которого и стал Стоянович[65]. В середине ноября отряд насчитывал 670 человек, вооружённых 510 винтовками, 5 ручными пулемётами и одним тяжёлым станковым пулемётом[64].
С конца сентября по конец декабря 1941 года козарские партизаны провели 40 военных операций против своих врагов. Стоянович составлял планы действий и руководил лично крупными операциями, в числе которых входили битвы при Подградцах, Мраковице и Туряке. Стоянович настаивал на захвате деревни Подградци, располагавшейся близко к Козаре, чтобы не допустить перекрытия немцами путей снабжения партизан и не допустить потери Градишки: к тому же там была лесопилка, снабжавшая немцев и усташей[66]. 23 октября 1941 года партизаны под командованием Стояновича заняли Подградци после пятичасового боя[64], обнаружив на лесопилке множество шпал, которые немцы собирались использовать для восстановления разбомбленных дорог на захваченной ими части Советской Украины. Партизаны сожгли шпалы, а Стоянович назвал это актом помощи Красной Армии. В Подградцах были захвачены домобранцы и усташи: если усташей осудили и казнили, то домобранцев удалось перевести на свою сторону (Стоянович прочитал перед ними речь, после чего партизаны накормили пленных и переправили через реку Уну)[66].
Третья антипартизанская операция была предпринята в конце ноября 1941 года силами 19 тысяч человек: домобранцев, усташей и немцев[67]. Партизанам удалось избежать крупных потерь, но пропаганда НГХ постоянно твердила о полном уничтожении мятежников в Козаре и смерти Стояновича[68]. Ошибки фронтального сопротивления партизаны больше не повторяли никогда[64]: когда на них шли превосходящие силы противника, они уходили со своих позиций и не ввязывались в битвы, в которых партизаны не могли победить. В ходе наступления были истреблены сотни сербов из деревень, тем самым поддержка партизан резко снизилась. Стоянович считал, что серьёзная победа над противником могла бы вернуть доверие со стороны селян[68].
 После третьей операции батальон хорватского домобранства был расквартирован на горе Мраковице[67]. Стоянович приказал атаковать силами пяти рот 2-го Краинского отряда, и атака началась 5 декабря 1941 года в 5:30 утра. Спустя 4 часа партизаны одержали решительную победу[69], потеряв всего пять убитыми, уничтожив 78 солдат противника и захватив 200 в плен. В руки партизан попали 155 винтовок, 12 ручных пулемётов, 6 тяжёлых пулемётов, 4 миномёта со 120 снарядами и 19 тысяч патронов к огнестрельному оружию[67]. Последним действием отряда под командованием Стояновича стала битва за Туряк[70], когда четыре роты захватили 16 декабря 1941 года деревню, взяв в плен 134 домобранца[71]. В деревне они обнаружили письма домобранцев своим семьям: в них говорилось о полном унынии солдат. Захват Туряка открыл дорогу на Градишку и её окрестности, а домобранцы сбежали из Подградцев, не оказав никакого сопротивления. Вскоре в руках партизан оказались почти вся гора Козара и Подкозарье[70].
После третьей операции батальон хорватского домобранства был расквартирован на горе Мраковице[67]. Стоянович приказал атаковать силами пяти рот 2-го Краинского отряда, и атака началась 5 декабря 1941 года в 5:30 утра. Спустя 4 часа партизаны одержали решительную победу[69], потеряв всего пять убитыми, уничтожив 78 солдат противника и захватив 200 в плен. В руки партизан попали 155 винтовок, 12 ручных пулемётов, 6 тяжёлых пулемётов, 4 миномёта со 120 снарядами и 19 тысяч патронов к огнестрельному оружию[67]. Последним действием отряда под командованием Стояновича стала битва за Туряк[70], когда четыре роты захватили 16 декабря 1941 года деревню, взяв в плен 134 домобранца[71]. В деревне они обнаружили письма домобранцев своим семьям: в них говорилось о полном унынии солдат. Захват Туряка открыл дорогу на Градишку и её окрестности, а домобранцы сбежали из Подградцев, не оказав никакого сопротивления. Вскоре в руках партизан оказались почти вся гора Козара и Подкозарье[70].
В отряд Стояновича вступили ещё больше добровольцев, и к концу 1941 года он насчитывал уже больше тысячи хорошо вооружённых солдат: в отряде было три батальона, в каждом батальоне было по три роты[70]. Среди военнослужащих отряда было очень много славян-мусульман, поскольку отряд установил с местным мусульманским населением хорошие отношения[72][73]. 21 декабря в Лисине Пуцар организовал встречу с коммунистами Козары, на которой Стоянович кратко представил хронологию действий во время восстания в Козаре[70]. Пуцар выразил благодарность Младену и назвал 2-й Краинский отряд лучшим партизанским отрядом Боснийской Краины[74].
24 декабря в штаб-квартире Хорватского домобранства в Баня-Луке объявили Младена Стояновича в розыск и пообещали вознаграждение за его голову. Документ домобранства гласил, что это самый образованный и опасный лидер мятежников, планирующий и проводящий атаки в своей систематической манере. Штаб-квартира серьёзно была обеспокоена тем, что все домобранцы, попавшие в плен, содержались в подозрительно хороших условиях: партизаны читали им выдержки из коммунистической литературы, предлагали сухой паёк и сигареты, залечивали раны и отпускали потом по домам. Тем самым штаб-квартира понимала: этих солдат будет бесполезно повторно призывать в армию для боёв с партизанами[74]. Согласно свидетельствам Драго Карасиевича, отвага и боевой дух партизан стали известны на просторах всей Боснийской Краины, во многих частях Боснии и на границе территорий Боснии и Хорватии. В деревнях Козары люди пели песни о Стояновиче[70]:
| Ide Mladen vodi partizane |
Идёт Младен, ведёт партизан, |
Район Грмеча
29 или 30 декабря 1941 года Стоянович прибыл в район Грмеча на западе Боснийской Краины, который входил в зону контроля 1-го Краинского народно-освободительного партизанского отряда[75]. В зону контроля входил Дрвар, где и началось всё антифашистское восстание в Боснии. К несчастью, в Дрваре партизанское движение было подавлено итальянскими войсками, взявшими его 25 сентября 1941. Итальянцы пропагандировали, что защищают сербов от усташей и их приспешников, что вынуждало местное население сотрудничать с итальянцами. По свидетельству Османа Карабеговича, партизаны из 1-го Краинского отряда стали более активными после того, как Пуцар организовал встречу с их командирами 15 декабря 1941 года, но эта активность была откровенно низкой в северных окрестностях Грмеча. Стоянович и Карабегович отправились туда, чтобы развеять мифы об итальянских «освободителях» и «защитниках», а также призвать местное население к бою с итальянцами и усташами[73][75].
 По свидетельству писателя Бранко Чопича, партизана из Грмеча, Стояновича встречала толпа деревенских жителей, приветствуя его хлебом-солью, когда он переплывал реку Сана. Многие из жителей здоровались с ним за руку, сравнивая с легендарным Милошем Обиличем, героем битвы на Косовом поле, а женщины пытались ему поцеловать руки, от чего Стоянович отказывался, заявляя, что он не священник, а простой коммунист[76].
По свидетельству писателя Бранко Чопича, партизана из Грмеча, Стояновича встречала толпа деревенских жителей, приветствуя его хлебом-солью, когда он переплывал реку Сана. Многие из жителей здоровались с ним за руку, сравнивая с легендарным Милошем Обиличем, героем битвы на Косовом поле, а женщины пытались ему поцеловать руки, от чего Стоянович отказывался, заявляя, что он не священник, а простой коммунист[76].
Стоянович, навестив жителей окрестных деревень, осматривал роты и взводы 1-го Краинского отряда: все его визиты сопровождались партизанскими парадами, на которые сбегались все люди; исполнялись партизанские песни, выкрикивались патриотические лозунги и развевались знамёна. Стоянович, выступая перед местными жителями и солдатами, заявил, что итальянцы лгут сербам по поводу мнимой защиты от усташей и являются незваными гостями на этой земле, а все, кто помогает итальянцам — сообщники оккупантов и предатели сербского народа[75][77]. Некоторые не поняли речей Стояновича и стали утверждать, что это не настоящий доктор Младен, а его двойник-«турок», поскольку настоящего Младена Стояновича убили усташи в августе 1941 года, а партизаны просто не хотели это признавать. Впрочем, большинство в эту глупость не поверило[76].
22 января 1942 года в штаб-квартире 1-го Краинского отряда в деревне Майкич-Япра Стоянович созвал совещание штаба и политических активистов Грмеча, на котором подверг критике структуру штаб-квартиры, где не было чёткого разделения обязанностей и личной ответственности каждого из командующих, отсутствовала связь со взводами, не было ярко выраженных лидеров и постоянно доступных курьеров. Стоянович был доволен самими партизанами, называя их отважными, полными энтузиазма, крепкими и теми, кому можно доверять, но при этом неопытными и не поддерживающими постоянную связь с товарищами из других взводов. Партизаны, по мнению Стояновича, теряли опыт и становились больше похожими на крестьян, а также слишком часто не доверяли комиссарам. Он пригрозил, что все партизаны, которые будут носить отличительные знаки, не соответствующие уставу (т.е. что угодно, кроме красных звёзд на униформе), будут наказаны за непослушание и несоблюдение дисциплины[78].
На совещании Стоянович предложил Милорада Миятовича на должность командира 1-го Краинского отряда, Петара Войновича — на должность заместителя командира, Велимира Стойнича и Саламона Леви — на должности политрука и заместителя политрука соответственно[78] (с Леви Стоянович познакомился ещё во время своих путешествий в Вену в 1921 и 1922 годах)[79]. Во время проживания в Грмече Младен Стоянович познакомился с юным писателем Бранко Чопичем, вдохновив его писать стихи о партизанах. Стоянович говорил: «Поэзия и революция всегда идут рука об руку», поэтому считал поэзию предпочтительной для партизан[76]. Вплоть до середины февраля 1942 года Стоянович пребывал в Грмече[80], пока ему не сообщило руководство из Боснии и Герцеговины об успешной победе над итальянской пропагандой и улучшении боеготовности 1-го Краинского отряда[73].
Северо-запад центральной Боснии
Стоянович покинул Грмеч и отправился в Скендер-Вакуф на северо-западе Центральной Боснии, чтобы принять участие в первом региональном съезде КПЮ в Боснийской Краине[76], который состоялся с 21 по 23 февраля 1942 года[81]. В структуре партизанского движения Центральная Босния также входила в Боснийскую Краину[50]. На съезде, председателями которого стали Пуцар, Стоянович и Карабегович[82], был проведён анализ военно-политической ситуации в регионе. Усиление влияния четников, которое было особенно сильным на юго-востоке Боснийской Краины и северо-западе Центральной Боснии (зоны ответственности 3-го и 4-го Краинских партизанских отрядов соответственно), стало головной болью для КПЮ, поскольку к четникам сбегали и партизаны[83][84]. Равновесие удавалось сохранить только в Козаре[64][73]. На съезде Стоянович был назначен главным командиром партизанских сил в Боснийской Краине[81], но уже 24 февраля его заменил Коста Надь[85][86]. Был образован Оперативный штаб НОАЮ по Боснийской Краине, в котором Стоянович стал заместителем Надя и начальником штаба[83][87][88][89].
Согласно Надю, раскол между партизанами и четниками случился в Боснийской Краине 14 декабря 1941 года в деревне Яворани, когда школьный учитель Лазар Тешанович стал переводить партизан на сторону четников[90] и организовал отряд четников численностью от 70 до 80 человек[84], который в начале марта 1942 года прибыл в деревню Липовац. 5 марта Младен Стоянович, Коста Надь и Данко Митров (командир 4-го Краинского партизанского отряда) отправились в Липовац с Козарской пролетарской ротой[86] (штурмовым отрядом, образованным в феврале 1942 года)[91]. По одним источникам, они попытались провести переговоры с Тешановичем[83], по другим — разоружить его отряд[86]. Когда колонна партизан достигла здания школы в Липоваце, четники открыли огонь по партизанам. Стоянович был серьёзно ранен в голову[92], ещё 13 человек были убиты и 8 ранены. Партизаны отступили и ночью отвезли всех раненых в полевой госпиталь в Йошавке[86].
Стоянович пробыл 10 дней в госпитале, пока не перебрался в дом на расстоянии 800 м отсюда[92]. В конце марта 1942 года Оперативный штаб НОАЮ в Боснийской Краине и штаб-квартира 4-го Краинского партизанского отряда перебрались в Йошавку. Ночью 31 марта их атаковали партизаны Йошавской партизанской роты, перешедшие на сторону четников под влиянием бывшего политрука 4-го Краинского партизанского отряда Радослава «Раде» Радича. В ходе перестрелки были убиты 15 настоящих партизан[93][94]. По свидетельству Даницы Перович — врача, обследовавшего Стояновича — четники забрали его оружие и поставили часового снаружи дома. Радич через курьера передал Стояновичу приказ отправить письмо Митрову, чтобы тот увёл партизан от Йошавке, однако Стоянович отправил другое письмо, призывавшее Митрова продолжать бои. Следующей ночью 1 апреля группа четников ворвалась в дом Стояновича, бросила его на одеяло и вытащила из дома, после чего оттащила на водяную мельницу у Йошавки. Там в Младена Стояновича один из четников сделал два выстрела. Ранения оказались смертельными[92].
2 апреля 1942 года местные жители похоронили Стояновича на крутом, засаженном деревьями склоне[91]. К концу апреля 1942 года почти все роты 4-го Краинского народно-освободительного партизанского отряда были разбиты или сбежали к четникам[95], а Раде Радич стал командиром четницких подразделений в Боснийской Краине. После завершения войны Верховный суд Югославии осудил его за коллаборационизм и приговорил к расстрелу: Радича казнили уже в 1945 году[83]. В ноябре 1961 года Стоянович был перезахоронен в Приедоре[96].
Память
 19 апреля 1942 штаб-квартира 2-го Краинского партизанского отряда присвоила отряду имя Младена Стояновича. Козарские партизаны поклялись выместить свой гнев за смерть Стояновича на всех «врагах народа»[97]. 2-й Краинский партизанский отряд и 4 роты 1-го Краинского партизанского отряда освободили Приедор 16 мая 1942[72][97], а после этого Стояновичу присвоили посмертно звание Народного героя Югославии[96].
19 апреля 1942 штаб-квартира 2-го Краинского партизанского отряда присвоила отряду имя Младена Стояновича. Козарские партизаны поклялись выместить свой гнев за смерть Стояновича на всех «врагах народа»[97]. 2-й Краинский партизанский отряд и 4 роты 1-го Краинского партизанского отряда освободили Приедор 16 мая 1942[72][97], а после этого Стояновичу присвоили посмертно звание Народного героя Югославии[96].
Уже после войны брат Младена, Сретен, создал скульптуру в честь своего великого брата, установленную в Приедоре. В самой Социалистической Югославии именем Стояновича назывались улицы, предприятия, школы, больницы, аптеки и различные общества. Не только народные, но и популярные песни прославляли Стояновича[96]. В 1975 году был снят фильм «Доктор Младен», главную роль в нём исполнил Люба Тадич, получивший в том же году кинопремию «Золотая арена» в Пуле за лучшую роль.[98].
Ежегодно в апреле к памятнику Стояновичу в Приедоре возлагают венки. В 2012 году президент Союза объединения ветеранов Народно-освободительной войны Республики Сербской Благоя Галич заявил[99]:
Младен был образцом для подражания, революционером с ранней молодости и до конца жизни, самая популярная личность восстания на Козаре, в Краине и других землях и один из самых храбрых бойцов и руководителей Народно-освободительной войны. Поэтому его образ продолжает жить в памяти вместе со славой героической Козары.
Оригинальный текст (серб.)Mladen je bio čovjek za primjer, revolucionar od najranije mladosti pa do kraja života, najpopularnija ličnost ustanka na Kozari, Krajini i mnogo šire i jedan od najhrabrijih boraca i rukovodilaca Narodnooslobodilačke borbe. Zato je njegov je lik ostao da živi u sjećanju zajedno sa slavom herojske Kozare[99].
Поэзия
В молодости Стоянович писал стихи, но опубликован был только один из них в 1918 году в журнале «Книжевни юг» (серб. Književni jug)[12][100], редактором которой был будущий лауреат Нобелевской премии по литературе Иво Андрич. На написание этой поэмы Стояновича вдохновил образ сербского героя Больного Дойчина. Множество стихов хранилось в дневнике, принадлежавшем Тодору Иличу. По мнению поэта Драгана Колунджии, стихи Стояновича — это лирические миниатюры свободного стиля, в центре которых находятся человек и природа в атмосфере меланхолии. Колунджия утверждает, что вдохновение Стояновича отражено в стихотворении «Кровавая боль» (серб. Krvav je bol)[12]. Поэт Мирослав Федьман, встречавшийся со Стояновичем в 1919 году в Загребе, считал, что стихи Стояновича были грустными и пронизанными тоской по светлой и более радостной жизни[26].
Стоянович написал эссе, опубликованное как предисловие к книге Фельдмана «Из-за солнца»[101], вышедшей в 1920 году. В 1925 году Стоянович стал инициатором создания антологии югославской лирики, над которой работал с Фельдманом и Густавом Крклецом. Завершённую антологию так и не опубликовали по непонятной причине[102]. Стоянович отражал свои поэтические впечатления в письмах к жене Мире, особенно когда он писал о своих пациентах[103]:
И, когда подымаются и ощущаются потоки силы и весны в жилах, я словно иду к тому, что какое-то исступление покидает меня, и я ищу другие больные глаза детей, жён, матерей, стариков, нахожу их и снова забываю всё.
Оригинальный текст (серб.)I, kad se podižu i osjećaju strujanje snage i proljeća u svojim žilama ja kao da dolazim sebi, ostavlja me neki zanos i ja tražim druge bolesne oči djece, žena, majki, staraca; nalazim ih i ponovo zaboravljam sve[103].
Напишите отзыв о статье "Стоянович, Младен"
Примечания
- ↑ 1 2 Bašić 1969, pp. 9–12
- ↑ Adamović 2010, para. 2–5
- ↑ "[scc.digital.bkp.nb.rs/view/P-2484-1939&e=f&ID=10925&p=011 Јованка Стојановић]", Politika (Belgrade: Politika) (no. 11147): 11, 15 June 1939, ISSN [worldcat.org/issn/0350-4395 0350-4395], <scc.digital.bkp.nb.rs/view/P-2484-1939&e=f&ID=10925&p=011>
- ↑ Dedijer 1966, p. 626
- ↑ 1 2 3 4 Bašić 1969, pp. 20–25
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Dedijer 1966, pp. 580–83
- ↑ Donia 2006, p. 112
- ↑ Dedijer 1966, p. 353
- ↑ 1 2 3 Dedijer 1966, pp. 293–98
- ↑ Papić 1976, pp. 238–39
- ↑ Dedijer 1966, pp. 386–88
- ↑ 1 2 3 Bašić 1969, pp. 180–82
- ↑ 1 2 Bašić 1969, pp. 15–16
- ↑ Calic 2010, p. 64
- ↑ Bašić 1969, pp. 26–30
- ↑ Dedijer 1966, pp. 636–39
- ↑ 1 2 3 4 5 Bašić 1969, pp. 36–40
- ↑ Dedijer 1966, p. 512
- ↑ 1 2 3 4 Bašić 1969, pp. 49–52
- ↑ Dedijer 1966, pp. 31–32
- ↑ Dedijer 1966, p. 593
- ↑ Dedijer 1966, pp. 35–37
- ↑ 1 2 Bašić 1969, pp. 61–65
- ↑ Tomasevich 2001, p. 1
- ↑ Bašić 1969, pp. 87–89
- ↑ 1 2 Bašić 1969, pp. 101–2
- ↑ 1 2 3 4 Bašić 1969, pp. 107–12
- ↑ Adamović 2010, para. 6
- ↑ 1 2 3 4 Bašić 1969, pp. 93–95
- ↑ 1 2 Bašić 1969, pp. 115–18
- ↑ 1 2 3 Bašić 1969, pp. 67–74
- ↑ Bašić 1969, p. 13
- ↑ [www.tenis-prijedor.com/tennis/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=34 Istorijat kluba] (серб.). Dr Mladen Stojanović Tennis Club, Prijedor. Архивировано из первоисточника 5 декабря 2011.
- ↑ Bašić 1969, p. 82
- ↑ 1 2 Bašić 1969, pp. 76–80
- ↑ Bašić 1969, p. 7
- ↑ 1 2 3 Vucinich 1949, pp. 355–358
- ↑ 1 2 3 Bašić 1969, pp. 43–44
- ↑ Tomasevich 2001, p. 272
- ↑ Vucinich 1949, pp. 362–365
- ↑ Roberts 1987, pp. 20–22, 26
- ↑ 1 2 3 Roberts 1987, pp. 23–24
- ↑ Vukmanović 1982, v. 1, p. 157
- ↑ Vucinich 1949, p. 364
- ↑ Yeomans 2013, p. 15
- ↑ 1 2 Vukmanović 1982, v. 1, p. 152
- ↑ 1 2 Marjanović 1980, pp. 85–87
- ↑ 1 2 3 Bašić 1969, pp. 53–57
- ↑ Shepherd 2012, pp. 93–94
- ↑ 1 2 Anić, Joksimović, & Gutić 1982, pp. 47–48
- ↑ Vukmanović 1982, v. 1, p. 179
- ↑ 1 2 3 4 5 Bašić 1969, pp. 17–20
- ↑ 1 2 Borojević, Samardžija, & Bašić 1973, pp. 9–15
- ↑ Dabek, Gašić, & Vuković 1981, p. 202
- ↑ Dabek, Gašić, & Vuković 1981, p. 200
- ↑ Bašić 1969, p. 66
- ↑ 1 2 3 Marjanović 1980, pp. 89–93
- ↑ Hoare 2006, p. 76
- ↑ 1 2 3 Vukmanović 1982, v. 1, pp. 211–214
- ↑ 1 2 3 Karasijević 1980, pp. 134–36
- ↑ 1 2 Marjanović 1980, pp. 94–95
- ↑ 1 2 Bašić 1969, pp. 32–35
- ↑ Bašić 1969, p. 42
- ↑ 1 2 3 4 5 Terzić 1957, pp. 136–38
- ↑ Terzić 1957, pp. 134–35
- ↑ 1 2 Bašić 1969, pp. 84–86
- ↑ 1 2 3 Karasijević 1980, pp. 137–139
- ↑ 1 2 Bašić 1969, pp. 96–100
- ↑ Bašić 1969, pp. 120–21
- ↑ 1 2 3 4 5 Bašić 1969, pp. 122–27
- ↑ Karasijević 1980, p. 140
- ↑ 1 2 Hoare 2006, p. 269
- ↑ 1 2 3 4 Vukmanović 1982, v. 2, pp. 150–54
- ↑ 1 2 Bašić 1969, pp. 129–30
- ↑ 1 2 3 Bokan 1988, pp. 299–303
- ↑ 1 2 3 4 Bašić 1969, pp. 136–140
- ↑ Bašić 1969, pp. 131–35
- ↑ 1 2 Bokan 1988, pp. 305–307
- ↑ Bašić 1969, p. 92
- ↑ Bokan 1988, p. 329
- ↑ 1 2 Vukmanović 1982, v. 2, p. 36
- ↑ Bašić 1969, pp. 141–42
- ↑ 1 2 3 4 Samardžija 1987, pp. 7–9
- ↑ 1 2 Trikić & Rapajić 1982, pp. 22–25
- ↑ Bokan 1988, p. 332
- ↑ 1 2 3 4 Trikić & Rapajić 1982, pp. 35–36
- ↑ Anić, Joksimović, & Gutić 1982, p. 101
- ↑ Hoare 2006, p. 257
- ↑ Trikić & Rapajić 1982, pp. 51–52
- ↑ Nađ 1979, pp. 85–86
- ↑ 1 2 Trikić & Rapajić 1982, p. 27
- ↑ 1 2 3 Bašić 1969, pp. 163–171
- ↑ Trikić & Rapajić 1982, pp. 71–73
- ↑ Hoare 2006, p. 261
- ↑ Borojević, Samardžija, & Bašić 1973, pp. 91–92
- ↑ 1 2 3 Bašić 1969, pp. 5–6
- ↑ 1 2 Borojević, Samardžija, & Bašić 1973, pp. 22–23
- ↑ Berić 2013, para. 1
- ↑ 1 2 [www.gradprijedor.com/drustvo/pavic-ideale-heroja-mladena-stojanovica-prenijeti-na-omladinu Pavić – Ideale heroja Mladena Stojanovića prenijeti na omladinu] (серб.). City of Prijedor (2 April 2012). Архивировано из первоисточника 5 ноября 2013.
- ↑ Stojanović 1918, p. 222
- ↑ [books.google.com/books?id=q_iPOQAACAAJ Iza sunca]
- ↑ Bašić 1969, pp. 103–6
- ↑ 1 2 Bašić 1969, pp. 113–14
Литература
- Adamović, Vedrana (2010), [www.muzejkozareprijedor.com/index.php?option=com_content&view=article&id=80:o-porodici-stojanovi&catid=63:o-porodici-stojanovi&Itemid=74 O porodici Stojanović], Museum of Kozara, Prijedor, <www.muzejkozareprijedor.com/index.php?option=com_content&view=article&id=80:o-porodici-stojanovi&catid=63:o-porodici-stojanovi&Itemid=74>
- Anić, Nikola; Joksimović, Sekula & Gutić, Mirko (1982), [books.google.com/books?id=xTErAAAAMAAJ Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije], Belgrade: Vojnoistorijski institut, <books.google.com/books?id=xTErAAAAMAAJ>
- Bašić, Rade (1969), [books.google.com/books?id=EvWPAAAAIAAJ Doktor Mladen], Belgrade: Narodna armija, <books.google.com/books?id=EvWPAAAAIAAJ>
- Berić, Gojko (2013), [www.oslobodjenje.ba/kolumne/brisanje-istine Brisanje istine], Sarajevo: Oslobođenje d.o.o., ISSN [worldcat.org/issn/2232-9986 2232-9986], <www.oslobodjenje.ba/kolumne/brisanje-istine>
- Bokan, Branko J. (1988), [books.google.com/books?id=7AkMHQAACAAJ Prvi krajiški narodnooslobodilački partizanski odred], Belgrade: Vojnoizdavački i novinski centar, <books.google.com/books?id=7AkMHQAACAAJ>
- Borojević, Ljubomir; Samardžija, Dušan & Bašić, Rade (1973), Peta kozaračka brigada (2 ed.), Belgrade: Narodna knjiga
- Calic, Marie-Janine (2010), [books.google.com/books?id=cTjtGDNaViMC Geschichte Jugoslawiens im zwanzigsten Jahrhundert], Munich: C.H.Beck, ISBN 978-3-406-60645-8, <books.google.com/books?id=cTjtGDNaViMC>
- Prijedorska gimnazija 1921–1981, Banja Luka: Glas, 1981
- Dedijer, Vladimir (1966), <books.google.com/books?id=nYDRAAAAMAAJ>
- Donia, Robert J. (2006), [books.google.com/books?id=ACvJHam2_-oC Sarajevo: A Biography], Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press, ISBN 978-0-472-11557-0, <books.google.com/books?id=ACvJHam2_-oC>
- Hoare, Marko Attila (2006), [books.google.com/books?id=94bzAAAAMAAJ Genocide and Resistance in Hitler's Bosnia: The Partisans and the Chetniks, 1941–1943], New York: Oxford University Press, ISBN 978-0-19-726380-8, <books.google.com/books?id=94bzAAAAMAAJ>
- Karasijević, Drago (1980), [books.google.com/books?id=7ZYgHAAACAAJ "Ustanak i borbe na Kozari do oktobra 1942. godine"], Kozara u Narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji (1941–1945), Prijedor: Nacionalni park "Kozara", OCLC [worldcat.org/oclc/10076276 10076276], <books.google.com/books?id=7ZYgHAAACAAJ>
- Marjanović, Joco (1980), [books.google.com/books?id=7ZYgHAAACAAJ "Ustanak na Kozari 1941. godine"], Kozara u Narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji (1941–1945), Prijedor: Nacionalni park "Kozara", OCLC [worldcat.org/oclc/10076276 10076276], <books.google.com/books?id=7ZYgHAAACAAJ>
- Nađ, Kosta (1979), Jovo Popović, ed., [books.google.com/books?id=KzuBAAAAIAAJ Ratne uspomene: Četrdesetdruga], Zagreb: Centar za kulturnu djelatnost Saveza socijalističke omladine Jugoslavije, <books.google.com/books?id=KzuBAAAAIAAJ>
- Roberts, Walter R. (1987), [books.google.com/books?id=43CbLU8FgFsC Tito, Mihailovic and the Allies,1941–1945], Durham, North Carolina: Duke University Press, ISBN 978-0-8223-0773-0, <books.google.com/books?id=43CbLU8FgFsC>
- Samardžija, Dušan D. (1987), [books.google.com/books?id=Cnt0mgEACAAJ Jedanaesta krajiška NOU divizija], Belgrade: Vojnoizdavački i novinski centar, <books.google.com/books?id=Cnt0mgEACAAJ>
- Shepherd, Ben (2012), [books.google.com/books?id=LN3xae_75XoC Terror in the Balkans: German Armies and Partisan Warfare], Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, ISBN 978-0-674-06513-0, <books.google.com/books?id=LN3xae_75XoC>
- Stojanović, Mladen (1918), Književni jug (Zagreb: Niko Bartulović) . — Т. 2 (6), <scc.digital.bkp.nb.rs/view/P-0261-1918&p=393>
- Terzić, Velimir, ed. (1957), [books.google.com/books?id=HF3jtgAACAAJ Oslobodilački rat naroda Jugoslavije 1941–1945], vol. 1, Belgrade: Vojnoistorijski institut Jugoslovenske narodne armije, <books.google.com/books?id=HF3jtgAACAAJ>
- Tomasevich, Jozo (2001), [books.google.com/books?id=fqUSGevFe5MC War and Revolution in Yugoslavia, 1941–1945: Occupation and Collaboration], Stanford, California: Stanford University Press, ISBN 978-0-8047-3615-2, <books.google.com/books?id=fqUSGevFe5MC>
- Trikić, Savo & Rapajić, Dušan (1982), [books.google.com/books?id=I8GSNAAACAAJ Proleterski bataljon Bosanske Krajine], Belgrade: Vojnoizdavački zavod, <books.google.com/books?id=I8GSNAAACAAJ>
- Vucinich, Wayne S. (1949), [www.questia.com/read/95013772/yugoslavia "The Second World War and Beyond"], in Robert Joseph Kerner, Yugoslavia, Berkeley: University of California Press – с помощью Questia (требуется подписка), <www.questia.com/read/95013772/yugoslavia>
- Vukmanović, Svetozar (1982), Revolucija koja teče: Memoari, Zagreb: Globus
- Yeomans, Rory (2013), [books.google.com/books?id=Yxv4-iqVe2wC Visions of Annihilation: The Ustasha Regime and the Cultural Politics of Fascism, 1941–1945], Pittsburgh, Pennsylvania: University of Pittsburgh Press, ISBN 978-0-82296192-5, <books.google.com/books?id=Yxv4-iqVe2wC>
Ссылки
| |
Стоянович, Младен на Викискладе? |
|---|
- [www.muzejkozareprijedor.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=61&Itemid=75 Галерея фотографий Младена Стояновича]
| Эта статья входит в число хороших статей русскоязычного раздела Википедии. |
Отрывок, характеризующий Стоянович, Младен
Берейтор, кучер и дворник рассказывали Пьеру, что приезжал офицер с известием, что французы подвинулись под Можайск и что наши уходят.Пьер встал и, велев закладывать и догонять себя, пошел пешком через город.
Войска выходили и оставляли около десяти тысяч раненых. Раненые эти виднелись в дворах и в окнах домов и толпились на улицах. На улицах около телег, которые должны были увозить раненых, слышны были крики, ругательства и удары. Пьер отдал догнавшую его коляску знакомому раненому генералу и с ним вместе поехал до Москвы. Доро гой Пьер узнал про смерть своего шурина и про смерть князя Андрея.
Х
30 го числа Пьер вернулся в Москву. Почти у заставы ему встретился адъютант графа Растопчина.
– А мы вас везде ищем, – сказал адъютант. – Графу вас непременно нужно видеть. Он просит вас сейчас же приехать к нему по очень важному делу.
Пьер, не заезжая домой, взял извозчика и поехал к главнокомандующему.
Граф Растопчин только в это утро приехал в город с своей загородной дачи в Сокольниках. Прихожая и приемная в доме графа были полны чиновников, явившихся по требованию его или за приказаниями. Васильчиков и Платов уже виделись с графом и объяснили ему, что защищать Москву невозможно и что она будет сдана. Известия эти хотя и скрывались от жителей, но чиновники, начальники различных управлений знали, что Москва будет в руках неприятеля, так же, как и знал это граф Растопчин; и все они, чтобы сложить с себя ответственность, пришли к главнокомандующему с вопросами, как им поступать с вверенными им частями.
В то время как Пьер входил в приемную, курьер, приезжавший из армии, выходил от графа.
Курьер безнадежно махнул рукой на вопросы, с которыми обратились к нему, и прошел через залу.
Дожидаясь в приемной, Пьер усталыми глазами оглядывал различных, старых и молодых, военных и статских, важных и неважных чиновников, бывших в комнате. Все казались недовольными и беспокойными. Пьер подошел к одной группе чиновников, в которой один был его знакомый. Поздоровавшись с Пьером, они продолжали свой разговор.
– Как выслать да опять вернуть, беды не будет; а в таком положении ни за что нельзя отвечать.
– Да ведь вот, он пишет, – говорил другой, указывая на печатную бумагу, которую он держал в руке.
– Это другое дело. Для народа это нужно, – сказал первый.
– Что это? – спросил Пьер.
– А вот новая афиша.
Пьер взял ее в руки и стал читать:
«Светлейший князь, чтобы скорей соединиться с войсками, которые идут к нему, перешел Можайск и стал на крепком месте, где неприятель не вдруг на него пойдет. К нему отправлено отсюда сорок восемь пушек с снарядами, и светлейший говорит, что Москву до последней капли крови защищать будет и готов хоть в улицах драться. Вы, братцы, не смотрите на то, что присутственные места закрыли: дела прибрать надобно, а мы своим судом с злодеем разберемся! Когда до чего дойдет, мне надобно молодцов и городских и деревенских. Я клич кликну дня за два, а теперь не надо, я и молчу. Хорошо с топором, недурно с рогатиной, а всего лучше вилы тройчатки: француз не тяжеле снопа ржаного. Завтра, после обеда, я поднимаю Иверскую в Екатерининскую гошпиталь, к раненым. Там воду освятим: они скорее выздоровеют; и я теперь здоров: у меня болел глаз, а теперь смотрю в оба».
– А мне говорили военные люди, – сказал Пьер, – что в городе никак нельзя сражаться и что позиция…
– Ну да, про то то мы и говорим, – сказал первый чиновник.
– А что это значит: у меня болел глаз, а теперь смотрю в оба? – сказал Пьер.
– У графа был ячмень, – сказал адъютант, улыбаясь, – и он очень беспокоился, когда я ему сказал, что приходил народ спрашивать, что с ним. А что, граф, – сказал вдруг адъютант, с улыбкой обращаясь к Пьеру, – мы слышали, что у вас семейные тревоги? Что будто графиня, ваша супруга…
– Я ничего не слыхал, – равнодушно сказал Пьер. – А что вы слышали?
– Нет, знаете, ведь часто выдумывают. Я говорю, что слышал.
– Что же вы слышали?
– Да говорят, – опять с той же улыбкой сказал адъютант, – что графиня, ваша жена, собирается за границу. Вероятно, вздор…
– Может быть, – сказал Пьер, рассеянно оглядываясь вокруг себя. – А это кто? – спросил он, указывая на невысокого старого человека в чистой синей чуйке, с белою как снег большою бородой, такими же бровями и румяным лицом.
– Это? Это купец один, то есть он трактирщик, Верещагин. Вы слышали, может быть, эту историю о прокламации?
– Ах, так это Верещагин! – сказал Пьер, вглядываясь в твердое и спокойное лицо старого купца и отыскивая в нем выражение изменничества.
– Это не он самый. Это отец того, который написал прокламацию, – сказал адъютант. – Тот молодой, сидит в яме, и ему, кажется, плохо будет.
Один старичок, в звезде, и другой – чиновник немец, с крестом на шее, подошли к разговаривающим.
– Видите ли, – рассказывал адъютант, – это запутанная история. Явилась тогда, месяца два тому назад, эта прокламация. Графу донесли. Он приказал расследовать. Вот Гаврило Иваныч разыскивал, прокламация эта побывала ровно в шестидесяти трех руках. Приедет к одному: вы от кого имеете? – От того то. Он едет к тому: вы от кого? и т. д. добрались до Верещагина… недоученный купчик, знаете, купчик голубчик, – улыбаясь, сказал адъютант. – Спрашивают у него: ты от кого имеешь? И главное, что мы знаем, от кого он имеет. Ему больше не от кого иметь, как от почт директора. Но уж, видно, там между ними стачка была. Говорит: ни от кого, я сам сочинил. И грозили и просили, стал на том: сам сочинил. Так и доложили графу. Граф велел призвать его. «От кого у тебя прокламация?» – «Сам сочинил». Ну, вы знаете графа! – с гордой и веселой улыбкой сказал адъютант. – Он ужасно вспылил, да и подумайте: этакая наглость, ложь и упорство!..
– А! Графу нужно было, чтобы он указал на Ключарева, понимаю! – сказал Пьер.
– Совсем не нужно», – испуганно сказал адъютант. – За Ключаревым и без этого были грешки, за что он и сослан. Но дело в том, что граф очень был возмущен. «Как же ты мог сочинить? – говорит граф. Взял со стола эту „Гамбургскую газету“. – Вот она. Ты не сочинил, а перевел, и перевел то скверно, потому что ты и по французски, дурак, не знаешь». Что же вы думаете? «Нет, говорит, я никаких газет не читал, я сочинил». – «А коли так, то ты изменник, и я тебя предам суду, и тебя повесят. Говори, от кого получил?» – «Я никаких газет не видал, а сочинил». Так и осталось. Граф и отца призывал: стоит на своем. И отдали под суд, и приговорили, кажется, к каторжной работе. Теперь отец пришел просить за него. Но дрянной мальчишка! Знаете, эдакой купеческий сынишка, франтик, соблазнитель, слушал где то лекции и уж думает, что ему черт не брат. Ведь это какой молодчик! У отца его трактир тут у Каменного моста, так в трактире, знаете, большой образ бога вседержителя и представлен в одной руке скипетр, в другой держава; так он взял этот образ домой на несколько дней и что же сделал! Нашел мерзавца живописца…
В середине этого нового рассказа Пьера позвали к главнокомандующему.
Пьер вошел в кабинет графа Растопчина. Растопчин, сморщившись, потирал лоб и глаза рукой, в то время как вошел Пьер. Невысокий человек говорил что то и, как только вошел Пьер, замолчал и вышел.
– А! здравствуйте, воин великий, – сказал Растопчин, как только вышел этот человек. – Слышали про ваши prouesses [достославные подвиги]! Но не в том дело. Mon cher, entre nous, [Между нами, мой милый,] вы масон? – сказал граф Растопчин строгим тоном, как будто было что то дурное в этом, но что он намерен был простить. Пьер молчал. – Mon cher, je suis bien informe, [Мне, любезнейший, все хорошо известно,] но я знаю, что есть масоны и масоны, и надеюсь, что вы не принадлежите к тем, которые под видом спасенья рода человеческого хотят погубить Россию.
– Да, я масон, – отвечал Пьер.
– Ну вот видите ли, мой милый. Вам, я думаю, не безызвестно, что господа Сперанский и Магницкий отправлены куда следует; то же сделано с господином Ключаревым, то же и с другими, которые под видом сооружения храма Соломона старались разрушить храм своего отечества. Вы можете понимать, что на это есть причины и что я не мог бы сослать здешнего почт директора, ежели бы он не был вредный человек. Теперь мне известно, что вы послали ему свой. экипаж для подъема из города и даже что вы приняли от него бумаги для хранения. Я вас люблю и не желаю вам зла, и как вы в два раза моложе меня, то я, как отец, советую вам прекратить всякое сношение с такого рода людьми и самому уезжать отсюда как можно скорее.
– Но в чем же, граф, вина Ключарева? – спросил Пьер.
– Это мое дело знать и не ваше меня спрашивать, – вскрикнул Растопчин.
– Ежели его обвиняют в том, что он распространял прокламации Наполеона, то ведь это не доказано, – сказал Пьер (не глядя на Растопчина), – и Верещагина…
– Nous y voila, [Так и есть,] – вдруг нахмурившись, перебивая Пьера, еще громче прежнего вскрикнул Растопчин. – Верещагин изменник и предатель, который получит заслуженную казнь, – сказал Растопчин с тем жаром злобы, с которым говорят люди при воспоминании об оскорблении. – Но я не призвал вас для того, чтобы обсуждать мои дела, а для того, чтобы дать вам совет или приказание, ежели вы этого хотите. Прошу вас прекратить сношения с такими господами, как Ключарев, и ехать отсюда. А я дурь выбью, в ком бы она ни была. – И, вероятно, спохватившись, что он как будто кричал на Безухова, который еще ни в чем не был виноват, он прибавил, дружески взяв за руку Пьера: – Nous sommes a la veille d'un desastre publique, et je n'ai pas le temps de dire des gentillesses a tous ceux qui ont affaire a moi. Голова иногда кругом идет! Eh! bien, mon cher, qu'est ce que vous faites, vous personnellement? [Мы накануне общего бедствия, и мне некогда быть любезным со всеми, с кем у меня есть дело. Итак, любезнейший, что вы предпринимаете, вы лично?]
– Mais rien, [Да ничего,] – отвечал Пьер, все не поднимая глаз и не изменяя выражения задумчивого лица.
Граф нахмурился.
– Un conseil d'ami, mon cher. Decampez et au plutot, c'est tout ce que je vous dis. A bon entendeur salut! Прощайте, мой милый. Ах, да, – прокричал он ему из двери, – правда ли, что графиня попалась в лапки des saints peres de la Societe de Jesus? [Дружеский совет. Выбирайтесь скорее, вот что я вам скажу. Блажен, кто умеет слушаться!.. святых отцов Общества Иисусова?]
Пьер ничего не ответил и, нахмуренный и сердитый, каким его никогда не видали, вышел от Растопчина.
Когда он приехал домой, уже смеркалось. Человек восемь разных людей побывало у него в этот вечер. Секретарь комитета, полковник его батальона, управляющий, дворецкий и разные просители. У всех были дела до Пьера, которые он должен был разрешить. Пьер ничего не понимал, не интересовался этими делами и давал на все вопросы только такие ответы, которые бы освободили его от этих людей. Наконец, оставшись один, он распечатал и прочел письмо жены.
«Они – солдаты на батарее, князь Андрей убит… старик… Простота есть покорность богу. Страдать надо… значение всего… сопрягать надо… жена идет замуж… Забыть и понять надо…» И он, подойдя к постели, не раздеваясь повалился на нее и тотчас же заснул.
Когда он проснулся на другой день утром, дворецкий пришел доложить, что от графа Растопчина пришел нарочно посланный полицейский чиновник – узнать, уехал ли или уезжает ли граф Безухов.
Человек десять разных людей, имеющих дело до Пьера, ждали его в гостиной. Пьер поспешно оделся, и, вместо того чтобы идти к тем, которые ожидали его, он пошел на заднее крыльцо и оттуда вышел в ворота.
С тех пор и до конца московского разорения никто из домашних Безуховых, несмотря на все поиски, не видал больше Пьера и не знал, где он находился.
Ростовы до 1 го сентября, то есть до кануна вступления неприятеля в Москву, оставались в городе.
После поступления Пети в полк казаков Оболенского и отъезда его в Белую Церковь, где формировался этот полк, на графиню нашел страх. Мысль о том, что оба ее сына находятся на войне, что оба они ушли из под ее крыла, что нынче или завтра каждый из них, а может быть, и оба вместе, как три сына одной ее знакомой, могут быть убиты, в первый раз теперь, в это лето, с жестокой ясностью пришла ей в голову. Она пыталась вытребовать к себе Николая, хотела сама ехать к Пете, определить его куда нибудь в Петербурге, но и то и другое оказывалось невозможным. Петя не мог быть возвращен иначе, как вместе с полком или посредством перевода в другой действующий полк. Николай находился где то в армии и после своего последнего письма, в котором подробно описывал свою встречу с княжной Марьей, не давал о себе слуха. Графиня не спала ночей и, когда засыпала, видела во сне убитых сыновей. После многих советов и переговоров граф придумал наконец средство для успокоения графини. Он перевел Петю из полка Оболенского в полк Безухова, который формировался под Москвою. Хотя Петя и оставался в военной службе, но при этом переводе графиня имела утешенье видеть хотя одного сына у себя под крылышком и надеялась устроить своего Петю так, чтобы больше не выпускать его и записывать всегда в такие места службы, где бы он никак не мог попасть в сражение. Пока один Nicolas был в опасности, графине казалось (и она даже каялась в этом), что она любит старшего больше всех остальных детей; но когда меньшой, шалун, дурно учившийся, все ломавший в доме и всем надоевший Петя, этот курносый Петя, с своими веселыми черными глазами, свежим румянцем и чуть пробивающимся пушком на щеках, попал туда, к этим большим, страшным, жестоким мужчинам, которые там что то сражаются и что то в этом находят радостного, – тогда матери показалось, что его то она любила больше, гораздо больше всех своих детей. Чем ближе подходило то время, когда должен был вернуться в Москву ожидаемый Петя, тем более увеличивалось беспокойство графини. Она думала уже, что никогда не дождется этого счастия. Присутствие не только Сони, но и любимой Наташи, даже мужа, раздражало графиню. «Что мне за дело до них, мне никого не нужно, кроме Пети!» – думала она.
В последних числах августа Ростовы получили второе письмо от Николая. Он писал из Воронежской губернии, куда он был послан за лошадьми. Письмо это не успокоило графиню. Зная одного сына вне опасности, она еще сильнее стала тревожиться за Петю.
Несмотря на то, что уже с 20 го числа августа почти все знакомые Ростовых повыехали из Москвы, несмотря на то, что все уговаривали графиню уезжать как можно скорее, она ничего не хотела слышать об отъезде до тех пор, пока не вернется ее сокровище, обожаемый Петя. 28 августа приехал Петя. Болезненно страстная нежность, с которою мать встретила его, не понравилась шестнадцатилетнему офицеру. Несмотря на то, что мать скрыла от него свое намеренье не выпускать его теперь из под своего крылышка, Петя понял ее замыслы и, инстинктивно боясь того, чтобы с матерью не разнежничаться, не обабиться (так он думал сам с собой), он холодно обошелся с ней, избегал ее и во время своего пребывания в Москве исключительно держался общества Наташи, к которой он всегда имел особенную, почти влюбленную братскую нежность.
По обычной беспечности графа, 28 августа ничто еще не было готово для отъезда, и ожидаемые из рязанской и московской деревень подводы для подъема из дома всего имущества пришли только 30 го.
С 28 по 31 августа вся Москва была в хлопотах и движении. Каждый день в Дорогомиловскую заставу ввозили и развозили по Москве тысячи раненых в Бородинском сражении, и тысячи подвод, с жителями и имуществом, выезжали в другие заставы. Несмотря на афишки Растопчина, или независимо от них, или вследствие их, самые противоречащие и странные новости передавались по городу. Кто говорил о том, что не велено никому выезжать; кто, напротив, рассказывал, что подняли все иконы из церквей и что всех высылают насильно; кто говорил, что было еще сраженье после Бородинского, в котором разбиты французы; кто говорил, напротив, что все русское войско уничтожено; кто говорил о московском ополчении, которое пойдет с духовенством впереди на Три Горы; кто потихоньку рассказывал, что Августину не ведено выезжать, что пойманы изменники, что мужики бунтуют и грабят тех, кто выезжает, и т. п., и т. п. Но это только говорили, а в сущности, и те, которые ехали, и те, которые оставались (несмотря на то, что еще не было совета в Филях, на котором решено было оставить Москву), – все чувствовали, хотя и не выказывали этого, что Москва непременно сдана будет и что надо как можно скорее убираться самим и спасать свое имущество. Чувствовалось, что все вдруг должно разорваться и измениться, но до 1 го числа ничто еще не изменялось. Как преступник, которого ведут на казнь, знает, что вот вот он должен погибнуть, но все еще приглядывается вокруг себя и поправляет дурно надетую шапку, так и Москва невольно продолжала свою обычную жизнь, хотя знала, что близко то время погибели, когда разорвутся все те условные отношения жизни, которым привыкли покоряться.
В продолжение этих трех дней, предшествовавших пленению Москвы, все семейство Ростовых находилось в различных житейских хлопотах. Глава семейства, граф Илья Андреич, беспрестанно ездил по городу, собирая со всех сторон ходившие слухи, и дома делал общие поверхностные и торопливые распоряжения о приготовлениях к отъезду.
Графиня следила за уборкой вещей, всем была недовольна и ходила за беспрестанно убегавшим от нее Петей, ревнуя его к Наташе, с которой он проводил все время. Соня одна распоряжалась практической стороной дела: укладываньем вещей. Но Соня была особенно грустна и молчалива все это последнее время. Письмо Nicolas, в котором он упоминал о княжне Марье, вызвало в ее присутствии радостные рассуждения графини о том, как во встрече княжны Марьи с Nicolas она видела промысл божий.
– Я никогда не радовалась тогда, – сказала графиня, – когда Болконский был женихом Наташи, а я всегда желала, и у меня есть предчувствие, что Николинька женится на княжне. И как бы это хорошо было!
Соня чувствовала, что это была правда, что единственная возможность поправления дел Ростовых была женитьба на богатой и что княжна была хорошая партия. Но ей было это очень горько. Несмотря на свое горе или, может быть, именно вследствие своего горя, она на себя взяла все трудные заботы распоряжений об уборке и укладке вещей и целые дни была занята. Граф и графиня обращались к ней, когда им что нибудь нужно было приказывать. Петя и Наташа, напротив, не только не помогали родителям, но большею частью всем в доме надоедали и мешали. И целый день почти слышны были в доме их беготня, крики и беспричинный хохот. Они смеялись и радовались вовсе не оттого, что была причина их смеху; но им на душе было радостно и весело, и потому все, что ни случалось, было для них причиной радости и смеха. Пете было весело оттого, что, уехав из дома мальчиком, он вернулся (как ему говорили все) молодцом мужчиной; весело было оттого, что он дома, оттого, что он из Белой Церкви, где не скоро была надежда попасть в сраженье, попал в Москву, где на днях будут драться; и главное, весело оттого, что Наташа, настроению духа которой он всегда покорялся, была весела. Наташа же была весела потому, что она слишком долго была грустна, и теперь ничто не напоминало ей причину ее грусти, и она была здорова. Еще она была весела потому, что был человек, который ею восхищался (восхищение других была та мазь колес, которая была необходима для того, чтоб ее машина совершенно свободно двигалась), и Петя восхищался ею. Главное же, веселы они были потому, что война была под Москвой, что будут сражаться у заставы, что раздают оружие, что все бегут, уезжают куда то, что вообще происходит что то необычайное, что всегда радостно для человека, в особенности для молодого.
31 го августа, в субботу, в доме Ростовых все казалось перевернутым вверх дном. Все двери были растворены, вся мебель вынесена или переставлена, зеркала, картины сняты. В комнатах стояли сундуки, валялось сено, оберточная бумага и веревки. Мужики и дворовые, выносившие вещи, тяжелыми шагами ходили по паркету. На дворе теснились мужицкие телеги, некоторые уже уложенные верхом и увязанные, некоторые еще пустые.
Голоса и шаги огромной дворни и приехавших с подводами мужиков звучали, перекликиваясь, на дворе и в доме. Граф с утра выехал куда то. Графиня, у которой разболелась голова от суеты и шума, лежала в новой диванной с уксусными повязками на голове. Пети не было дома (он пошел к товарищу, с которым намеревался из ополченцев перейти в действующую армию). Соня присутствовала в зале при укладке хрусталя и фарфора. Наташа сидела в своей разоренной комнате на полу, между разбросанными платьями, лентами, шарфами, и, неподвижно глядя на пол, держала в руках старое бальное платье, то самое (уже старое по моде) платье, в котором она в первый раз была на петербургском бале.
Наташе совестно было ничего не делать в доме, тогда как все были так заняты, и она несколько раз с утра еще пробовала приняться за дело; но душа ее не лежала к этому делу; а она не могла и не умела делать что нибудь не от всей души, не изо всех своих сил. Она постояла над Соней при укладке фарфора, хотела помочь, но тотчас же бросила и пошла к себе укладывать свои вещи. Сначала ее веселило то, что она раздавала свои платья и ленты горничным, но потом, когда остальные все таки надо было укладывать, ей это показалось скучным.
– Дуняша, ты уложишь, голубушка? Да? Да?
И когда Дуняша охотно обещалась ей все сделать, Наташа села на пол, взяла в руки старое бальное платье и задумалась совсем не о том, что бы должно было занимать ее теперь. Из задумчивости, в которой находилась Наташа, вывел ее говор девушек в соседней девичьей и звуки их поспешных шагов из девичьей на заднее крыльцо. Наташа встала и посмотрела в окно. На улице остановился огромный поезд раненых.
Девушки, лакеи, ключница, няня, повар, кучера, форейторы, поваренки стояли у ворот, глядя на раненых.
Наташа, накинув белый носовой платок на волосы и придерживая его обеими руками за кончики, вышла на улицу.
Бывшая ключница, старушка Мавра Кузминишна, отделилась от толпы, стоявшей у ворот, и, подойдя к телеге, на которой была рогожная кибиточка, разговаривала с лежавшим в этой телеге молодым бледным офицером. Наташа подвинулась на несколько шагов и робко остановилась, продолжая придерживать свой платок и слушая то, что говорила ключница.
– Что ж, у вас, значит, никого и нет в Москве? – говорила Мавра Кузминишна. – Вам бы покойнее где на квартире… Вот бы хоть к нам. Господа уезжают.
– Не знаю, позволят ли, – слабым голосом сказал офицер. – Вон начальник… спросите, – и он указал на толстого майора, который возвращался назад по улице по ряду телег.
Наташа испуганными глазами заглянула в лицо раненого офицера и тотчас же пошла навстречу майору.
– Можно раненым у нас в доме остановиться? – спросила она.
Майор с улыбкой приложил руку к козырьку.
– Кого вам угодно, мамзель? – сказал он, суживая глаза и улыбаясь.
Наташа спокойно повторила свой вопрос, и лицо и вся манера ее, несмотря на то, что она продолжала держать свой платок за кончики, были так серьезны, что майор перестал улыбаться и, сначала задумавшись, как бы спрашивая себя, в какой степени это можно, ответил ей утвердительно.
– О, да, отчего ж, можно, – сказал он.
Наташа слегка наклонила голову и быстрыми шагами вернулась к Мавре Кузминишне, стоявшей над офицером и с жалобным участием разговаривавшей с ним.
– Можно, он сказал, можно! – шепотом сказала Наташа.
Офицер в кибиточке завернул во двор Ростовых, и десятки телег с ранеными стали, по приглашениям городских жителей, заворачивать в дворы и подъезжать к подъездам домов Поварской улицы. Наташе, видимо, поправились эти, вне обычных условий жизни, отношения с новыми людьми. Она вместе с Маврой Кузминишной старалась заворотить на свой двор как можно больше раненых.
– Надо все таки папаше доложить, – сказала Мавра Кузминишна.
– Ничего, ничего, разве не все равно! На один день мы в гостиную перейдем. Можно всю нашу половину им отдать.
– Ну, уж вы, барышня, придумаете! Да хоть и в флигеля, в холостую, к нянюшке, и то спросить надо.
– Ну, я спрошу.
Наташа побежала в дом и на цыпочках вошла в полуотворенную дверь диванной, из которой пахло уксусом и гофманскими каплями.
– Вы спите, мама?
– Ах, какой сон! – сказала, пробуждаясь, только что задремавшая графиня.
– Мама, голубчик, – сказала Наташа, становясь на колени перед матерью и близко приставляя свое лицо к ее лицу. – Виновата, простите, никогда не буду, я вас разбудила. Меня Мавра Кузминишна послала, тут раненых привезли, офицеров, позволите? А им некуда деваться; я знаю, что вы позволите… – говорила она быстро, не переводя духа.
– Какие офицеры? Кого привезли? Ничего не понимаю, – сказала графиня.
Наташа засмеялась, графиня тоже слабо улыбалась.
– Я знала, что вы позволите… так я так и скажу. – И Наташа, поцеловав мать, встала и пошла к двери.
В зале она встретила отца, с дурными известиями возвратившегося домой.
– Досиделись мы! – с невольной досадой сказал граф. – И клуб закрыт, и полиция выходит.
– Папа, ничего, что я раненых пригласила в дом? – сказала ему Наташа.
– Разумеется, ничего, – рассеянно сказал граф. – Не в том дело, а теперь прошу, чтобы пустяками не заниматься, а помогать укладывать и ехать, ехать, ехать завтра… – И граф передал дворецкому и людям то же приказание. За обедом вернувшийся Петя рассказывал свои новости.
Он говорил, что нынче народ разбирал оружие в Кремле, что в афише Растопчина хотя и сказано, что он клич кликнет дня за два, но что уж сделано распоряжение наверное о том, чтобы завтра весь народ шел на Три Горы с оружием, и что там будет большое сражение.
Графиня с робким ужасом посматривала на веселое, разгоряченное лицо своего сына в то время, как он говорил это. Она знала, что ежели она скажет слово о том, что она просит Петю не ходить на это сражение (она знала, что он радуется этому предстоящему сражению), то он скажет что нибудь о мужчинах, о чести, об отечестве, – что нибудь такое бессмысленное, мужское, упрямое, против чего нельзя возражать, и дело будет испорчено, и поэтому, надеясь устроить так, чтобы уехать до этого и взять с собой Петю, как защитника и покровителя, она ничего не сказала Пете, а после обеда призвала графа и со слезами умоляла его увезти ее скорее, в эту же ночь, если возможно. С женской, невольной хитростью любви, она, до сих пор выказывавшая совершенное бесстрашие, говорила, что она умрет от страха, ежели не уедут нынче ночью. Она, не притворяясь, боялась теперь всего.
M me Schoss, ходившая к своей дочери, еще болоо увеличила страх графини рассказами о том, что она видела на Мясницкой улице в питейной конторе. Возвращаясь по улице, она не могла пройти домой от пьяной толпы народа, бушевавшей у конторы. Она взяла извозчика и объехала переулком домой; и извозчик рассказывал ей, что народ разбивал бочки в питейной конторе, что так велено.
После обеда все домашние Ростовых с восторженной поспешностью принялись за дело укладки вещей и приготовлений к отъезду. Старый граф, вдруг принявшись за дело, всё после обеда не переставая ходил со двора в дом и обратно, бестолково крича на торопящихся людей и еще более торопя их. Петя распоряжался на дворе. Соня не знала, что делать под влиянием противоречивых приказаний графа, и совсем терялась. Люди, крича, споря и шумя, бегали по комнатам и двору. Наташа, с свойственной ей во всем страстностью, вдруг тоже принялась за дело. Сначала вмешательство ее в дело укладывания было встречено с недоверием. От нее всё ждали шутки и не хотели слушаться ее; но она с упорством и страстностью требовала себе покорности, сердилась, чуть не плакала, что ее не слушают, и, наконец, добилась того, что в нее поверили. Первый подвиг ее, стоивший ей огромных усилий и давший ей власть, была укладка ковров. У графа в доме были дорогие gobelins и персидские ковры. Когда Наташа взялась за дело, в зале стояли два ящика открытые: один почти доверху уложенный фарфором, другой с коврами. Фарфора было еще много наставлено на столах и еще всё несли из кладовой. Надо было начинать новый, третий ящик, и за ним пошли люди.
– Соня, постой, да мы всё так уложим, – сказала Наташа.
– Нельзя, барышня, уж пробовали, – сказал буфетчнк.
– Нет, постой, пожалуйста. – И Наташа начала доставать из ящика завернутые в бумаги блюда и тарелки.
– Блюда надо сюда, в ковры, – сказала она.
– Да еще и ковры то дай бог на три ящика разложить, – сказал буфетчик.
– Да постой, пожалуйста. – И Наташа быстро, ловко начала разбирать. – Это не надо, – говорила она про киевские тарелки, – это да, это в ковры, – говорила она про саксонские блюда.
– Да оставь, Наташа; ну полно, мы уложим, – с упреком говорила Соня.
– Эх, барышня! – говорил дворецкий. Но Наташа не сдалась, выкинула все вещи и быстро начала опять укладывать, решая, что плохие домашние ковры и лишнюю посуду не надо совсем брать. Когда всё было вынуто, начали опять укладывать. И действительно, выкинув почти все дешевое, то, что не стоило брать с собой, все ценное уложили в два ящика. Не закрывалась только крышка коверного ящика. Можно было вынуть немного вещей, но Наташа хотела настоять на своем. Она укладывала, перекладывала, нажимала, заставляла буфетчика и Петю, которого она увлекла за собой в дело укладыванья, нажимать крышку и сама делала отчаянные усилия.
– Да полно, Наташа, – говорила ей Соня. – Я вижу, ты права, да вынь один верхний.
– Не хочу, – кричала Наташа, одной рукой придерживая распустившиеся волосы по потному лицу, другой надавливая ковры. – Да жми же, Петька, жми! Васильич, нажимай! – кричала она. Ковры нажались, и крышка закрылась. Наташа, хлопая в ладоши, завизжала от радости, и слезы брызнули у ней из глаз. Но это продолжалось секунду. Тотчас же она принялась за другое дело, и уже ей вполне верили, и граф не сердился, когда ему говорили, что Наталья Ильинишна отменила его приказанье, и дворовые приходили к Наташе спрашивать: увязывать или нет подводу и довольно ли она наложена? Дело спорилось благодаря распоряжениям Наташи: оставлялись ненужные вещи и укладывались самым тесным образом самые дорогие.
Но как ни хлопотали все люди, к поздней ночи еще не все могло быть уложено. Графиня заснула, и граф, отложив отъезд до утра, пошел спать.
Соня, Наташа спали, не раздеваясь, в диванной. В эту ночь еще нового раненого провозили через Поварскую, и Мавра Кузминишна, стоявшая у ворот, заворотила его к Ростовым. Раненый этот, по соображениям Мавры Кузминишны, был очень значительный человек. Его везли в коляске, совершенно закрытой фартуком и с спущенным верхом. На козлах вместе с извозчиком сидел старик, почтенный камердинер. Сзади в повозке ехали доктор и два солдата.
– Пожалуйте к нам, пожалуйте. Господа уезжают, весь дом пустой, – сказала старушка, обращаясь к старому слуге.
– Да что, – отвечал камердинер, вздыхая, – и довезти не чаем! У нас и свой дом в Москве, да далеко, да и не живет никто.
– К нам милости просим, у наших господ всего много, пожалуйте, – говорила Мавра Кузминишна. – А что, очень нездоровы? – прибавила она.
Камердинер махнул рукой.
– Не чаем довезти! У доктора спросить надо. – И камердинер сошел с козел и подошел к повозке.
– Хорошо, – сказал доктор.
Камердинер подошел опять к коляске, заглянул в нее, покачал головой, велел кучеру заворачивать на двор и остановился подле Мавры Кузминишны.
– Господи Иисусе Христе! – проговорила она.
Мавра Кузминишна предлагала внести раненого в дом.
– Господа ничего не скажут… – говорила она. Но надо было избежать подъема на лестницу, и потому раненого внесли во флигель и положили в бывшей комнате m me Schoss. Раненый этот был князь Андрей Болконский.
Наступил последний день Москвы. Была ясная веселая осенняя погода. Было воскресенье. Как и в обыкновенные воскресенья, благовестили к обедне во всех церквах. Никто, казалось, еще не мог понять того, что ожидает Москву.
Только два указателя состояния общества выражали то положение, в котором была Москва: чернь, то есть сословие бедных людей, и цены на предметы. Фабричные, дворовые и мужики огромной толпой, в которую замешались чиновники, семинаристы, дворяне, в этот день рано утром вышли на Три Горы. Постояв там и не дождавшись Растопчина и убедившись в том, что Москва будет сдана, эта толпа рассыпалась по Москве, по питейным домам и трактирам. Цены в этот день тоже указывали на положение дел. Цены на оружие, на золото, на телеги и лошадей всё шли возвышаясь, а цены на бумажки и на городские вещи всё шли уменьшаясь, так что в середине дня были случаи, что дорогие товары, как сукна, извозчики вывозили исполу, а за мужицкую лошадь платили пятьсот рублей; мебель же, зеркала, бронзы отдавали даром.
В степенном и старом доме Ростовых распадение прежних условий жизни выразилось очень слабо. В отношении людей было только то, что в ночь пропало три человека из огромной дворни; но ничего не было украдено; и в отношении цен вещей оказалось то, что тридцать подвод, пришедшие из деревень, были огромное богатство, которому многие завидовали и за которые Ростовым предлагали огромные деньги. Мало того, что за эти подводы предлагали огромные деньги, с вечера и рано утром 1 го сентября на двор к Ростовым приходили посланные денщики и слуги от раненых офицеров и притаскивались сами раненые, помещенные у Ростовых и в соседних домах, и умоляли людей Ростовых похлопотать о том, чтоб им дали подводы для выезда из Москвы. Дворецкий, к которому обращались с такими просьбами, хотя и жалел раненых, решительно отказывал, говоря, что он даже и не посмеет доложить о том графу. Как ни жалки были остающиеся раненые, было очевидно, что, отдай одну подводу, не было причины не отдать другую, все – отдать и свои экипажи. Тридцать подвод не могли спасти всех раненых, а в общем бедствии нельзя было не думать о себе и своей семье. Так думал дворецкий за своего барина.
Проснувшись утром 1 го числа, граф Илья Андреич потихоньку вышел из спальни, чтобы не разбудить к утру только заснувшую графиню, и в своем лиловом шелковом халате вышел на крыльцо. Подводы, увязанные, стояли на дворе. У крыльца стояли экипажи. Дворецкий стоял у подъезда, разговаривая с стариком денщиком и молодым, бледным офицером с подвязанной рукой. Дворецкий, увидав графа, сделал офицеру и денщику значительный и строгий знак, чтобы они удалились.
– Ну, что, все готово, Васильич? – сказал граф, потирая свою лысину и добродушно глядя на офицера и денщика и кивая им головой. (Граф любил новые лица.)
– Хоть сейчас запрягать, ваше сиятельство.
– Ну и славно, вот графиня проснется, и с богом! Вы что, господа? – обратился он к офицеру. – У меня в доме? – Офицер придвинулся ближе. Бледное лицо его вспыхнуло вдруг яркой краской.
– Граф, сделайте одолжение, позвольте мне… ради бога… где нибудь приютиться на ваших подводах. Здесь у меня ничего с собой нет… Мне на возу… все равно… – Еще не успел договорить офицер, как денщик с той же просьбой для своего господина обратился к графу.
– А! да, да, да, – поспешно заговорил граф. – Я очень, очень рад. Васильич, ты распорядись, ну там очистить одну или две телеги, ну там… что же… что нужно… – какими то неопределенными выражениями, что то приказывая, сказал граф. Но в то же мгновение горячее выражение благодарности офицера уже закрепило то, что он приказывал. Граф оглянулся вокруг себя: на дворе, в воротах, в окне флигеля виднелись раненые и денщики. Все они смотрели на графа и подвигались к крыльцу.
– Пожалуйте, ваше сиятельство, в галерею: там как прикажете насчет картин? – сказал дворецкий. И граф вместе с ним вошел в дом, повторяя свое приказание о том, чтобы не отказывать раненым, которые просятся ехать.
– Ну, что же, можно сложить что нибудь, – прибавил он тихим, таинственным голосом, как будто боясь, чтобы кто нибудь его не услышал.
В девять часов проснулась графиня, и Матрена Тимофеевна, бывшая ее горничная, исполнявшая в отношении графини должность шефа жандармов, пришла доложить своей бывшей барышне, что Марья Карловна очень обижены и что барышниным летним платьям нельзя остаться здесь. На расспросы графини, почему m me Schoss обижена, открылось, что ее сундук сняли с подводы и все подводы развязывают – добро снимают и набирают с собой раненых, которых граф, по своей простоте, приказал забирать с собой. Графиня велела попросить к себе мужа.
– Что это, мой друг, я слышу, вещи опять снимают?
– Знаешь, ma chere, я вот что хотел тебе сказать… ma chere графинюшка… ко мне приходил офицер, просят, чтобы дать несколько подвод под раненых. Ведь это все дело наживное; а каково им оставаться, подумай!.. Право, у нас на дворе, сами мы их зазвали, офицеры тут есть. Знаешь, думаю, право, ma chere, вот, ma chere… пускай их свезут… куда же торопиться?.. – Граф робко сказал это, как он всегда говорил, когда дело шло о деньгах. Графиня же привыкла уж к этому тону, всегда предшествовавшему делу, разорявшему детей, как какая нибудь постройка галереи, оранжереи, устройство домашнего театра или музыки, – и привыкла, и долгом считала всегда противоборствовать тому, что выражалось этим робким тоном.
Она приняла свой покорно плачевный вид и сказала мужу:
– Послушай, граф, ты довел до того, что за дом ничего не дают, а теперь и все наше – детское состояние погубить хочешь. Ведь ты сам говоришь, что в доме на сто тысяч добра. Я, мой друг, не согласна и не согласна. Воля твоя! На раненых есть правительство. Они знают. Посмотри: вон напротив, у Лопухиных, еще третьего дня все дочиста вывезли. Вот как люди делают. Одни мы дураки. Пожалей хоть не меня, так детей.
Граф замахал руками и, ничего не сказав, вышел из комнаты.
– Папа! об чем вы это? – сказала ему Наташа, вслед за ним вошедшая в комнату матери.
– Ни о чем! Тебе что за дело! – сердито проговорил граф.
– Нет, я слышала, – сказала Наташа. – Отчего ж маменька не хочет?
– Тебе что за дело? – крикнул граф. Наташа отошла к окну и задумалась.
– Папенька, Берг к нам приехал, – сказала она, глядя в окно.
Берг, зять Ростовых, был уже полковник с Владимиром и Анной на шее и занимал все то же покойное и приятное место помощника начальника штаба, помощника первого отделения начальника штаба второго корпуса.
Он 1 сентября приехал из армии в Москву.
Ему в Москве нечего было делать; но он заметил, что все из армии просились в Москву и что то там делали. Он счел тоже нужным отпроситься для домашних и семейных дел.
Берг, в своих аккуратных дрожечках на паре сытых саврасеньких, точно таких, какие были у одного князя, подъехал к дому своего тестя. Он внимательно посмотрел во двор на подводы и, входя на крыльцо, вынул чистый носовой платок и завязал узел.
Из передней Берг плывущим, нетерпеливым шагом вбежал в гостиную и обнял графа, поцеловал ручки у Наташи и Сони и поспешно спросил о здоровье мамаши.
– Какое теперь здоровье? Ну, рассказывай же, – сказал граф, – что войска? Отступают или будет еще сраженье?
– Один предвечный бог, папаша, – сказал Берг, – может решить судьбы отечества. Армия горит духом геройства, и теперь вожди, так сказать, собрались на совещание. Что будет, неизвестно. Но я вам скажу вообще, папаша, такого геройского духа, истинно древнего мужества российских войск, которое они – оно, – поправился он, – показали или выказали в этой битве 26 числа, нет никаких слов достойных, чтоб их описать… Я вам скажу, папаша (он ударил себя в грудь так же, как ударял себя один рассказывавший при нем генерал, хотя несколько поздно, потому что ударить себя в грудь надо было при слове «российское войско»), – я вам скажу откровенно, что мы, начальники, не только не должны были подгонять солдат или что нибудь такое, но мы насилу могли удерживать эти, эти… да, мужественные и древние подвиги, – сказал он скороговоркой. – Генерал Барклай до Толли жертвовал жизнью своей везде впереди войска, я вам скажу. Наш же корпус был поставлен на скате горы. Можете себе представить! – И тут Берг рассказал все, что он запомнил, из разных слышанных за это время рассказов. Наташа, не спуская взгляда, который смущал Берга, как будто отыскивая на его лице решения какого то вопроса, смотрела на него.
– Такое геройство вообще, каковое выказали российские воины, нельзя представить и достойно восхвалить! – сказал Берг, оглядываясь на Наташу и как бы желая ее задобрить, улыбаясь ей в ответ на ее упорный взгляд… – «Россия не в Москве, она в сердцах се сынов!» Так, папаша? – сказал Берг.
В это время из диванной, с усталым и недовольным видом, вышла графиня. Берг поспешно вскочил, поцеловал ручку графини, осведомился о ее здоровье и, выражая свое сочувствие покачиваньем головы, остановился подле нее.
– Да, мамаша, я вам истинно скажу, тяжелые и грустные времена для всякого русского. Но зачем же так беспокоиться? Вы еще успеете уехать…
– Я не понимаю, что делают люди, – сказала графиня, обращаясь к мужу, – мне сейчас сказали, что еще ничего не готово. Ведь надо же кому нибудь распорядиться. Вот и пожалеешь о Митеньке. Это конца не будет?
Граф хотел что то сказать, но, видимо, воздержался. Он встал с своего стула и пошел к двери.
Берг в это время, как бы для того, чтобы высморкаться, достал платок и, глядя на узелок, задумался, грустно и значительно покачивая головой.
– А у меня к вам, папаша, большая просьба, – сказал он.
– Гм?.. – сказал граф, останавливаясь.
– Еду я сейчас мимо Юсупова дома, – смеясь, сказал Берг. – Управляющий мне знакомый, выбежал и просит, не купите ли что нибудь. Я зашел, знаете, из любопытства, и там одна шифоньерочка и туалет. Вы знаете, как Верушка этого желала и как мы спорили об этом. (Берг невольно перешел в тон радости о своей благоустроенности, когда он начал говорить про шифоньерку и туалет.) И такая прелесть! выдвигается и с аглицким секретом, знаете? А Верочке давно хотелось. Так мне хочется ей сюрприз сделать. Я видел у вас так много этих мужиков на дворе. Дайте мне одного, пожалуйста, я ему хорошенько заплачу и…
Граф сморщился и заперхал.
– У графини просите, а я не распоряжаюсь.
– Ежели затруднительно, пожалуйста, не надо, – сказал Берг. – Мне для Верушки только очень бы хотелось.
– Ах, убирайтесь вы все к черту, к черту, к черту и к черту!.. – закричал старый граф. – Голова кругом идет. – И он вышел из комнаты.
Графиня заплакала.
– Да, да, маменька, очень тяжелые времена! – сказал Берг.
Наташа вышла вместе с отцом и, как будто с трудом соображая что то, сначала пошла за ним, а потом побежала вниз.
На крыльце стоял Петя, занимавшийся вооружением людей, которые ехали из Москвы. На дворе все так же стояли заложенные подводы. Две из них были развязаны, и на одну из них влезал офицер, поддерживаемый денщиком.
– Ты знаешь за что? – спросил Петя Наташу (Наташа поняла, что Петя разумел: за что поссорились отец с матерью). Она не отвечала.
– За то, что папенька хотел отдать все подводы под ранепых, – сказал Петя. – Мне Васильич сказал. По моему…
– По моему, – вдруг закричала почти Наташа, обращая свое озлобленное лицо к Пете, – по моему, это такая гадость, такая мерзость, такая… я не знаю! Разве мы немцы какие нибудь?.. – Горло ее задрожало от судорожных рыданий, и она, боясь ослабеть и выпустить даром заряд своей злобы, повернулась и стремительно бросилась по лестнице. Берг сидел подле графини и родственно почтительно утешал ее. Граф с трубкой в руках ходил по комнате, когда Наташа, с изуродованным злобой лицом, как буря ворвалась в комнату и быстрыми шагами подошла к матери.
– Это гадость! Это мерзость! – закричала она. – Это не может быть, чтобы вы приказали.
Берг и графиня недоумевающе и испуганно смотрели на нее. Граф остановился у окна, прислушиваясь.
– Маменька, это нельзя; посмотрите, что на дворе! – закричала она. – Они остаются!..
– Что с тобой? Кто они? Что тебе надо?
– Раненые, вот кто! Это нельзя, маменька; это ни на что не похоже… Нет, маменька, голубушка, это не то, простите, пожалуйста, голубушка… Маменька, ну что нам то, что мы увезем, вы посмотрите только, что на дворе… Маменька!.. Это не может быть!..
Граф стоял у окна и, не поворачивая лица, слушал слова Наташи. Вдруг он засопел носом и приблизил свое лицо к окну.
Графиня взглянула на дочь, увидала ее пристыженное за мать лицо, увидала ее волнение, поняла, отчего муж теперь не оглядывался на нее, и с растерянным видом оглянулась вокруг себя.
– Ах, да делайте, как хотите! Разве я мешаю кому нибудь! – сказала она, еще не вдруг сдаваясь.
– Маменька, голубушка, простите меня!
Но графиня оттолкнула дочь и подошла к графу.
– Mon cher, ты распорядись, как надо… Я ведь не знаю этого, – сказала она, виновато опуская глаза.
– Яйца… яйца курицу учат… – сквозь счастливые слезы проговорил граф и обнял жену, которая рада была скрыть на его груди свое пристыженное лицо.
– Папенька, маменька! Можно распорядиться? Можно?.. – спрашивала Наташа. – Мы все таки возьмем все самое нужное… – говорила Наташа.
Граф утвердительно кивнул ей головой, и Наташа тем быстрым бегом, которым она бегивала в горелки, побежала по зале в переднюю и по лестнице на двор.
Люди собрались около Наташи и до тех пор не могли поверить тому странному приказанию, которое она передавала, пока сам граф именем своей жены не подтвердил приказания о том, чтобы отдавать все подводы под раненых, а сундуки сносить в кладовые. Поняв приказание, люди с радостью и хлопотливостью принялись за новое дело. Прислуге теперь это не только не казалось странным, но, напротив, казалось, что это не могло быть иначе, точно так же, как за четверть часа перед этим никому не только не казалось странным, что оставляют раненых, а берут вещи, но казалось, что не могло быть иначе.
Все домашние, как бы выплачивая за то, что они раньше не взялись за это, принялись с хлопотливостью за новое дело размещения раненых. Раненые повыползли из своих комнат и с радостными бледными лицами окружили подводы. В соседних домах тоже разнесся слух, что есть подводы, и на двор к Ростовым стали приходить раненые из других домов. Многие из раненых просили не снимать вещей и только посадить их сверху. Но раз начавшееся дело свалки вещей уже не могло остановиться. Было все равно, оставлять все или половину. На дворе лежали неубранные сундуки с посудой, с бронзой, с картинами, зеркалами, которые так старательно укладывали в прошлую ночь, и всё искали и находили возможность сложить то и то и отдать еще и еще подводы.
– Четверых еще можно взять, – говорил управляющий, – я свою повозку отдаю, а то куда же их?
– Да отдайте мою гардеробную, – говорила графиня. – Дуняша со мной сядет в карету.
Отдали еще и гардеробную повозку и отправили ее за ранеными через два дома. Все домашние и прислуга были весело оживлены. Наташа находилась в восторженно счастливом оживлении, которого она давно не испытывала.
– Куда же его привязать? – говорили люди, прилаживая сундук к узкой запятке кареты, – надо хоть одну подводу оставить.
– Да с чем он? – спрашивала Наташа.
– С книгами графскими.
– Оставьте. Васильич уберет. Это не нужно.
В бричке все было полно людей; сомневались о том, куда сядет Петр Ильич.
– Он на козлы. Ведь ты на козлы, Петя? – кричала Наташа.
Соня не переставая хлопотала тоже; но цель хлопот ее была противоположна цели Наташи. Она убирала те вещи, которые должны были остаться; записывала их, по желанию графини, и старалась захватить с собой как можно больше.
Во втором часу заложенные и уложенные четыре экипажа Ростовых стояли у подъезда. Подводы с ранеными одна за другой съезжали со двора.
Коляска, в которой везли князя Андрея, проезжая мимо крыльца, обратила на себя внимание Сони, устраивавшей вместе с девушкой сиденья для графини в ее огромной высокой карете, стоявшей у подъезда.
– Это чья же коляска? – спросила Соня, высунувшись в окно кареты.
– А вы разве не знали, барышня? – отвечала горничная. – Князь раненый: он у нас ночевал и тоже с нами едут.
– Да кто это? Как фамилия?
– Самый наш жених бывший, князь Болконский! – вздыхая, отвечала горничная. – Говорят, при смерти.
Соня выскочила из кареты и побежала к графине. Графиня, уже одетая по дорожному, в шали и шляпе, усталая, ходила по гостиной, ожидая домашних, с тем чтобы посидеть с закрытыми дверями и помолиться перед отъездом. Наташи не было в комнате.
– Maman, – сказала Соня, – князь Андрей здесь, раненый, при смерти. Он едет с нами.
Графиня испуганно открыла глаза и, схватив за руку Соню, оглянулась.
– Наташа? – проговорила она.
И для Сони и для графини известие это имело в первую минуту только одно значение. Они знали свою Наташу, и ужас о том, что будет с нею при этом известии, заглушал для них всякое сочувствие к человеку, которого они обе любили.
– Наташа не знает еще; но он едет с нами, – сказала Соня.
– Ты говоришь, при смерти?
Соня кивнула головой.
Графиня обняла Соню и заплакала.
«Пути господни неисповедимы!» – думала она, чувствуя, что во всем, что делалось теперь, начинала выступать скрывавшаяся прежде от взгляда людей всемогущая рука.
– Ну, мама, все готово. О чем вы?.. – спросила с оживленным лицом Наташа, вбегая в комнату.
– Ни о чем, – сказала графиня. – Готово, так поедем. – И графиня нагнулась к своему ридикюлю, чтобы скрыть расстроенное лицо. Соня обняла Наташу и поцеловала ее.
Наташа вопросительно взглянула на нее.
– Что ты? Что такое случилось?
– Ничего… Нет…
– Очень дурное для меня?.. Что такое? – спрашивала чуткая Наташа.
Соня вздохнула и ничего не ответила. Граф, Петя, m me Schoss, Мавра Кузминишна, Васильич вошли в гостиную, и, затворив двери, все сели и молча, не глядя друг на друга, посидели несколько секунд.
Граф первый встал и, громко вздохнув, стал креститься на образ. Все сделали то же. Потом граф стал обнимать Мавру Кузминишну и Васильича, которые оставались в Москве, и, в то время как они ловили его руку и целовали его в плечо, слегка трепал их по спине, приговаривая что то неясное, ласково успокоительное. Графиня ушла в образную, и Соня нашла ее там на коленях перед разрозненно по стене остававшимися образами. (Самые дорогие по семейным преданиям образа везлись с собою.)
На крыльце и на дворе уезжавшие люди с кинжалами и саблями, которыми их вооружил Петя, с заправленными панталонами в сапоги и туго перепоясанные ремнями и кушаками, прощались с теми, которые оставались.
Как и всегда при отъездах, многое было забыто и не так уложено, и довольно долго два гайдука стояли с обеих сторон отворенной дверцы и ступенек кареты, готовясь подсадить графиню, в то время как бегали девушки с подушками, узелками из дому в кареты, и коляску, и бричку, и обратно.
– Век свой все перезабудут! – говорила графиня. – Ведь ты знаешь, что я не могу так сидеть. – И Дуняша, стиснув зубы и не отвечая, с выражением упрека на лице, бросилась в карету переделывать сиденье.
– Ах, народ этот! – говорил граф, покачивая головой.
Старый кучер Ефим, с которым одним только решалась ездить графиня, сидя высоко на своих козлах, даже не оглядывался на то, что делалось позади его. Он тридцатилетним опытом знал, что не скоро еще ему скажут «с богом!» и что когда скажут, то еще два раза остановят его и пошлют за забытыми вещами, и уже после этого еще раз остановят, и графиня сама высунется к нему в окно и попросит его Христом богом ехать осторожнее на спусках. Он знал это и потому терпеливее своих лошадей (в особенности левого рыжего – Сокола, который бил ногой и, пережевывая, перебирал удила) ожидал того, что будет. Наконец все уселись; ступеньки собрались и закинулись в карету, дверка захлопнулась, послали за шкатулкой, графиня высунулась и сказала, что должно. Тогда Ефим медленно снял шляпу с своей головы и стал креститься. Форейтор и все люди сделали то же.
– С богом! – сказал Ефим, надев шляпу. – Вытягивай! – Форейтор тронул. Правый дышловой влег в хомут, хрустнули высокие рессоры, и качнулся кузов. Лакей на ходу вскочил на козлы. Встряхнуло карету при выезде со двора на тряскую мостовую, так же встряхнуло другие экипажи, и поезд тронулся вверх по улице. В каретах, коляске и бричке все крестились на церковь, которая была напротив. Остававшиеся в Москве люди шли по обоим бокам экипажей, провожая их.
Наташа редко испытывала столь радостное чувство, как то, которое она испытывала теперь, сидя в карете подле графини и глядя на медленно подвигавшиеся мимо нее стены оставляемой, встревоженной Москвы. Она изредка высовывалась в окно кареты и глядела назад и вперед на длинный поезд раненых, предшествующий им. Почти впереди всех виднелся ей закрытый верх коляски князя Андрея. Она не знала, кто был в ней, и всякий раз, соображая область своего обоза, отыскивала глазами эту коляску. Она знала, что она была впереди всех.
В Кудрине, из Никитской, от Пресни, от Подновинского съехалось несколько таких же поездов, как был поезд Ростовых, и по Садовой уже в два ряда ехали экипажи и подводы.
Объезжая Сухареву башню, Наташа, любопытно и быстро осматривавшая народ, едущий и идущий, вдруг радостно и удивленно вскрикнула: